Элеонор Стамп Аквинат
PHILOSOPHICAL THEOLOGY
ELEONORE STUMP
AQUINAS
LANGUAGES OF SLAVIC CULTURE
MOSCOW 2013
Издание осуществлено при финансовой поддержке Фонда Дж. Темплтона
The volume is published with financial support of the John Templeton Foundation
First published 2003
by Routledge
2 Park Square, Milton Park, Abingdon, OX144RN
Simultaneously published in the USA and Canada
by Routledge
711 Third Avenue, New York, NY 10017
First published in paperback 2005
Routledge is an imprint of the Taylor & Francis Group
Transferred to Digital Printing 2010
© 2003, 2005 Eleonore Stump
Tipeset in Garamond by & Francis Books Ltd
All right reserved. No part of this book may be reprinted or utilized in any form or by any electronic, mechanical, or other means, now known or hereafter invented, including photocopying and recording, or in any information storage or retrieval system, without permission in writing from the publishers.
Русский перевод сделан с издания Routledge, a member of the Taylor & Francis Group.
Перевод с английского Г. В. Вдовиной, под редакцией и при участии К. В. Карпова.
Предисловие переводчика
Элеонор Стамп, профессор университета Сент-Луиса (США), – одна из ярких фигур современной философской медиевистики и философии религии. Автор многочисленных статей по истории средневековой философии и логики, по вопросам современной метафизики и этики, а также глубоких теологических исследований, профессор Стамп заслуженно пользуется известностью и глубоким уважением в философском мире по обе стороны Атлантики. Помимо книжных и журнальных публикаций, Элеонор Стамп известна курсами лекций, которые она неоднократно читала в качестве приглашенного лектора в самых престижных университетах Америки и Европы, в том числе в Оксфорде (2006) и в Абердине (2003). Примечательно, что именно в этом шотландском городе, в рамках тех же Гиффордовских чтений, выступил в свое время Э. Жильсон с курсом лекций, составивших одну из его лучших книг – «Дух средневековой философии».
Имя Жильсона невольно приходит на ум и тогда, когда мы берем в руки книгу Элеонор Стамп «Аквинат». Труд американской исследовательницы был очень высоко оценен критиками, назвавшими его лучшей работой о философии Фомы Аквинского, взятой не в отдельных ее аспектах, а в целом. Причины столь высокой оценки и общий характер книги Стамп, быть может, лучше всего проясняются именно в сравнении с хорошо известной русскому читателю классической работой Жильсона «Томизм». В самом деле, книга Жильсона отличается несколькими фундаментальными чертами. Прежде всего и главным образом, это большая философская сверхзадача, которую решал в ней Жильсон: утвердить идею «вечной философии», philosophiaperennis, воплотившуюся в творчестве св. Фомы и обретшую в нем наивысшее и наиболее полное выражение. Во-вторых, это ведущая идея акта бытия, actus essendi, энергийного средоточия и источника активности и жизни в тварных сущих, принятого в дар от Бога. Акт бытия для Жильсона – путеводная нить в его долгих и плодотворных изысканиях в самых разных областях томистской философии. Наконец, в-третьих, мысль св. Фомы анализируется и осмысляется Э. Жильсоном в широком контексте средневековой философии и теологии, где она родилась и жила. Таким образом, в «Томизме» Жильсона воплотился внутренне единый и цельный замысел, направляемый мощной метаисторической задачей, организуемый универсальной ключевой идеей и реализованный в тончайшей историко-философской проработке.
Ничего подобного мы не увидим в исследовании Элеонор Стамп. Само его рождение было совсем иным большая часть текстов, объединенных в книгу, изначально представляла собой статьи, опубликованные в разное время в разных изданиях; и, хотя многие из них были затем подвергнуты существенной переработке, вряд ли можно в данном случае говорить о внутреннем единстве большого философского замысла, предшествующего созданию текста. Это чувствуется и на содержательном уровне: критики: отмечают – и это правда – некоторые неувязки, небольшие противоречия, которые обнаруживаются при сопоставлении различных частей книги.
Но внешние обстоятельства рождения текста и некоторые погрешности внутренней последовательности интерпретаций, безусловно, отнюдь не главное. Важнее то, что «Аквинат» Элеонор Стамп есть чистейшее, образцовое выражение одной из двух противоборствующих стратегий, утвердившихся в современной философской медиевистике после того, как в ней завершилась жильсоновская эпоха «большого стиля» и масштабных сверхзадач[1]. Стратегия эта состоит в том, чтобы: вычленить ядро философских учений: и позиций: прошлого из их собственного историко-философского контекста, очистить от прирожденных им понятийных оболочек и явить их голый концептуальный каркас, нагую аргументативную структуру. После чего они без особых усилий: могут напрямую вводиться в дискуссии, ведущиеся сегодня во всех областях современной философии, будь то формальная онтология, философия сознания или этические концепции, обсуждаемые в рамках англосаксонской аналитической философии. Противоположная стратегия заключается в том, чтобы, наоборот, прослеживать нить за нитью контекстуальную ткань, в которую вплетен каждый элемент любой средневековой философской позиции. А поскольку этих элементов и нитей существует бесконечное множество, как и направлений, по которым их можно прослеживать, поле зрения спонтанно ширится, захватывает смежные контексты, и так до тех пор, пока исследователь волевым актом не назначит себе строго определенное направление движения, что, впрочем, всегда переживается как произвол и насилие[2]. Реальная работа сегодняшних историков философии, как правило, сочетает в себе – в разных пропорциях – обе стратегии; но некоторые исследователи, и в их числе Элеонор Стамп, не останавливаются перед тем, чтобы предельно полно и последовательно реализовать одну из них.
Итак, «Аквинат» представляет собой анализ философии Фомы Аквинского, написанный так, как если бы Фома был нашим современником и мог беспрепятственно вступать в самые жаркие дискуссии наших дней. Даже иллюстрации к той или иной мысли Фомы Элеонор Стамп предпочитает брать не из его собственных текстов, а из актуальных научных или философских публикаций. Вот лишь один случай, из самых показательных. Отношение между материей и формой в образованной ими вещи сам Фома иллюстрирует традиционной отсылкой к бронзовой статуе; однако Стамп предпочитает взять пример гораздо менее очевидный для непрофессионального читателя, но гораздо более явно акцентирующий ее собственную интенцию, – пример из области молекулярной биологии: «Возьмем ССААТ/энхансер-связывающий белок (С/ЕВР), играющий важную роль в регуляции экспрессии генов. В активной форме его молекула представляет собой димер, включающий в себя виток альфа-спирали. В перспективе томистского мышления о материальных объектах форма С/ЕВР – это конфигурация димера, включающая виток альфа-спирали, а материя – это субъединицы димера». Другой пример – довольно подробное представление двух конкурирующих современных этических концепций: этики справедливости и этики заботы, – и подробный анализ соответствующих высказываний Фомы как арбитра, примиряющего до некоторой степени участников сегодняшнего спора.
Общей нацеленностью книги на актуальный философский контекст объясняется и тот факт, что в ней практически нет историко-философского материала в привычном смысле. Ни хронология создания трудов Аквината, ни традиции, их питавшие, ни их место и роль в собственном универсуме средневековой философии не занимают здесь Элеонор Стамп, как не занимает ее и многослойность средневековых философских понятий, толща осадочных смыслов в каждом значимом латинском термине, если только она не оказывает прямого влияния на аргументативную структуру того или иного рассуждения Фомы. Стамп: предпочитает метод тонких смысловых срезов, производимых именно в той плоскости, в какой конкретная проблема ставится не в XIII, а в XXI в.
В какой мере такой подход к средневековой философии оправдан и плодотворен? Ответ отнюдь не очевиден. Во всяком случае, теперь у нас есть возможность познакомиться с одним из замечательных трудов, написанных в этом непривычном для нас ключе, и выработать собственное отношение к реализованной в нем исследовательской стратегии.
Обстоятельство, о котором необходимо предупредить читателя: по решению издателей, книга Элеонор Стамп «Аквинат», к сожалению, переведена не полностью. Выпущены целиком две большие главы – «О природе человека» и «Об отношении между Богом и людьми», а также по нескольку параграфов в каждой из остальных глав. В целом объем русского издания примерно в два раза меньше, чем в оригинале. Библиография приведена без сокращений. Оформление сносок следует оригинальному изданию.
Предисловие к русскому переводу «аквината»
Я выражаю признательность д-ру Галине Вдовиной, выполнившей перевод избранных глав из моей книги «Аквинат»; д-ру Ричарду Суинберну – куратору проекта по переводу на русский язык англоязычных философских трудов; и Фонду Джона Темплтона, обеспечившему финансовую поддержку проекта в целом. Я очень высоко ценю тот факт, что моя работа о Фоме Аквинском была включена в этот проект.
Россия обладает высокой и древней культурой, и у нее есть свои великие фигуры в интеллектуальной истории христианства. То, что мне известно об этом культурном наследии, было и остается для меня плодотворным и исполненным смысла. Некоторые мыслители, например, Аристотель, в силу высоты их мысли принадлежат не одной, но любой культуре. Несомненно, что и Аквинат должен быть причислен к когорте мыслителей, чьи труды по своей значимости превыше любых национальных и институциональных рамок. Мощь его мысли преодолевает границы эпох и культур; она открывает перед нами непреходящие в своих богатстве и глубине возможности понимания самих себя и мира, в котором мы живем.
Мои собственные исследования мысли Аквината были направлены на то, чтобы сделать ее доступной философам, теологам, историкам и всем образованным людям, вовлеченным в трудные проблемы нашего собственного времени. Моей целью было обеспечить связь между мыслью Фомы Аквинского и нашей собственной философией: обеспечить таким образом, чтобы через это исследование можно было обрести доступ к далекоидущим плодотворным идеям Фомы. Это позволило бы нам глубже осмыслить не только вечные вопросы, но и вызовы сегодняшнего дня. Поэтому я испытываю особенное удовлетворение оттого, что в этот переводческий проект Фонда Темплтона вошли центральные главы моей работы об Аквинате.
Так как перевод всей книги на русский язык был бы слишком трудоемким делом, было решено перевести лишь часть книги.
Мы включили главы о фундаментальной метафизике Аквината и о его метафизике блага, потому что его взгляды на эти предметы имеют основополагающее значение для всех прочих его воззрений. Включена также глава о божественном знании, так как в ней обсуждается томистская теория познания и затрагиваются некоторые распространенные заблуждения относительно взглядов Фомы на божественное знание. Глава о свободе и действовании очерчивает томистскую теорию воли, связь воли с интеллектом, природу человеческого действия и фундаментальное томистское понимание свободы воли. В главах о справедливости и вере представлены две главные добродетели, и, таким образом, в них экземплифицируется характер томистской этики добродетелей. Наконец, глава о благодати и свободе воли нацелена на рассмотрение одной их самых трудных проблем мысли Фомы и философской теологии в целом – проблемы отношения между божественной благодатью, как она понимается в томистской теологии, и свободой человеческой воли.
Таким образом, эти главы дают общее представление о томистской метафизике, эпистемологии, метаэтике и нормативной этике, а также о теории человеческой личности. Но, к сожалению, мы вынуждены были опустить другие важные части мировоззрения Фомы. Опущены главы о природе души и о механизмах человеческого познания, а также обсуждение добродетели мудрости, представляющей собою смешанную морально-интеллектуальную добродетель. Опущена также большая часть философской теологии, включая главы о божественных атрибутах, проблеме зла, о воплощении и искуплении. Тем не менее сердцевина философии Аквината и ее богословские импликации хорошо представлены главами, вошедшими в предлагаемый русский перевод. Я признательна за то, что эти главы теперь доступны русскоязычному читателю.
Далее следует сокращенная версия предисловия к оригинальному полному англоязычному изданию моей работы.
* * *
Есть книги, взяться за написание которых мог бы только молодой и неопытный исследователь, но способен написать которые, вероятно, лишь исследователь опытный, знающий достаточно, чтобы уклониться от этой задачи. «Аквинат» – одна из таких книг. Ее прямо заявленная цель состоит в том, чтобы исторически точно разъяснить взгляды Фомы Аквинского и сделать их частью соответствующих дискуссий в современной философии. Разумеется, рассуждая поверхностно, такого рода двойная цель должна ставиться в любом философском исследовании текстов мыслителей прошлого. Если их изучение не проводится исторически точно, результат может быть интересен с философской точки зрения, но не может считаться исследованием мысли данной исторической фигуры. С другой стороны, если взгляды предшествующих эпох представляются таким образом, что они не привносят ничего нового в текущие философские дискуссии, то философы прошлого оказываются не более чем музейными экспонатами, а не живыми собеседниками, все еще способными влиять на философскую мысль.
Стало быть, эту книгу непосредственно вдохновляла благая цель. Проблема в попытке ее осуществить. Аквинат оставил сочинения по весьма широкому кругу вопросов, написанные в высокотехничном и изощренном стиле, так что понять и изложить его мысль – нелегкая задача. Связать же воззрения Фомы с соответствующими дискуссиями современной философии – дело неподъемной трудности.
Так, читатели, знакомые с трудами Аквината, обнаружат, что некоторые разделы его мысли, которые представляются им особенно важными, вообще не представлены в этой книге. Список тем, оставшихся за ее пределами, так же длинен, как и ее оглавление. Я не рассматриваю эти вопросы и темы потому, что невозможно сделать все в одном, пусть даже толстом томе, а также потому, что опущенные мною темы регулярно обсуждаются в хрестоматийных работах, посвященных Аквинату.
В процессе написания этой книги я многое осталась должна тем людям, чья помощь того или иного рода помогла мне довести: дело до конца и сделать книгу лучше, чем она была бы в противном случае.
Моя самая большая признательность, и больше всего нуждающаяся в пояснении, – Норману Кретцману. Когда изначально задумывалась эта книга, я соглашалась взяться за нее лишь в том случае, если
Норман будет писать ее со мной. И он, и издательство согласились с моей просьбой. Мы с Норманом понимали, что это будет долгий, медленно реализуемый проект, и планировали некоторые из наших совместных статей как приготовление к ней. Но случилось так, что Норман заболел, и болезнь оказалась смертельной. Тем не менее совместная приготовительная работа, выполненная Норманом и мной, отражена в этой книге. В дополнение к совместным статьям, многим главам этой книги предшествовали и другие статьи, написанные мною (они перечислены в библиографии). Все эти статьи подверглись пересмотру, иной раз существенному. В некоторых случаях, как, например, в случае главы о вере, переработка настолько основательна, что связь с более ранней статьей едва угадывается.
Я также должна выразить благодарность за помощь многим другим исследователям и философам. Полезные замечания по поводу более или менее значительных фрагментов рукописи или статей, послуживших подготовительным материалом для тех или иных глав, мне высказывали: Мэрилин Адамс, Роберт Адамс, Уильям Олстон (*f), Уильям Энглин, Ричард Бернстайн, Джеймс Боман, Дэвид Берелл, Терри Кристлиб, Бойман Кларк, Норрис Кларк (†), Ричард Крил, Ричард Кросс, Фред Кроссон, Брайан Дэвис, Стефен: Дэвис, Лоренс Дьюван, Тереза Дрюарт, Роналд Финстра, Фред Фельдман, Томас Флинт, Шон Флойд, Гарри Франкфурт, Леон Галис, Джон Греко, Уильям Хаскер, Джошуа Хоффманн, Аль Хаусипиан, Кристофер Хьюз, Джеймс Келлер, Джеймс Клэдж, Брайан Левтов, Дэвид Льюис (†), Ховард Лутан, Скотт МакДонлд, Стивен Майцен, Уильям Манн, Джордж Мавродес, Дебора Майо, Ралф МакАйнерни (†), Алан МакМайкл, Эрнан: МакМалин (†), Харлан Миллер, Джералд О’Коллинз, Тимоти О’Коннор, Роберт Паснау, Дерк Пибум, Алвин Плантинга, Корнелиус Плантинга, Крис Пляцка, Филипп Квин (†), Гэри Розенкранц, Джеймс Росс (†), Майкл Рота, Уильям Роу, Брюс Рассел, Джозеф Ранцо, Брайан Шэнли, Кристофер Шилдс, Сидней Шумейкер, Ричард Сорабджи, Роберт Сталнейкер, Джеймс Стоун, Никлас Сторжен, Ричард Суинберн, Чарлз Тальяферро, Кевин Тими, Томас Трейси, Джон Ван Энген, Бас Ван: Фраасен, Питер Ван: Инваген, Теодор Витали, Эдвард Виренга, Джон Виппел, Николас Уолтерстоф. На той стадии, когда я уже предвкушала облегчение, готовясь отослать рукопись, Джим Стоун: дал исчерпывающие полезные комментарии по всему тексту; я многим обязана ему за этот труд, сделавший конечный продукт более завершенным и отточенным. На финальной стадии внесения поправок оказалась также весьма полезной помощь двух моих технических помощников – Криса Пляцка и Кевина Тимпа, отыскавших и вычистивших многие, но, несомненно, не все огрехи, которые, к сожалению, обычно проскальзывают в труды подобного размера.
Я должна поблагодарить любезный персонал Национального центра гуманитарных исследований за превосходные условия, в которых была написана часть этой книги. Выражаю признательность также Религиозной программе фонда Pew Charitable Trusts за предоставленную возможность посвятить год работе над рукописью, что существенно продвинуло ее вперед. Наконец, хочу выразить сердечную благодарность отцу Майклу МакГэрри из общества апостольской жизни отцов-паулистов и экуменическому институту Тантур в Иерусалиме, ректором которого был отец Майкл, когда я писала там эту книгу. Несмотря на прискорбные события на Ближнем Востоке, Тантур является одним из лучших мест для созерцательного академического труда. Красота здания института и его местоположения, богатство его библиотеки и деликатная услужливость персонала и ректора Тантура создали изумительные условия для работы; я с благодарностью вспоминаю проведенные в Тантуре недели.
Наконец, я должна выразить благодарность более личного свойства отцу Теодору Витали из Конгрегации Страстей Иисуса Христа, чьи мудрые советы и добросердечие помогали мне во время написания книги. Община иезуитов и доминиканцев университета Сент-Луиса тоже оказывали мне немалую помощь. Приношу долг признательности также моему супругу Дональду. В течение многих лет брака он прошел со мной через все баталии, через которые обычно проходят те, кто начинает жизнь в бедности, трудах и заботах (какие только могут возникнуть при воспитании детей), и все же пытается сделать все возможное для того, кого любит. Наконец, я благодарна моим детям, которых я безумно любила в течение всех этих лет, пока создавалась эта книга. Любовь к детям и страстное желание видеть их счастливыми – вот источник всего, что я знаю об отчей Божьей любви, одушевлявшей все мировоззрение Аквината. Эта книга посвящается моим детям.
Введение. жизнь и мысль фомы аквинского
Вступление
Фома Аквинский (1224/6-1274) прожил активную, деятельную жизнь ученого и человека Церкви. Она завершилась, когда ему не было и пятидесяти. Тем не менее он написал множество трудов, объем которых варьируется от нескольких страниц до нескольких томов. Так как его труды выросли из учительской деятельности в доминиканском ордене и преподавания на богословском факультете Парижского университета, по большей мере они посвящены тому, что Фома и его современники считали теологией. Однако значительную часть академической теологии в Средние века составляло рациональное исследование наиболее фундаментальных аспектов реальности в целом и человеческой природы и поведения в частности. Эта обширная область очевидно включает в себя многое из того, что сегодня относят к философии и что получило отражение в богословских – в широком смысле слова – трудах Аквината.
Пределы и философский характер средневековой теологии, как ее практиковал Аквинат, нетрудно усмотреть из его двух крупнейших трудов: это Summa contra gentiles (сокр. SCO – «Сумма против язычников») и Summa theologiae (сокр. ST – «Сумма теологии»). Однако множество тем, затронутых в этих двух обширных трудах, более подробно исследуется и в менее масштабных работах: они восходят к многочисленным университетским диспутам Фомы (чем-то средним между формальными дебатами и принятыми в нашем столетии семинарами для аспирантов), которые он вел на разных академических постах. Некоторые из этих тем рассматриваются с иных точек зрения также в комментариях Фомы на книги Библии и/или труды Аристотеля и других авторов. Хотя Аквинат весьма последователен в различных обсуждениях одной и той же темы, часто бывает полезным сравнить параллельные места в его сочинениях, дабы составить полное представление о его взглядах по тому или иному вопросу.
В философии Аквинат, как очевидно, ближе всего стоит к Аристотелю. Помимо того, что он является автором комментариев к сочинениям Аристотеля, он часто ссылается на него в поддержку тезисов, которые отстаивает, даже когда речь идет о толковании Писания. В трудах Фомы содержится также множество скрытых аристотелевских элементов, глубоко встроенных в его собственную мысль. Будучи убежденным аристотеликом, Фома часто разделяет критическую позицию Аристотеля в отношении теорий, связанных с Платоном, особенно в том, что касается простых субстанциальных форм как отдельно существующих сущностей. Но хотя Аквинат, подобно большинству средневековых эрудитов Западной Европы, почти не имел доступа к текстам Платона, он испытал влияние трудов Августина и Псевдо-Дионисия. Через них он усвоил также значительную долю платонизма: больше, чем он сам мог бы опознать в качестве такового.
С другой стороны, Аквинат – образцовый христианский философ и теолог, вполне отдающий себе отчет в своей интеллектуальной зависимости от религиозной доктрины. При: всем том он: был: убежден, что христианские мыслители должны быть готовы к рациональному обсуждению любой темы, особенно в богословии, и не только между собой, но и с нехристианами любого толка. Коль скоро, считал он, евреи признают Ветхий: Завет, а еретики – Новый Завет, христиане могли бы обсуждать некоторые вопросы с теми и другими, опираясь на общепринятый религиозный авторитет. Но так как другие нехристиане,
например, мусульмане и язычники, не соглашаются вместе с нами признать авторитетность Писания, опираясь на которое, их можно было бы убедить… необходимо обратиться к естественному разуму, с которым вынуждены соглашаться все, хотя в божественных делах его недостаточно1, —
(ибо некоторые богословские данные изначально достижимы лишь благодаря Писанию). Более того, Аквинат отличается от большинства христианских коллег XIII в. глубоким уважением к мусульманским и еврейским философам и богословам, особенно к Авиценне и Маймониду. Он видел в них ценных соработников в обширном проекте философской теологии, где религиозные доктрины разъясняются и подкрепляются философским анализом и аргументацией. Благодаря собственной приверженности этому проекту Фома внес вклад почти во все области философии, признаваемые в качестве таковых с эпохи Античности, за исключением натурфилософии (предшественницы естествознания).
Движение мысли, столь тесно связанной с мощными предшественниками, могло бы привести к всего лишь благочестивой компиляции. Однако Аквинату удается избегать эклектизма в своей философии благодаря собственному новаторскому подходу к организации и продумыванию всех тем, входящих во всеобъемлющую средневековую концепцию христианской теологии, а также благодаря особому таланту к системному синтезу, к тому, чтобы почти во всяком разбираемом вопросе вычленить и умело отстаивать наиболее здравую из возможных позиций.
Ранние годы
Фома Аквинский родился в Роккасекка, близ Неаполя. Он был младшим сыном большого итальянского аристократического семейства. Год рождения Фомы, как и почти всех выдающихся людей Средневековья, трудно установить с точностью: убедительные доводы приводились в пользу 1224,1225 и 1226 гг. Начальное образование Фома получил в крупном бенедиктинском аббатстве Монте-Кассино (1231–1239), а с 1239 по 1244 гг. был студентом университета в Неаполе. В 1244 г. Фома вступил в орден доминиканцев – орден относительно молодой, посвященный ученым занятиям и проповеди; это привело к конфликту с семьей, которая рассчитывала, что со временем он станет аббатом Монте-Кассино. Когда доминиканцы велели Аквинату отправиться в Париж для продолжения учебы, семья перехватила его по дороге и вернула домой, где удерживала в течение почти двух лет. К концу этого периода братья Фомы наняли проститутку, чтобы она соблазнила его, но Фома разгневался и выгнал ее из комнаты. Убедив семью своей решимостью, он в 1245 г. получил разрешение вернуться к доминиканцам и по их велению вновь отправился в Париж, на сей раз успешно.
В Парижском университете Аквинат впервые встретился с Альбертом Великим, который вскоре стал его самым авторитетным учителем, а со временем также другом и наставником. Когда Альберт в 1248 г. перешел в университет Кельна, Фома последовал за ним, отклонив экстраординарное предложение папы Иннокентия IV назначить его аббатом Монте-Кассино, позволив остаться доминиканцем.
Фома, видимо, отличался необычно высоким ростом, исключительной скромностью и невозмутимостью. В течение четырех лет, проведенных в Кельне, начала проявляться, несмотря на скромность и немногословие Фомы, его исключительная одаренность, и Альберт, вопреки его возражениям, впервые доверил ему активную роль в академическом диспуте. Не сумев опровергнуть на диспуте аргументы своего лучшего ученика, Альберт заявил: «Мы называем его немым быком[3], но когда-нибудь этот бык взревет так, что его услышит весь мир».
В 1252 г. Аквинат вернулся в Париж, чтобы прочитать курс, необходимый для получения степени магистра теологии (примерный эквивалент нашей степени PhD). В течение первого года преподавания он изучал и комментировал Библию; остальные три года были посвящены комментированию «Сентенций» Петра Ломбардского: в ту пору – стандартное требование для получения степени. Обширный комментарий, созданный в 1253–1256 гг. (часто именуемый «Scriptum super libros Sententiarum» – «Комментарий на Сентенции») – первый из четырех богословских синтезов Фомы (другие три – SCG, ST и «Compendium theologiae»). В нем содержится большое количество ценного материала, но так как во многих отношениях «Scriptum» был превзойден великими суммами – «Summa contra Gentiles» и «Simma theologiae», он пока еще должным образом не изучен.
В тот же четырехлетний период Аквинат написал для своих парижских братьев-доминиканцев краткий философский трактат «De ente et essentia» («О сущем и сущности»). Хотя в нем чувствуется влияние «Метафизики» Авиценны, «De ente et essentia», несомненно, собственное творение Фомы, где излагаются многие понятия и тезисы, фундаментально значимые для его мысли на всем протяжении его творческого пути.
Первое парижское регентство
Весной 1256 г. Аквинат был назначен магистром-регентом теологии в Париже. Этот пост он занимал до конца 1258–1259 учебного года. «Дискуссионные вопросы об истине» (Quaestiones disputatae de veritate, сокр. QDV) – первый из серии «Дискуссионных вопросов» и главный труд, созданный Фомой за эти три года. Он вырос из преподавательской практики, которая подразумевала ежегодное проведение нескольких формальных публичных диспутов. QDV состоит из двадцати одного «вопроса», посвященных самым разных темам, причем каждый рассматривает одну общую тему: сознание, внутрибожественное знание, веру, благо, свободу воли, человеческие эмоции, истину (первый «вопрос», от которого получил название весь трактат). Каждый «Вопрос» разделен на несколько параграфов; 253 параграфа служат отдельными: тематическими единицами трактата, например, q, 1, а. 9: «Имеется ли истина в чувстве [in sensu]?»
Проработанная структура каждого из этих параграфов, как и в большинстве трудов Аквината, отражает «схоластический метод». Подобно средневековым аудиторным диспутам, этот метод в конечном счете восходит к рекомендациям Аристотеля по диалектическому поиску, изложенным в «Топике». Философские обсуждения, ведущиеся в трудах Фомы в этой форме, обычно начинаются с вопросов, ответом на которые служит «да» или «нет». Затем каждый параграф развертывается как своеобразный диспут. Он начинается с аргументов в пользу ответа, противоположного собственной позиции Аквината; эти аргументы принято – несколько невпопад – называть «возражениями». Далее следуют аргументы sed contra («но, с другой стороны…»); в позднейших трудах они часто сводятся к единственной цитате из некоторого общепризнанного авторитетного источника, которого Фома представляет своим сторонником. За sed contra следует аргументированное изложение и обоснование Аквинатом его собственной позиции. Это магистерское «определение» вопроса, именуемое corpus – «телом» – параграфа. Как правило, параграф завершается ответами Фомы на каждое из возражений (обозначенных в ссылках формулой: ad 1m, и т. д.).
Проведение диспутов в форме «дискуссионных вопросов» было одной из обязанностей магистра-регента теологии; но, кроме того, теологический факультет регулярно предоставлял возможность обсуждать «вопросы о чем угодно» [Quaestiones quodlibetales]1 – На этих диспутах магистр мог по желанию взять на себя труд отвечать на любой вопрос, заданный любым членом академического сообщества. Время проведения диспутов «о чем угодно» ограничивалось, ко благу самого магистра, двумя периодами постов в течение церковного года. Фома, видимо, воспользовался пятью из шести возможностей, представившихся ему в течение его первого регентства в Париже. Итогом стали Questiones quodlibetales («Вопросы о чем угодно»), где он высказывает взвешенные суждения по самым разным вопросам, от вопроса о том, можно ли отождествлять душу с ее потенциями, до вопроса о том, может ли осужденный грешник созерцать святых в славе.
Комментарии Аквината к сочинениям Боэция De trinit ate («О Троице») и De hebdomadibus (иногда именуемому «Каким образом субстанции могут быть благими») также представляют собой философски значимые работы, созданные в период первого регентства. В XII в. многие философы комментировали эти трактаты Боэция, но последующее открытие трудов Аристотеля привело к тому, что эти попытки были почти забыты к тому времени, когда Фома писал свои комментарии. В точности не известно, почему или для кого Фома их написал; но он вполне мог взяться за эти штудии в собственных интересах, чтобы разобраться в вопросах, которые в тот момент приобретали важное значение для его мысли.
Комментарий на De trinitate (Expositio super librum Boethii De trinitate – «Изложение на книгу Боэция О Троице») представляет взгляды Аквината на взаимоотношение веры и разума, а также на методы и взаимосвязи всех признанных в ту эпоху ветвей организованного знания, то есть «наук». Трактат Боэция De hebdomadibus – это locus classicus [классический авторитетный текст], [4] представляющий средневековый взгляд за отношение между бытием и благом. Рассматривая эту тему в комментарии на трактат, Фома разработал свою первую систематическую концепцию метафизической причастности – один из важнейших платонических элементов томистской мысли. По мнению Фомы, причастность достигается тогда, когда метафизический состав некоторого А включает в себя некое X в качестве одного из метафизических компонентов А, когда X принадлежит также некоторому В, которое есть X по праву, и когда такая принадлежность X этому В предполагается тем фактом, что А обладает X. Например, с точки зрения Фомы, следствие причастно своей причине, а творения разнообразными способами причастны Творцу.
Неаполь и орвьето: summa contra gentiles и библейский комментарий
О деятельности Фомы между 1259 и 1265 гг. сведений немного, но, видимо, он окончательно оставил преподавание в Париже к концу 1258–1259 учебного года. Вероятно, следующие два года он провел в доминиканском приорате в Неаполе. Здесь Фома работал над «Суммой против язычников», начатой в Париже и законченной в Орвьето, где он читал лекции в доминиканском приорате вплоть до 1265 г.
Summa contra gentiles отличается от трех других богословских синтезов Аквината несколькими аспектами. Стилистически она отлична от более раннего Scriptum и более поздней Summa theologiae тем, что не придерживается схоластического метода. Напротив, она написана в повествовательной манере и разделена на главы, подобно Compendium theologiae («Компендиуму теологии»), написанному, судя по всему, сразу после «Суммы против язычников» (в 1265–1267). Еще важнее то, что Scriptum, Summa theologiae и Compendium посвящены богооткровенной теологии, с необходимостью включающей в свои теоретические выкладки данные откровения. В Summa contra gentiles, напротив, Фома откладывает темы богооткровенной теологии до последней (четвертой) книги, где рассматривает «тайны» – немногочисленные доктринальные положения, к которым, с его точки зрения, нельзя прийти одним лишь естественным разумом и которые берут начало исключительно в откровении. Фома обращается к ним с целью показать, что даже эти положения «не противоречат естественному разуму». Первые же три книги SCG полностью посвящены изложению естественной теологии, зависимой от естественного разума и независимой от откровения. Эта естественная теология, как она раскрывается в книгах I–III «Суммы против язычников», способна выполнить весьма существенную часть богословской работы, от утверждения существования Бога и до детальной проработки человеческой морали.
Обсуждения, важные для понимания позиции Аквината во многих областях философии, разбросаны также – не всегда предсказуемым образом – среди его комментариев на библейские тексты. Во время пребывания в Орвьето и примерно тогда же, когда создавалась книга III «Суммы против язычников», было написано Expositio super Job ad litteram («Буквальное толкование на книгу Иова») – один из самых подробных и философских библейских комментариев Фомы, сопоставимый в этом отношении только с его же позднейшим комментарием на Послание к римлянам. Основной текст книги Иова состоит преимущественно из речей Иова и его «утешителей». Аквинат усматривает в этих речах подлинную дискуссию, почти что средневековый университетский диспут (решенный в итоге самим Богом), где изощренная аргументация выступает движущей силой мысли. Фома выстраивает аргументы весьма изобретательно, особенно если принять во внимание, что современные читатели склонны недооценивать речи, видя в них скучное повторение неверно понятых обвинений в сочетании со слегка варьирующимися заявлениями Иова о своей невиновности.
Подход Фомы расходится также с современной точкой зрения, согласно которой книга Иова подвергает сомнению божественную доброту (а значит, подвергает сомнению существование всемогущего, всеведущего и всеблагого Бога). В самом деле, в ней ставится проблема зла перед лицом ужасных страданий невинного человека. Главный интерес Аквината к этой книге связан с тем, какие следствия проистекают отсюда для доктрины провидения. В толковании Фомы, книга Иова объясняет природу и действие божественного провидения, которое, с его точки зрения, совместимо с тем, чтобы добрых людей постигало зло. Вот как это понимает Фома:
Если бы в этой жизни человек получал воздаяние от Бога за добрые дела и нес кару за злые, как это старался доказать Элифас, отсюда, видимо, следовало бы, что конечная цель человека лежит в этой жизни. Но Иов пытается опровергнуть это утверждение и хочет показать, что земная жизнь не содержит в себе конечной цели, но относится к ней так, как движение относится к покою и путь к его концу3.
События, происходящие с человеком в течение земной жизни, можно объяснить в терминах божественного провидения, только соотнося их с возможностью для человека достигнуть конечной цели – совершенного счастья, то есть единения с Богом в будущей жизни.
Обсуждая жалобы Иова на то, что Бог не слышит его молитв, Фома говорит: у Иова сложилось такое впечатление потому, что Бог иногда
взирает не на мольбы человека, а на его пользу. Лекарь взирает не на мольбы больного, просящего, чтобы от него удалили горькое лекарство (если предположить, что лекарь не удаляет лекарство, ибо знает, что оно содействует здоровью). Вместо этого он взирает на пользу больного: ведь, поступая таким образом, он созидает здоровье, чего больной желает больше всего4.
Точно так же Бог иногда попускает человеку страдать, несмотря
на его молитвы об избавлении, потому что Бог знает: эти страдания помогут человеку достигнуть того, чего он желает больше всего.
Рим: «спорные вопросы», дионисий и компендиум
В 1265 г. Фома Аквинский переехал из Орвьето в Рим, получив
предписание организовать там доминиканский studium и послужить в качестве магистра-регента. Этот римский период его карьеры, продолжавшийся вплоть до 1268 г., был особенно продуктивным. Некоторые из крупнейших работ Фомы, датируемые 1265–1268 гг., именно таковы, каковы и должны были быть работы магистра-регента теологии, а именно: три подборки «Спорных вопросов» – Quaes-tiones disputatae de potentia («Спорные вопросы о [божественной] потенции»), Quaestio disputata de anima («Спорный вопрос о душе») и Quaestio disputata de spiritualibus creaturis («Спорный вопрос о духовных творениях»). В самом раннем из этих сочинений, Quaes-tiones disputatae de potentia, содержатся восемьдесят три пункта, объединенные в десять «Вопросов». Первые шесть вопросов посвящены божественному могуществу, заключительные четыре – проблемам сочетания тринитарной доктрины и абсолютной простоты Бога. Гораздо более краткий «Вопрос о душе» касается главным образом метафизических аспектов души:, а завершается рассмотрением некоторых специальных проблем природы и способностей душ, отделенных от тел (пункты 14–21). Одиннадцать пунктов вопроса De spiritualibus creaturis исследуют сходные темы и одновременно переходят к рассмотрению ангелов как еще одного разряда духовных творений, которые существуют наряду с людьми, чьи природы лишь отчасти духовны.
В течение того же периода или, возможно, еще во время пребывания в Орвьето Аквинат написал комментарий к трактату Псевдо-Дионисия De divinis nominibus («О божественных именах») – компендиуму христианской теологии, глубоко пронизанному неоплатоническими мотивам и восходящему, вероятно, к VI в. Как и большинство современников, Фома считал, что трактат был написан в апостольские времена тем Дионисием, которого обратил св. Павел. По этой причине, а также, возможно, потому, что изначально Фома изучал эту книгу в Кельне под руководством Альберта Великого, она оказала глубокое влияние на мысль Аквината. На заре своей: карьеры, в период, когда был создан Scriptum, Фома считал Дионисия аристотеликом5, но в ходе комментирования текста он понял, что автор должен был быть платоником6. Комментарий Фомы, проясняющий зачастую темный смысл: текста, мог быть написан, как и комментарий к Боэцию, для собственных нужд, а не вырасти из курса лекций. В любом случае изучение Дионисия стало одним из важнейших путей утверждения платонизма в качестве существенного компонента собственной мысли Фомы.
Некогда считалось, что Compendium theologiae («Компендиум теологии»), уже упоминавшийся в связи с «Суммой против язычников», написан: гораздо позже и остался незаконченным по причине смерти Аквината. Однако близость «Компендиума» к «Сумме против язычников», причем не только по стилю, но и по содержанию, побудила многих исследователей отнести его к 1265–1267 гг. Среди: четырех богословских синтезов, автором которых был Фома, «Компендиум теологии» уникален краткостью обсуждения и тем, что выстроен вокруг богословских добродетелей веры, надежды и любви. Если бы он был завершен, то мог бы привести к обновлению всей обширной предметной области средневековой теологии; но Аквинат написал только десять кратких глав из второго раздела, посвященного надежде, и даже не приступил к третьему разделу – о любви. Первый раздел – о вере – был завершен, но так как большая часть составляющих его 246 глав представляет собой просто краткое рассмотрение почти всех тех богословских тем, которые Фома уже затрагивал в «Сумме против язычников», «Компендиум» в том виде, в каком он дошел до нас, представляется важным прежде всего в качестве краткого изложения материала, гораздо полнее трактуемого в названной «Сумме» (а также в «Сумме теологии»).
Рим: комментарий к аристотелю
Некоторые из многочисленных творений Аквината, созданные в Риме с 1265 по 1268 гг., вообще говоря, напоминают работы, написанные им ранее. Но среди них есть и важные новации, в том числе – первый из двенадцати комментариев к произведениям Аристотеля. В начале комментария на трактат De anima («О душе») (Sententia super De anima) Фома все еще движется как бы наощупь и уделяет непривычно много внимания (много для Аквината) техническим деталям. Эти черты побудили исследователей считать первую книгу комментария к трактату «О душе» неизданным собранием ученических конспектов (reportatio) или даже приписывать эту первую треть томистского комментария другому автору. Но Рене Готье убедительно показал, что различия между комментарием к книге I и комментариями к книгам II и III De anima объясняются различиями между самими книгами и что фактически ни один из комментариев Фомы к Аристотелю не вырос из лекций, которые он читал по этим книгам7. Нестыковки внутри работы – этого первого из томистских комментариев к Аристотелю – нетрудно объяснить (по крайней мере, отчасти) тем фактом, что Фома искал свой путь в этом новом для него начинании, где он очень быстро освоился. В недавнем сборнике статей, посвященных аристотелевскому трактату «О душе»,
Марта Нуссбаум характеризует труд Аквината как «один из величайших комментариев к этому сочинению», «полный прозрений»8. Теренс Ирвин, ведущий переводчик Аристотеля, признает, что в одном пункте своего комментария на книгу Аристотеля «Никомахова этика» (Sententia libri Ethicorum) Аквинат «действительно разъясняет намерение Аристотеля яснее, чем сам Аристотель»9. Подобные суждения можно отнести почти ко всем аристотелевским комментариям Фомы: все они отмечены исключительным талантом комментатора и философа к различению логической структуры почти в любом фрагменте любого рода текстов: не только у Аристотеля, но и у других авторов, от Боэция до св. Павла.
Комментирование сочинений Аристотеля было рутинным занятием преподавателей средневекового факультета искусств, но никогда не входило в обязанности университетского богослова. Поэтому множество комментариев Фомы к Аристотелю с технической стороны не были связаны с его преподавательской деятельностью. Тем более впечатляет это свершение и без того предельно занятого человека. Некоторые исследователи, восхищаясь достижениями Фомы в целом, но обращая внимание на тот факт, что его профессиональная карьера развивалась исключительно на теологическом факультете, настаивали на том, чтобы причислять к философским трудам Фомы только комментарии к Аристотелю. Безусловно, эти комментарии имеют философский характер: настолько философский, насколько философскими являются те аристотелевские сочинения, которые они поясняют. Тем не менее Аквинат написал эти комментарии не только для того, чтобы растолковать глубокий философский смысл сложнейших аристотелевских текстов, но и для того (и это еще важнее), чтобы углубить свое собственное понимание тем, затронутых Аристотелем. Как он сам замечает в комментарии на De caelo («О небе»), «цель занятий философией – узнать не то, чему учили люди, но истину относительно положения дел»10. Он считал, что попытки богослова понять Бога и все связанное с Богом есть фундаментальное проявление универсального человеческого стремления к истине относительно реального положения вещей. С другой стороны, взгляды Фомы на то, каков наилучший способ достижения интеллектуального прогресса вообще, весьма напоминают вековой метод философии:
Но если кто-либо пожелает выступить против сказанного мною, я буду весьма признателен, ибо нет лучшего способа обнаружить истину и уд о стовериться во лжи, чем спорить с людьми, которые с тобой не согласны11.
Рим: summa theologiae
Другой важнейшей новацией Аквината в течение трехлетнего преподавания в Риме стала «Сумма теологии» (Summa theologiae) – его величайший и наиболее показательный труд. Он был начат в Риме, но Фома продолжал писать его на протяжении всей оставшейся жизни. «Сумма теологии», оставшаяся незаконченной к моменту смерти Фомы, состоит из трех больших частей. Часть первая (Iа) посвящена следующим темам существование и природа Бога (вопросы 1-43), творение (44–49), ангелы (50–64), шесть дней творения (65–74), человеческая природа (75-102) и божественное правление (103–119). Часть вторая посвящена этике, причем рассматривает ее настолько детально, что сама разделяется на две части. Первая часть второй части (ІаІІае) исследует человеческое счастье (вопросы 1–5), человеческое действие (6-17), благо и зло в человеческих поступках (18–21), страсти (22–48) и источники человеческих поступков – внутренние (49–89) и внешние (90-114). Вторая часть второй части (ІІаІІае) начинается с рассмотрения трех богословских добродетелей и соответствующих им пороков (вопросы 1—46), переходит к четырем «кардинальным добродетелям» и соответствующим порокам (47-170) и завершается анализом специальных вопросов, связанных с религиозной жизнью (171–189). В части третьей Аквинат обращается к Воплощению (вопросы 1-59) и таинствам (60–90), обрывая изложение посреди вопроса о покаянии.
Аквинат задумал «Сумму теологии» как новый вид богословского учебника, и его важнейшей педагогической новацией, по собственному мнению Фомы, стала его организация. Фома, по его словам, заметил, что студенты, только приступающие к изучению теологии, не могут успешно продвигаться в своих занятиях из-за некоторых черт стандартного учебного материала, в частности «потому, что вещи, которые они должны изучать, преподаются не в должном порядке, соответствующем методу научения»: порядке, который он как раз и предлагает утвердить (ST Prooemium). Очень может быть, что энтузиазм Фомы в отношении этого нового подхода побудил его оставить работу над «Компендиумом теологии» – трудом, выстроенным совершено иначе. В этот период естественная погруженность Фомы в работу над «Суммой теологии» помогает объяснить и тот факт, что другие его труды того же времени демонстрируют особый интерес к природе и операциям человеческой души, составляющим главный предмет Вопросов 75–89 части I.
Второе парижское регентство
В 1268 г. доминиканский: орден: вновь направил: Фому в Парижский университет. Здесь Аквинат вторично принял на себя обязанности регента-магистра, вплоть до отмены всех лекций в университете весной: 1272 г. в связи с конфликтом с архиепископом Парижа. Тогда доминиканцы предписали Фоме вернуться в Италию.
Поразительное множество трудов, созданных Аквинатом за эти четыре года, составляют обширнейшая вторая часть «Суммы теологии» (ST ІаІІае и ПаІІае), девять комментариев к Аристотелю, комментарий к псевдо-аристотелевской книге Liber de causis («Книге о причинах», которая, как одним из первых понял Фома, в действительности представляла собой неоплатоническую компиляцию по материалам Прокла), шестнадцать библейских комментариев и семь собраний «спорных вопросов» (в том числе собрание из шестнадцати вопросов, именуемое Quaestiones disputatae de malo [ «Спорные вопросы о зле»], из которых вопрос шестой предлагает подробное обсуждение свободы воли). Писательская продуктивность Фомы в период его второго парижского регентства тем поразительнее, что в это же время он был: вовлечен в целый: ряд дискуссий.
Когда в 1268 г. доминиканский орден вновь направил Фому в Париж, это, видимо, хотя бы отчасти было ответом на вызывающее тревогу движение «латинского аверроизма», или: «радикального аристотелизма». В ту пору движение набирало силу среди членов факультета искусств, привлеченных толкованиями Аристотеля, которые содержались в комментариях Аверроэса. Тем не менее только два труда Фомы из множества произведений, созданных в эти годы, обнаруживают непосредственную связь с аверроистским спором. Один из них – трактат De imitate intellectus, contra Averroistas («О единстве интеллекта, против аверроистов») – прямо критикует и отвергает точку зрения, характерную для аверроистского движения. В изложении Аквината она выглядит так: тот аспект человеческой умной души, который
Аристотель называет возможностным интеллектом… есть своего рода субстанция, отделенная в своем бытии от тела и никоим образом не соединенная с ним в качестве формы. Более того, этот возможностный интеллект – один для всех людей12.
Коротко отметив, что несовместимость этой позиции с христианским учением слишком очевидна, чтобы вести долгие дискуссии, Аквинат посвящает трактат в целом тому, чтобы показать: «эта позиция не менее противоречит началам философии, чем учению веры»; более того, она «абсолютно несовместима со словами и взглядами» самого Аристотеля13.
Помимо единства интеллекта, другая спорная теория, которую чаще всего связывают с аверроизмом XIII в., – это учение о безначальносте мира. Во многих сочинениях Фома уже рассматривал возможность вечного существования мира: он тщательно разрабатывал и отважно отстаивал ту позицию, что основанием для веры в начало мира служит только откровение, что невозможно доказать ни того, что мир имел начало, ни того, что мир не имел начала и что возможны как безначальносте, так и сотворенность мира (хотя, разумеется, в действительности верно лишь что-то одно).
Второй парижский трактат, непосредственно имеющий отношение к аверроизму, называется De aetemit ate mundi, contra murmurantes («О вечности мира, против ворчунов») – очень краткое, необычно возмущенное по тону суммарное изложение позиции Фомы.
Тем не менее Фома не мог жаловаться на то, что в вопросе о вечности мира Аристотель был неверно истолкован: предположив это изначально, Фома постепенно убедился в том, что Аристотель в самом деле считал доказанным извечное существование мира. Поэтому точка зрения Аквината в этом вопросе, по мнению его оппонентов-августиниан и прежде всего францисканцев Бонавентуры и Пеккама, не сильно отличается от аверроистской. Фактически «ворчунами», против которых Фома обращается в своем трактате, были, вероятно, не столько аверроисты с факультета искусств, сколько эти францисканские богословы, утверждавшие, что им удалось доказать невозможность вечности мира.
Принципиальное расхождение Фомы в этом пункте с некоторыми влиятельными францисканцами должно было сделать его второе парижское регентство значительно более бурным, чем первое. Во время диспутов, состоявшихся в Париже в 1266–1267 гг., францисканский магистр Гильельмо де Бальоне смешал воззрения Фомы с позициями, которые тот опровергал, заявив, что высказывания Аквината подкрепляют два аверроистских тезиса, обличенных Бонавентурой: тезисы о вечности мира и о единстве интеллекта. «Слепые поводыри слепых!» – восклицал Гильельмо, явно причисляя к слепцам и Фому как их главу14. Он также настойчиво доказывал, что трактат Фомы «О вечности мира» был направлен, в частности, против францисканского коллеги-богослова Джона Пеккама15. Таким образом, создается впечатление, что в эти годы разработка подчеркнуто философской теологии – которая, как и теология Альберта, была скорее аристотелевской, чем августинианской – противопоставила Фому коллегам по теологическому факультету Парижского университета. Возможно, это способствовало его сближению с философами с факультета искусств.
Последние дни
В июне 1272 г. доминиканцы приказали Фоме покинуть Париж и отправиться в Неаполь, где ему предстояло основать новый орденский studium и преподавать в нем. За исключением нескольких любопытных собраний проповедей (изначально прочитанных на родном для Фомы итальянском диалекте), труды, датируемые этим периодом, – два аристотелевских комментария и часть третья «Суммы теологии» – остались незаконченными. 6 декабря 1273 г. (или около того), когда Аквинат служил мессу, с ним произошло что-то, что лишило его возможности писать или диктовать. Он сам воспринял случившееся как особого рода откровение. Когда Регинальд из Пиперно, секретарь и многолетний друг Фомы, стал настойчиво допытываться, что же произошло, тот объяснил, что все написанное им до тех пор отныне казалось ему соломой в сравнении с тем, что было ему открыто и что он сумел узреть. Он считал, что наконец-то ясно увидел то, что всю свою жизнь стремился себе представить, и в сравнении с этим все написанное им выглядело бледным и безжизненным. Фома сказал Регинальду, что теперь, когда он больше не мог писать, он хотел бы умереть16. И вскоре после того, 7 марта 1274 г., он умер в Италии, в монастыре Фоссанова, по пути на Лионский собор, где ему велено было присутствовать.
Метафизика
Любая часть философии Аквината пронизана метафизическими принципами, многие из которых имеют явно аристотелевский характер. Соответственно, такие понятия, как потенциальность и актуальность, материя и форма, субстанция, сущность, акциденция и четыре причины (все эти понятия фундаментальны для метафизики Аквината), встраиваются в аристотелевский контекст. Фома часто обращался к этим принципам, а еще чаще применял их имплицитно. Основные черты его метафизического учения намечены в двух самых ранних работах – в Deprincipiis naturae («О началах природы») и особенно в De ente et essentia («О сущем и сущности»). Пожалуй, наиболее важный тезис из тех, что доказываются в трактате «О сущем и сущности», – это тезис, ставший известным под именем «реального различия»: сущность любой тварной вещи, по мнению Фомы, реально, а не просто концептуально, отлична от ее существования. Говоря метафизически, телесные сущие состоят из формы и материи, но все творения, в том числе бестелесные, состоят из сущности и существования. Только нетварная первопричина – Бог, сущность которого тождественна существованию, – абсолютно проста.
За исключением комментария к «Метафизике» Аристотеля, Аквинат не создал трактата по метафизике как таковой. Тем не менее поскольку он считал метафизику наукой о бытии вообще (ens commune) и доказывал, что бытие само по себе – это прежде всего сам Бог, а все сущее зависит от Бога, постольку его философия начинается с метафизики. Наиболее полное изложение мысли Аквината («Сумма против язычников» и «Сумма теологии») начинается с исследования вопроса о том, что есть Бог сам по себе, в качестве первопричины природы и существования всего сущего17.
Сущее, по словам Аквината, есть наиболее фундаментальное понятие интеллекта:
То, что интеллект постигает первым как самое известное и во что разрешает все постижения, есть сущее… Отсюда следует, что все прочие постижения интеллекта принимаются через прибавление к сущему… поскольку выражают модус самого сущего, не выраженный в имени «сущее»18.
По мнению Фомы, есть два законных способа выполнить такое прибавление. Первый способ приводит к десяти аристотелевским категориям, каждая из которых есть «специфицированный [или специфический] модус бытия»: субстанция, количество, качество и т. д. Результаты второго способа «прибавления к сущему» менее привычны. Аквинат считает, что это пять модусов сущего, которые имеют абсолютно универсальный характер, свойственны абсолютно любому сущему. Иначе говоря, где бы и когда бы ни существовали отдельные случаи сущего, они всегда являют в себе эти пять модусов, которые превосходят категории, ибо с необходимостью свойственны любому специфицированному сущему. Эти модусы суть вещь (res\ единое, нечто (<aliquid), благое, истинное. Эти пять модусов, вкупе с самим сущим, представляют собой трансценденталии, которые истинно сказываются об абсолютно всем, что есть. Благое и истинное – случаи, интересные с философской точки зрения: ведь имеются сущие, которые явно не благи, а истинное, казалось бы, приложимо только к высказываниям.
Притязание на то, что все сущие истинны, коренится в понимании «истинного» в смысле «подлинного», «настоящего», вроде «настоящего друга». Этот смысл был подробно исследован Ансельмом Кентерберийским. С точки зрения Ансельма, всякое сущее истинно в этом смысле, причем в той мере, в какой оно согласуется с божественной идеей относительно такого сущего (и ложно в той мере, в какой оно не согласуется с ней). Абсолютно любая существующая вещь согласуется хотя бы до некоторой степени с божественной идеей, входящей в качестве составной части в причинное объяснение этой вещи. Высказывания истинны, если они соответствуют тому способу, каким вещи существуют в мире; вещи в мире истинны, если они соответствуют тому, что находится в мышлении – прежде всего в мышлении Бога, а затем и в нашем мышлении. Так, Аквинат замечает:
В душе имеется познавательная и вожделеющая сила. Следовательно, соответствие сущего вожделению выражается в имени «благое», как сказано в начале «Этики» о том, что благое есть то, чего все вожделеют. А соответствие сущего интеллекту выражается именем «истинное»19.
Центральный тезис метафизики Аквината вырастает из теории трансценденталий. Он представляет собой метафизический принцип, согласно которому термины «сущее» и «благое» имеют одну и ту же референцию, различаясь лишь смыслом20. То, чего все вожделеют, есть то, что все считают благим; то, что является предметом вожделения, по меньшей мере воспринимается как вожделенное21. Таким образом, вожделенность составляет существенный аспект благости. Если вещь некоторого рода поистине вожделенна как вещь этого рода, то она вожделенна настолько, насколько она совершенна в своем роде: безупречный образец, свободный от какого бы то ни было заметного недостатка. Но вещь совершенна в своем роде настолько, насколько в ней актуально присутствуют ее видовые потенции – те потенции, которые отличают данный вид от других видов того же рода. Таким образом, по словам Фомы, вещь вожделенна как вещь данного рода и, стало быть, является благой как вещь данного рода постольку, поскольку она актуальна в бытии22. Стало быть, вообще говоря, «сущее» и «благое» имеют один и тот же референт: любое сущее, в том числе актуализацию видовых потенций. С одной стороны, актуализация видовых потенций вещи хотя бы до некоторой степени есть ее существование в качестве вот этой вещи. Именно в этом смысле вещь называется обладающей бытием. Но, с другой стороны, актуализация видовых потенций вещи означает, что в той мере, в какой вещь актуализирована, ее бытие является полным, совершенным, свободным от недостатка: состояние, к которому по природе стремятся все вещи. Именно в этом смысле вещь называется обладающей благом23.
Для мысли Фомы важно понятие аналогии. Его часто и правильно представляют в терминах аналогической предикации. Однако понятие аналогии у Аквината можно объяснить и на более фундаментальном уровне, в связи с причинностью. Если оставить в стороне «акцидентальную» причинность – когда, например, садовник выкапывает зарытое сокровище, – Фома считает, что производящая причинность всегда подразумевает деятеля (А), претерпевающую сторону (Р) и форму (f). В неакцидентальной производящей причинности А тем или иным способом заранее обладает f. Осуществляя причинную силу по отношению к P, А тем или иным способом вводит в него f. Таким образом, производящей причиной выступает действие А (или осуществление причинной силы со стороны А), а следствием становится обладание f со стороны P. Тот факт, что А и Р могут обладать f несколькими разными способами, выражен в формуле «тем или иным способом». Парадигмой – образцом прямолинейной производящей причинности – служит причинность, которую Аквинат называет унивокальной: те случаи, в которых сначала А, затем Р обладают f одним и тем же способом, и потому f может истинно сказываться о том и другом в одном и том же смысле. Металлическая плита и дно металлического котла, на ней стоящего, называются горячими унивокально: форма тепла в этих двух причинно связанных предметах тождественна по виду и различается только численно.
Однако Фома признает также два вида не-унивокальной производящей причинности. Первый вид – эквивокальная причинность – характерен для случаев, в которых нет очевидного соответствия, позволяющего сказать, что f, приобретенная P, предварительно присутствовала в А, но при всем том имеется естественная причинная связь (стандартный пример – этимологическое объяснение эквивокальной предикации). Если принять за А силу солнца, а за ее следствие – затвердевание (f) глины (Р), то будет очевидным, что сила солнца сама по себе не является твердой в том смысле, в каком тверда глина. Утверждать, что именно сила солнца вызывает затвердевание глины, не так легко, как объяснить нагревание котла; и тем не менее затвердевание глины должно быть каким-то образом вызвано этой силой. В этом случае А обладает f только в том смысле, что А обладает силой вводить f в Р.
Второй, аналогический, вид причинности имеет место тогда, когда, например, образец крови правильно характеризуется как «анемичный», хотя, разумеется, сама кровь не обладает анемией и не может быть анемичной в буквальном смысле. Физиология донора крови (А) обеспечивает такое состояние (f) образца крови, которое безошибочно указывает на анемию у А, оправдывая тем самым (аналогическое) именование образца.
По теологическим соображениям Аквинат проявляет интерес не к природной, а скорее к искусственной аналогической причинности: к тому ее роду, который включает в себя идеи и воления, то есть к причинности, свойственной ремесленнику:
В других же деятелях [форма вещи пред существует] в умопостигаемом бытии, например, в тех, которые действуют посредством интеллекта: так, как подобие дома предсуществует в уме строителя24.
Так как статус всецело унивокальной причинности зависит от того, будет ли различие между f в А и f в Р чисто нумерическим, то деятель, обладающий интеллектом и воплощающий свои идеи в жизнь, очевидно, не является унивокальной причиной. Но это различие между f-антецедентом и f-консеквентом не будет и настолько большим, чтобы конституировать эквивокальную причинность. В действительности этот род связи между идеей и ее внешней манифестацией теснее, чем род связи, обнаруживаемый в природной аналогической причинности. А поскольку, по мнению Фомы, «мир возник не случайно, а через действие божественного интеллекта…, в божественном уме с необходимостью должна существовать форма, по подобию которой был сотворен мир»25. Стало быть, Бог есть не-унивокальная, не-эквивокальная, интеллектуально-аналогическая производящая причина мира.
Философия сознания
Философия сознания у Фомы составляет часть более общей теории души, которая, естественно, опирается на метафизику. Очевидно, что Фома не материалист, прежде всего потому, что Бог, эта абсолютно фундаментальная реальность в его метафизике, никоим образом не материален. Все прочие вещи, отличные от Бога, Аквинат классифицирует как телесные или бестелесные (духовные). Иногда он называет чисто духовные творения – например, ангелов – «отделенными субстанциями», в силу их сущностной отделенности от какого бы то ни было тела. Однако это разделение не вполне исчерпывающе: ведь человеческое существо, в силу самого факта обладания душой, должно считаться не чисто телесным, но и в некотором роде духовным.
Тем не менее простого обладания некоей душой недостаточно, чтобы придать творению духовный компонент. Любое тварное живое существо обладает душой (anima): «душа есть то, что мы называем первоначалом жизни в окружающих нас живых сущих»26; но ни растения, ни животные никоим образом не духовны. По мнению Фомы, даже чисто питающаяся душа растения или питающаяся + чувствующая душа животного подобна человеческой душе в том, что является формой тела. Никакая душа, это первоначало жизни, не может быть материей. Но с другой стороны, любое растительное или: животное тело обладает присущей ему жизнью лишь в силу того, что является телом, природные потенциальные возможности которого сообщены ему особой организацией, – другими словами, лишь в силу субстанциальной формы, которая делает его актуально сущим в качестве именно такого тела. Стало быть, первоначало жизни в живом не-человеческом теле, то есть его душа, есть не телесная часть этого тела, но его форма – один из двух метафизических компонентов того соединения материи: и формы, каковым является любое тело. У растений и животных, в отличие от человека, форма-душа по смерти составного целого перестает существовать; именно в этом смысле души растений: и животных не духовны.
Только в душе человека могут быть вычленены питающийся + чувствующий + рациональный аспекты. Аквинат мыслит эту душу не как три вложенные друг в друга и совместно действующие формы, но как одну-единственную субстанциальную форму, которая наделяет человеческое существо особым, человеческим способом бытия. (Отстаивая тезис о единственности: субстанциальной формы, Аквинат вступал в противоречие со многими своими современниками). Он часто обозначает эту цельную субстанциальную форму по ее специфически человеческому признаку – разумности. Он также считает, что человеческая душа, в отличие от душ растений и животных, обладает независимым самостоятельным бытием (субсистенцией): иначе говоря, она продолжает существовать и после смерти тела, будучи отделена от него. Например, Фома говорит: «Следует сказать, что первоначало интеллектуальной деятельности, которое мы называем человеческой душой, есть некое бестелесное и субсистентное начало»27. Именно потому, что человеческая душа отличается своей разумностью (служит началом интеллектуальной деятельности), ее надлежит описывать как не только бестелесную, но и субсистентную.
Может показаться, что в рамках концепции Аквината невозможно совместить богословскую доктрину о посмертном существовании души и учение о ментальных актах, совершаемых после смерти. Если отделенная душа есть форма, то форма чего? Фома не является сторонником универсального гилеморфизма: в отличие от некоторых своих современников, он не признает существования «духовной материи» как одного из компонентов ангелов или отделенных форм, но считает их самостоятельными формами, которые не оформляют никакую материю. Так что, когда он заявляет, что душа существует отдельно от тела, он, видимо, хочет сказать, что форма может существовать, не будучи формой чего-либо. Более того, Аквинат полагает, что ангел или отделенная душа осуществляют ментальную деятельность. Но форма представляется не той вещью, которая способна к каким-либо актам, и потому, даже если можно было бы как-то объяснить существование души отдельно от тела, ее активность выглядит необъяснимой.
В связи с этим будет полезным обратиться к более широким воззрениям Фомы на форму. Мир метафизически устроен таким образом, что на вершине вселенской иерархии находятся формы – Бог и ангелы, – которые не являются формами чего-либо. Почти в самом низу иерархии находятся формы, которые структурируют материю, но не могут существовать сами по себе, отдельно от телесных композитов, которые они оформляют. Таковы формы неодушевленных вещей и живых, но неразумных существ. Эти формы структурируют материю, но когда составные сущие перестают существовать, перестают существовать и эти формы. В середине – «на границе между телесными и бестелесными [то есть чисто духовными] субстанциями» – располагаются человеческие души, эти метафизические амфибии28. Подобно ангелам, человеческие души субсистентны, способны существовать сами по себе; но, подобно формам неодушевленных сущих, они оформляют материю.
Если рассматривать душу в таком свете, нетрудно понять в концепции Фомы то, что сперва представлялось обескураживающим. Человеческая душа имеет двойственный характер. С одной стороны, в отличие от форм других материальных вещей, она сотворена Богом как самостоятельная индивидуальная сущность, способная существовать сама по себе, наподобие чисто нематериальных ангелов. С другой стороны, подобно форме любой телесной вещи, она существует в оформляемом ею композите и приходит к бытию только вместе с композитом, не прежде него.
Теория познания
По мысли Фомы, природа должна быть устроена таким образом, чтобы в целом удовлетворять естественное стремление людей к познанию29. Его точка зрения на действительное мироустройство кажется, на первый взгляд, слишком узкой, подразумевающей своего рода формальное тождество между внементальным объектом (О) и познавательной способностью (F), актуально познающей объект О. Однако, по мнению Фомы, (аристотелевское) тождество всего лишь утверждает, что форма О некоторым образом присутствует в F30. Форма О оказывается в F, когда F принимает в себя чувственные или умопостигаемые species [5] О. В этих species можно усматривать способы кодировки формы О. Если О представляет собой единичный телесный объект – например, железный обруч, – то в самом О его форма структурирует материю, производя железный обруч именно таких размеров именно в этой точке пространства и времени.
(В учении Фомы об индивидуации форма О индивидуируется количественно определенной материей [materia signata]). Но когда соответствующим образом закодированная форма принимается во внешнюю чувственную способность F (использующую телесный орган), то хотя она и принимается материально в материю F, она тем не менее принимается иначе, нежели в материю обруча. Восприятие формы материей органа чувства представляет собой «интенциональное», или «духовное», принятие формы, результатом которого становится не метафизическое конституирование обруча как нового индивидуального сущего, состоящего из материи и формы, а его познание.
Чувственные species, принятые во внешние чувства, обычно передаются во «внутренние чувства», органы которых, по мнению Аквината, должны располагаться в мозге. С точки зрения познания, важнейшими из внутренних чувств признаются фантазия и воображение (правда, Фома обычно рассматривает воображение как часть способности фантазии). Фантазия и воображение производят и сохраняют фантазмы – чувственные данные, которые составляют необходимое предварительное условие интеллектуального познания. Воображение и фантазия необходимы также для осознанного чувственного познания. С точки зрения Аквината, сами: чувственные species не являются объектами познания, а из того, что он говорит о фантазии, можно сделать вывод, что для чувственного познания недостаточно обладать чувственными species. При всем том, что объект оказывает естественное воздействие на внешние чувства, он ощущается осознанно лишь потому, что фантазия переработала чувственные species объекта в фантазмы.
Присутствующая в фантазме форма, конечно, извлекается из исходной индивидуирующей материи; однако фантазма О остается, как таковая, единичной в силу того, что, будучи принята в другую материю, материю органа фантазии, она остается узнаваемой формой О, ибо сохраняет в себе присущие О детали. Но познание О как железного обруча есть познание понятийное, интеллектуальное, для которого фантазма служит всего лишь сырым материалом.
В самом интеллекте Аквинат различает две аристотелевские «потенции». Первая – это действующий интеллект, по существу своему активный, или продуктивный, аспект интеллекта, который воздействует на фантазму, производя «упомостигаемые species».
Они представляют собой первичные содержания интеллекта и сохраняются в возможностном интеллекте, который есть не что иное, как сущностно рецептивная сторона интеллекта.
Для нас естественно посредством интеллекта познавать природы, которые обладают бытием лишь в индивидуальной материи; но познавать их не как пребывающие в индивидуальной материи, а как абстрагированные от нее посредством интеллектуального рассмотрения31.
Это – задача действующего интеллекта, производящего умопостигаемые species. Умопостигаемые species О не похожи на его чувственные species тем, что всегда принимают универсальный характер, а это, как таковое, происходит лишь в возможностном интеллекте. Возьмем, к примеру, «круглое», «металлическое», «железный обруч». Эти «универсальные природы» не только принимаются в интеллектуальную способность F, т. е. в возможностный интеллект, но и, очевидно, регулярно используются как инструменты, необходимые для интеллектуального познания телесной реальности:
Наш интеллект абстрагирует умопо стигаемые species от фантазм, рассматривая природы вещей универсально; и однако, он мыслит их в фантазмах, ибо даже те вещи, species которых он абстрагирует, он может мыслить не иначе, как обращаясь к фантазмам32.
Именно так мы «в интеллектуальном постижении можем познавать эти [единичные, телесные, составные] вещи в их универсальности, что недоступно чувственной способности»33.
Эти две способности, чувство и интеллект, познают О – единичную телесную вещь. Однако чувство обладает знанием О лишь в его единичности34. Далее индивидуальный интеллект, которому довелось образовать понятие железный обруч, будет обладать знанием только универсальной природы, которой случилось реализоваться в О, а не знанием единичной реализации этой природы, – если только не обратится также к фантазмам О. Только благодаря такому обращению интеллект познает объект как таковой, причем как реализацию универсальной природы – например, как железный обруч35.
Хотя интеллект регулярно познает телесные единичные вещи описанным выше способом, его собственным объектом, по словам Аквината, является универсальная природа единичной вещи, то есть ее «чтойность». Стало быть, «первая операция» интеллекта – познание универсалии, собственного объекта интеллекта (хотя, как мы видели, производимая действующим интеллектом абстракция умопостигаемой species составляет необходимый шаг в познании чтойностей вещей). Иногда Фома называет эту первую операцию «пониманием». Но и scientia [научное знание], будучи одной из последних операций интеллекта (операцией дискурсивного рассуждения) и кульминацией интеллектуального познания, тоже имеет своим объектом природы вещей. Следовательно, универсальные природы, представляющие собой собственные объекты первой операции интеллекта и наивысшего теоретического знания природы, нужно считать собственными объектами как начала, так и кульминации интеллектуального познания. То, что в первой операции интеллекта познается в цельном виде – например, животное, – в научном познании разделяется на сущностные природные части (чувствующая одушевленная телесность), каждая из которых схватывается во всей полноте ее характеристик и способностей. В теории и в потенции максимум, чего можно надеяться достигнуть, – это наивысший уровень когнитивности: «Коль скоро человеческий интеллект схватывает субстанцию всякой вещи – например, скалы или треугольника, – то ни один из умопостигаемых аспектов этой вещи не превосходит вмещающей способности человеческого разума»36.
«Вторая операция» интеллекта включает образование суждений, которые представляют собой утверждения – через пропозициональное «соединение» понятий, полученных при выполнении первой операции, или отрицания – через взаимное «разделение» понятий. На любой стадии, следующей за первоначальным схватыванием, познание чтойностей отчасти зависит от этой второй операции, а также от рассуждения:
Человеческий интеллект не мгновенно, при первом схватывании, обретает совершенное знание вещи, но сначала схватывает относительно нее нечто, а именно чтойность самой вещи, которая есть первый и собственный объект интеллекта, а затем постигает свойства, акциденции и характеристики, сопровождающие сущность вещи. И в соответствии с этим он с необходимостью должен одно схваченное соединять с другим или отделять от него и продвигаться от одного соединения или разделения к другому, то есть рассуждать37.
Рассуждение иногда называется третьей операцией интеллекта.
Образование пропозиций и выстраивание выводов из этих пропозиций – необходимые предварительные условия высшего интеллектуального познания. Аквинат называет его scientia и обсуждает самым подробным образом в Sententia super Posteriora analytica («Комментарии на Вторую аналитику Аристотеля»). Интерпретация томистского понимания scientia вызывает споры; но вот одна из возможных точек зрения. Познавать пропозицию научным познанием (scientia) означает, строго говоря, принять ее как вывод из «доказательства». Разумеется, многие посылки доказательств сами могут быть выводами: из других доказательств, но некоторые должны приниматься не на основе доказательств, a per se [сами по себе]38.
Такие пропозиции, познаваемые per se (хотя и не всегда познаваемые per se для нас), Аквинат называет первыми принципами. Подобно Аристотелю, он считает их непосредственными пропозициями; иначе говоря, они сами не могут быть выводами из доказательств, а их истинность очевидна всякому, кто вполне понимает их термины, то есть не просто схватывает их обыденное значение, но понимает реальную природу их референтов. Предикат непосредственной пропозиции принадлежит к ratio субъекта пропозиции, a ratio есть не что иное, как формулировка реальной: природы: субъекта39. Так, например, Фома считает, что пропозиция «Бог существует» самоочевидна, ибо, согласно учению о простоте, природой Бога является бытие Бога. «Бог существует» – отличный пример пропозиции, познаваемой per se, но, как подчеркивает Фома, непознаваемой: per se для нас. Именно по этой причине Фома разрабатывает несколько аргументов a posteriori в пользу существования Бога, среди которых наиболее известны «Пять путей», сформулированные в ST 1а. 2. 3.
Всякий, кто обладает развернутым понятием реальной природы субъекта, уверен в истинности такой непосредственной пропозиции:
Имеются непосредственные пропозиции, термины которых известны не всем. Поэтому, хотя предикат принадлежит к формулировке природы субъекта, такие пропозиции не обязательно принимаются всеми, ибо определение субъекта известно не всем40.
Так как доказательства изоморфны метафизической реальности, выраженные в посылках факты, как правило, следует мыслить как причины фактов, выраженных в выводе41, хотя в некоторых случаях доказательное рассуждение продвигается в обратном направлении, от следствий к причинам. Так, обладание scientia по отношению к некоторой пропозиции есть наиболее полный из доступных человеку видов познания, посредством которого выраженный в выводе факт помещается в рамки объяснительной теории, аккуратно размечающей метафизическую или физическую реальность.
Итак, согласно Аквинату, доказательство служит источником не столько знания, как будут считать классические фундаменталисты11 вроде Декарта, сколько глубокого понимания и объясняющего инсайта. Вообще говоря, Фома начинает вовсе не с самоочевидных принципов и дедуктивных выводов; «скорее [он начинает] с утверждения, которое нужно обосновать (оно станет ‘выводом’ только в формальной переформулировке аргумента), и ‘сводит’ его к последнему объясняющему принципу»42. Когда сам Фома описывает свой проект в общем виде, он говорит, что человеческий разум вовлечен в два разных процесса: открытие (или изобретение) и суждение. Когда мы вовлечены в процесс открытия, мы продвигаемся в рассуждении от первых принципов к прочим вещам; в суждении же наше рассуждение движется к первым принципам на основе своего рода анализа. С точки зрения Фомы, к scientia ведет не процесс открытия, [6] а процесс судящего рассуждения. Но именно суждение является предметом Второй аналитики: «Суждение осуществляется с достоверностью научного знания. А так как иметь достоверное суждение о следствиях возможно, только разрешая их в первые принципы, эта часть [человеческого рассуждения] именуется аналитикой»43.
Воля и действие
Философия сознания очевидно важна для эпистемологии своими отчетами о механизмах познания, особенно об интеллекте. Своим отчетом о воле она с такой же очевидностью важна для теории действия и для этики. Озабоченность Аквината моральными вопросами еще глубже, чем его выраженный интерес к эпистемологическим проблемам, а этика его настолько высоко развита, что акты воли он систематически рассматривает именно в рамках этики, а не философии сознания.
Если интеллект представляет собой отличительную когнитивную способность разумной человеческой души, то воля есть способность стремления. Будучи разновидностью естественной склонности, воля, в ее метафизическом происхождении, более изначальна, нежели интеллект, ибо она есть наиболее утонченное земное проявление наиболее универсального аспекта творения. Фома утверждает, что не только любая душа, но и абсолютно любая форма обладает неким видом склонности, сущностно связанным с нею. Таким образом, любая вещь, состоящая из материи и формы, даже неодушевленная, обладает, по меньшей мере, одной естественной склонностью: «Любая форма имеет некую склонность: так, огонь в силу своей формы склонен устремляться ввысь и порождать себе подобное»44. Склонность есть род стремления, а стремление есть род воления. Безусловно, человеческой душе свойственны естественные стремления (например, к пище); но присущие ей чувственные и интеллектуальные способы познания влекут за собой чувственные стремления, или страсти (например, к морепродуктам), и рациональные стремления, или воления (например, к пище с низким содержанием жира).
В человеческих существах чувственное стремление есть сгусток склонностей (страстей), которые мы (пассивно) претерпеваем в силу нашей животной природы. Следуя аристотелевской линии мышления, Аквинат разделяет чувственное стремление на две взаимодополняющие силы: вожделеющую (то есть стремление к обретению/избеганию) и гневливую (то есть стремление к состязанию/нападению/обороне). С первой силой ассоциируются страсти радости и печали, любви и ненависти, желания и отвращения; со второй – отвага и страх, надежда и отчаяние, гнев.
Для философии сознания и этики важные моменты – способ и широта контроля над чувственным стремлением со стороны разумных способностей: контроль, без которого гармония человеческой души оказывается под угрозой, а мораль – невозможной, особенно в рациоцентричной этике Аквината, сфокусированной на добродетелях и пороках. Человек, ведущий себя не так, как ведет себя неразумное животное, «не тотчас повинуется стремлению гневливой и вожделеющей способности, а ожидает приказа воли, которая есть высшее стремление»45. Но какого рода контроль осуществляется рациональной когнитивной способностью, которая в этой своей роли, как правило, называется «практическим разумом», а не более широким именем «интеллект», – это не столь очевидно, однако весьма важно в свете томистской концепции интеллектуального познания.
Разумные способности могут регулировать внимание внешних чувств и до некоторой степени компенсировать их дисфункции, но не могут прямо диктовать, что следует внешним чувствам воспринимать в первую очередь в каждом конкретном случае. С другой: стороны, чувственное стремление и внутренние чувства не привязаны напрямую к внементальным внешним вещам, а потому до некоторой степени «подчиняются велениям разума», хотя могут и восставать против него46. Разрабатывая эту аристотелевскую тему47, Аквинат замечает, что власть души над телом «деспотична»: в нормальном теле любая телесная часть, которая может быть движима актом воли, фактически и непосредственно движется тогда и так, когда и как предписывает воля. Напротив, разумные способности направляют чувственное стремление «политически»: ведь силы и страсти, подчиненные этому разумному правлению, приводятся в движение также воображением и чувствованием, а потому не являются рабами разума. «Вот почему мы ощущаем, как гневливая или вожделеющая способности противятся разуму, когда чувствуем удовольствие от переживания или воображения чего-то запрещенного разумом или печаль от предписанного разумом»48.
Согласно Аквинату, желание счастья, вообще говоря, составляет неотъемлемую часть человеческой природы. Тем не менее «побуждение тварной воли не определено конкретно к поискам счастья в том или в этом»49. Такого рода свобода воли есть свобода видового определения, или «свобода в отношении объекта» – свобода «определять» аспект воления. Она отличается от свободы осуществления, или «свободы в отношении акта», то есть свободы, связанной со способностью воли к «исполнению», к тому, чтобы действовать или не действовать ради достижения чего-то, что понимается как благо.
Интерпретация томистской концепции свободы воли неоднозначна. Сама эта фраза, «свобода воли», проблематична. Аквинат неоднократно говорит о liberum arbitrium (свободном решении или суждении), и хотя это латинское выражение часто переводят как «свободная воля», liberum arbitrium нельзя приписывать одной лишь воле. Эта сила присуща интеллекту и воле как целостной системе и рождается из их взаимодействия. Тем не менее можно, пожалуй, сказать, что концепцию свободы воли у Фомы – коль скоро он решительно отрицает свободу любого воления, причиной которого является нечто внешнее субъекту воления, – нельзя считать разновидностью компатибилизма50’ ш. Единственное видимое – [7] исключение воздействие Бога на человеческую волю. Фома считает, что из внешних сил только Бог может прямо воздействовать на волю другой личности, не насилуя природу ее воли, то есть не подрывая ее свободы51. Исходя из этого, некоторые интерпретаторы называют Аквината богословским компатибилистом. Других же виртуозная сложность томистской концепции божественного воздействия на волю людей побуждает утверждать, что полный анализ этой сложности покажет: Фома никоим образом не является компатибилистом.
Анализ человеческого действия у Фомы, опирающийся на его понимание интеллекта и воли, сложен, и кратко суммировать его – нелегкая задача. Вообще говоря, Фома обнаруживает тщательно упорядоченные ментальные структуры даже в простых актах. Например, описывая, как некто поднимает руку, чтобы привлечь внимание, мы склонны предполагать, что ментальной причиной телесного движения было сочетание верований и желаний деятеля, независимо от того, сознавал ли он их вполне или нет. Аквинат, безусловно, согласился бы с тем, что агенту нет нужды вполне сознавать ментальные причины внешнего действия, но он рассматривает их как имеющие сложную, иерархически упорядоченную структуру. Хотя эта структура может выглядеть детерминистской, она, с точки зрения Аквината, не является таковой, потому что почти любой момент во взаимодействии между интеллектом и волей может побудить интеллект к пересмотру проблемы, к иной направленности внимания или даже к тому, чтобы перестать думать о проблеме52.
Этика, закон и политика
Моральная теория Аквината наиболее полно и систематически разработана во второй части «Суммы теологии». (Общая теория представлена в Iа Пае, а детальное рассмотрение отдельных вопросов – в IIа Пае). Подобно абсолютному большинству своих античных и средневековых предшественников, Фома усматривает в этике две главные темы: во-первых, какова конечная цель человеческого существования; во-вторых, каким образом эта цель достигается или утрачивается. Из трехсот трех «Вопросов», составляющих вторую часть «Суммы теологии», двести девяносто восемь так или иначе связаны со второй темой, и только начальные пять непосредственно рассматривают первую (правда, в «Сумме против язычников» Фома посвящает ее детальному исследованию главы 25–40).
В тексте «Суммы теологии» Iа IIае 1–5, иногда именуемом «Трактатом о счастье», утверждается существование и исследуется природа единой конечной цели любых человеческих действий, или, точнее, любого поведения, над которым человек имеет «контроль». Прежде всего, «все действия, проистекающие из некоей силы, причиняются этой силой в согласии с природой ее объекта. Но объектом воли является цель и благо», то есть цель, воспринимаемая как благо интеллектом волящего53. Отправляясь от этого исходного пункта, Фома проводит анализ, призванный показать, что во всем, к чему стремится человек, он необходимо (хотя и не всегда осознанно) стремится к своей конечной цели – к счастью.
Авинат доказывает, что подлинная – хотя подчас неузнанная – конечная цель, ради которой существуют люди, есть Бог, воплощенное персонифицированное благо; а совершенное счастье, эта конечная цель, которой они могут обладать (их «использование» этого объекта), есть вкушение цели, ради которой они существуют. Такое вкушение вполне достигается только в блаженном видении, которое Аквинат мыслит как вид деятельности. Поскольку блаженное видение включает в себя созерцание конечной (первой) причины всего сущего, постольку оно представляет собой (чем бы оно ни было помимо этого) также совершенство всякого знания и понимания54.
Первые четыре «вопроса» ST Iа IIае (18–21) Фома посвящает «благу и злу человеческих действий вообще». Хотя рассмотрение правильности и ошибочности составляет лишь часть обсуждения в вопросах 18–21, создается впечатление, что Аквинат мыслит правильность и ошибочность как практические, морально определенные оценки действий. Его упор на более широкие понятия блага и зла свидетельствует о том, что корни его моральной оценки действий уходят в метафизическое отождествление бытия и блага.
Морально злым действие становится в силу того, что оно не приближает, а удаляет деятеля от его конечной цели. Такое отклонение явно иррационально, и томистский анализ морального зла в человеческом действии в принципе отождествляет его с неразумием ведь неразумие не позволяет человеку актуализировать его специфические потенции – то, что делает разумность отличительным видовым признаком человека. Здесь, как и во всех прочих отношениях, этика Аквината рациоцентрична:
В человеческих действиях благо и зло именуются в сопоставлении с разумом, ибо… для людей благо – то, что сообразно разуму, а зло – то, что противно разуму. Итак, для всякой вещи благо – то, что подобает ей в согласии с ее формой, а зло – то, что противно порядку ее формы55.
Однако было бы ошибочным считать, что Аквинат полагает сутью морального зла интеллектуальное заблуждение. В силу теснейшей взаимосвязи, которую он усматривает между интеллектом и волей, иррациональность морального проступка является также функцией воли, не только интеллекта. С точки зрения Фомы, моральная оценка человеческого действия зависит прежде всего от «внутреннего акта», то есть от воления, следствием которого стал внешний акт. Так как «воля, в силу самой природы волевой потенции, склонна к разумному благу [к тому, что интеллект предъявляет воле как благо]», дурное воление проистекает из ущербного размышления56. А поскольку интеллект и воля непрестанно влияют друг на друга, дурное размышление может оказаться также следствием дурного воления. Более того, практические ошибки интеллекта в опознании наилучшего доступного образа действий могут также иметь своим источником страсти чувственной души.
Более того, «так как благо [предъявляемое интеллектом] многообразно варьируется, необходимо, что к какому-то определенному благу, предъявляемому разумом, воля склонялась неким хабитусом[8], чтобы за этим последовало наиболее подходящее действие»57. Хабитусы воли служат необходимыми условиями осуществления наших волений особенно хорошими или особенно дурным путями, с точки зрения как «исполнительного», так и «определяющего» аспектов воления. Хабитусы, играющие эту важнейшую роль в моральной теории Аквината, суть добродетели и пороки.
Четыре кардинальных добродетели могут быть поняты как хабитусы такого рода. Разумный хабитус благого управления – это благоразумие; разумная воздержанность, отстраняющая эгоистичное вожделение, – это умеренность; разумная стойкость, противостоящая эгоистичной гневливой страсти, например, страху, – это мужество; разумное управление своими отношениями с другими людьми есть справедливость. Нормативная этика Фомы базируется на добродетелях; она имеет дело с расположениями, а затем – с действиями, проистекающими из этих расположений.
Помимо моральных добродетелей во всем разнообразии их проявлений, Аквинат признает интеллектуальные добродетели которые, подобно добродетелям моральным, возможно стяжать усилием со стороны человека. С другой стороны, высшие богословские добродетели – веру, надежду и любовь – нельзя стяжать: они должны быть непосредственно вложены Богом. Фома вводит эти добродетели в «Сумме теологии», Iа IIае 49–88 и детально исследует их на протяжении всей IIа IIae.
Страсти, добродетели и пороки – все это внутренние начала, или истоки человеческих действий. Но имеются и внешние начала, среди которых фигурирует закон во всех его разновидностях. Соответственно, в «Сумме теологии», Iа IIае 90-108, Фома переходит к своему «Трактату о законе», где дана оригинальная и прославленная трактовка этого предмета. Наиболее известный момент трактата составляет томистское понимание естественного закона. Вообще говоря, закон есть «разновидность разумного устроения: ради: общего блага, обнародованная тем, кто имеет попечение о сообществе»58, а
предписания естественного закона так относятся к практическому разуму, как первые принципы доказательств относятся к разуму спекулятивному… Все то, что надлежит делать или чего надлежит избегать, принадлежит к предписаниям естественного закона, которые практический разум по природе постигает как человеческие блага59.
Всевозможные человеческие законы происходят или должны происходить от естественного закона; он понимается как по природе известные рациональные принципы, служащие основанием общей морали:
Необходимо, чтобы от предписаний естественного закона, как от неких общих и недоказуемых начал, человеческий разум переходил к другим, более частным установлениям… именуемым человеческими законами, при соблюдении прочих условий, относящихся к природе закона, как было сказано выше60.
На основании этой иерархии законов Аквинат без колебаний отвергает некоторые разновидности и конкретные примеры человеческого закона. В частности, «тиранический закон, поскольку он не согласуется с разумом, является не законом в безусловном смысле, а скорее извращением закона»61. Но и естественный закон опирается на более фундаментальный «вечный закон», который Фома отождествляет с божественным провидением «Сам принцип правления вещами, пребывающий в Боге как в первоначале универсума, имеет формальную природу закона»62.
Трактат «De regimine principum» («О правлении государей»), важнейшее политическое сочинение Аквината, начинается с исследования привычной средневековой темы – монархии как наилучшей формы правления. Но при этом Фома тщательно отличает монарха от тирана: первый обращает свою власть прежде всего на благосостояние народа, тогда как второй обращает ее прежде всего и главным образом на свое собственное благосостояние. Аквинат также сознает, что единоличный правитель легко поддается коррупции, и потому монархия имеет тенденцию вырождаться в тиранию. Фома признает правомочность неповиновения и даже восстания против монарха, ставшего тираном, лишь в исключительных обстоятельствах, но в этих обстоятельствах он считает допустимыми радикальные средства, вплоть до тираноубийства («О правлении государей» 6). Быть может, именно потому, что Фома видел опасности, связанные с монархией, он включил в свою теорию благого правления республиканские элементы. В более позднем комментарии к аристотелевской «Политике» он подчеркивает, что гражданин есть тот, кто по очереди правит и управляем. Кроме того, в томистской теории политической справедливости присутствует выраженный эгалитарный элемент.
Теология: естественная, откровенная и философская
Мысль Аквината развивалась большей частью внутри формальных границ теологии XIII в., а это, в свою очередь, определило место Аквината в истории философии и контекст его трудов. Поэтому необходимо уделить некоторое внимание тем способам, какими то, что мы сегодня опознаем в качестве философии, составляло существенную часть того, что он считал теологией.
Первые три книги «Суммы против язычников» Фома посвящает систематическому раскрытию естественной теологии, которую он полагал частью философии (см. ST la. I. I ad 2). Как часть философии, естественная теология должна, конечно, всецело опираться на «принципы, известные благодаря естественному свету интеллекта»63: принципы того же рода, что и те, которые лежат в основании аристотелевской метафизики и которые, по мнению самого Аристотеля, достигают кульминации в теологии (см. томистскую интерпретацию этой мысли во Введении к Sententia super Metaphysicam – «Комментарии на Метафизику»). Фактически, метод Фомы в SCG I–III настойчиво наводит на мысль, что в естественной теологии Фома видел науку, подчиненную метафизике, подобно тому, как в оптике он видел науку, подчиненную геометрии.
Тем не менее в этом его проекте есть нечто необычное. К тому времени, когда работал Фома, церковные университетские власти уже во многом преодолели свои изначальные предубеждения против недавно открытых трудов язычника Аристотеля и официально признали, что изучение аристотелевской физики и метафизики (вместе с входящим в них малым компонентом – естественной теологией) совместимо с общепризнанными и доступными: истинами: о Боге, сообщенными в откровении. Средневековые христиане в конце концов признали оправданной и даже достойной поощрения попытку античных философов открыть истины о Боге на основе одного лишь наблюдения и рассуждения, коль скоро они ничего не ведали об откровении. Однако ни один философ из окружения Аквината не решился выдвинуть новый проект естественной теологии эвристического характера.
А вот естественная: теология описательного характера не вызвала бы возражений. Цель такого начинания заключалась бы не в выстраивании теологии с нуля, а в том, чтобы показать, в духе Рим 1:20, широту того, что было сверхъестественно сообщено в Откровении, но теоретически могло быть открыто естественным путем. Такое начинание, видимо, и представляет собой SCG I–III.
Свидетельство одной хроники, написанной примерно через семьдесят лет после того, как Фома начал работу над «Суммой против язычников», навело исследователей на мысль, что этот труд призван был служить учебником для доминиканцев – миссионеров к мусульманам и евреям. Если бы это было так, представление в первых трех книгах «Суммы» не откровенной, а естественной теологии диктовалось бы практической целью – рационально вывести истину о Боге и божественном отношении ко всему сущему для людей, не признающих те богооткровенные тексты, на которые в противном случае Аквинат ссылался бы как на источник этой истины. Но никто, в том числе, разумеется, сам Фома, не подумал бы, что мусульман или евреев нужно убеждать в том совершенном монотеизме, который представлен в этих первых трех книгах: в них нет ничего, что можно было бы счесть противоречащим иудаизму или исламу. Если бы Фома задумывал «Сумму против язычников» как учебник для миссионеров к образованным мусульманам, евреям или христианским еретикам, он напрасно потратил бы огромные усилия, вложенные в триста шестьдесят шесть развернутых глав книг I–III (см. Gauthier 1961; 1993, где убедительно отвергается эта гипотеза).
Высказывания самого Фомы о том, ради чего он написал «Сумму против язычников», наводят на мысль, что, по крайней мере, формальной причиной этого текста послужила не попытка посодействовать миссионерской деятельности, а рассмотрение взаимоотношений философии и христианства. Фома начинает с размышления о мудром человеке, одном из тех, «кто придает вещам должный порядок и направление и хорошо управляет ими»64. Очевидно, такого человека должны заботить цели и начала, и, следовательно, мудрейшим человеком будет «тот, чье внимание обращено ко всеобщей цели, которая есть также всеобщее начало» и которую Фома отождествляет с Богом65. Ввиду того, что эта естественная теология ориентирована именно таким образом, «ее следует назвать наивысшей мудростью, которая исследует наивысшую причину всего»66. Следовательно, наивысшая, наиболее универсальная объяснительная истина должна быть делом мудрости.
Любой, кто стремится к мудрости, должен заняться метафизикой, ибо, по мнению Фомы, Аристотель правильно отождествляет метафизику со «знанием истины – не любой истины, но той, которая есть источник всякой истины, то есть принадлежит к первоначалу бытия всех вещей»67. И, как замечает Фома в связи со своим собственным начинанием, «иногда божественная мудрость исходит из начал человеческой философии»68. Но если дело одной и той же науки —
стремиться к одной из противоположностей и отвергать другую… то задача мудреца – не только размышлять об истине, прежде всего о первоначале, и сообщать о ней другим, но и сражаться с ложью, ей противоположной69.
Истина о первоначале – это истина о Боге, если исходить из допущения, что естественная теология может доказать существование Бога. Таким образом, объяснительная истина, которая ассоциируется здесь с метафизикой, есть истина, связанная также с теологией.
Неизвестно, какое название сам Аквинат дал своем труду и дал ли вообще. В некоторых средневековых рукописях он именуется Liber de veritate catholicae fidei contra errores («Книгой об истине католической веры, против заблуждений»). Это название точнее предает цель и содержание книги, чем более задиристое традиционное Summa contra gentiles. В течение XIX в., когда Summa theologiae, как правило, именовалась Summa theologica («Теологическим синопсисом»), Summa contra gentiles иногда публиковалась под нарочито контрастирующим заглавием Summa philosophica («Философский синопсис»). Этот контраст, даже будучи способным ввести в заблуждение, заключает в себе и долю истины, как можно увидеть из плана Фомы для SCG I–III:
Итак, поскольку мы намереваемся двигаться путем разума к тому, что может исследовать человеческий разум о Боге, нам предстоит рассмотреть, во-первых, то, что присуще Богу самому по себе (книга I); во-вторых, происхождение от Него тварей (книга II); в-третьих, иерархический порядок тварей, восходящий к Нему как к цели (книга III)70.
В этом исследовании путем разума Аквинат вынужден остерегаться любых «аргументов от авторитета»; однако он выказывает достаточно здравого смысла, не ограничиваясь «доказательными аргументами» в развертывании естественной теологии. Конечно, он использует доказательные аргументы, когда считает, что они у него имеются; но, подобно абсолютному большинству философов любой эпохи, он признает также нужду философии в «вероятностных аргументах». Доказательные аргументы получают в качестве посылок пропозиции, которые объясняют выраженный в выводе факт через высвечивание его причин (или, иногда, его следствий), и производят таким образом научное понимание. Вероятностный аргумент из числа тех, что всегда преобладали в философии, базируется на посылках, которые принимаются широкой публикой или экспертами в релевантной области; таким образом, одна группа может быть убеждена в вероятности аргумента, который отвергается другой группой. Разумеется, Фоме приходится пользоваться аргументами от авторитета в четвертой (и последней) книге, где от естественной теологии он обращается к теологии откровения, и его терпимость к этим аргументам – одна из отличительных черт аргументации в книге IV в сравнении с той аргументацией, которая характерна для книг I–III.
В SCG Аквинат занят тем, что позднее назовут философской теологией: приложением разума к откровению. Философская теология разделяет с естественной теологией, взятой в широком смысле, общий метод – анализ и аргументацию любого рода, принятого в философии; но она устраняет ограниченность естественной теологии со стороны ее предпосылок и принимает в качестве допущений: высказывания, сообщенные в откровении. Они включают в себя и те, которые поначалу были недоступны разуму самому по себе, например, «тайны» христианского учения. Во множестве трудов по философской теологии: Аквинат подвергает проверке последовательность доктринальных пропозиций (включая тайны), пытается объяснить их, раскрывает их логические связи с другими доктринальными пропозициями и т. д. И все это для того, чтобы убедить нас: сами по себе доктрины вполне понятны и приемлемы, а видимая непоследовательность некоторых из них лишь отражает наш изначальный, поверхностный взгляд на них.
Образцовым примером философской теологии служит «Сумма теологии». С самого первого параграфа самого первого «Вопроса» становится ясным, что этот труд представляет собой отнюдь не сумму естественной теологии. В самом деле, он начинается с вопроса о том, нуждаемся ли мы в каком-либо «ином учении, помимо изучения философии», что на средневековом языке Фомы означает изучение философии, уже завершенное на факультете искусств теми, кто приступает к занятиям теологией. Вопрос возникает потому, что в изучении философии мы имеем дело не только с «вещами, подвластными разуму», но и «со всеми сущими, включая Бога», в силу чего имеется такая часть философии, как теология.
Хотя Фома принимает универсальность этой характеристики предмета философии и признает, что часть, именуемая теологией, в собственном смысле является частью философии, он выдвигает несколько аргументов в поддержку той позиции, что теологию откровения тем не менее нельзя считать излишней. В одном из этих аргументов он утверждает, что способность вещей «познаваться разными путями порождает различие между науками». Фома имеет в виду, что различные науки могут приходить к одним и тем же выводам, исходя из разных посылок или свидетельств. Приводя собственный пример, Фома обращает внимание на то, что для доказательства утверждения о шарообразности Земли натуралист использует эмпирическое наблюдение, тогда как космолог может отстаивать то же самое утверждение на чисто формальном основании. Вывод Фомы гласит:
Ничто не препятствует тому, чтобы об одних и тех же вещах, о которых философские дисциплины рассуждают как о познаваемых естественным светом разума, рассуждала и другая наука, поскольку они познаются светом божественного откровения. Потому теология, которая принадлежит к священному учению [то есть богооткровенная теология], отличается по роду от той теологии, которая полагается частью философии71.
Может показаться, что в этом аргументе Фома хочет сказать, что естественная и богооткровенная теология различаются только этим методологическим аспектом, что они просто представляют собой два радикально различных подхода к одним и тем же высказываниям о Боге и обо всем остальном. Однако в действительности Фома с этим бы не согласился. Имеются пропозиции, которые принадлежат исключительно к предмету теологии откровения просто потому, что предпосылки, с которых начинает богооткровенная теология, будучи иными, могут также привести к выводам, которые недоступны разуму без помощи откровения. И, разумеется, никакая пропозиция, изначально доступная человеку только в силу того, что она была сообщена ему Богом, не может составлять часть предмета естественной теологии.
С другой стороны, ни одна пропозиция, принадлежащая к собственной области естественной теологии, не исключается из предмета теологии откровения. Эти пропозиции, принадлежащие к естественной теологии, образуют особое подмножество пропозиций, принадлежащих к теологии откровения:
Было необходимо, чтобы даже тому, что может быть исследовано о Боге человеческим разумом, человек был научен божественным откровением. Ибо истина о Боге, исследуемая разумом лишь немногими, открылась бы человеку только по прошествии долгого времени и с примесью множества заблуждений; а между тем от ее познания зависит всецелое спасение человека, пребывающее в Боге. Стало быть, чтобы спасение открылось людям с большей надежностью и достоверностью, было необходимо, чтобы в божественных вещах они были наставлены божественным откровением72.
Суммируя рассмотрение sacra doctrina, то есть богооткровенной теологии, Фома говорит, что ее «главная цель… сообщать знание о Боге, причем не только о том, каков Он в самом себе, но и поскольку Он есть начало вещей и их конечная цель, особенно для разумной твари»73. Таким образом, предметом sacra doctrina—теологии, представленной в «Сумме», – являются наиболее фундаментальные истины обо всем сущем, с двумя уточнениями: во-первых, теология откровения трактует о Боге и отличных от Него вещах постольку, поскольку они связаны с Богом как со своим началом и целью; во-вторых, среди отличных от Бога вещей, с которыми имеет дело теология откровения, она прежде всего трактует о человеческих существах. Их занятие теологией мотивируется тем фактом, что их спасение особым образом зависит от постижения некоторых богословских истин. Как подчеркивает Аквинат, в рациональном исследовании истины о Боге следует ожидать универсального охвата:
В sacra doctrina все рассматривается с точки зрения Бога либо потому, что есть сам Бог, либо потому, что соотносится с Богом как с началом и конечной целью. Отсюда следует, что поистине предметом этой науки является Бог, даже если ее искомый объяснительный потенциал универсален74.
Называя sacra doctrina наукой, Фома стремится охарактеризовать ее как систематический, рационально представленный упорядоченный корпус знания, состоящего из универсальных истин о некотором рационально унифицированном предмете. В этом широком аристотелевском смысле очевидно не будет ошибкой считать теологию наукой (как это было бы в более узком современном понимании науки). Именно в этом смысле наука теологии, как ее развивает Аквинат в ST, сегодня была бы названа философской теологией: начинанием, в котором техника и приемы философии употребляются для прояснения, подкрепления и расширения пропозиций, которые, как предполагается, даны в откровении в качестве исходных пунктов теологии. Таким образом, философская теология отчасти представляет собой попытку объяснить сообщенные в откровении пропозиции и систематически проработать проистекающие из них следствия.
Подобно естественной теологии, которая подчинена метафизике, философская теология – подчиненная наука. Однако в силу того, что она начинает свою работу с пропозиций, сообщенных в откровении, Фома считает ее подчиненной тому знанию, которое Бог имеет о самом себе и обо всем прочем и которое непосредственно доступно человеку только в иной жизни75. В более раннем сочинении Аквината сказано:
Для нас цель веры – прийти к постижению того, во что мы верим, как если бы знающий низшую науку добавил к ней то, что знает знающий высшую, и таким образом оказалось бы постигнутым, или познанным, то, что прежде было лишь предметом веры76.
Даже доктринальные тайны не остаются непроницаемыми для рационального исследования, хотя без помощи откровения разум никогда бы их не обнаружил. Например, в отношении одной из главных тайн, Аквинат говорит: «К познанию Троицы божественных лиц невозможно прийти средствами естественного разума»77. Но говорит он это в «Сумме теологии» в тридцать втором параграфе из семидесяти семи, посвященных анализу и детальному обсуждению Троицы, другими словами, в самый разгар попытки ввести эту тайну в сферу философской теологии. Вот как объясняет это сам Фома в том же параграфе, где он отвергает возможность рационально исследовать троичность божественных лиц:
Надлежит сказать, что разум приходит к некоторой вещи двумя путями. Во-первых, через достаточное доказательство некоторого основания… Во-вторых, разум не доказывает достаточным образом некоторое основание, но показывает, что с уже положенным основанием согласуются проистекающие из него следствия… Итак, первым способом разум может прийти к доказательству того, что Бог един и т. п. А вторым способом разум приходит к раскрытию Троицы, когда его доводы согласуются с уже положенной троичностью, а не когда он этими доводами достаточным образом доказывает троичность Лиц78.
Фома также тщательно подчеркивает, что рациональное прояснение Троицы не просто утоляет интеллектуальное любопытство и даже не просто служит защите веры. С его точки зрения, такое приложение философской теологии – подтверждать веру разумом, демонстрировать, что Троица не всецело иррациональна, прояснять сложные взаимосвязи между этими и прочими: доктринальными пропозициями, – в итоге помогает нашему пониманию творения и спасения.
Примечания
1 SCG, lib. 1 cap. 2 n. 4.
2 SCG IV. 1.
3 Expositio super Job 7. 1–4.
4 Expositio super Job 9.16.
5 In Sent. II. 14. 1.2.
6 In DON, Пролог; QDM16. 1 ad 3.
7 Rene Antoine Gauthier (ed.). Sancti Thomae de Aquino: Opera Omnia iussu Leonis XIIIR M. edita, Tomus XLV, 1: Sentencia libri de anima (Rome: Commissio Leonina, 1984), pp. 275–282.
8 Martha C. Nussbaum, “The Text of Aristotle’s De anima”, in M. C. Nussbaum and A. O. Rorty (eds), Essays on Aristotle’s De anima (Oxford: Clarendon Press, 1992), pp. 3-A.
9 T. H. Irwin (1992). “Who Discovered the Will?”, in J. E. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives 6: Ethics (Atascadero, CA: Ridgeview, 1992), p. 467.
10 In DC I. 22.
11 De perfectione spirituals vitae 26.
12 DUI Prooemium.
13 DUI Prooemium.
14 Simon Tugwell, O. P., Albert and Thomas: Selected Writing, The Classics of Western Spirituality (Mahwah, NJ: Paulist Press, 1998), p. 226.
151. Brady, “John Pecham and the Background of Aquinas’ De Aetemitate Mun-di”, in A. A. Maurer (ed.), St. Thomas Aquinas 1274–1974: Commemorative Studies (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1974), vol. II, pp. 141–178.
16 См. Claire le Brun-Gouanvic (ed.), Ystoria sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco (1323) (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies, 1996), c. 47.
17 См, напр, ST Iallae 1. 5; 94. 2; SCG III. 3; QDV 21. 1–2.
18 QDV I. 1.
19 QDV I. 1.
20 ST la. 5. 1.
21 См, например, SCG I. 37; III. 3.
22 ST la. 5. 1.
23 См. например, ST Iallae. 1. 5; 94. 2; SCG III. 3; QDV 21. 1–2.
24 ST la 15. lc.
25 ST la 15. lc.
26 ST la 75. 1.
27 ST la 75.2.
28 QDA 1.
29 In Metaph. I. 1. 3–4.
30 ST la. 85. 2 ad 1.
31 ST la. 12.4.
32 ST la. 85. 1 ad 5.
33 ST la. 12.4.
34 In PA II. 20. 14.
35 ST la. 85. 5; In DA II. 12. 377.
36 SCG 1.3. 16.
37 ST la 85.5.
38 In PA I. 7. 5–8.
39 In РА I. 10; 33.
40 In РА I. 5.7.
41 In PA I. 2. 9.
42 Urbin, St. Thomas Aquinas: Summa Theologiae, Blackfriars edition and translation, vol. XII (New York: McGraw-Hill, 1968), p. 82.
43 In PA I. 1.6.
44 ST la 80. 1.
45 ST la 81.3.
46 ST la. 81.3 ad 3.
47 Политика I. 2.
48 ST la 81.3 ad 2.
49 QDV 24. 7 ad 6.
50 См., например, ST la IIае 6. 4.
51 См., например, ST la IIае 9. 6.
52 ST la IIае 6. 17.
53 ST la IIае 1. 1.
54 ST la IIае 1. 8; 3. 8.
55 ST la IIае 18. 5.
56 ST la IIае 50. 5 ad 3.
57 ST la IIае 50. 5 ad 3.
58 ST la IIае 90. 4.
59 ST la IIае 94. 2.
60 ST la IIае 91. 3.
61 ST la IIае 92. 1 ad 4.
62 ST la IIае 91. 1.
63 ST la 1.2.
64 SCG I. 1.2.
65 SCG I. 1.3.
66 SCG II. 4. 874.
67 SCG I. 1.5.
68 SCG II. 4. 875.
69 SCG I. 1.6.
70 SCG I. 9. 57 [Фома Аквинский. Сумма против язычников / Рус. пер. Т. Ю. Бородай. Кн. 1. Долгопрудный: Вестком, 2000. С. 61].
71 ST la 1. 1 ad 2.
72 ST la 1. 1.
73 ST la 2. intr.
74 ST la 1.7.
75 ST la 1.2.
76 Expositio super librum Boethii De Trinitate. I. 2. 2. ad 7.
77 ST la 32. 1.
78 ST la 32. 1.
Часть I Первооснова реальности
Глава 1 Теория вещей
Введение
Адекватно представить в одной главе даже малую часть метафизики Фомы, явно невозможно1. И все же мне хотелось бы в общих чертах обрисовать здесь основные элементы того, что можно было бы назвать томистской «теорией вещей». Это не то же самое, что онтология Фомы, или его теория сущего в мире, так как Фома полагает, что сущее – то, что есть, – подпадает под все десять аристотелевских категорий, не ограничиваясь категорией субстанции, в которую входят вещи. Но это и не то же самое, что теория субстанции, так как можно спорить о том, считает ли Фома субстанцией все то, что он признает вещью2. В этой главе я буду исходить из того, что вещи включают в себя не только субстанции и артефакты, но и хотя бы некоторые из частей, которыми конституированы субстанции. Под «частями» я буду понимать как то, что Аквинат называет «составными частями», например, руку человека или крышу дома, так и метафизические части, например, материю и форму, которые образуют материальную вещь иначе, нежели составные части3. Чтобы понять базовое мировоззрение Аквината, важно понимать его теорию вещей, и в частности его взгляд на то, что означает для чего-либо быть одной вещью.
Помимо того, что томистская теория вещей сложна и высокотехнична, она трудна для понимания, по меньшей мере, по двум причинам. Во-первых, Фома использует латинские термины, английские эквиваленты которых широко употребляются в современной философии; но значение латинских терминов и их английских эквивалентов отнюдь не всегда идентично4. Поэтому необходима особая аккуратность в обращении с технической терминологией, чтобы не внести путаницы в интерпретацию Аквината. Во-вторых, по многим ключевым вопросам томистской метафизики ведутся споры в рамках современной метафизики (иллюстрацией к этому пункту может служить обзор текущей литературы о природе конститутивного отношения или, например, о природе устойчивости во времени). Тем не менее мы привыкли объяснять темные вещи, помещая их в наиболее ясный для нас контекст. Мы часто проясняем непонятные для нас точки зрения через обращение к иным историческим периодам, отображая их на некоторые моменты современных воззрений, которые, по нашему ощущению, мы понимаем лучше. Но в современной метафизике столько всего неясного, по крайней мере, неясного для всех, кроме сторонников той или иной точки зрения, что применительно к средневековой метафизике этот привычный метод внесения ясности в интерпретацию историко-философских позиций оказывается труднодоступным.
По этим причинам, даже если бы не было проблем с томистской метафизикой как таковой, требование полного и последовательного объяснения теории вещей у Фомы могло бы привести нас к позиции, искажающей его мысль, а попытка соблюсти верность его мысли могла бы привести нас к теории, которая выглядела бы отталкивающе неудовлетворительной с точки зрения полноты или последовательности. Быть может, лучшее, что можно сделать в этих обстоятельствах, – это сузить разрыв между тем, как понимает метафизику Фома, и тем, как понимаем ее мы.
Материя и форма
Аквинат считает одни вещи созданными из материи, а другие (например, ангелов) – нет. Легче подступиться к теории вещей у Фомы, начав с его воззрений на вещи, созданные из материи. Макроуровневая материальная вещь представляет собой некоторым образом организованную, оформленную материю, причем ее организация, или конфигурация, не статична, а динамична. Иначе говоря, организация материи включает в себя причинные отношения между материальными компонентами вещи, а также такие статичные черты, как внешние очертания и пространственная локализация. Эту динамичную конфигурацию, или организацию, Аквинат называет «формой»5. Вещь обладает присущими ей свойствами, включая причинность в силу того, что обладает определенной конфигурацией; собственные операции и функции вещи проистекают из ее формы6. (Здесь я провожу концептуальное различение между организацией вещи и свойствами, которыми вещь обладает в силу того, что организована именно таким образом. В дальнейшем я буду иногда говорить о том, что форма сообщает некоторые свойства целому, которое она оформляет).
Подобно многим современным ему философам, Фома признает наличие разных уровней организации. То, что для объекта макроуровня является материей, само может быть некоторым образом организовано или оформлено; иными словами, материя вещи сама может быть образована материей и формой7.
Типичный средневековый пример, призванный проиллюстрировать различие материи / формы – бронзовая статуя, но для наших целей лучше подойдет современный пример. Возьмем ССААТ/ энхансер-связывающий белок (С/ЕВР), играющий важную роль в регуляции экспрессии генов8. В своей активной форме его молекула представляет собой димер, включающий в себя виток альфа-спирали. В перспективе томистского мышления о материальных объектах форма С/ЕВР – это конфигурация димера, включающая виток альфа-спирали, а материя – это субъединицы димера. Разумеется, каждая субъединица димера сама является составной. Форма субъединицы – это конфигурация, образованная ее аминокислотами, где, например, каждую седьмую позицию занимает лейцин; а материя субъединицы – это аминокислоты, входящие в ее состав. Очевидно, однако, что и аминокислоты тоже являются составными. Материей аминокислоты, например, лейцина, служат образующие ее углерод, водород, азот и кислород, а формой – способ комбинирования этих элементов, включая характерную NH2-rpynny, общую всем аминокислотам, и последовательность углерода и водорода, свойственную лейцину. Мы можем продолжать двигаться в этом же направлении до тех пор, пока не придем, например, к протону атома водорода. Образующие его кварки будут его материей, а конфигурация кварков – их правильная последовательность и взаимодействие между верхними и нижними кварками – будут формой протона. Но в определенный момент этот процесс нисхождения по уровням организации макроуровневой вещи должен остановиться. С точки зрения Фомы, нижним материальным компонентом, который все еще может считаться некоторым образом организованной материей, выступает элемент9. Элемент образован материей и формой; но если мысленно отделить форму, или конфигурацию, элемента, то останется чистая первоматерия: такая материя, которую нельзя далее разложить на материю и форму.
Итак, первоматерия – это материя, не имеющая вовсе никакой формы: «материальность» (если можно так выразиться), отделенная от оформленности. Когда она выступает частью сущего, состоящего из материи и формы, она представляет собой в оформленном композите тот компонент, благодаря которому оформленная вещь обладает тремя измерениями и способна занимать определенное место в определенное время. Но сама по себе, помимо формы, первоматерия существует лишь потенциально; актуальным существованием она обладает лишь как составная часть чего-либо оформленного10. Так что мы можем отделить форму от материи лишь мысленно; все реально существующее так или иначе оформлено. Поэтому Аквинат иногда говорит, что форма есть актуальность всего сущего11. Конфигурация, или организация, необходима для того, чтобы нечто вообще могло существовать: ничто не обладает актуальным бытием, если не имеет формы.
Все сказанное справедливо и в отношении нематериальных вещей. Фома считает, что есть вещи, которые определенным образом организованы и существуют, но их организация не является материальной. Примером может служить ангел – один из родов умной субстанции. Ангел не имеет подлежащей оформлению материи, но тем не менее некоторым образом оформлен. У него присутствуют одни свойства – например, свойство быть познающим существом, – и отсутствуют другие, например, свойство весить две сотни фунтов. Таким образом, у ангела тоже имеется своего рода организация, которую мы можем мыслить как организацию свойств. Ангел обладает одним множеством свойств и не обладает другим, и в силу этих свойств он также обладает одним множеством причиняющих способностей и не обладает другим12.
Следовательно, с точки зрения Фомы, для существования вещи материя не является необходимой, а вот форма необходима. Для Аквината быть означает быть оформленным.
Субстанциальные и акцидентальные формы
Аквинат считает, что формы материальных объектов можно разделить на две группы: субстанциальные формы (точнее, субстанциальные формы первых сущностей) и акцидентальные формы. (Нематериальные вещи тоже способны обладать обоими видами форм – субстанциальной и акцидентальной; но в последующем обсуждении я для простоты сосредоточусь на той части томистской теории вещей, которая имеет дело с материальными вещами)13. Для наших нынешних целей мы можем понять различие между этими двумя видами формы примерно так. Различие между субстанциальной и акцидентальной формами в материальных объектах является производным от следующих трех моментов: (1) что именно организует, или оформляет, форма? (2) Какие следствия производит эта конфигурация? (3) Какого рода изменение производится привнесением этой конфигурации?
Что касается пункта (1): субстанциальная форма материальной вещи оформляет первоматерию. Напротив, акцидентальная форма оформляет нечто, что уже является актуально существующей полной вещью, композитом из материи и формы14. Сформулируем ту же мысль иначе: если мысленно отделить субстанциальную форму от материальной вещи (и не заменить ее немедленно какой-либо другой субстанциальной формой), то оставшееся не сможет актуально существовать. Ничто из актуально существующего не состоит из одной лишь первоматерии вкупе с акцидентальными свойствами. Но если мы отделим любую из частных акцидентальных форм, то оставшееся все еще будет актуально существующей полной вещью, причем той же самой вещью, какой оно было до отделения акцидентальной формы. (С другой стороны, невозможно отделить от материальной вещи все акцидентальные формы. Материальная вещь с необходимостью должна имеет акцидентальные формы, хотя и необязательно ту или иную конкретную форму).
Что касается пункта (2): по этой самой причине оформление со стороны субстанциальной формы приводит к тому, что вещь, которая прежде не существовала, начинает существовать. Так как любая вещь, начиная существовать, существует как член определенного вида, субстанциальная форма вещи оказывается ответственной также за принадлежность вещи к определенному первичному, или низшему, виду. С точки зрения Аквината, любая субстанция входит в качестве члена в строго один низший, или первичный, вид, хотя виды могут выстраиваться в иерархическом порядке, подчиняясь родам, а те, в свою очередь, могут иерархически подчиняться родам более высокого порядка, вплоть до высшего рода – субстанции. Оформление акцидентальной формой, напротив, приводит лишь к тому, что уже существующая вещь приобретает некое качество, не переставая быть той же вещью (и принадлежать к тому же виду вещей), что и прежде15. Таким образом, акцидентальные формы ответственны за не-сущностные свойства вещей; добавление или устранение акцидентальной формы не изменяет видовой принадлежности целого или его самотождественности16.
Что касается пункта (3): изменение, которое производится добавлением субстанциальной формы, является, следовательно, порождением вещи. Напротив, изменение, которое производится добавлением акцидентальной формы, означает лишь изменение одной и той же вещи17.
Отсюда явствует, что любая существующая материальная вещь обладает субстанциальной формой. Но позиция Аквината в отношении субстанциальной формы также подразумевает, что нет такой существующей материальной вещи, которая имела бы больше одной субстанциальной формы18. Композит, состоящий из первоматерии, оформленной некоей субстанциальной формой, сам по себе не может быть одним из компонентов более обширного целого, оформленного другой субстанциальной формой. Вот почему субстанциальная форма материальной вещи оформляет именно первоматерию: ведь если бы субстанциальная форма оформляла то, что уже оформлено некоей субстанциальной формой, она оформляла бы композит из материи и формы, а не первоматерию. (Разумеется, старая субстанциальная форма может быть просто заменена новой, но в этом случае композит по-прежнему оформлялся бы лишь одной субстанциальной формой).
Более того, позиция Аквината в вопросе о субстанциальных формах ограничивает те способы, какими уже существующие вещи могут соединяться в составную субстанцию. Например, рыбы-прилипалы обладают субстанциальной формой, обладают ею и морские звезды.
Если прилипала крепко присосется к спине морской звезды, это присасывание не породит новой субстанции. Если бы дело обстояло иначе, они стали бы одной вещью – композитом, состоящим из прилипалы и морской звезды, у которого было бы больше одной субстанциальной формы: форма прилипалы и форма морской звезды19. Поэтому, с точки зрения Аквината, прикрепление прилипалы к морской звезде имеет следствием только то, что две полные вещи приобретают свойство или свойства, которых они не имели прежде, например, свойство быть прикрепленными друг к другу. Таким образом, новая конфигурация прилипалы, присосавшейся к морской звезде, будет акцидентальной. Сходным образом, любой случай, при котором две уже существующие материальные вещи соединяются в своего рода композит, не переставая существовать в качестве тех самых вещей, какими они были до соединения, будет случаем изменения, а не порождения, и новый композит будет оформлен акцидентальной, а не субстанциальной формой20.
Любой обыкновенный артефакт оформляется только акцидентальной формой. Производство артефакта – например, топора с металлическим лезвием, прикрепленным к деревянной рукоятке, – подразумевает соединение уже существующих вещей: металлической и деревянной, которые в новом композите остаются теми же вещами, какими были до соединения. Таким образом, артефакт есть композит из вещей, оформленных в некое целое, но не субстанциальной формой21. А так как субстанцией является лишь то, что оформлено субстанциальной формой, ни один артефакт не будет субстанцией.
Субстанции и артефакты
Элементы – земля, воздух, огонь и вода – представляют собой субстанции; субстанцией будет и материал, образованный одним из элементов22. Далее, различные элементы могут сочетаться, образуя составное сущее, которое будет субстанцией23. Например, земля и вода могут сочетаться, образуя плоть. Но это возможно лишь тогда, когда субстанциальная форма каждого из элементов, вступающих в соединение, утрачивается в композите и замещается единственной субстанциальной формой составного целого24. Далее, субстанции, состоящие из элементов, например плоть или кровь, могут соединяться в одну вещь, например, в животное только при условии, что в заново образованном целом они перестают быть самостоятельными субстанциями25. С точки зрения Фомы, части целого становятся актуальными (а не потенциальными) самостоятельными вещами лишь по разрушении композита, частями которого они были26. Если бы это было не так, говорит Фома, то в одной вещи – например, в человеческом существе – было бы столько самостоятельных субстанций, сколько в ней имеется частей: вывод, который Фома явно считает абсурдным27.
Могут возразить, что, например, плоть у животного – то же самое, что и плоть, существующая сама по себе. Если Фома готов согласиться с тем, что плоть, существующая сама по себе, – это субстанция, то, видимо, она должна быть субстанцией и тогда, когда существует в животном. Следовательно, мог бы заключить возражающий, принцип Фомы, согласно которому в вещи может иметься лишь одна субстанциальная форма, нарушается: в животном окажутся по меньшей мере две субстанциальные формы – форма плоти и форма животного.
Но это возражение против Аквината не принимает должным образом во внимание то, как Фома понимает форму. С его точки зрения, плоть, существующая сама по себе, имеет не ту же самую форму, что и плоть в животном. Это объясняется тем, что плоть в животном способна выполнять собственные функции плоти, тогда как плоть, существующая сама по себе, этого делать не может28. Собственные функции придаются плоти (как и любой другой составной части целого) субстанциальной формой целого. Когда она существует сама по себе, не оформленная формой животного как целого, никакая часть животного не функционирует так же, как тогда, когда она пребывает в целом. Так что плоть в животном, в отличие от плоти самой по себе, оформлена субстанциальной формой животного, а не субстанциальной формой плоти29.
В контексте философской теологии Аквинат дает внятное суммарное изложение своих воззрений на образование составного целого30. Композит может быть образован из двух или более составных частей тремя способами. (1) Он может быть составлен из полных вещей, которые остаются в композите такими же полными вещами, какими они были до соединения. Следовательно, они объединяются акцидентальной формой – например, порядком или фигурой. Артефакты, например груда или дом, представляют собой композиты именно такого сорта; но не таковы субстанции. (2) Композит может быть образован полными вещами, которые в нем не остаются полными самостоятельными вещами, но утрачивают собственную субстанциальную форму. Композитами такого рода являются субстанции, если они существуют независимо31, но не в том случае, если они сами оказываются компонентами субстанции. (3) Композит может быть образован вещами, которые не являются самостоятельными вещами или субстанциями, но соединение которых образует полную субстанцию. Здесь примером может служить соединение первоматерии и субстанциальной формы, которым конституируется субстанция32.
Одним из выводов из этих воззрений Аквината будет то, что никакая часть субстанции не может считаться самостоятельной субстанцией, пока она остается частью более обширного целого, которое есть субстанция. Ибо субстанциальная форма, которую такая часть имела бы, если бы существовала самостоятельно, утрачивается, когда эта часть становится частью составной субстанции, и замещается единственной субстанциальной формой композита33.
Соображения Фомы о субстанции, возможно, будет легче понять через современную аналогию. Водород и кислород – компоненты воды, и мы можем разложить молекулу воды на водород и кислород. Но когда вода существует как целое, как вода, мы актуально не имеем ни водорода, ни кислорода: мы имеем воду. Более того, субстанциальная форма воды оформляет первоматерию, а не кислород или водород. Иными словами, конфигурация молекулы воды есть конфигурация материальности всецелой молекулы, а не конфигурация водорода, добавленная к конфигурации кислорода. Если бы кислород и водород сохраняли в точности ту же конфигурацию, которую они имели в изолированном состоянии, и были некоторым образом сведены вместе, то результатом соединения оказалась бы отнюдь не вода. Чтобы получить воду, конфигурация, которую кислород и водород имели до объединения в молекулу воды, должна быть заменена новой конфигурацией, которая включает в себя, например, полярную ковалентную связь между водородом и кислородом.
Кроме того, возникающая вещь, то есть вода, обладает характеристиками и причинными свойствами, отличными от таковых водорода или кислорода, именно в силу конфигурации целого34. Аквинат разъясняет эту мысль следующим образом
Чем благороднее форма, тем сильнее она господствует над телесной материей, и тем менее в нее погружена, и тем более своей операцией или силой ее превосходит. Отсюда мы видим, что форма смешанного тела обладает некоей операцией, которая не причиняется качествами элементов35.
Можно сформулировать основной тезис иначе: если мы разделим составную субстанцию на части, то обратим то, что было одной субстанцией, в несколько субстанций36. Например, согласно Фоме, существуют простые живые вещи: (скажем, некоторые черви), которых можно разрезать пополам и образовать тем самым две живые вещи того же вида37. Пока части были частями составной субстанции и не существовали независимо, они сами не были актуальными: субстанциями38. В одном черве не было актуально двух червей, пока его не разрезали пополам.
Далее, когда червь оказывается разделенным, он перестает существовать, а два новых червя начинают существовать39. Стало быть, в случае разделения животных, отличных от человека, существование целой субстанции, согласно Аквинату, длится ровно до тех пор, пока целое остается неповрежденным. Поэтому, с его точки зрения, каждая из частей после разделения будет другой субстанцией, отличной от целого, существовавшего до разделения. (Что касается возможных высказываний Фомы о мысленных экспериментах современной философии, в которых человеческий индивид разделяется на два индивида, их нельзя вывести из одной лишь этой части томистской метафизики, так как в качестве формы человеческая душа имеет особые характеристики, усложняющие дело).
Итак, материальная субстанция начинает существовать, когда первоматерия оформляется субстанциальной формой. Конституирующие субстанцию вещи:, которые существовали до того, как были сведены вместе этим оформлением (если имелись такие предварительно существовавшие вещи), перестают существовать в качестве самостоятельных вещей40, и возникает новая вещь. Наиболее фундаментальными композитами из материи и формы являются элементы, а из них состоят все прочие материальные субстанции. Но когда различные элементы сходятся вместе, чтобы образовать композит, их субстанциальные формы замещаются новой субстанциальной формой, конфигурирующей вновь рожденное целое. Напротив, артефакт начинает существовать, когда вещи, уже существовавшие в качестве вещей, упорядочиваются таким образом, что каждая из реорганизованных вещей остается той вещью, которой была прежде, а композит как целое объединяется не субстанциальной, но акцидентальной формой. Следовательно, возникающий в результате композит представляет собой одну вещь в более слабом смысле, чем в случае субстанции.
Наконец, вещи включают в себя субстанции и артефакты, но отнюдь не исчерпываются ими. Например, отсеченная рука или покинувшая тело душа – тоже вещи, хотя сами по себе не являются субстанцией или артефактом41.
Руки и души представляют собой части субстанции, но части разного типа. Рука – это составная часть, композит из материи и формы, участвующий в количественной определенности – пространственной протяженности – того субстанциального целого, частью которого он является42. Душа, напротив, сама по себе не есть композит из материи и формы, и пространственная протяженность всецелого человеческого существа не выводится из нематериальной души как таковой43. Таким образом, душа – не составная, а метафизическая часть44. Считать часть, к какому бы типу она ни принадлежала, субстанцией не позволяет, с точки зрения Аквината, тот факт, что она не является полной самостоятельной вещью, и дать ей определение возможно, только упоминая в нем целое. Например, рука служит придатком человеческого существа, (разумная) душа – субстанциальной формой человека.
Иногда думают, что Фома определяет субстанцию как нечто, что может существовать самостоятельно; но, как становится ясным из приведенного выше списка вещей, такое определение субстанции нельзя приписать Аквинату. С его точки зрения, есть вещи, существующие самостоятельно, такие как отсеченные руки, развоплощенные души и артефакты, которые тем не менее не являются субстанциями45. Поэтому способность к самостоятельному существованию составляет, по мнению Фомы, необходимое, но не достаточное условие бытия субстанцией.
Было бы полезным точно сформулировать здесь, что же такое субстанция для Аквината, и тем самым пролить свет на то, как он понимает природу различия между субстанциями и другими видами вещей. Но мне кажется затруднительным предложить некруговой анализ томистского понятия субстанции или субстанциальной формы.
Когда сам Фома дает подробную характеристику субстанции46, он стремится описать субстанцию как вещь, которая в силу своей природы способна к самостоятельному существованию47. Но, конечно, хотелось бы знать, почему это описание неприменимо к отсеченной руке. Если ответить, что природа есть такая вещь, которой обладают только субстанции, но не части субстанции, то «природа» будет техническим термином, определяемым в терминах субстанции. Таким образом, описание субстанции оказывается круговым.
Можно поискать ключ в предыдущем описании воззрений Фомы на части субстанции и попытаться связать их с томистской характеристикой субстанции следующим образом субстанция есть то, (1) что обладает природой, в силу которой вещь может существовать самостоятельно, и (2) что представляет собой полную полноправную вещь. Но и этого недостаточно для не-кругового отличения субстанций от артефактов. По-видимому, у нас нет причин не считать артефакт полной вещью, пока мы не придем к такому пониманию полных вещей, в соответствии с которым полными вещами могут быть только субстанции.
Принимая во внимание томистское понимание артефактов как комплекса субстанций, объединенных акцидентальной формой, мы можем попытаться добавить третий член дефиниции: субстанция есть то, (3) что не включает в свое определение упоминание другой полной вещи (то есть упоминание первичной субстанции или целого артефакта).
Но вовсе не очевидно, что и эта формула годится. Например, топор выглядит обладающим такой: природой, что он может существовать самостоятельно, а также представляется существующим сам по себе и в качестве полной вещи. Поэтому объединенная дефиниция субстанции должна исключать его на основании третьего члена.
Но трудно понять, почему топор нельзя определить без упоминания субстанций, из которых он состоит. Почему, например, нельзя определить топор в терминах его функции, а не в терминах его материальных составляющих?
Наконец, можно попытаться исключить артефакты из категории субстанции на том основании, что имеется тесная связь между бытием в качестве полной вещи и обладанием субстанциальной формой, так что только композиты, оформленные субстанциальной формой, будут полными вещами. В этом случае артефакты в самом деле исключаются. Но вместе с тем характеристика субстанции вновь оказывается круговой, поскольку полные вещи определяются в терминах субстанциальных форм, которые присущи только субстанциям48.
Быть может, подлинный ключ к не-круговому различению между субстанцией и артефактом лежит в настойчивости, с какой Фома утверждает, что субстанциальные формы оформляют первоматерию, тогда как части артефакта сохраняют собственные субстанциальные формы в рамках более обширного составного целого. В литературе встречаются разные понятия эмерджентности[9], и обычно их применение ограничивается свойствами. Но ради наших целей мы можем понять эмерджентность целого W примерно следующим образом W есть эмерджентная вещь тогда и только тогда, когда свойства и причинные потенции W не сводятся к сумме свойств и причинных потенций составных частей W, взятых порознь, вне конфигурации W. Согласно томистскому описанию субстанции и согласно этому общему представлению о понятии эмерджентной вещи, субстанция есть эмерждентная вещь по отношению к ее частям, которые утрачивают собственную субстанциальную форму при образовании целого. Напротив, артефакт – например, топор – гораздо проще рассматривать именно как сумму его частей, а в причинных потенциях и свойствах топора видеть сумму причинных потенций и свойств его компонентов. Даже философы, готовые признать понятие эмерджентной вещи, воспротивились бы тому, чтобы считать топор эмерджентным по отношению к его частям.
Но перспективы такого различения субстанции и артефакта существенно сокращаются, если взять, например, пенопласт. Поверхностному взгляду он видится артефактом, так как представляет собой продукт человеческого замысла; но по происхождению он ближе к воде, чем к топору. Если бы Аквинат был осведомлен о некоторых продуктах современной технологии, он, возможно, счел бы гораздо более трудным делом четкое и ясное различение между субстанцией и артефактом. Или, возможно, он решил бы, что не все, что существует как результат человеческого замысла, можно считать артефактами. Быть может, пенопласт – это субстанция, но такая субстанция, существованию которой способствует человек, подобно тому, как человеческий замысел участвует в выведении новых пород собак, причем собака не становится от этого артефактом. Если бы Аквинат согласился причислить такие вещи, как пенопласт, к субстанциям, то, возможно, понятие эмерджентной вещи можно было бы использовать в качестве основы для различения между субстанциями и артефактами.
Индивидуация и тождество
Из того, что, по мнению Фомы, ангел или покинувшая тело человеческая душа, будучи формами, могут существовать самостоятельно, мы заключаем, что, с его точки зрения, форма может быть единичной49. И в самом деле, для Аквината все, что существует в реальности, единично; универсалии существуют только уме50.
Форма, именуемая ангелом, или нематериальным умом, всегда существует самостоятельно. Один нематериальный ум отличается от другого чертами самой формы51. Свойства, образующие природу, или вид одного ангела и сообщаемые ангельской субстанциальной формой, отличаются от свойств, образующих природу, или вид любого другого ангела; причем, по мнению Фомы, в каждом ангельском виде может быть не более одного ангела. Следовательно, ангел индивидуируется своей уникальной субстанциальной формой52. Для того, чтобы нечто было этим ангелом, ему необходимо и достаточно обладать этой субстанциальной формой.
Понятие индивидуирующей субстанциальной формы нуждается в гораздо более подробном пояснении, но сначала нужно отметить, какие последствия влечет за собой позиция Фомы применительно к изменению во времени.
Согласно средневековой метафизике, которую принимал Аквинат, любая составная субстанция53, даже нематериальная, обладает как субстанциальной, так и акцидентальной формой, причем акцидентальными будут те формы, которые вещь может приобрести или утратить, оставаясь одной и той же вещью. Так вот, с точки зрения здравого смысла на изменение во времени, изменение имеет место тогда, когда одна и та же вещь в одно время обладает неким свойством, а в другое – нет. Средневековые метафизики, включая Фому, начинают с признания этого обыденного понятия изменения, а затем пытаются дать объяснение тому факту, что нечто, изменяясь, остается численно одним и тем же.
Современные метафизики, напротив, начинают с признания закона неразличимости тождественного:
(LII) Для любых х и у х будет тождественным у, только если все свойства х и у тождественны.
С точки зрения современных приверженцев (LII), в объяснении нуждается изменение во времени, и оно подчас объясняется сложными, если не прямо алогичными способами54.
Если Аквинат и признает принцип вроде (LII), он выглядит так:
(Принцип Аквината – ПА): При любых х и у х будет тождественным у, только если для любого момента времени t будет истинным следующее: х существует в момент t тогда и только тогда, когда в момент t существует у; причем если х существует в момент t, он обладает всеми – и только теми – свойствами, какими в момент t обладает у.
Согласно ПА, чтобы х был тождествен у, он необязательно должен обладать теми же свойствами, какими обладает у, пока свойства, присущие x в определенный момент времени, остаются теми же, какими обладает в этот момент y, и ни в один момент времени ни х, ни у не существуют один без другого. Для Фомы х и у могут различаться некоторыми акцидентальными свойствами и все же быть численно тождественными, если акцидентальные свойства, их различающие, присущи иксу в момент tn, а игреку – в момент tm.
ПА устанавливает лишь необходимое, но не достаточное условие тождества. По мнению Аквината, x и y могут отвечать условиям ПА, не будучи тождественными. Неразличимости свойств в определенный момент времени и одновременного существования, с точки зрения Фомы, недостаточно для тождества. Чтобы убедиться в этом, возьмем двух людей – Аарона Давида и Натана Даниила. Допустим, что вещь, именуемая Аароном, существует только от t1 до t2 и что это будут единственные моменты, в которые существует вещь, обозначаемая именем «Давид». Сходным образом, допустим что вещь, именуемая Натаном, существует только от t3 до t4, так что это будут единственные моменты, когда существует вещь, именуемая Даниилом. Тогда в любой момент в интервале от t1 до t2 Аарон будет иметь все те и только те свойства, которыми в этот момент обладает Давид. Теперь пусть «Цицерон» будет кратким обозначением имен «Аарон и Натан», а Туллий – кратким обозначением имен «Давид и Даниил». Тогда обозначаемое словом «Цицерон» и обозначаемое словом «Туллий» будут отвечать условиям, сформулированным в ПА. Но ни Цицерон, ни Туллий, с точки зрения Фомы, вообще не являются вещами. Таким образом, условие, сформулированное в ПА, не может быть достаточным. Чего же ему не хватает, с точки зрения Фомы?55
Как мы только что сказали, Аквинат полагал, что нематериальная субстанция всегда индивидуируется субстанциальной формой, которая присуща только ей. Стало быть, с его точки зрения, будет верным следующий принцип:
(ПА1) Для любых нематериальных субстанций х и у х тождествен у тогда и только тогда, когда субстанциальная форма х тождественна субстанциальной форме у.
В противоположность ПА ПА1 не нуждается в темпоральных указателях, потому что, в отличие от акцидентальных форм, субстанциальная форма не может приобретаться и утрачиваться вещью, самотождественной во времени: если субстанциальная форма перестает существовать, то перестает существовать и оформленная ею вещь. С другой стороны, так как субстанциальные формы нематериальных субстанций индивидуируются их специфическими видовыми свойствами, ПА1 предполагает аналогию с LII:
(ПА2) Для любых нематериальных субстанций х и у х тождествен у тогда и только тогда, когда х обладает всеми и только теми специфическими видовыми свойствами, какими обладает у.
Принцип LII – это закон неразличимости тождественного; но фактически, поскольку Фома считает, что видовая субстанциальная форма любой нематериальной субстанции с необходимостью принадлежит лишь одному индивиду, и поскольку эти формы дифференцируются различиями в самих конфигурациях, в этом особом случае сохраняет силу аналогия с законом тождества неразличимого:
(ПАЗ) Для любых нематериальных субстанций х и у х тождествен у тогда, когда х обладает всеми – и только теми – специфическими видовыми свойствами, какими обладает у.
Тем не менее даже в этом особом случае нематериальных субстанций Фома не принял бы принцип LII как таковой в силу своих воззрений на акциденции. У ангела тоже есть акциденции, и один и тот же ангел способен принимать или утрачивать акцидентальные свойства, не переставая быть тем, чем он был.
Наконец, воззрение, выраженное в ПА1, может быть, по мнению Фомы, обобщено. Всякая вещь есть эта вещь именно в силу того факта, что форма, сопрягающая ее части в единое целое, есть эта форма. Например, материальная субстанция, именуемая Сократом, есть вот это человеческое существо в силу того, что она обладает этой субстанциальной формой. Чтобы нечто было тождественно Сократу, необходимо и достаточно, чтобы его субстанциальная форма была тождественна субстанциальной форме Сократа56. Итак, Аквинат принимает следующий более общий принцип:
(ПА4) Для любых субстанций х и у х тождествен у тогда и только тогда, когда субстанциальная форма х тождественна субстанциальной форме у.
Материя как принцип индивидуации
Но что делает субстанциальную форму этой, а не какой-либо другой? Так как, по мнению Фомы, в одном виде нематериальных вещей может быть не более одного индивида, в случае нематериальной субстанции субстанциальная форма индивидуируется свойствами самой этой формы: эту конфигурацию не может разделить никакой другой индивид. Напротив, в каждом виде материальных вещей имеется множество индивидов, и специфические видовые свойства, сообщаемые субстанциальной формой каждого члена вида, будут, соответственно, одними и теми же. Совокупность этих специфических видовых свойств Аквинат обозначает латинским термином, который переводится как «природа»: природа вещи есть то, что обозначается видовым именем вещи, и эту природу сообщает вещи ее субстанциальная форма57. Специфические видовые свойства, сообщаемые субстанциальной формой Платона, то есть природой человеческого существа, те же самые, что и специфически видовые свойства, сообщаемые субстанциальной формой Сократа. Но как тогда индивидуируются субстанциальные формы материальных объектов, например, людей?
Мы склонны думать, что такие формы, напротив, не могут индивидуироваться. Конфигурация, или форма человеческого существа, предполагается универсальной. Она остается одной и той же в любом человеке; именно поэтому существует человеческая природа, пребывающая в любом человеческом существе. Следовательно, одна субстанциальная форма человека неотличима от любой другой. A fortiori[10], субстанциальная форма не может быть тем, чем индивидуируется человек.
Ответ Фомы на такого рода возражение кратко выражен в его широко известном тезисе о том, что индивидуирует материя58. Но легче привести тезис, чем понять, что он означает. Трудность хотя бы отчасти связана с понятием материи, которое здесь имеется виду.
Субстанциальная форма материальной субстанции оформляет первоматерию; но первоматерия – это материя, лишенная всякой формы, не имеющая никакой конфигурации: нечто, что существует только потенциально, а не актуально, ибо все актуально существующее оформлено. Стало быть, первоматерия вряд ли может быть тем, чем индивидуируется форма.
С другой стороны, любая актуально существующая материальная субстанция обладает определенным количеством материи. В любой данный момент времени она занимает определенную часть пространства, простираясь до определенного предела в каждом из трех пространственных измерений. Если бы за индивидуацию формы (или материальных вещей) отвечала эта конкретная порция материи, то форма (или материальная вещь) прекращала бы существовать с изменением количества материи в материальной вещи. Некоторые метафизики не возражали бы против такого вывода, но Фома не из их числа. Конкретное количество чего-либо есть акциденция, а акциденция, по мнению Фомы, – это свойство, которое вещь может приобретать или утрачивать, оставаясь той же самой.
Таким образом, материя, которую имеет в виду Аквинат, говоря об индивидуации: материальной вещи, – это не первоматерия и не материя, оформленная в актуально существующей вещи.
Когда Фома пытается объяснить понятие материи, релевантное для проблемы индивидуации, он говорит о ней как о материи с неопределенными измерениями, то есть материи, которая простирается в трех измерениях, но степень ее протяженности в каждом из этих измерений не определена. Любая актуально существующая материя имеет определенные измерения, но одно дело – конкретная степень протяженности в некотором измерении, и другое дело – сама, так сказать, материальность материи. Конкретные измерения материальной вещи точно определяют то пространство, которое занимает эта вещь, тогда как материальность материи обеспечивает саму пространственность. Материя есть такая вещь, которая пребывает здесь способом, каким, например, не могут пребывать числа. Но эту черту материи можно рассматривать, и не уточняя, какова конкретная пространственная локализация данной материи. Когда Фома говорит о материи с определенными измерениями, он привлекает внимание к этой черте материи. Эта черта не существует в какой-либо актуально сущей материи отдельно от обладания конкретными измерениями; тем не менее любая актуально сущая материя с определенными измерениями обладает этой чертой пространственности, которую можно рассматривать независимо от определенных измерений данной материи.
В комментарии на трактат Боэция «О троице» (De trinit ate)60 Фома поднимает вопрос о том, служит ли форма началом индивиду ации. Если принять во внимание его часто повторяемый тезис о том, что началом индивиду ации выступает материя, можно было бы ожидать отрицательного ответа; между тем в действительности ответ положительный. Материя является этой материей, потому что обладает пространственной протяженностью; но пространственная протяженность, даже если ее измерения не определены, есть некоторая количественность, а количественность – это акциденция. Стало быть, по меньшей мере в этом смысле акцидентальная форма способна служить началом индивиду ации. Скажем иначе: первоматерия, лишенная всякой формы, не является материей с неопределенными измерениями и не способна быть началом индивиду ации.
При таком понимании материи с неопределенными измерениями эта материя, взятая с неопределенными измерениями, отличается от любой другой материи своей пространственной непрерывностью61. Между этой и другой материей будет пролегать пространственный промежуток, разрыв. Представляется также разумным признать, что для отличения одной материи от другой требуется длящаяся временная непрерывность. Таким образом, пространственный или временной разрыв подразумевает, что речь идет уже не об одной и той: же материи.
Несомненно, хотелось бы гораздо больше ясности и точности в том, что касается понятия материи, которое имеет в виду Аквинат, говоря о ней как о начале индивидуации. Но для того, чтобы: прояснить томистское понятие субстанциальных форм, которые скорее индивидуальны, чем универсальны, будет, вероятно, достаточным просто обозначить правильное направление.
Возьмем, к примеру, две молекулы воды. Каждая из них обладает свойствами воды, природой воды, которую сообщает молекуле ее специфическая видовая конфигурация, то есть субстанциальная форма. Но форма молекулы воды А воплощается в этой материи, а форма молекулы воды В – в той материи. Так как материя обладает чертой нередуцируемой пространственности, мы можем отличить одну субстанциальную форму от другой через ее связанность с материей. Эта субстанциальная форма конфигурирует эту материю, а та форма конфигурирует ту материю62.
Применительно к человеку позиция Аквината идентична. Что индивидуирует Сократа? С точки зрения Фомы, не то, что Сократу, наподобие ангела, принадлежит уникальный набор сущностных свойств, и не то, что, в добавление к обычному набору свойств, существенных для всех людей, то есть в добавление к человеческой природе, Сократ обладает также множеством акцидентальных свойств, сочетание коих уникально для него одного. Скорее Сократа индивидуирует эта субстанциальная форма человека; а субстанциальная форма материальной субстанции, каковой является человек, оказывается этой формой в силу того факта, что она оформляет эту материю.
Отсюда ясно, почему, по мнению Фомы, те свойства, которые не составляют часть природы вещи, акцидентальны. Субстанциальной формой сообщается только природа; но поскольку этой субстанциальной формы достаточно для существования этой вещи, постольку любые другие свойства таковы, что вещь может приобретать или утрачивать их, оставаясь той же самой вещью63. С другой стороны, столь же ясно, что любая вещь, имеющая субстанциальную форму, по необходимости имеет также акциденции. Это становится очевидным из беглого обзора девяти категорий акциденций у Аристотеля: ничто из того, что обладает субстанциальной формой, не может существовать вообще без акциденций64.
Вариант принципа ПА4 может быть сформулирован также применительно к материальным вещам, которые не являются субстанциями, а именно к артефактам. То, что придает артефакту единство, делает его одной вещью, есть не что иное, как акцидентальная форма, которая конфигурирует целое. Но акцидентальные формы тоже могут индивидуироваться своей сопряженностью с материей.
Подход Аквината к субстанциальным формам распространяется и на другие, отличные от субстанции, девять аристотелевских категорий. Любое актуально существующее качество, например, краснота, является единичным. Оно представляет собой эту красноту и отличается от любой другой красноты того же оттенка и интенсивности тем, что оформляет эту, а не какую-либо другую материальную вещь.
С точки зрения Фомы, универсалия есть понятие, которое образует познающий человек, когда он абстрагирует, например, красноту от материальной вещи, в которой пребывает единичная форма (эта краснота), и рассматривает ее исключительно как красноту в отвлечении от ее связанности с оформляемой ею единичной вещью65. Но в реальности существует именно единичная форма в единичной вещи. Стало быть, если речь идет об артефакте, который оформляется акцидентальной, а не субстанциальной формой, то вещь будет этим артефактом тогда и только тогда, когда она оформляется этой акцидентальной формой.
Кто-нибудь может спросить, не подразумевает ли ПА4 некоторую аналогию с LII, как подразумевает ее ПА1. Согласно ПА4, субстанция х тождественна субстанции у тогда и только тогда, когда субстанциальная форма х тождественна субстанциальной форме у; но применительно к материальным субстанциям нечто будет тождественно субстанциальной форме х тогда и только тогда, когда она оформляет эту материю – материю с неопределенными измерениями, которая служит одной из составляющих х. Поэтому, видимо, из ПА4 мы можем вывести аналогию принципу LII, сформулированную следующим образом
(ПА5) Для любых материальных субстанций х и у х тождествен у только тогда, когда (1) х обладает всеми – и только теми – специфическими видовыми свойствами, какими обладает у и (2) х обладает свойством быть конституированным этой материей тогда и только тогда, когда у обладает свойством быть конституированным этой же самой материей.
Но что бы мы ни думали еще о том свойстве, которое характеризуется как свойство быть конституированным этой материей, ясно, что обладать им может лишь то, что было конституировано этой материей. Таким образом, в конечном счете материальная вещь, по утверждению Фомы, индивидуируется именно материей, а не формой или свойствами.
Конституция и тождество
Дальнейший вывод из этих воззрений Фомы состоит в том, что такая конституция не есть тождество66 и целое есть нечто большее, чем сумма его частей. И совершенно ясно, что этот вывод применим к субстанциям.
Вещь, обладающую единичной субстанциальной формой, Аквинат в общем виде обозначает латинским термином, который транслитерируется как «суппозит», или греческим термином, который транслитерируется на латыни как «hypostasis»61. Так как Фома признает наличие единичных сущих и в других категориях, кроме субстанции, он обнаруживает тенденцию употреблять латинские термины, переводимые как «особенное», «единичное», «индивидуальное», в более широком смысле, нежели «суппозит» или «ипостась». Например, эта краснота есть особенное, или единичное сущее в категории качества, а суппозит есть особенное, или единичное, сущее именно в категории субстанции68. Латинский термин, переводимый как «личность» [persona], служит у Аквината техническим термином для индивидуальной субстанции разумной природы69.
С точки зрения Фомы, хотя существование единичной субстанциальной формы необходимо и достаточно для существования суппозита, суппозит не тождествен одной лишь своей субстанциальной форме. Субстанциальная форма – всего лишь составная часть суппозита.
Начнем с того, что любая вещь, имеющая субстанциальную форму, с необходимостью имеет и акциденции, хотя нет необходимости в том, чтобы она обладала скорее одной акциденцией, чем другой. Следовательно, субстанциальная форма – не единственная составная часть вещи: любая вещь будет также иметь в качестве своих составных частей акцидентальные формы. Кроме того, в материальных субстанциях материя, которая делает субстанциальную форму материального суппозита единичной, тоже является составной частью суппозита70. Стало быть, любой суппозит имеет больше метафизических составных частей, чем одна лишь субстанциальная форма. Поскольку суппозит образован всеми этими составными частями, он не тождествен какому-либо их подмножеству.
Далее, Фома считает, как уже было сказано выше, что субстанциальная форма оформляет первоматерию, а не составные части, которые сами представляют собой композиты из материи и формы. Следовательно, суппозит не тождествен и сумме своих составных частей. Например, материальная субстанция состоит из элементов, но не тождественна совокупности элементов, ее составляющих. Компоненты целого сами по себе не включают в себя субстанциальную форму целого; и когда один компонент комбинируется с другим под действием субстанциальной формы, объединяющей целое, часть утрачивает субстанциальную форму, которой она могла обладать до того, как стала частью композита. Так, совокупность отдельных частиц земли, воздуха, огня и воды, объединяющиеся между собой для того, чтобы образовать материальную субстанцию, по мнению Аквината, не тождественны субстанции, которую они образуют. Субстанциальная форма нужна в том числе для того, чтобы объединить части в целое. И хотя мы можем разложить целостную субстанцию на ее компоненты таким образом, чтобы они существовали как самостоятельные актуальные субстанции, субстанциальная форма, пребывающая в целом, оформляет первоматерию, а не композиты из материи и формы, на которые можно разложить целое.
Итак, очевидно, что, с точки зрения Фомы, в субстанциях конституция не есть тождество, идет ли речь о метафизических составляющих или о физических составных частях.
Наконец, имеется еще один смысл, в котором – даже применительно к артефактам – конституция не равна тождеству. Артефакт состоит из материальных субстанций, но эти субстанции соединены в некое целое посредством формы: субстанции не образуют артефакт без конфигурирующего действия формы. Поэтому, даже если эта форма акцидентальна, остается верным, что материальные компоненты артефакта не исчерпывают собою целое. (Таким образом, акцидентальная форма является сущностной для артефакта, хотя она не сущностна для существования субстанций, которыми образован артефакт. Ясное, не-круговое определение субстанции, если бы такое имелось, несомненно, прояснило бы, почему формы артефактов нельзя считать субстанциальными, несмотря на то, что они сущностны для существования артефактов и наделяют артефакты их видовой определенностью и собственной функцией).
Конституция и тождество: особый случай души
То, что конституция, по мнению Аквината, не есть тождество, помогает объяснить, что он имеет в виду, говоря, что субстанциальная форма человека, то есть душа, способна существовать в состоянии отделенности от тела.
Материальный суппозит состоит из материи и формы как своих составляющих; поэтому, если бы конституция была тождеством, утрата материи или формы неизбежно влекла бы за собой утрату суппозита как целого. В этом случае всякий суппозит переставал бы существовать, утрачивая либо свою субстанциальную форму, либо материю, оформленную этой формой. Но так как конституция для Аквината не есть тождество, он может допустить, что суппозит способен выжить после утраты одной из его составляющих при условии, что оставшиеся составляющие способны существовать сами по себе и достаточны для существования суппозита.
То, что конституция не есть тождество, в случае человеческих существ очевидно, если обратиться к физическим составным частям, будь то на макро– или на микроуровне. Человек способен пережить утрату некоторых элементарных (или молекулярных) составных частей или даже утрату некоторых более крупных частей, например, руки.
Но Фома считает, что сказанное о конституции и тождестве справедливо также и для метафизических частей в особом случае – в случае человека, чья субстанциальная форма способна существовать самостоятельно. В норме физические составные части человеческого существа включают в себя две руки, но человек может существовать, и не пребывая в этом нормальном состоянии. Аналогичным образом метафизические составляющие человека в норме включают в себя материю и субстанциальную форму, но, по мысли Аквината, человек также может существовать, и не пребывая в этом нормальном состоянии.
Эту позицию Фомы очень легко неверно интерпретировать. В комментарии на Первое послание коринфянам71 Фома говорит: «Коль скоро душа составляет часть человеческого тела, она не есть весь человек, и моя душа не есть я»72. Подобные места приводят некоторых исследователей к выводу, что для Аквината человек перестает существовать со смертью тела. Ход их мысли можно представить следующим образом если моя душа не есть я, но моя душа – это все, что продолжает существовать после смерти моего тела, то, видимо, я не существую после смерти тела. Что бы мы ни сказали, помимо этого, о том, что продолжает жить после смерти тела, это буду уже не я.
Второе, тесно связанное с первым73, возражение возникает в связи с тем настойчивым утверждением Фомы, что одна лишь душа не есть человек74. Согласно той интерпретации, которую я здесь отстаиваю, субстанциальной формы достаточно для существования суппозита, формой которого она является, и, таким образом, существования человеческой души достаточно для существования человека. Но если существования души достаточно для существования человека, то, согласно моей интерпретации, душа – которая, по мнению Фомы, иногда существует в бестелесном состоянии – в этом состоянии, видимо, должна быть человеком, вопреки собственному часто повторяемому утверждению Фомы.
Но те пассажи, где Аквинат отрицает, что душа есть человеческая личность, есть человек, нужно прочитывать в контексте прочих воззрений Фомы. Например, Фома думает, что после смерти человеческая душа либо наслаждается небесным воздаянием, либо терпит адские муки75. Он утверждает, что отделенная от тела душа способна к пониманию и выбору76. Он также верит, что после смерти человек способен являться живым например, говоря о бестелесной душе мученика Феликса, он сообщает, что Феликс – не призрак Феликса, а сам Феликс – явился жителям Нолы77. Он заявляет, что святые праотцы в аду, будучи отделенными: от тела душами, ожидали Христа и были избавлены Христом, сошедшим во ад78. В этих и многих других местах Аквинат приписывает бестелесным душам свойства, которые он и мы считаем наиболее характерными: для людей, включая интеллектуальное понимание и любовь.
Эти пассажи совместимы с другими, где Аквинат утверждает, что душа не есть человек, если придавать надлежащую весомость различению, которое проводится в его мысли между конституцией и тождеством. Человеческая личность не тождественна человеческой душе; скорее, человеческая личность тождественна единичному сущему вида разумное живое существо. Единичное сущее этого вида в норме естественным образом конституировано совокупностью телесных частей и составлено из формы и материи. Но так как для Фомы конституция не есть тождество, единичное способно существовать и с меньшим, нежели нормальный и естественный, комплектом составляющих. Например, оно может существовать и тогда, когда конституировано лишь одной из главных метафизических частей, а именно, душой. И поэтому, хотя человеческая личность не тождественна ее душе, существования души достаточно для существования личности.
Сходным образом верно, что, по мнению Фомы, душа не тождественна человеческому существу, но человеческое существо может существовать и тогда, когда оно образовано лишь одной метафизической частью – формой, или душой. Фома считает, что в случае человеческих существ сохранения одной метафизической части целой вещи достаточно для существования этой вещи. Но так как конституция не есть тождество, отсюда не следует, что эта часть тождественна целому или что душа сама по себе тождественна человеческому существу.
В связи с этим полезно будет рассмотреть примерно аналогичную ситуацию, касающуюся телесных частей и целого. Некоторые современные философы полагают, что человек тождествен живому биологическому организму; но они также считают, что, хотя этот организм в норме представлен целостным человеческим телом, он способен существовать и тогда, когда тело сводится к одному лишь живому мозгу или части мозга79. С их точки зрения, человек способен существовать, будучи состоящим лишь из одной части – мозга, но не тождествен этой части, образующей человека в этой необычной ситуации. Точно так же Аквинат считает, что человек способен существовать, даже когда он состоит лишь из одной метафизической части, что не означает, будто он тождествен указанной части.
Следует также заметить, что, если бы эта интерпретация была неверной, если бы Аквинат считал человека тождественным его составляющим, так что человек переставал бы существовать, утрачивая тело, то в позиции Аквината прослеживалась бы непоследовательность: ведь тогда он не смог бы сочетать свое понимание человека со своим пониманием природы изменения. С аристотелевской точки зрения на изменение, разделяемой Аквинатом, вещь, которая приобретает или утрачивает акцидентальную форму, претерпевает изменение, оставаясь той же самой вещью. Но количественные характеристики, включая количество материи, суть акциденции. Следовательно, с точки зрения Фомы, человеческое существо, которое утрачивает некоторое количество материи, например, руку или ногу, остается той же самой вещью, только претерпевающей изменение. Но если бы конституция у Аквината означала тождество, то человек, чьи материальные составляющие изменились, перестал бы быть той же самой вещью, какой он был, и сделался бы какой-то другой вещью80. В этом случае, вопреки реальной позиции Фомы, приобретение или утрата акциденции, например, количества материи, были бы не изменением в человеческом существе, а уничтожением одной вещи и возникновением другой. Стало быть, тот факт, что Фома придерживается тех взглядов на изменение, которых он придерживается, предполагает именно ту интерпретацию, которую я здесь привожу.
Итак, для Аквината конституция не есть тождество. Соответственно, вопреки возражениям, притязание на то, что существования души достаточно для существования личности, или человеческого существа, совместимо с тем утверждением Фомы, что душа сама по себе не является личностью, или человеком.
Может возникнуть и другое затруднение, связанное с тем, что, согласно Фоме, субстанциальные формы индивидуируются материей. Отделенные души представляют собой субстанциальные формы, которые не оформляют никакой материи. Поэтому складывается впечатление, что, по мнению Фомы, либо души не индивидуальны, либо материя не индивидуирует субстанциальные формы человеческих существ. Но это затруднение основано на заблуждении. Одна отделенная душа может отличаться от другой на основе ее прошлой, а не нынешней сопряженности: с материей. Бестелесная душа Сократа – это субстанциальная форма, которая некогда в прошлом оформляла эту материю, составлявшую часть Сократа в его телесном бытии. Бестелесная душа Платона – это субстанциальная форма человека, которая некогда в прошлом оформляла материю, составлявшую часть Платона в его телесном бытии. Следовательно, остается верным, что материя индивидуирует, причем индивидуирует даже бестелесные души. Материя служит началом индивидуации бестелесной формы в силу прошлой сопряженности этой формы с материей. И, разумеется, верно и то, что отсюда проистекают и прочие различия, в том числе различия памяти, желаний, понимания и т. д.
Коль скоро это так, для Фомы пространственно-временная непрерывность материальных составных частей не является необходимой для существования человеческой личности. Человек может продолжать существовать и в бестелесном состоянии, в условиях пространственно-временных разрывов в существовании материальных частей человека. Временная непрерывность субстанциальной формы, напротив, необходима всегда. Если бы человеческая душа существовала в телесном человеке (например, в Сократе) в промежуток времени tl-t2, потом не существовала бы в промежуток t2-t3, а затем вновь существовала бы в бестелесном состоянии в промежуток t3-t4, то мое объяснение индивидуации бестелесных душ потерпело бы крах. На каком основании можно было бы тогда утверждать, что бестелесная душа, существовавшая в промежуток t3-t4, есть та самая душа, которая в промежуток tl-t2 оформляла материальную часть Сократа?81
Отношение композита к его частям
Если конституция не есть тождество, то нам нужно рассмотреть, каково отношение композита к конституирующим его частям.
Пожалуй, первый пункт, который мы должны отметить, состоит в следующем согласно томистскому пониманию субстанциальных форм, в одном и том же месте и в одно и то же время не могут существовать два материальных суппозита, две полные материальные субстанции82. Как уже было сказано, любая вещь, по мнению Фомы, имеет лишь одну субстанциальную форму. Так как любая данная материя, занимающая определенное место в определенное время, может оформляться лишь одной субстанциальной формой, и так как лишь вещь, оформленная субстанциальной формой, является суппозитом, отсюда явствует, что не может быть двух полных материальных суппозитов, совпадающих по времени и месту.
Основная идея здесь приложима и к артефактам. Предположим, например, что в момент времени t1 имеется слиток бронзы, которому скульптор придает в момент t2 форму бронзовой статуи. С точки зрения Аквината, слиток бронзы – это вещь, материей которой является бронза, а формой – конфигурация слитка. Когда скульптор делает из слитка статую, материя, то есть бронза, сохраняется, а вот конфигурация, делавшая бронзу слитком, утрачивается и замещается новой конфигурацией, делающей материю статуей. Если статую расплавить, материя, то есть бронза, сохранится и может вновь принять форму слитка; но конфигурация статуи будет утрачена, и, стало быть, статуя перестанет существовать. Таким образом, хотя слиток и статуя состоят из одной и той же материи, в силу различия форм они не будут одной и той же вещью.
С другой стороны, слиток и статуя не могут существовать в одно и то же время в одном и том же месте как раздельные вещи, потому что одна и та же материя не может в одно и то же время иметь конфигурацию слитка и статуи. (Тем самым Фома подписывается под dictum[11] современной философии: одна вещь не может быть собой и другой вещью83).
Могут возразить, что в пространстве, занятом статуей, или в пространстве, занятом слитком, находится бронза и статуя (или бронза и слиток), так что, в конце концов, в одном месте находятся две материальные вещи, оформлена ли бронза в виде статуи или в виде слитка. Но для Фомы бронза сама по себе, отдельно от конфигурации статуи: или слитка (или любой другой конфигурации), вообще не является вещью. Чтобы быть вещью, нужно иметь форму какого-либо целого. Если бронза имеет форму статуи, то вещь существует как статуя; если она имеет форму слитка, то существующая вещь будет слитком. Без какой-либо формы: вообще бронза не будет вещью.
Итак, для Фомы бронза и статуя не тождественны, но и не являются двумя разными вещами. Статуя – это составная материальная вещь, материальным компонентом которой служит бронза.
Линн Раддер Бейкер суммирует позиции, отличающие конституцию от тождества, следующим образом
В течение долгого времени философы отличали есть предикации… от есть тождества… Если точка зрения конституции верна, то имеется и третий смысл есть, отличный от первых двух. Третий смысл есть – это есть конституции (как в выражении: конституироеан куском мрамора)84.
Другое затруднение вызвано тем фактом, что, с точки зрения Фомы, возможна композиция внутри одной из составных частей целого85. Фактически Фома думает, что имеется даже композиция внутри природы, которой вещь обладает благодаря субстанциальной форме. У всякой актуально существующей вещи эта природа образована более чем одним свойством86. Например, человек обладает человеческой природой благодаря субстанциальной форме, каковой является человеческая душа, и эта природа образована свойствами разумности и животности. Тем не менее человеческая природа есть некое единство. Хотя, с точки зрения Фомы, ничто не тождественно своим составляющим, отношение конституции есть тем не менее отношение единства.
Аквинат различает несколько видов отношения единства. Быть может, важнейшим является различение между единством природы и единством суппозита. Когда разумность и животность соединяются в одну природу благодаря одной субстанциальной форме человека, возникает единство разумности и животности, которое представляет собой единство природы. Но существует также единство, создаваемое отношением конституирования целостного композита, состоящего из материи и формы. Составляющие целой вещи соединяются в целом, которое они составляют. В случае индивидуальных субстанций Фома говорит об этом как о единстве суппозита. Так, в случае материальной субстанции акцидентальные формы, субстанциальная форма и материя вещи сопрягаются в одну целую вещь, и их сопряжение есть единство суппозита.
Наконец особым случаем единства суппозита оказывается единство личности: это единство суппозита, имеющее место тогда, когда суппозит представляет собою личность87. Например, разумность (входящая в природу человеческой личности – Сократа) и курносостъ (акциденция Сократа) сопрягаются в Сократе. Стало быть, они сопрягаются, говоря языком Аквината, в единстве личности. Единство личности особенно важно для философской теологии Фомы, в частности, для его интерпретации доктрины воплощения.
Поскольку отношение конституции есть отношение единства, постольку свойство или причинность, даже если они сообщаются вещи в силу обладания тем или иным компонентом, принадлежат вещи как целому. Например, с точки зрения Фомы, субстанциальная форма суппозита ответственна за тот факт, что суппозит обладает определенной природой и определенной причинностью, связанной с этой природой88. Сократ обладает способностью разумения в силу обладания субстанциальной формой человека. Тем не менее вещью, которой приписывается действие этой способности, будет суппозит – например, Сократ, – а не его субстанциальная форма, взятая в отдельности89. Следовательно, разумность будет предикатом Сократа simpliciter [в абсолютном смысле]90.
Фактически отношение конституции позволяет нам проводить различение между свойствами композита91. Целое может обладать неким свойством либо само по себе, либо производным образом в силу того, что одна из его составляющих обладает этим свойством сама по себе. И то же самое mutatis mutandis[12] касается физических составных частей целого92.
Например, описанная выше молекула С/ЕВР имеет свойство сворачиваться спиралью на манер альфа-витка. Но она имеет это свойство в силу того факта, что имеет части, скручивающиеся таким образом. Молекула как целое «заимствует»93 эти свойства у своих конститутивных частей, обладая ими только в силу того, что ее субъединицы, альфа-витки молекулы, сами по себе обладают свойством закручиваться указанным образом. С другой стороны, молекула С/ЕВР имеет свойство регулировать транскрипцию ДНК, и этим свойством она обладает сама по себе, благодаря общей структуре молекулы как целого, что позволяет ей связываться с молекулой ДНК. Сходным образом, вдобавок к обладанию собственным свойством, конститутивная часть целого может также иметь некоторое свойство в силу того, что целое обладает этим свойством само по себе. Так, альфа-виток молекулы С/ЕВР имеет свойство регулировать транскрипцию ДНК, потому что этим свойством обладает молекула С/ЕВР как целое.
Бейкер подчеркивает, что в тех случаях, когда целое заимствует некое свойство у своих частей, это свойство тем не менее следует в полном смысле приписывать целому:
Заимствование проводит тонкую черту. С одной стороны, если х заимствует Н у у, то х реально обладает Н – получает его, так сказать, в нагрузку… Если я отсеку себе руку, то я реально буду истекать кровью… Я заимствую свойство кровоточения у моего тела, но я реально кровоточу. Но тот факт, что я кровоточу, есть не что иное, как тот факт, что я конституирован телом, которое кровоточит. Стало быть, х не просто реально обладает Н, заимствуя его. Кроме того – и это другая сторона дела, – если х заимствует Н у у, то имеются отнюдь не два независимых случая Н: если х заимствует Н, то обладание Н со стороны х целиком обусловлено тем, что х связано конституциональным отношением с чем-то, что обладает этим Н не-производным путем94.
Хотя Фома прямо не проводит такого различения между свойствами, его метафизические воззрения на конституцию позволяют его провести, и сам Фома неоднократно опирается на него. Например, он аргументирует, что все, что естественным образом проистекает из акциденций или частей суппозита, может быть предицировано суппозиту как целому на основании этих акциденций или частей. Вот как он формулирует эту мысль при обсуждении действий, производимых частями и целым
Действие части приписывается целому, как действие глаза – человеку; но оно никогда не приписывается другой части, разве что привходящим образом мы ведь не говорим, что рука видит на том основании, что глаз видит95.
В другом месте Фома объясняет, что человек называется кудрявым благодаря своим волосам или зрячим благодаря функции: глаза96. Сходным образом обсуждая способности души, этой субстанциальной формы человека, Аквинат говорит:
Мы можем сказать, что душа разумеет, точно так же, как мы можем сказать, что глаз видит; но было бы более подобающим сказать, что человек разумеет посредством души97.
Здесь свойство метафизической части, то есть души (разумение), и свойство физической части, то есть глаза (зрение), переносится на целое – человеческую личность, которая в действительности заимствует эти свойства у своих частей.
Изменение и перемещение
Фома считает, что у всех материальных вещей, кроме человека, форма целого начинает существовать вместе с целым и перестает существовать, когда перестает существовать материальный композит. Хотя субстанциальная форма человека тоже начинает существовать вместе с существованием целостного человеческого существа, включая целостное человеческое тело, душа, по мнению Фомы, способна к самостоятельному существованию даже после распада композита как целого. Но субстанциальные формы человека составляют единственное исключение из общего правила относительно форм материальных вещей. Нет никаких бестелесных форм коров или топоров.
Тем не менее, поскольку формы таких вещей, как коровы или топоры, тоже индивидуируются материей, можно спросить, до какой степени изменение в материи, конституирующей материальную вещь, совместимо с сохранением формы этой вещи, а значит, с сохранением самой вещи: ведь формы не способны существовать отдельно от материального композита, который они оформляют.
В случае материальных композитов, представляющих собою субстанции, формы, сопрягающиеся с целым, оформляют первоматерию. Поэтому любая материя, входящая в состав композита, утрачивает собственную субстанциальную форму и оформляется единой субстанциальной формой целого. Более того, форма индивидуируется материей с неопределенными: измерениями, так что изменение конкретного количества или качества материи не затрагивает идентичности формы. Поэтому представляется, что даже значительное изменение в материи совместимо с сохранением индивидуальной субстанциальной формы, если только имеется пространственно-временная непрерывность материи в изменяющемся материальном композите, оформленном этой формой (по причинам, которые изложены выше, при обсуждении материи с неопределенными измерениями98). В связи с этим важно также подчеркнуть, что изменение в материи должно быть совместимым с оформлением этой материи одной и той же субстанциальной формой. Если бы, например, изменение в материи приводило к тому, что корова постепенно превращалась бы в топор, то оно было бы уже несовместимым с оформлением материи субстанциальной формой коровы.
Однако с артефактами дело обстоит несколько иначе. В случае артефактов соединяющая с целым индивидуальная форма тоже индивидуируется материей, но это акцидентальная форма, и конфигурирует она не первоматерию, а полные материальные вещи. Таким образом, составное целое будет совокупностью субстанций, а эти субстанции – материей целого. Далее, когда в целое включается новая материя, она не принимает свою субстанциальную форму от формы целого, но сохраняет ту субстанциальную форму, какой обладала, прежде чем стать частью композита. Наконец, подобно формам всех материальных композитов, кроме человека, объединяющая артефакт акцидентальная форма начинает существовать с возникновением совокупности субстанций, ею оформляемых, и перестает существовать с распадом этой совокупности. Поэтому есть основания считать, что, по мнению Аквината, если бы все составляющие артефакт субстанции были удалены и заменены другими, исходный артефакт перестал бы существовать. Но если это так, то сохранение формы артефакта, а значит, и сохранение самого артефакта, несовместимо с полной заменой материальных частей вещи, которую она оформляет.
Сколь много материальных частей артефакта можно заменить так, чтобы это было совместимым с сохранением единичной акцидентальной формы, конфигурирующей артефакт в целом, гораздо менее ясно99. Конечно, хотелось бы в принципе сформулировать некий способ проведения черты между материальным изменением, которое представляет собой просто изменение в артефакте, и материальным изменением, которое меняет идентичность формы целого, так что исходная форма, а значит, и исходный: артефакт больше не существуют. Но, насколько я могу понять, ничто в метафизике Фомы не позволяет сформулировать конкретный способ проведения такой дистинкции.
Но, может быть, этот результат не так плох. Груда камней, образующая египетскую пирамиду, способна пережить замену одного обветшавшего камня новым. Но она не способна пережить замену всех старых камней полным набором новых: в этом случае мы получим копию пирамиды, а не саму изначальную пирамиду. Но вряд ли существует определенный ответ на вопрос о том, когда именно в процессе замены ветхих камней новыми: мы пересекаем черту между реставрацией старой пирамиды и возведением ее копии.
Заключение
Мы коротко рассмотрели здесь ключевые элементы: той части метафизики Аквината, которую можно было бы назвать «теорией вещи». Чтобы полностью осветить метафизику Фомы, потребовался бы: обширный: том, целиком посвященный: именно этой теме, да и тогда, несомненно, найдутся читатели, которые посчитают, что их собственные кандидатуры на звание самых важных частей томистской метафизики были оставлены без внимания. Тем не менее в этом кратком обзоре воззрений Фомы на материю и форму, субстанцию и артефакт, индивидуацию, тождество, изменение и конституцию я попыталась пролить свет на те части его метафизики, которые с наибольшей вероятностью окажутся темными или чуждыми современным читателям. Эти части также восхищают меня тем, что принадлежат к наиболее фундаментальным философским позициям Фомы, структурирующим его образ мыслей относительно множества других вещей. Вкупе с теологией божественной природы эта часть метафизики Аквината образует фундамент его мировоззрения, на которое опираются его прочие взгляды. Ниже мы рассмотрим учение Фомы о некоторых божественных атрибутах, чтобы представить в общем виде фундаментальные черты его теологических воззрений. Так как описание этих атрибутов важно для всех остальных областей философии Фомы, от этики до эпистемологии, мы должны рассмотреть эти атрибуты подробно.
Примечания
1 Аквинат не ограничивает обсуждение метафизики одним разделом своего труда, поэтому и мы продолжим разговор о его метафизике в главах 6 и 14, посвященных душе и воплощению. (Эти главы не вошли в русский перевод. – Прим. пер.).
2 Под «вещью» я понимаю в этом контексте приблизительно – но только приблизительно – то, что сам Аквинат обозначает латинским термином hoc aliquid, что можно грубо перевести как «это» [букв, «это нечто»]. В основном тексте я говорю об этом уклончиво, потому что существует некоторая неясность в отношении томистского понятия hoc aliquid. В In Met. VII. 3. 1323, например, Фома говорит, что только субстанция есть hoc aliquid; в других же местах он утверждает, что части субстанции, такие, например, как отрезанные руки или субстанциальная душа, тоже можно считать субсистентными вещами, или hoc aliquid (см., например, ST Iа IIae. 72. 2). Наконец, в данном контексте я понимаю под вещью не то, что Аквинат понимает под res, хотя это латинское слово часто переводят на английский как «вещь» (thing). Строго говоря, для Аквината вещью является любое сущее, которое принадлежит к одной из десяти категорий; следовательно, он понимает это слово в гораздо более широком смысле, чем вещь или hoc aliquid, в соответствии с которыми понятие вещи употребляется в этой главе. Быть может, следует добавить, что иногда Аквинат употребляет res в том же широком и неопределенном смысле, в каком употребляется thing в английском. Например, мы говорим «Эта ситуация – такая вещь, с которой можно столкнуться лишь в дурном сне». Вещи, понятые в столь широком смысле, тоже не являются предметом нашего обсуждения.
3 Не все, что в собственном смысле обозначается как материя чего-либо, считается вещью. Сходным образом, не всякая форма, конституирующая целое, является, в понимании Аквината, вещью. Ниже я попытаюсь прояснить, каковы те материя и формы, которые для Фомы являются вещами, и какие у него основания считать их таковыми. Вообще говоря, формы, конфигурирующие нематериальные субстанции и человеческие существа, для Фомы являются вещами, а формы других материальных субстанций, равно как и формы артефактов, представляют собой метафизические части вещей, но сами по себе – не вещи.
4 Приведем лишь один пример: с точки зрения современной философии, сущностным свойством является такое свойство, которым вещь обладает в любом возможном мире, где она существует. Но Фома, вообще говоря, полагает, что Бог мог бы действовать иначе, нежели он действовал (см., например, QDP 1. 5). Бог творит, но мог бы и не творить. Отсюда, по видимости, следует, что в нашем мире Бог обладает свойством творить, но есть некий возможный мир, где он не обладал бы этим свойством. В современном понимании сущностных и акцидентальных свойств свойство Бога творить оказывается, таким образом, его акцидентальным свойством. Но Аквинат считает, что Бог обладает чистой сущностью, что у него нет акцидентальных свойств. Вопрос о том, что конкретно подразумевает Аквинат под своими модальными терминами, остается предметом дискуссий. Дальнейшее обсуждение этой проблемы см. в главе 3 о простоте Бога (эта глава не входит в настоящий перевод. – Прим. пер.).
5 Весьма полезное обсуждение аристотелевского понятия формы см. в статье: Marjorie Grene, “Aristotle and Modern Biology”, Journal of the History of Ideas 33 (1972): 395–424. Автор доказывает, что понятие формы у Аристотеля очень близко современным биологическим понятиям организации или информации. (Я признательна Шону Флойду за то, что он обратил мое внимание на статью Грин). Удачная попытка объяснить то понятие томистской метафизики, о котором здесь идет речь и которое, как минимум, тесно связано с аристотелевским понятием формы, представлена в статье: Kit Fine, “Things and Their Parts” // Midwest Studies in Philosophy 23 (1999): 61–74. Файн выполнил достойную восхищения работу, рассмотрев его в контексте современной мереологии и показав, что аристотелевское понятие формы может оказаться здесь эффективнее мереологических схем. Вот что пишет Файн: «Я предлагаю сделать решительный шаг и признать новый тип целого. Если даны объекты а, b, с… и дано отношение R, способное связывать или не связывать эти объекты в любой данный момент времени, то мы предполагаем, что имеем дело с новым объектом. Его можно назвать «объектами а, b, с… в отношении R» (р. 65). Файн также проводит удачное различение между тем, что он называет «временными» и «вневременными» частями. Отчасти оно схоже с той дистинкцией, которую я проведу ниже между составными и метафизическими частями (хотя, возможно, сам Файн посчитал бы это сходство весьма слабым).
6 См., например, SCGIV. 36 (3740).
7 См., например, DPN 2 (346).
8 Полезное для наших целей рассмотрение этой молекулы и ее свойств см. в статье: Steven Lanier McKnight, “Molecular Zippers in Gene Regulation”,
Scientific American 264 (1991): 54–64.
9 DPN 3 (354); см. также In Met. V. 4. 795–798 и VII. 2. 1284. Роль первоматерии в метафизике Аквината порой понимают неверно, потому что не принимают во внимание томистскую концепцию элементов. Так, Питер ван Инваген считает свои взгляды отличными от взглядов Аристотеля (а также других философов, принимающих понятие первоматерии, например, Аквината), потому что, в противовес адептам первоматерии, сам он «в конечном счете» полагает материю «корпускулярной» (Material Being, Ithaca, NY: Cornell University Press, 1990, p. 3 и p. 5). Но ван Инваген, очевидно, говорит о тех минимальных составляющих, на которые можно разложить актуально существующие материальные объекты. Аквинат тоже считает корпускулами те минимальные составляющие, на которые можно разложить материальный объект в том смысле, что они представляют собой композиты из материи и формы, не поддающиеся дальнейшему членению на более мелкие композиты из материи и формы. Но первоматерия никогда не существует актуально; ее существование чисто потенциально и концептуально. Следовательно, первоматерия никогда не будет одной из актуальных составляющих, на которые можно разложить материальную вещь. Отделение формы от первоматерии осуществимо лишь в мысли.
10 DPN 2 (349); см. также In Met. VII. 2. 1289–1292.
11 DPN 1 (340).
12 О позиции Аквината, согласно которой форма вещи наделяет эту вещь определенными причинными потенциями, см., например, SCG IV. 36 (3740) и In Met. 11. 1519.
13 Обсуждение нематериальных форм и нематериальных субстанций, например, ангелов, см. в главе 6, посвященной душе (эта глава не входит в данный перевод. – Прим. пер.).
14 О том, что именно оформляется субстанциальными и акцидентальными формами, см., например, DPN 1 (339).
15 О том, что именно приводится к бытию посредством форм, см. DPN 1 (339).
16 Линн Раддер Бейкер приводит любопытный пример того, что иногда первоначальная родовая принадлежность вещи определяется не ее внутренними характеристиками, как побуждает считать томистский анализ позиции Аристотеля, а скорее внешними, реляционными или историческими чертами вещи. См. Lynne Rudder Baker, Persons and Bodies: A Constitution View (Cambridge: Cambridge University Press, 2000, p. 46–58). Например, флаг является флагом, а не куском тряпки, в силу обстоятельств, в которых он существует: обстоятельств, включающих в себя определенные социальные и политические конвенции. Я думаю, что эти замечания исследовательницы справедливы, но ее точка зрения скорее дополняет позицию Аквината, чем сколько-нибудь подрывает ее.
17 См., например, SCG IV. 48 (3834–3835).
18 Во избежание недоразумений будет уместным подчеркнуть, что здесь Фома говорит именно о субстанции. Статуи – не субстанции, но артефакты; у артефактов может быть и больше одной субстанциальной формы.
19 Могут спросить: почему новый композит не может иметь субстанциальную форму прилипалы+морской звезды и в итоге считаться субстанцией? В связи с этим важно понять форму как динамичную организацию, а субстанциальную форму – как такую динамичную организацию, которая сообщает организованной вещи свойства, существенные для нее как для члена определенного вида. По мнению Аквината, субстанция может обладать лишь одной субстанциальной формой. Следовательно, если бы композит из прилипалы и морской звезды был субстанцией, он имел бы лишь одну субстанциальную форму. В таком случае субстанциальные формы прилипалы и морской звезды были бы вытеснены некоей новой субстанциальной формой, которая и будет единственной. Но когда прилипала соединяется с морской звездой, дело, безусловно, выглядит так, что динамичная организация прилипалы, придающая ей видовую определенность, остается прежней, равно как и динамичная организация морской звезды. Рыба-прилипала не перестает быть прилипалой в силу того, что прилепилась к звезде, а звезда не перестает быть звездой в силу того, что к ней прилепилась прилипала. Стало быть, каждая из них сохранит свою исходную субстанциальную форму даже после того, как прилипала срастется с морской звездой, и в этом композите будут присутствовать две субстанциальные формы. По этой причине возникающий в результате композит не имеет собственной субстанциальной формы и не может считаться субстанцией.
20 См., например, ST IIIa. 2. 1.
21 DPN 1 (342).
22 См. DPN 3 (354), где Аквинат говорит о разделении воды на воду вплоть до того, пока она не будет разделена вплоть до мельчайших частиц того, что все еще является водой, то есть до элемента под названием вода.
23 См., например, СТ 211 (410). Здесь Аквинат обсуждает образование из комбинации элементов полной неодушевленной вещи, или суппозита, то есть индивидуального сущего в роде субстанции.
24 SCG IV. 35 (3732); см. также In Met. VII. 17. 1680; VII. 16. 1633.
25 См., например, СТ 211 (409^10), где Аристотель обсуждает способ комбинирования элементов, иллюстрируя его суть примером руки и плоти.
26 In Met. VII. 16. 1633.
27 SCG IV. 49 (3846).
28 Об аналогичном подходе, в связи с другой метафизической позицией, см. Eric Olson, The Human Animal (Oxford: Oxford University Press, 1997), pp. 135–140.
29 См., например, ST Ilia. 5. 3, где Аквинат объясняет, что плоть, не оформленная субстанциальной формой человеческого существа, называется плотью лишь эквивокально. См. также ST IIIa. 5. 4, где выдвигается утверждение более общего характера о том, что не бывает подлинно человеческой плоти, если она не дополнена человеческой душой. (Ср. In DA II. 1. 226 и In Met. VII. 9. 1519). См. также In Met. VII. 11. 1519 и SCG IV. 36 (3740), где Аквинат объясняет, что субстанциальная форма вещи наделяет эту вещь характерной для нее операцией.
30 ST IIIa. 2. 1.
31 Может сложиться впечатление, что смесь, существующая сама по себе, тоже является примером вышеназванного композита (3): композита, составленного из первоматерии и субстанциальной формы. Возможно, Аквинат относит ее к категории самостоятельно сущего потому, что полагает, что в смеси элементы, ее образующие, не вполне поглощаются целым, но остаются «виртуально присутствующими», то есть присутствуют своими потенциями, хотя и не присутствуют в качестве субстанций. Ср. SCGII. 56.
32 См. также, например, SCG IV. 35 (3730–3734), где приводится чуть более детализированная таксономия композитов. Аквинат проводит здесь различение между составлением единого из многого исключительно через упорядочение, как, например, город составляется из множества домов; и составлением, которое осуществляется через упорядочение и взаимосвязь: так дом составляется из различных частей.
33 См., например, СТ 211 (410–411), где Аквинат разъясняет свою общую позицию в связи с составной природой воплощенного Христа.
34 Более подробное рассмотрение взглядов Фомы на эмерджентные свойства и субстанции см. в главе 6 о душе. (Эта глава не вошла в перевод. – Прим. пер.).
35 ST Iа 76. 1.
36 См., например, СТ 212 (418).
37 In Met. VII. 16. 1635–1636.
38 См., например, In Met. VII. 13. 1588; VII. 16. 1633.
39 Ср. In Met. VII. 16. 1635–1636.
40 Смысл того утверждения, что вещи перестают существовать в качестве самостоятельных вещей, заключается в том, чтобы предотвратить неверное понимание, будто они перестают существовать вообще. Они продолжают существовать как составные части целого. Аналогичным образом, когда яблоко съедено, оно перестает существовать как яблоко, но вся его материя продолжает существовать и (по крайней мере, какое-то время) служит одним из компонентов съевшего.
41 См., например, De uni one verbi incarnati 2, где Аквинат подробно разъясняет различие между субстанцией и частью субстанции. См. также ST Ша 2. 2 ad 3; ST I. 75. 2 ad 1; QDA un. 1 corpus и ad 3; ST la IIае 72. 7, где Фома говорит: «Выясняется, что различаться по виду можно двумя способами. Одним способом – благодаря тому, что обе вещи обладают полной видовой определенностью: так различаются по виду лошадь и бык. Другим способом они получают разную видовую определенность сообразно разным степеням в некотором порождении или движении: например, постройка есть полное порождение дома, а закладка фундамента или воздвижение стены суть неполные виды».
42 Ср., например, In Sent. II. 3. 1. 4.
43 Более подробное рассмотрение души как части человеческого существа см. в главе 6 о душе (в данный перевод не входит. – Прим. пер.).
44 К. Файн говорит о гилеморфическом целом, которое он считает композитом из материальных составляющих, упорядоченных некоторым отношением «Это композит совершенно особого рода. Ибо его компоненты и отношение соединяются не как равноправные, не как в обычной мереологической сумме, но отношение R сохраняет свою предикативную роль и некоторым образом способствует модификации или качественной определенности компонентов. Но результатом модификации становится не факт или состояние. Результат – целое, компоненты которого связаны между собой отношением, а не факт и не состояние компонентов, связанных таким образом» (1999, р. 65).
45 См., например, QQ V. 2. 1, где Аквинат объясняет, почему часть субстанции сама не является субстанцией. См. также СТ 211 (409).
46 По техническим причинам, связанным со средневековой логикой, Аквинат не имеет возможности дать определение субстанции (в его понимании определения). Причина заключается в том, что для Аквината дать определение подразумевает разделить определяемую вещь на род и видовое отличие. Но так как субстанция есть род, который сам не принадлежит ни к какому другому роду более высокого порядка, невозможно отнести субстанцию к какому-либо роду. Следовательно, обычным средневековым способом определить субстанцию нельзя.
47 См., например, QQ 9. 3. 1 ad 2. В других местах Фома дает несколько иные характеристики. Так, в De unione verbi incarnati 2 он описывает субстанцию как то, чему подобает существовать per se и in se, тогда как акциденции подобает пребывать в чем-то ином. В этом месте Фома подчеркивает, что субстанция существует не только per se, но и in se, чтобы отличить субстанцию от части субстанции. Часть субстанции не существует in se; она существует в целой субстанции, частью которой является. См. также De unione verbi incarnati 2, ad 3.
48 Иногда Аквинат описывает субстанцию в терминах аристотелевского критерия субстанции: субстанция есть то, что заключает в себе внутреннее начало движения. Это условие выглядит удачным применительно к одушевленным субстанциям; но Аквинат признает существование также неодушевленных субстанций, а применительно к ним аристотелевский критерий значительно менее удачен. Вода есть субстанция, и некоторое количество воды – тоже субстанция. Она заключает в себе внутреннее начало движения, так как по природе стремится падать на землю. Но то же самое можно сказать и о топоре. Верно, что топор склонен падать на землю постольку, поскольку материален, а не поскольку является топором; но, видимо, это верно и применительно к некоторому количеству воды.
49 Некоторые философы проводят различение между единичными и частными сущими, но в рамках данной главы я буду употреблять термины единичные (individual) и частные (particular) как синонимы.
50 См., например, DEE 3 (18) и In Met. VII. 11. 1521.
51 ST I. 50. 1; I. 50.5.
52 ST I. 50. 2.
53 Определение «составная» должно быть добавлено здесь потому, что сказанное неприложимо к простой субстанции – к Богу. Нематериальная субстанция вроде ангельской является составной постольку, поскольку имеется различие между ангелом и его свойствами. В ангеле также имеются различия между несколькими сущностными свойствами, а также между свойствами сущностными и акцидентальными.
54 См., например, David Lewis, “The Problem of Temporary Intrinsics” // On the Plurality of Worlds (Oxford: Blackwell, 1986); Dean Zimmerman, Temporary Intrinsics and Presentism” // Metaphysics: The Big Questions. Peter van Inwagen and Dean Zimmerman (eds) (Malden, MA: Blackwell, 1998), pp. 206–219. Здесь же перепечатана статья Льюиса, рр. 204–206.
55 Возникает ли в связи с (LII) аналогичная проблема – это вопрос, лежащий за пределами настоящей главы, в которой рассматривается средневековая метафизика.
56 In BDT 2. 4. 2; см. также ST I. 119. 1; QDP 9. 1.
57 См., например, De uni one verbi incarnati 1 corpus; см. также De unione verbi incarnati 2 ad 6, где Аквинат объясняет, что имя вида обозначает природу.
58 Быть может, самое подробное изложение этих взглядов Фомы содержится в In BDT2. 4. 2.
59 In BDT2.4.2. Фома не всегда одинаково описывает свою позицию по этому вопросу, и вариации в терминологии заставляют некоторых исследователей предполагать либо развитие мысли Фомы, либо неоднократную смену взглядов. Вопрос сложен, и поэтому здесь я оставляю его в стороне. Ср. In Met. VII. 2. 1283, где убедительно говорится о материи и ее измерениях. Обсуждение схоластической полемики [по этому вопросу] см. John Wippel, The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas: From Finite Being to Uncreated Being (Washington, DC: Catholic University of America Press, 2000), pp. 357–373.
60 In BDT 2.4.2.
61 Хотя Фома не фокусируется на непрерывности в связи с неквантифицированной материей, он действительно акцентирует непрерывность как основу единства при некоторых обстоятельствах. См. например, In Met. V. 7. 849–858.
62 См., например, ST III. 3. 7 ad 1, где Аквинат говорит, что субстанциальная форма умножается в соответствии с разделением материи.
63 Это верно даже применительно к тем свойствам, которые средневековые логики называли propria [собственными свойствами]. Proprium – это свойство, которым всегда обладают представители определенного вида, причем только они. Способность смеяться, или risibilitas, составляет proprium человеческого существа. Propria классифицируется средневековыми логиками как разновидность акциденции в силу того факта, что, хотя члены вида всегда обладают собственным признаком, характерным для данного вида, при его отсутствии член этого вида не перестал бы принадлежать к этому виду.
64 Бог не имеет акциденций, но будет также неверным утверждать, что Бог обладает субстанциальной формой. Ибо в случае божественной простоты невозможно провести различение между Богом и его природой.
65 См., например, ST III. 4. 4 sed contra; corpus.
66 См. In Met. VII. 17.1672–1674. Здесь Аквинат говорит, что в случаях, когда композит представляет из себя единую вещь, он не тождествен своим частям, но есть нечто высшее и превосходящее по отношению к ним. Любопытный современный довод против редукции целого к его частям см. в статьях: Mark Johnston, “Constitution is Not Identity” // Mind 101 (1992): 89-105; Lynne Rudder Baker, “Why Constitution is Not Identity” // Journal of Philosophy 94 (1997): 599–621. Блестящий анализ конституирующего отношения см. в статье: Lynne Rudder Baker, “Unity Without Identity: A New Look at Material Constitution // Midwest Studies in Philosophy 23 (1999): 144–165. Cp. также Baker (2000).
67 По мнению Фомы, это не синонимы: хотя они и обозначают в реальности одну и ту же вещь (об этом см. SCG IV. 38 [3766]), они обозначают ее несколько разными обозначениями, ибо suppositum – термин второй интенции, a hypostasis – термин первой интенции. Этот сложный момент средневековой логики я здесь опускаю для краткости. Об этом различении см., например, De unione verbi incarnati 2, corpus. (Термин первой интенции обозначает реально существующий объект (например, реально существующий камень или человека), термин вторичной интенции обозначает логическое понятие, существующее как абстракция в уме человека (например, логические понятия «вид», «род», «универсалия»). – Прим. ред).
68 Ясное объяснение употребления этих терминов Аквинат приводит в De unitate verbi incarnati 2; см. также QQ V. 2. 1.
69 ST III. 2. 2.
70 См., например, De unione verbi incarnate 1. Здесь Фома говорит, что во всем, в чем присутствует либо акциденция, либо индивидуальная материя, суппозит и природа не одно и то же, ибо в этом случае суппозит связан с природой через присоединение. См. также SCG IV. 40 (3781), где Аквинат объясняет различие между единичным сущим и его чтойностью, или природой, и показывает, что суппозит по имени Сократ не тождествен его субстанциальной форме, потому что в нормальных естественных условиях он конституирован также количественно означенной материей.
71 Я благодарна Брайану Лефтоу за то, что он обратил мое внимание на этот фрагмент.
12 Inl Сог 15. 1.2.
73 С точки зрения Аквината, личность есть индивидуальная субстанция разумной природы, а человеческое существо есть индивидуальная субстанция разумной животной природы. Так как это не одно и то же, некоторые исследователи в устной беседе утверждали, что моя интерпретация нуждается в отдельном текстологическом аргументе: ведь тексты, казалось бы, не отрицают, что невоплощенная душа является человеческим существом. Я с готовностью рассматриваю это отдельное возражение, хотя считаю нужным указать, что, хотя Аквинат и усматривает различие между личностью и человеческим существом, не существует различия между человеческой личностью и человеческим существом.
74 См., например, SCG II. 57, где Аквинат обстоятельно рассматривает аргументы против попытки Платона доказать тождество между человеком и душой.
75 См., например, ST Suppl. 69. 2.
76 ST Suppl. 70. 2–3.
77 ST Suppl. 69. 3.
78 ST Suppl. 69. 4–5.
79 См., например, Eric Olson, The Human Animal (Oxford: Oxford University Press, 1997).
80 Современные способы гармонизации лейбницевского закона с изменением во времени (см., например, Lewis [1986] и Zimmerman [1998]) могли бы предложить Аквинату выход из этой ситуации, если бы оказались совместимыми с остальными сторонами томистской метафизики. Но отнюдь не ясно, имеется ли такая совместимость.
81 Быть может, в связи с этим стоит подчеркнуть следующее: контрпример, в котором речь идет о Туллии и Цицероне и который я привела, чтобы показать, что неразличимость свойств во времени и тождество через совпадение, по мнению Фомы, недостаточны для идентичности, – этот контрпример черпает силу во временном разрыве в существовании референта обозначений «Цицерон» и «Туллий».
82 Следовательно, Аквинат разделил бы ту интуицию ван Инвагена, что два объекта (или две субстанции) не могут целиком состоять из одинаковых частей в одно и то же время (Peter van Inwagen 1990: 5).
83 Peter van Inwagen, “Composition as Identity” / James Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, vol. 8 (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co., 1994), pp. 207–219. Аквинат прямо обсуждает этот вопрос в In Met. VII. 13. 1588; см. также ST III. 17. 1 obj. 1, где говорит, что там, где имеются одна и другая вещь, имеются две вещи, а не одна. (Хотя этот довод присутствует в возражении, в ответе на возражение он не затрагивается).
84 Baker (1999: 151).
85 Как разъяснялось выше, фактически материальное целое, по мнению Фомы, можно так разделить на материю и форму, что материя сама окажется композитом из материи и формы. Таким образом, в сложном материальном композите существуют разные уровни организации, а стало быть, и разные комплексы конститутивных отношений. Бейкер приводит интересный аргумент, призванный доказать, что и в этом случае конституция не будет транзитивным отношением; см. Baker (1999: 164, п. 30).
86 Дело обстоит так из-за технических особенностей средневековой философии (логики и метафизики). Природа вещи есть то, что обозначается именем вида, к которому принадлежит вещь; вид же определяется в терминах рода и видового отличительного признака.
87 См., например, SCGIV. 41 (3787–3789).
88 См., например, SCG IV. 36 (3740). Здесь Аквинат утверждает, что природе любой вещи свойственна операция, проистекающая из субстанциальной формы этой вещи. См. также ST III. 17. 2, где говорится, что суппозит – это существующее, а природа – то, в силу чего он существует.
89 ST III. 2.3.
90 SCG IV. 48 (3835).
91 Более подробное обсуждение этой темы см. в главе 14 о воплощении (в перевод не вошла. – Прим. пер.).
92 В связи с этим Бейкер говорит скорее о независимом обладании некоторым свойством, чем об обладании им самим по себе, и анализирует, что означает для вещи независимое обладание свойством. См. Baker (1999: 151–160).
93 Метафора заимствования здесь принадлежит Бейкер, см. Baker (1999:
151-160).
94 Baker (1999: 159–160).
95 ST la 76. 1.
96 SCG IV. 48 (3835).
97 STL 75. 2 ad2.
98 В отличие от того, как это происходит в случае человека, в таких субстанциях недостаточно временной непрерывности субстанциальной формы, потому что их формы не могут существовать отдельно от композита.
99 В публикации 1999 г. Файн пытается ввести в гилеморфические теории целого и частей дистинкцию, которая объяснила и высветила бы следующий факт: иногда изменение частей совместимо с продолжением существования целого, по отношению к которому они являются частями, а иногда такой совместимости нет. По мнению автора, материальный композит может получать как жесткое воплощение (изменение которого несовместимо с продолжением существования композита), так и воплощение изменчивое (допускающее изменения при сохранении существования композита). Объяснение, которое предлагает Файн, и применение этой дистинкции полезны. Однако, насколько я могу судить, они не обеспечивают всего, что необходимо для принципиального разграничения между материальным изменением в одной и той же вещи и таким изменением, которое означает порождение некоторой новой вещи.
Глава 2 Благо
Введение
Как показывает трактовка этических вопросов в «Сумме теологии» и других трудах, основа этики: Фомы – учение о добродетелях. Иногда Фома обсуждает моральные принципы или правила; например, в ST он посвящает по одному вопросу предписаниям справедливости и силы1. Но предписания справедливости оказываются десятью заповедями, а предписание силы, судя по всему, просто библейской заповедью бояться не людей, а Бога. С другой стороны, в [первых] 170 вопросах IIа IIае «Суммы теологии» (как и во многих других работах) Аквинат излагает свое видение человеческих добродетелей. Они включают в себя не только кардинальные, или моральные добродетели (благоразумие, справедливость, мужество и умеренность) и добродетели, с ними связанные, но богословские добродетели (веру, надежду и любовь), а также интеллектуальные добродетели (мудрость, знание и понимание).
Описание добродетелей у Фомы отличается богатством и: комплексностью, а их обсуждение помещается в сложную сеть средневекового этического знания2. Она включает в себя семь даров Святого Духа, по меньшей мере три из которых дублируют интеллектуальные добродетели: мужество, набожность, страх, совет (concilium), мудрость, scientia (что обычно переводится как «знание») и понимание. Кроме того, Аквинат включает в свое описание двенадцать даров Святого Духа (веру, любовь, радость, мир, добросердечие, долготерпение, благость, милосердие, кротость, умеренность, воздержание и целомудрие), а также семь блаженств: блаженные алчущие и жаждущие, когда получают воздаяние по справедливости; блаженны миротворцы, кроткие, нищие духом, скорбящие, милосердные и чистые сердцем. Наконец, Фома дополняет свое описание добродетелей тем, что сравнивает их с противоположными им пороками, особо сосредоточиваясь на перечне, который был известен в Средние века под именем семи смертных грехов: перечне, восходящем, по меньшей мере, к эпохе Кассиана и принявшем законченную форму при Григории Великом. В порядке убывания тяжести грехов список выглядит так: гордыня, зависть, гнев, праздность, скупость, чревоугодие и похоть.
В части III этой книги я постараюсь дать представление о глубине и силе этой этической системы, взяв по одной репрезентативной добродетели в каждом из трех видов добродетелей, признаваемых Фомой: моральных, интеллектуальных и богословских, – и посвящая по отдельной главе каждой из них. Здесь же я намереваюсь рассмотреть метафизику блага, которая лежит в основании всей томистской этики. Эта метафизика предоставляет базирующейся на добродетелях этике Фомы своего рода метаэтический фундамент (который в некоторых современных этических учениях, выстроенных вокруг понятия добродетели, объявляется отсутствующим3) и полагает основание этическому натурализму, отмеченному известной философской утонченностью. Более того, эта метафизика дополняет свойственный Фоме аристотелевский упор на рациональность как на моральный стандарт, предлагая метод определения этически релевантных степеней рациональности. Наконец, когда натурализм Аквината сочетается с его пониманием абсолютной простоты Бога, возникает связь между моралью и теологией, которая составляет привлекательную альтернативу морали божественных заповедей: отныне мораль выстраивается не просто как диктат божественной воли, но как выражение божественной природы.
Центральный метаэтический тезис аквината
Центральный тезис томистской метаэтики гласит:
(Т) „бытие“ и „благо“ суть одно и то же с точки зрения референции (idem secundum rem), но различаются только по смыслу (differunt enim secundum rationemf.
Что здесь Фома имеет в виду и каковы для этого основания?
Он сам начинает свое обоснование этого тезиса с того, что упоминает и утверждает связь, которую Аристотель усматривал между благом и желаемым. Фома говорит: «Суть блага заключается в том, что нечто желанно, и Философ (Этика I) говорит, что благо есть то, чего все желают»6. Важно правильно понять это утверждение. Хотя все вещи желают блага, не все вещи, способные стремиться к благу сознательно, понимают, в чем истинное благо: творения, наделенные интеллектом и волей, могут желать мнимого блага, как если бы оно было настоящим7. По словам Фомы,
Нечто может быть предметом желания двумя способами: либо потому, что оно есть благо, либо потому, что кажется благом. Из них первое есть истинное благо, потому что кажущееся благом побуждает стремиться к нему не само по себе, но постольку, поскольку имеет некую видимость (species) блага; между тем благо побуждает стремиться к нему само по себе8.
Итак, для Аквината желанность в любом случае представляет собой сущностный аспект блага.
Далее, если вещь желанна как вещь определенного рода, то, по мнению Фомы, она желанна постольку, поскольку совершенна в своем роде, то есть постольку, поскольку являет собой безупречный, превосходный образец, свободный от значимых дефектов. Фома говорит:
То, в силу чего нечто называется благим, есть его собственная добродетель[13]… Но добродетель есть род совершенства, ибо мы говорим, что нечто совершенно, когда оно достигает собственной добродетели, что явствует из книги VII Физики. Таким образом, все совершенное, в силу самого этого факта, является благим. Именно поэтому все стремится к своему собственному совершенству как к своему собственному благу9.
Но тогда, по мысли Аквината, вещь совершенна (блага в своем роде), а потому и желанна, поскольку она пребывает в бытии. Другими словами, вещь совершенна в своем роде в той мере, в какой она полностью реализована. Согласно Аквинату, «совершенство чего-либо есть его благо»10, но «вещь совершенна постольку, поскольку актуализована»11. Или, как говорит Фома в другом месте: «С точки зрения природы (naturaliter), благо чего-либо есть его актуальность и совершенство»12.
В другом примечании к высказыванию Аристотеля Фома выводит значение «блага» из понятия того предмета, в котором желание достигает кульминации:
Цель есть то, в чем желание действующей или побуждающей к действию вещи успокаивается… Но это часть определения блага, [а именно], благо утоляет желание, ибо благо есть то, чего все желают. И потому любое действие и любое побуждение существуют ради блага13.
Далее, предмет желания желанен либо ради чего-то другого, либо ради чего-то другого и самого себя, либо только ради самого себя. То, что желанно только ради самого себя, воспринимается желающим как его конечная цель: как то, ради чего он желает всех прочих вещей, каких желает; как то, в чем иерархия его желаний достигает кульминации. Фома говорит: «Так как все желает своего собственного совершенства, вещь желает, как своей конечной цели, того, чего она желает как блага, ее усовершающего и восполняющего»14.
Но то, чего желающий желает именно таким образом, есть полнота его собственной природы или, по крайней мере, то, что желающий воспринимает как наилучшее для себя. С точки зрения Авината, всякая вещь прежде всего стремится к бытию – бытию настолько полному, целостному и безупречному, насколько это возможно15. Но состояние полноты и целостности есть не что иное, как полная актуальность вещи, независимо от того, опознает ли ее желающий в качестве таковой. Следовательно, полная актуализация равнозначна конечному благу, к которому стремится и которого желает любая вещь. Говоря о людях, Фома замечает:
Все, чего желает человек, он с необходимостью желает ради конечной цели… Но все, чего желает человек, он желает как блага. Если же благо желаемо не как совершенное благо, то есть конечная цель, его с необходимостью желают как инструментального блага, ведущего к совершенному благу16.
Однако, по мнению Фомы:
с точки зрения определения конечной цели, все люди согласно стремятся к ней, потому что все люди желают полноты своего совершенства, а она совпадает с определением конечной цели17.
Итак, Аквинат утверждает, что любое действие устремлено к бытию, к сохранению или приращению бытия в некотором аспекте, индивидуальном или видовом действуя, все вещи стремятся к бытию. Как отмечает Фома в одном месте,
любое действие и любое побуждение, видимо, некоторым образом устремлено к бытию, к сохранению бытия в виде или в индивиде или к его обретению вновь. Ибо бытие есть не что иное, как благо. И поэтому все стремится к бытию. Следовательно, любое действие и любое побуждение существуют ради блага18.
Далее, Аквинат считает, что «все желает пребывать актуализованным по-своему. Это ясно из того, что все по своей природе сопротивляется уничтожению»19. Более отчетливо Фома раскрывает этот аспект своего учения в интерпретации высказывания Августина о том, что определение блага включает в себя модус, вид и порядок. Фома говорит:
Любая вещь называется благой постольку, поскольку она совершенна… А совершенным называется то, в чем нет недостатка с точки зрения модуса его совершенства. Но так как все сущее есть то, что оно есть, через свою форму, а форма предполагает, что нечто по отношению к ней является предшествующим, а нечто с необходимостью последующим, то для того, чтобы нечто было совершенным и благим, нужно, чтобы имело форму и то, что ей предшествует, и то, что за нею следует… Сама же форма обозначается через вид, ибо благодаря форме нечто утверждается в рамках вида… Следует же за формой стремление к конечной цели, или действие, или что-либо в том же роде, ибо любая вещь, поскольку она пребывает в акте, действует и стремится к тому, что подобает ей согласно ее форме20.
И в другом месте Аквинат говорит: «Форма, через которую нечто актуализируется, есть некое совершенство и некое благо; таким образом, любое актуальное сущее есть некоторое благо»21.
Фома суммирует эту часть своего учения в следующих словах: «Форма и бытие вещи есть ее благо и совершенство, если рассматривать вещь в ее природе»22. Рассуждая о природе, которую вещь принимает от своей формы, Фома формулирует это так:
Любая вещь достигает полноты через бытие в акте, ибо акт есть совершенство вещи… Но всякая природа достигает полноты благодаря тому, что обладает бытием в акте; стало быть, поскольку быть благим есть предмет стремления всякого сущего, всякая природа достигает полноты через причастность благу23.
Итак, по всем этим причинам Аквинат принимает ту крепко утвердившуюся в его эпоху точку зрения24, что благо и бытие взаимосоотносимы, что «благо» и «бытие» обозначают одно и то же[14].
Полнота актуальности и субстанциальная форма
В приведенных выше цитатах, связывающих между собой благо и форму, речь идет о субстанциальной форме, так как только субстанциальная форма вещи делает ее актуальной. Акцидентальная форма делает вещь тем или иным сущим, а субстанциальная форма наделяет вещь актуальным бытием как вещь определенного рода или вида, обладающую конкретной природой25. Как формулирует это в одном месте сам Фома, «всякое сущее и всякое благо зависит от формы, от которой принимает видовую определенность»26.
Далее, природа вещи, с точки зрения Фомы, заключается в свойствах, которыми вещь обладает в силу того, что оформлена субстанциальной формой. Чтобы лучше представить себе, что же понимает Аквинат в приведенных выше фрагментах под термином сущее, мы должны очень коротко рассмотреть его понимание субстанциальной формы и природы вещи.
По мнению Фомы, любая субстанция обладает субстанциальной формой27. Субстанциальная форма вещи – это ее конфигурация, наделяющая вещь теми характеристиками, которые помещают ее в рамки ее вида. Но, с точки зрения Аквината, [определение] любого вида включает в себя род и видовой отличительный признак28. Например, вид человек разделяется на род живое существо и на видовой отличительный признак разумное, который отделяет человека от любых других видов в роде живое существо. Природа, или сущность вещи, заключается в тех свойствах, которые помещают ее в рамки вида. Аквинат пишет:
Природу, или сущность… можно понять двумя способами. Одним способом – в соответствии с собственным определением этой природы. Это рассмотрение природы как таковой, в строгом смысле. В таком рассмотрении истинным применительно к природе будет лишь то, что ей присуще как именно таковой… Например, свойство быть разумным и быть живым существом (и прочие свойства, входящие в определение человека) принадлежат человеку постольку, поскольку он – человек29.
Так вот, природа, или сущность, сообщаемая субстанциальной формой, неизменно включает себя по меньшей мере одну силу, способность или потенцию, которая составляет ее видовой отличительный, или видообразующий признак, ибо любая субстанциальная форма является источником некоторой деятельности или операции30. По словам Аквината,
Все, что обладает какой-либо сущностью, либо само есть форма, либо имеет некую форму, ибо через форму всякая вещь помещается в род или вид. Но форма как таковая обладает характеристикой блага, ибо является началом действия31.
И в другом месте:
Потенция бывает двух видов: потенция к бытию и потенция к действию; а совершенство обоих видов потенции называется добродетелью… Потенция к действию принимается со стороны формы, которая есть начало действия, ибо всякое сущее действует, поскольку пребывает в акте32.
Итак, согласно Аквинату, видовой отличительный признак вещи, который для нее характерен и помещает ее в соответствующий вид, следует понимать также как потенцию к деятельности или к операции, свойственной именно этому виду и присущей любому члену вида. С точки зрения Фомы, природа вещи – а именно, природа вещи как члена определенного вида – включает в себя потенцию к выполнению операции, определяющей эту вещь как члена этого вида. Например, видовой отличительный признак вида человек – разумность, и потенция к разумению выступает определяющей и сущностной характеристикой человека как члена вида человек33. Мы также можем назвать оперативную потенцию, каковой является видовой отличительный признак вещи, ее «специфицирующей» (то есть видообразующей) потенциальностью.
Таким образом, актуальность вещи, по мнению Фомы, можно понимать двояко. С одной стороны, есть актуальность, которой вещь обладает в силу того, что существует как вещь определенного вида, имеющая определенную субстанциальную форму и принимающая от нее видообразующую потенциальность, характерную для данного вида. С другой стороны, эта конкретная потенциальность составляет часть сущности данной вещи; стало быть, коль скоро эта потенциальность актуализируется, существует смысл, в котором данная вещь тоже актуализируется: ведь часть ее природы, которая была всего лишь потенциальной, становится актуальной. Аквинат формулирует этот пункт следующим образом
Главным образом и само по себе благо заключается в совершенстве. Но акт бывает двух видов – первый и второй. Первый акт есть форма и целостность вещи, а второй акт есть операция34.
И чуть ниже: «Благо в абсолютном смысле состоит в акте, а не в потенции, а последний акт есть операция»35.
Итак, вещь достигает совершенства тогда и в той мере, в какой она выполняет свои специфические операции и тем самым актуализирует свою видообразующую потенциальность. Операция, которая находится в согласии с видообразующей потенциальностью вещи, актуализирует то, что пребывало не актуальным, но чисто потенциальным в природе вещи, которую вещь принимает от субстанциальной формы. Стало быть, вещь является совершенной (в томистском смысле «совершенного») в той мере, в какой она актуализирует видообразующую потенциальность, сообщаемую формой. Применительно к человеческим существам Аквинат разъясняет это так:
Блаженство есть последнее совершенство человека. Но все сущее совершенно постольку, поскольку пребывает в акте, ибо потенция без акта несовершенна. Следовательно, надлежит, чтобы блаженство заключалось в последнем акте человека. Очевидно, однако, что последний акт деятеля есть действие; поэтому Философ и называет его в книге II «О душе» вторым актом ведь имеющий форму может быть деятелем [только] в потенции36.
Или в более общем виде:
Природа вещи достигает полноты в форме… Но сама форма в итоге подчиняется действию, которое является либо целью [вещи], либо средством достижения цели37.
Тождественное по референции, но различное по смыслу
Таким образом, оценочное значение «совершенного» объясняется связью между актуальностью и благом. В самом деле, быть актуальным означает для некоторого сущего быть в бытии, а «бытие» и «благо» тождественны по референции. Вещь хороша в той мере, в какой она актуальна38; она хороша в своем роде, или совершенна, постольку, поскольку актуализирована ее видообразующая потенциальность, и дурна в своем роде, или несовершенна, постольку, поскольку ее видообразующая потенциальность остается неактуализованной39.
Стало быть, по мнению Фомы, когда термины «бытие и «благо» ассоциируются с некоторой вещью определенного вида, оба термина имеют референтом бытие этой вещи. Именно таким образом «бытие» и «благо» имеют один и то же референт. С другой стороны, предшествующий анализ позволяет нам лучше понять ту идею Аквината, что между «бытием» и «благом» пролегает смысловое различие. Теперь нам должно быть ясно, что «бытие» следует рассматривать как с абсолютной, так и с относительной точек зрения. Будучи взятым абсолютно, бытие означает конкретную реализацию вещи, которая имеет (или представляет собой) субстанциальную форму: это просто существование некоторой вещи определенного вида. Но так как любая субстанциальная форма включает в себя также видообразующую потенциальность, то при актуализации потенциальности вещь, ее актуализирующая, оказывается вещью данного вида в более полном смысле, становится лучшим представителем своего вида. Если рассматривать бытие этим вторым способом, будет правильным сказать, что в некотором смысле в этой вещи совершается приращение бытия. Обычный смысл термина «бытие» – бытие, взятое абсолютно, то есть чистое существование вещи как экземпляра данной вещи, вкупе с субстанциальной формой, которая наделяет вещь природой, включая видообразующую потенциальность. С другой стороны, актуализация видообразующей потенциальности вещи есть также бытие вещи, а общий смысл «блага» – это понятое таким образом бытие, что Фома называет вслед за Аристотелем «второй актуальностью». Таково состояние, к которому по природе стремится всякая вещь. Именно в этом состоянии вещь называется обладающей благом.
Важное следствие такого понимания бытия и блага состоит в том, что ни одна из существующих вещей не может быть абсолютно лишена блага: позиция, которую Аквинат принимает и отчасти связывает с Августином40. Так как референтом и «бытия», и «блага» выступает сущее, то, по мнению Фомы, будет верным, что любая вещь, обладающая бытием, до некоторой степени обладает благом. Это следствие может быть прямо выведено из центрального тезиса о бытии и благе41, но некоторые из его моральных и богословских импликаций заслуживают быть особо отмеченными. Зло – это всегда некоторый недостаток; у него нет собственной сущности. Не может быть высшего зла, высочайшего источника всех прочих зол, ибо summum malum, то есть зло, напрочь лишенное какого бы то ни было блага, было бы просто ничем42. С другой стороны, так как «бытие» и «благо» различаются по смыслу, Аквинат имеет право утверждать, что вещь, далекая от актуализации ее видообразующей потенциальности, не является благой в абсолютном смысле. Человеческое бытие ущербно, несчастливо или дурно не из-за некоторых позитивных атрибутов, а из-за ущербности бытия, подобающего человеческой природе, в частности, из-за неудачи в актуализации видообразующей человеческой потенции к разумности43. Вообще говоря, вещь нехороша в своем роде в той мере, в какой она не достигает актуализации той потенциальности, которая ассоциируется с ее природой, или не расположена к ней44.
От метаэтики к нормативной этике
Итак, поскольку видовым отличием человека выступает разумность, хороший человек – тот, кто актуализовал свою способность к разумности. Так как для Фомы хороший человек – это человек нравственный, то нормативная этика представляет собой приложение общей метафизики блага к человеческим существам. Моральное благо – это бытие и благо человеческих личностей. Аквинат говорит:
Всякая вещь по природе склонна к действию, подобающему ей согласно ее форме… А так как разумная душа есть собственная форма человека, каждому человеку свойственна природная склонность поступать согласно разуму. Это и означает поступать согласно добродетели45.
В другом месте Аквинат формулирует эту мысль так:
В человеческих поступках благо и зло определяются по отношению к разуму, ибо… для человека благо – быть в согласии с разумом, а зло – быть противным разуму. В самом деле, для всякой вещи благо есть то, что подобает ей согласно ее форме, а зло – то, что противоречит порядку ее формы. Итак, очевидно, что различие блага и зла, если рассматривать его применительно к объекту, определяется по отношению к разуму… Определенные действия называются человеческими, или моральными, именно потому, что они идут от разума46.
И далее:
Зло подразумевает лишенность – не абсолютную, но проистекающую из той или иной потенции. В самом деле, поступок называется дурным в своем виде не потому, что вообще не имеет объекта, а потому, что имеет объект, не соответствующий разуму47.
Итак, для Аквината видообразующая потенциальность человека, а именно способность разумности, помещается в когнитивной и волевой рациональных потенциях – в интеллекте и воле. Актуализация, или усовершение этих потенций производит человеческие добродетели. В соответствии с этой точкой зрения,
Добродетелью называется совершенство некоторой потенции.
Но любое совершенство рассматривается прежде всего в отношении к его конечной цели. Цель потенции – акт; поэтому потенция называется совершенной, когда она определяется к своему акту. Но некоторые потенции сами по себе определены к своим актам например, природные активные потенции… Напротив, разумные потенции, присущие человеку, определены не к одному акту, а неопределенно соотносятся со многими актами, определяются же к акту посредством хабитуса… И поэтому человеческие добродетели суть хабитусы48.
И несколько ниже Фома добавляет:
Всякая вещь получает видовую определенность согласно своей форме… Но форма человека – разумная душа… То, что подобает человеку сообразно разумной душе, свойственно ему по природе, согласно определению формы… Добродетель по природе принадлежит человеку двумя способами как бы в зачатке, согласно природе вида: поскольку разуму человека по природе присуще знание некоторых начал как познания, так и поведения… и поскольку воле по природе присуще некое естественное стремление к благу, сообразному с разумом49.
В другом месте Аквинат формулирует эту мысль следующим образом
У человеческих действий в человеке – всего лишь два начала, а именно, интеллект, или разум, и стремление [или воля], ибо таковы две движущие силы в человеке, как сказано в книге III «О душе». Поэтому любая человеческая добродетель должна у совершать одно из этих начал. Итак, если она усовершает умозрительный или практический интеллект ко благу человеческого акта, то будет интеллектуальной добродетелью, а если усовершает стремящуюся часть, то будет моральной добродетелью50.
Итак, с точки зрения Фомы, операция, которая непосредственно проистекает из субстанциальной формы – подательницы человеческой природы, выполняется в согласии с разумом. Действия такого рода актуализируют видообразующую потенциальность людей: человек, поступающий в соответствии с разумом, актуализирует то, что в противном случае осталось бы чисто потенциальным в природе, которую сообщает субстанциальная форма. Превращая видообразующую потенциальность человека в актуальность, действие деятеля, совершаемое в согласии с разумом, вызывает приращение бытия, которым деятель обладает как человеческим бытием. И таким образом, если принять во внимание связь между бытием и благом, подобные действия вызывают приращение блага как человеческого бытия. Это и есть моральное благо. Стало быть, человеческое, или моральное, благо, подобно любому другому благу, свойственному определенному виду, приобретается в ходе выполнения операции, специфической для данного вида. В случае человеческой природы таковой будет рациональное употребление разумных потенций – интеллекта и воли.
Далее, поскольку все, что актуализирует видообразующую потенциальность вещи, тем самым полностью реализует природу вещи, постольку все благое для вещи естественно для нее, а все, что неестественно для вещи, то для нее дурно51. Фактически, с точки зрения томистской метафизики блага, зло не может быть естественным для чего бы то ни было52. Что касается человеческой природы, то, поскольку она сущностно характеризуется способностью к разумности, иррациональное противно природе человека. Аквинат говорит:
Добродетель всякой вещи состоит в том, то она правильно расположена в соответствии со своей природой… Отсюда необходимо, чтобы в любой вещи пороком называлось то, что делает ее расположенной противоприродным образом… Но следует принять во внимание, что природа любой вещи – это прежде всего форма, согласно которой вещь принимает видовую определенность. Человек принимает видовую определенность от разумной души. И поэтому то, что противно порядку разума, в собственном смысле противоестественно для человека, поскольку он человек; то же, что сообразно разуму, естественно для человека как человека… Поэтому человеческая добродетель, делающая благим человека и его деяния, постольку сообразна природе человека, поскольку согласуется с разумом, а порок постольку противоестествен для человека, поскольку противен порядку разума53.
Наконец, человеческая воля, будучи связана с интеллектом, склоняется к благу не по природе (как склоняется к нему стремление любого другого существа, низшего в сравнении: с человеком в порядке творения), но и «вкупе с осознанием природы блага: условие, составляющее отличительную черту интеллекта»54. Разумные существа «склоняются к благу как таковому в универсальном рассмотрении», а не стремятся по природе к одному частному виду блага55. Соответственно, поступки, способствующие моральному благу человеческого деятеля, будут актами свободной воли, действующей в согласии с разумом56.
Супервентность[15]
С точки зрения Аквината, объект А, взятый в качестве такового, обладает благом (в какой бы то ни было степени) тогда и только тогда, когда видообразующая потенция А актуализована (в той же самой степени). В частности, моральное благо супервентно над разумностью таким образом, что если какой-либо человек морально благ (в какой бы то ни было степени), то этот человек имеет актуализованной свою способность к разумности (в той же самой степени). И наоборот, если какому-либо человеку свойственна разумность (в какой бы то ни было степени), то он морально благ (в той же самой степени). Следовательно, один из способов понять позицию Фомы заключается в том, чтобы увидеть в ней одну из разновидностей теории супервентности57. Благо супервентно над естественным свойством – актуализацией видообразующей потенцильности; моральное благо супервентно над актуализацией разумности, которая составляет видообразующую потенциальность человека.
Отношение, которое усматривает Фома между благом и природными свойствами, имеет сложный характер, и легче всего будет показать его с помощью аналогии. Так, хрупкость супервентна над некоторыми природными свойствами, не сводясь ни к одному из них58. Вещь х хрупка в силу ее химического состава А, вещь у – в силу химического состава В, и вещь z – в силу химического состава С. Хрупкость не может быть ни редуцирована к химическому составу А, В или С, ни отождествлена с одним из них, но супервентна над каждым из них. Возможно, что для вещей X, у и z общим свойством будет слабость химических связей в ключевых точках, но эти слабые связи применительно к А, В и С будут химически абсолютно разными. В этом случае можно сказать, что характеристики хрупкости и слабости химических связей коэкстенсивны и хрупкость супервентна над природными свойствами, но тем не менее мы вынуждены отрицать, что хрупкость тождественна какому бы то ни было из этих свойств.
Отношение между хрупкостью и прочими свойствами в этом анализе подобны отношению между благом и природными свойствами в томистской метафизике блага. Благость вещи и актуализация ее видообразующей потенциальности коэкстенсивны. Но вообще-то благо не следует отождествлять с конкретными природными свойствами, потому что природное свойство, то есть актуализация видообразующей потенциальности, варьируется от вида к виду. То же самое наблюдение верно и применительно к бытию: характеристика, необходимая для того, чтобы быть полностью актуализованным членом вида х, отлична от характеристики, необходимой для того, чтобы быть полностью актуализованным членом вида у. Степень актуализации видообразующей потенциальности для х равна степени бытия в качестве х, и таковой же будет степень благости х именно как х; но видообразующая потенциальность х отлична от видообразующей потенциальности у. Таким образом, бытие и благо коррелируют друг с другом, но ни то, ни другое нельзя отождествлять с какой-либо отдельной природной характеристикой, по отношению к которой они супервентны.
Но не является ли моральное благо, в частности, тождественным природной характеристике актуализованной разумности? Для Фомы это сложный вопрос, потому что, на первый взгляд, Фома признает и другие виды вещей – например, ангелов, – которые, по видимости, разумны59 и к которым приложима нравственная похвала или порицание. Коль скоро человеческие существа суть разумные животные, человеческое моральное благо коэкстенсивно с актуализованной разумностью. Но видообразующая потенциальность специфична для каждого вида; поэтому, сколь бы точно ни определять видообразующую потенциальность ангела, ею не будет разумность. Тем не менее некоторая разновидность морального блага (или зла) характерна для любых существ, природа которых подразумевает свободу выбора, являются они людьми или нет. Стало быть, даже моральное благо не обязательно коэкстенсивно с актуализацией разумности – этой видообразующей потенциальности человека. Для любого х благо, взятое в качестве х, состоит в актуализации видообразущей потенциальности этого х; но не существует такой природной характеристики, с которой благо – или даже моральное благо – могло бы отождествиться (где тождество свойств подразумевало бы, как минимум, требование коэкстенсивности).
Возражения против центрального метаэтического тезиса
Представив этот центральный метаэтический тезис Аквината на метафизическом фоне, мы можем рассмотреть некоторые, несомненно, возникающие возражения. Первые два возражения были фактически сформулированы и опровергнуты самим Фомой.
Возражение 1: быть и быть благой, очевидно, для вещи не одно и то же: многие из вещей, обладающих бытием, не являются благими. Следовательно, бытие и благо явно не коэкстенсивны. Но если термины тождественны с точки зрения референции, как это утверждает Аквинат, то бытие и благость должны быть коэкстенсивны60.
Первое возражение спекулирует на, казалось бы, противоречащем очевидности характере вывода из центрального тезиса, а именно: все является благим в той мере, в какой пребывает в бытии. Как было показано выше, Фома признает этот вывод. Но его нельзя свести к абсурду тем простым замечанием, что дурные вещи существуют. Это верно, что, согласно центральному тезису, вещь в определенном отношении и в определенной степени обладает благом просто в силу того факта, что обладает субстанциальной формой, а значит, существует как вещь определенного вида. Но смысл «блага» вовсе не исчерпывается обладанием некоторой субстанциальной формой: он подразумевает, в частности, актуализацию видообразующей потенциальности природы, которую сообщает эта форма. Лишь в той степени, в какой вещь актуализовала эту потенциальность, будет верным безоговорочно утверждать, что вещь является благой. Например, назвать Гитлера хорошим (не уточняя, в каком частном отношении он был хорош: – например, в искусстве демагогии) означает утверждать, что он был: хорош как человек или как моральный: деятель. Но это окажется ложным, если, следуя путями практической морали Аквината, показать, в чем именно Гитлер не сумел актуализовать способность к разумности61.
Возражение 2: Благо допускает разные степени, но бытие либо есть, либо нет. Скала, стол или собака не могут «быть» лишь слегка; ни одна собака не «есть» больше, чем другая собака. С другой стороны, вещи явно могут быть более или менее благими, одна вещь может быть лучше или хуже, чем другая вещь того же вида. Стало быть, «благость» и «бытие» не могут иметь один и тот же референт62.
Возможно, будет верным сказать о существовании, что оно есть все или ничего, а для Аквината стандартный смысл слова «бытие» – это просто существование. Но любой конкретный пример существования – это существование в качестве того или другого, а существование в качестве того или другого, как правило, допускает различие степеней. Вещь может быть более или менее развернутым актуализованным представителем своего вида; она может актуализировать свою видообразующую потенциальность в большей или меньшей степени. Но стандартный смысл «благости» связан с этой актуализацией видообразующей потенциальности. И потому отнюдь не ясно, является ли бытие, как правило, всем или ничем. С точки зрения Фомы, в бытии есть нечто большее, чем просто существование: актуализация видообразующей потенциальности – тоже своего рода бытие. Далее, в отличие от просто существования в качестве вещи определенного вида, актуализация видообразующей потенциальности может принимать разные степени, так что бытие вещи, видообразующая потенциальность которой заключается в том, чтобы быть акту ализованной, способно принимать разные степени. Следовательно, хотя термины «бытие» и «благо», по мнению Фомы, оба относятся к бытию, их смыслы различны, и потому может быть истинным, что бытием обладают и те вещи, которые не являются благими.
Возражение 3: Согласно центральному метаэтическому тезису Аквината, чем больше бытия, тем больше блага. Теперь возьмем библейский рассказ об Артаксерксе, имевшем очень много жен и наложниц. Если Артаксеркс был отцом, например, ста пятидесяти сыновей, он был частично ответствен за существование ста пятидесяти людей, а значит, за благо, супервентное над бытием, то есть над их существованием. Но в этом случае безудержное порождение потомства само по себе и очевидно означало бы умножение блага, ибо умножение человеческих существ есть умножение бытия, а значит, и блага. Однако мы интуитивно чувствуем, что такой вывод абсурден.
В томистском понимании «блага», факт порождения людей другими людьми сам по себе еще не порождает никакого блага. По мнению Фомы, смысл «блага» состоит в актуализации видообразующей потенциальности вещи; стало быть, человек производит благо в той степени, в какой он актуализирует свою собственную или чужую видообразующую потенциальность. Само по себе деторождение вовсе не означает такой актуализации63. Наоборот, отец, породивший слишком много детей, как в приведенном выше примере, вероятно, способствует умалению блага. Он был бы не способен как родитель сильно повлиять на жизнь своих детей или должным образом заботиться о них просто потому, что их было бы слишком много. Поэтому, по меньшей мере, вероятным следствием безудержного деторождения стало бы увеличение числа людей, чьи шансы актуализировать свою видообразующую потенциальность были бы меньше, чем если бы отец не имел так много жен и такого многочисленного потомства.
Но возражение 3 труднее предыдущих именно потому, что благо, по мнению Фомы, все-таки супервентно над бытием. Соответственно, всякий раз, когда вещь обладает каким бы то ни было бытием, она также в некотором отношении и до некоторой степени обладает благом, и потому дело все еще выглядит так, словно возражение, пытающееся навязать Фоме абсурдный вывод, бьет в цель. Но ни Фома, ни мы не посчитали бы Артаксеркса образцом нравственности или даже достойным морального одобрения лишь за то, что он был отцом такого множества детей. Здесь может оказаться полезным обращение к возражению 1. Малой порции блага, с необходимостью супервентной даже над простым существованием вещи, недостаточно, чтобы считать эту вещь благой. Фактически, если вещь слишком далеко отходит от полной актуализации своей видообразующей потенциальности, она дурна (или зла) как вещь своего вида, даже если в ней имеется некое благо. Поэтому в той мере, в какой Артаксеркс не был способен выполнить то, что должен был выполнить, дабы помочь своим детям стать полноценными людьми, его безудержное деторождение не может считаться умножением блага; а в той мере, в какой оно умалило бы заботу о столь многочисленном потомстве или воспрепятствовало бы ей, его можно считать умножением зла.
Возражение 4: Согласно Аквинату, утрата бытия есть утрата блага: зло – это лишенность блага, то есть лишенность бытия. В этом случае принимать пенициллин, чтобы вылечить больное горло, означало бы совершать дурной поступок: ведь его следствием стало бы уничтожение бесчисленного множества бактерий. Но такой вывод абсурден.
Возражение 4 приобретает особую силу оттого, что вынуждает сторонника томистской позиции принимать на себя задачу ранжирования природных видов. Задача эта может казаться вполне адекватной, но она невозможна для того, кто понимает благо как супервентное над самим бытием. В рассказе Джека Лондона «Костер» либо человек спасет свою жизнь, убив свою собаку, либо собака останется жить, но человек умрет. Так как в обоих случаях одна жизнь будет потеряна, может показаться, что теория Фомы безразлична к тому, какое из этих существ останется в живых. Но коллективная моральная интуиция побуждает считать намного более предпочтительным тот вариант, при котором умирает собака и выживает человек.
Теория Фомы отнюдь не противоречит этой интуиции, но способна ее объяснить и поддержать. Его метафизика предоставляет то систематическое основание, на котором можно провести ранжирование природных видов: это древо Порфирия, стандартный инструмент средневековой метафизики, унаследованный от эллинистической философии. Порфириево древо начинается с одной аристотелевской категории (в стандартном средневековом примере это категория субстанции) и от этого наиболее общего рода разрастается к его видам через последовательность дихотомических членений – видовых отличий (в теории таким способом могут быть обнаружены все возможные виды этого рода). Дихотомии постепенно производят виды все более низкого уровня через приложение пары дополнительных отличий к менее низким видам или к промежуточным родам, уже присутствующим в древе. Таким образом, например, субстанция порождает телесную субстанцию и бестелесную субстанцию, давая начало древу. В свою очередь, телесные субстанции: могут быть разделены: на способные и неспособные к росту, репродукции и прочим жизненным процессам; далее, способные к жизненным процессам телесные субстанции разделяются на способные и неспособные к восприятию – грубо говоря, на животных и растения. Наконец, живые телесные субстанции, способные к восприятию, можно разделить на способные и неспособные обладать разумом с одной стороны, это человеческие существа, с другой – все прочие животные. Итак, в этой схеме люди: представляют собой телесные субстанции:, способные к осуществлению жизненных процессов, к восприятию и к разуму.
Так как каждая дихотомия порфириева древа порождается приложением дополнительного отличия и так как (если оставить в стороне сложный случай первой дихотомии) все прилагаемые отличия подразумевают некие способности, один из видов (или родов) в каждой паре, следующей: за самой первой, характеризуется наличием способности, которая отсутствует у другого члена пары. Но, согласно воззрениям Фомы на бытие и актуальность, возрастание способности, или потенциальности, порождает возрастание в бытии; а так как благо супервентно над бытием, то вид или род, который имеет больше способностей того типа, который выявляется в данном отличии, будет в потенции обладать большим благом, чем другой. Следовательно, при прочих равных условиях, благость человеческой жизни выше, чем благость жизни: собаки, именно по причине разумности как приращения: потенциальности64.
Нам нет нужды: признавать универсальную применимость порфириева древа, чтобы увидеть, что у Аквината оно действительно служит методом ранжирования хотя бы некоторых соотносимых друг с другом природных видов и что этот метод вполне согласуется с центральным томистским тезисом. Более того, этот метод дает результаты, которые объясняют и поддерживают интуитивную реакцию на рассказ Джека Лондона: при прочих равных условиях, мы ценим человеческое существо выше, чем собаку (или чем колонию бактерий), потому что в человеке присутствует нечто большее, чем в собаке (или в колонии бактерий). Наконец, хотя Аквинат подчиняет все прочие виды животных человеческому виду, эту черту его теории нельзя понимать как оправдание немотивированной жестокости по отношению к животным или их бессмысленного уничтожения. Из центрального метаэтического тезиса проистекает и то следствие, что любое уничтожение бытия prima facie [16] всегда есть в некотором отношении и до некоторой степени зло. Разумно предпочесть его можно лишь в том случае, если уничтожение некоторого бытия будет меньшим злом, чем единственная доступная альтернатива. Но если здесь нет большего блага, то есть некоторого приращения бытия, то деятель, выбирающий уничтожение бытия, выбирает противоразумно.
Разумность и кардинальные добродетели
Итак, для Фомы моральное благо есть разновидность блага, достижимого для человека – существа разумного. С точки зрения Фомы, человек благ в той мере, в какой он актуализирует свою разумность, свою видообразующую потенциальность. Моральная добродетель есть хабитус воли, располагающий волю к тому, чтобы совершать выбор в согласии с разумом65. Конкретная природа добродетели, однако, зависит от отношения между разумом и расположением воли. Фома говорит:
Формальный принцип добродетели… есть благо, принятое разумом. Его можно рассматривать двояко. С одной стороны, сообразно тому, что заключено в самом акте (consideratio) разума; и таким образом будет установлена одна главная добродетель, именуемая благоразумием. С другой стороны, сообразно тому, что полагается порядком разума в отношении чего-либо: либо в отношении операций, и тогда это будет добродетель справедливости; либо в отношении страстей, и тогда это с необходимостью будут две добродетели. В самом деле, в отношении страстей необходимо утвердить порядок разума, принимая во внимание то, что страсти противятся разуму. Это может происходить двояко. Одним способом, когда страсть побуждает к чему-либо противному разуму, и тогда необходимо, чтобы страсть подавлялась; отсюда добродетель именуется умеренностью. Другим способом страсть противится разуму, когда удерживает от того, что диктует разум например, удерживает страх перед опасностями или трудами; и тогда необходимо, чтобы человек укреплялся в том, что предписывает разум, дабы не отступить. Отсюда добродетель именуется мужеством66.
Из других текстов67 становится более ясным, что, с точки зрения Фомы, благоразумие связывает моральные добродетели с интеллектуальными. Фома понимает благоразумие как хабитус искусного отбора средств, ведущих к достижению целей; таким образом, благоразумие соотносится с направляющими актами. Например, Фома заявляет:
Благоразумие есть добродетель, в высшей степени необходимая для человеческой жизни. В самом деле, хорошо жить означает хорошо действовать. Но для того, чтобы некто хорошо действовал, важно не только то, что он делает, но и то, как делает; иначе говоря, важно, чтобы он действовал в согласии с правильным выбором, а не просто под влиянием порыва или страсти. Но так как выбор совершается в отношении того, что направлено к цели, правильный выбор подразумевает две вещи, а именно: надлежащую цель и то, что должным образом ведет к надлежащей цели68.
Что касается кардинальных добродетелей, относящихся к контролю над страстями, то если речь идет о таких страстях, которые следует контролировать, чтобы удержать их от сопротивления разуму, соответствующим хабитусом будет умеренность; если же речь идет о страстях, которые следует контролировать, чтобы удержать их от препятствования действию, диктуемому разумом, то соответствующим хабитусом будет мужество69. Наконец, если в осуществлении разумности на кон поставлено не самообладание деятеля, а его действия, затрагивающие других людей, то соответствующим хабитусом будет справедливость70.
Итак, в отличие от интеллектуальных добродетелей, представляющих собой хабитусы в интеллекте, моральные добродетели – это хабитусы в способности стремления или воле. С точки зрения Аквината,
Любой акт добродетели может совершаться в силу выбора, но правильный выбор совершает только та добродетель, которая заключается в стремящейся части души, ибо… выбор есть акт стремящейся части. Поэтому хабитусом выбора, который служит началом выбора, является лишь тот хабитус, который усовершает стремящуюся часть71.
Оценка поступков
Так как добродетели и пороки, образующие центральную структуру томистской этической теории, мыслятся как хабитуальные склонности, или расположения, к совершению актов определенного рода, будет полезным также коротко взглянуть на проводимый Аквинатом анализ и оценку человеческих поступков72.
Человеческий поступок в узком смысле – это действие, в котором деятель-человек применяет свои специфически человеческие разумные способности – интеллект и волю73. Соответственно, безотчетные действия не будут человеческими поступками, даже если они представляют собой «действия, которые ассоциируются с человеческим существом»74. Будучи понят таким образом, любой человеческий поступок имеет объект, цель и определенные обстоятельства, в которых он совершается.
Объект поступка, в понимании Аквината, есть, по существу, то состояние дел, которое деятель стремится установить в качестве прямого результата своего действия75. Мы могли бы охарактеризовать объект как непосредственную цель, или намерение поступка. Например, когда в библейском повествовании Эсфирь является незваной во дворец Артаксеркса, объектом ее поступка является аудиенция у царя. В терминах схоластики Аквинат говорит об этом так:
Любой акт получает видовую определенность от своего объекта… Поэтому необходимо, чтобы некое различие объектов порождало видовое различие актов… Но ничто акцидентальное не образует вида, его образует только сущее через себя (per se)76.
И чуть ниже, в том же параграфе, он приводит пример из области секса: «супружеский акт и акт прелюбодеяния различны по виду в их отношении к разуму»77.
Итак, в анализе Фомы объект поступка отличен от цели78. Как в одном месте говорит сам Фома,
Акт, единый с точки зрения природного вида, может подчиняться разным целям, установленным волей. Например, акт человекоубийства, единый с точки зрения природного вида, может подчиняться как цели соблюдения справедливости, так и цели утоления гнева79.
Здесь нет возможности представить должным образом сложную томистскую концепцию различия между объектом поступка и его целью. Но можно было бы в качестве временного шага помыслить цель действия как мотив, побудивший деятеля совершить данный поступок80. Так, цель прихода Эсфирь во дворец заключается в том, чтобы убедить Артаксеркса отменить указ об истреблении всех иудеев в его царстве. В такой перспективе объектом действия выступает то, что деятель намеревается совершить в качестве прямого результата своего действия, а цель действия – то, почему он намеревается это совершить. (Чуть ниже мы рассмотрим мотивы, побуждающие слегка скорректировать эту интерпретацию).
С этой точки зрения, при определении видовой принадлежности поступка, то есть того, что, по существу, представляет собой данный поступок, следует учитывать его цель и объект81. Если принять во внимание эту позицию, а также центральный метаэтический тезис Фомы о бытии и благе, то нет ничего удивительного в том, что, по мнению Фомы, благой или дурной характер поступка зависит от согласия как с его объектом, так и с его целью. Если наблюдаемое состояние дел, на которое нацелен поступок и которое мотивирует деятеля, будет благим, то и поступок будет благим; если же объект или цель поступка дурны, то и поступок будет дурным.
Этот анализ благого характера поступков кажется игнорирующим тот факт, что некоторые виды поступков могут быть морально нейтральными. Объект бросания подков в игре состоит в том, чтобы набросить их на столб: состояние дел, которое явно выглядит нейтральным по отношению к благу или злу. Допустим, что в конкретном случае цель этого действия – развлечь больного ребенка, и примем эту цель за морально благую. Тогда, видимо, сам поступок – бросание подков с целью развлечь больного ребенка – не будет оценен Фомой как благой: ведь хотя его цель блага, его объект всего лишь нейтрален, а значит, не благ.
Эту парадоксальную оценку можно опровергнуть, если принять во внимание томистское понятие обстоятельств действия: когда он было совершено? где? кем? как? и т. д.82 Обстоятельства действия, очевидно, не являются существенными чертами типа действия, но их можно назвать индивидуирующими характеристиками, потому что любой тип действия, взятый в широком смысле, индивидуируется, или опознается, в качестве индивидуального действия благодаря учету обстоятельств его осуществления. Например, поступок Эсфири индивидуируется в том числе обстоятельствами его совершения. Она приходит незваной ко двору царя, хотя Артаксеркс повелел казнить всякого, кто явится во дворец, не будучи призван царем, если только вторженец «не обретет милость у царя». Далее, так как прошел уже месяц с того дня, когда царь в последний раз посылал за ней, Эсфирь имела все основания считать, что она в немилости у царя. Наконец, она приходит в тот момент, когда Артаксеркс повелел истребить всех иудеев в его царстве, и намерение Эсфирь состоит в том, чтобы заступиться за свой народ. Именно на основании этих обстоятельств поступок Эсфири, кажущийся нейтральным в своем типе – ее приход незваной к царю, – индивидуируется в качестве акта мужества и альтруизма83.
Насколько важно принимать во внимание обстоятельства в томистской оценке поступков, можно понять из того факта, что, по его мнению, любой поступок, получающий индивидуальную определенность от обстоятельств, становится либо хорошим, либо дурным, даже если сам тип поступка, взятый в широком смысле, может быть морально нейтральным. (Образцы нейтральных типов действий у Фомы – подобрать соломинку с земли или отправиться на прогулку84).
Не все характеристики действия принадлежат к обстоятельствам его совершения. Например, поступок Эсфири обладает теми свойствами, что он способствовал смерти Амана и был упомянут в одной из книг Библии. Но, согласно теории Аквината, ни: одно из этих свойств не могло и не должно было сказаться на оценке поступка Эсфири. По его словам, обстоятельствами совершения действия будут только те его свойства, которые per se [сами по себе] связаны с оценкой действия; все прочие свойства связаны с ней только per accidens [привходящим образом, акцидентально]85.
Проводя это различение, Фома, видимо, имеет в виду, что обстоятельства конкретного поступка Эсфири: – поступка, который: в нашем примере подлежит оценке, – акцидентальны по отношению к типу осуществляемого ею действия (приход незваной к царю), но отнюдь не акцидентальны для этого конкретного действия, совершаемого в данном конкретном случае. Более того, то, что нам известно об обстоятельствах этого конкретного поступка Эсфири, существенно влияет на наше понимание его объекта и цели. В свете этого знания мы можем склониться к пересмотру изначально широкого суждения и сказать, что в более узком смысле объектом поступка Эсфири была опасная и трудная аудиенция у царя, а его целью была решительная и самоотверженная попытка заставить царя отозвать свой указ.
Обстоятельства совершения действия можно назвать его внутренними акциденциями, а все прочие – внешними акциденциями. Внутренние акциденции поступка Эсфири проясняют и уточняют наше понимание того, что она делает, за что она ответственна; его внешние акциденции, такие, как упоминание о нем в одной из библейских книг очевидно ничего не добавляют к такому пониманию. Даже тот внешне акцидентальный факт, что поступок Эсфири имеет некоторую причинную связь со смертью Амана, никоим образом не составляет характеристики того, что она делает: ее поступок и его смерть связаны между собой непредвиденной и отчасти случайной цепью событий, за которую она не может нести ответственность.
Итак, оценка поступков у Аквината всецело базируется на расмотрении того, что представляют собой эти поступки, а не на рассмотрении их внешних акциденций:. Таким образом, эта оценка естественным образом вырастает из центрального метаэтического тезиса Фомы. Объект и цель определяют тип действия, а значит, в широком смысле, и его бытие. Обстоятельства совершения определяют бытие того индивидуального действия, которое осуществляется в реальности, и тем самым проясняют и уточняют наше понимание объекта и цели этого конкретного действия. Следовательно, индивидуальный (реально выполненный) поступок будет хорошим, только если хорошими будут его объект и его цель, характеризуемые обстоятельствами; в противном случае конкретный поступок будет дурным. В свою очередь благость объекта или цели действия зависит от того, будет ли благим (с точки зрения центрального метаэтического тезиса) наблюдаемое состояние дел, которое мотивирует деятеля или к которому он стремится. Так, цель поступка Эсфири – убедить царя отказаться от намерения истребить всех иудеев царства. Но указ царя, по мнению Аквината, был неразумен, потому что привел: бы к большим потерям бытия, а значит, и блага в отсутствие какого-либо более значительного блага, способного оправдать эту утрату. Напротив, при равенстве всех прочих условий способствовать отмене неразумного указа было разумным, а значит, морально благим поступком86. (Аналогичным образом можно рассуждать и об объекте поступка Эсфири).
Проблемы приложения тезиса
В истории: Эсфири ее попытка спасти свой народ включает в себя осознанный смертельный риск: как она сама говорит в библейском повествовании, «если погибнуть – погибну». Каким образом оценка ее поступка в терминах его объекта и цели затрагивается этим обстоятельством его совершения, если вообще затрагивается? Вполне ожидаемо, что Фома нашел бы эту сторону ее поступка достойным хвалы. Говоря о мужестве, Фома превозносит деяния, в которых человек рискует жизнью ради общего блага, и приводит их в качестве главного примера этой добродетели87. Но предположим (изменив библейское повествование об Эсфири), что Эсфирь спасла бы свой народ, а сама погибла. Будет ли ее поступок и в этом случае оценен в теории: Аквината как благой?
Если центральный метаэтический тезис Фомы применить к этому вопросу бесхитростно, ответ будет подчеркнуто положительным. Конечно, поступок Эсфири будет благим, даже если он стоил ей жизни: она спасла бы тысячи жизней ценой одной. В прибыли – значительное приращение бытия, а значит, и блага.
Но хотя положительный ответ кажется правильным, его обоснование выглядит отталкивающе. Если бы этот прямолинейный бухгалтерский подход и был тем, чем требует тезис Фомы о бытии и благе, то этот тезис привел бы: к результатам, находящимся в вопиющем противоречии с остальной частью томистского морального учения, а также противным моральной интуиции, разделяемой большинством людей: и тогда, и сейчас. Что дело обстоит именно так, можно показать, рассмотрев приложения прямолинейного подхода к трем более сложным случаям, нежели пересмотренная версия истории Эсфирь. Первый: случай – вариант одного из примеров, предложенных самим Фомой.
Дело о небесах. Джонсон – убийца, а Вильямс – его безвинная жертва. Но когда Вильямс был убит Джонсоном, он находился (неведомо для Джонсона) в состоянии благодати и потому отправился на небеса. Конечная цель существования человека – единение с Богом на небесах, и потому, посодействовав Вильямсу в достижении этой конечной цели, Джонсон вызвал приращение бытия (а следовательно, и блага). Итак, в действительности убийство Вильямса Джонсоном было морально благим.
Аквинат рассматривает свою версию дела о небесах как возражение на собственный тезис, гласящий, что убийство безвинного человека никогда не может быть морально оправданным. В основной части параграфа, где Фома отстаивает этот тезис, прежде чем перейти к возражению, говорится:
Если рассматривать человека как такового, не позволено убивать никого, ибо во всяком, даже в грешнике, мы должны любить сотворенную Богом природу, испорченную убийством. Но… убийство грешника становится позволительным в отношении к общему благу, порушенному грехом… Жизнь же праведных сохраняет общее благо и способствует его возрастанию… И потому никоим образом не позволительно убивать невинного88.
Одно возражение на эту позицию, рассматриваемое Аквинатом, составляет аргумент a fortiori[17]. Возражение гласит: если иногда позволительно убивать грешника, то тем более позволительно иногда убивать невинного: ведь невинный не претерпевает никакой несправедливости, коль скоро после смерти он возносится прямо на небеса89. В ответе на это возражение Фома утверждает, что факт вознесения Вильямса на небо и сопряженное с ним благо, якобы оправдывающее убийство Вильямса Джонсоном, есть такая характеристика поступка Джонсона, которая связана с ним лишь per ас-cidens[18]. Иначе говоря, тот факт, что Вильямс отправился на небеса, будет всего лишь внешней акциденцией поступка Джонсона.
Здесь, видимо, Фома рассуждает так: причиной того, что Вильямс отправился на небеса, является духовный статус Вильямса, а не поступок Джонсона. То, что Вильямс находился в данном статусе в момент убийства, – всего лишь внешняя акциденция поступка Джонсона. Коль скоро, в теории Фомы, действие надлежит оценивать по тому, каково оно в своем существе, а не по одной из его внешних акциденций, поступок Джонсона не следует оценивать, исходя из того факта, что Вильямс оказался на небесах. А существо поступка Джонсона, насколько можно понять из данной истории, есть не что иное, как убийство безвинного человека, которое, в теории Фомы, никоим образом не может быть оправдано.
Трактовка дела о небесах у Фомы выглядит в общем верной, но вывод, согласно которому попадание Вильямса на небеса есть не более, чем внешняя акциденция поступка Джонсона, по-видимому, зависит от того факта, что Джонсон не знал (и, возможно, не мог знать) о благодатном состоянии Вильямса. Если бы Джонсон знал, что, убивая Вильямса, он отправляет его на небеса, было бы, по меньшей мере, более трудной задачей отрицать, что достижение этого результата не составляло конечной цели поступка Джонсона, а значит, отчасти и самого существа этого поступка. Чтобы понять, каким образом теория Аквината избегает прямолинейной поддержки простого умножения бытия, мы должны рассмотреть некоторые примеры, которые в релевантных чертах подобны делу о небесах, но не заключают в себе этого элемента неведения со стороны деятеля.
Дело о заложниках. Безумец захватывает в заложники пять человек и угрожает убить их всех, если Браун не убьет Робинсона – невинного свидетеля. Браун решает, что убийство Робинсона морально оправдано в силу приращения бытия (а значит, и блага) вследствие того, что смерть Робинсона спасет жизни пятерых заложников.
В деле о заложниках объектом действия Брауна является смерть Робинсона, а его видимая цель состоит в спасении пяти жизней. Здесь очевидно нельзя применить тот способ, каким Аквинат устранял абсурдное моральное суждение в деле о небесах. Благо, по видимости, оправдывающее поступок Брауна, действительно составляет его цель, а потому должно быть принято во внимание при оценке поступка. Обращаясь к тому, как Фома подошел бы к делу о заложнике, нам будет полезно пристальнее вглядеться в томистскую концепцию конечной цели действия.
Если, по мнению Фомы, действия надлежит оценивать по их существу, а не по внешним акциденциям, и если, опять-таки по мнению Фомы, действия надлежит оценивать по их конечным целям, то состояние дел, искомое в качестве цели действия, должно быть в некотором смысле внутренним для самого действия. Отсюда кажется очевидным, что понятие мотива, в некоторых отношениях близкое томистскому понятию конечной цели, не вполне ему равнозначно. В концепции Фомы состояние дел считается конечной целью действия тогда и только тогда, когда деятель действует ради утверждения этого состояния дел и фактически может утвердить его совершением своего действия. Вот почему Фома говорит, например, что «цель человеческих актов заключается в их завершении, ибо то, в чем завершается человеческий акт, есть то, на что воля [деятеля] направлена как на конечную цель»90.
И далее: «Конечная цель [акта] не есть нечто абсолютно внешнее акту, ибо цель связана с актом как его начало или завершение»91.
В деле о заложниках благо, якобы оправдывающее убийство невинного Робинсона Брауном, заключается в спасении пяти жизней. Но это благо не может быть целью поступка Брауна, потому что оно не является тем состоянием дел, которое может быть утверждено убийством Робинсона. Выживание заложников зависит не от действия Брауна, а от действия безумца, который, разумеется, может убить их даже после того, как Браун выполнит его требование. Следовательно, выживание заложников не есть то состояние дел, которое сам Браун способен установить, убив Робинсона. Даже после введения более точного понятия конечной цели действия дело о заложниках все еще подобно делу о небесах. Оказывается, что в обоих случаях благо, якобы оправдывающее убийство невинного человека, составляет не внутреннюю часть оцениваемого действия, а лишь его внешнюю акциденцию, и поэтому его не следует принимать во внимание при оценке действия. Если в деле о заложниках оценивать поступок Брауна именно так, то его можно оценить лишь как преднамеренное убийство невинного человека. А поскольку такое состояние дел, безусловно, дурно, сам поступок является дурным.
Но даже если попытка защитить томистскую оценку действия оказалась успешной в деле о заложниках, она кажется обреченной на неудачу, если изменить форму контрпримера в одном сущностно важном моменте.
Дело о больнице. Пять пациентов больницы ожидают доноров, которые должны быть найдены, чтобы стало возможным провести операции по трансплантации органов. Один из пациентов нуждается в пересадке сердца, другой – печени, третий – легких, а четвертый и пятый – почек. Каждый из пяти пациентов сможет вернуться к нормальной жизни, но тогда и только тогда, когда будет найден донорский орган. Без операции по трансплантации каждый из них вскоре умрет. Джонс, искусный хирург-трансплантолог, ведущий этих пациентов, решает, что убийство Смита – здорового невинного человека – морально оправдано в силу приращения бытия (а значит, и блага), которое станет следствием использования органов Смита для спасения пятерых смертельно больных пациентов92.
Целью поступка Джонса, даже при самой строгой интерпретации понятия цели, является спасение пяти жизней. В деле о больнице, в отличие от дела о заложниках, не требуется вмешательства третьего лица, чтобы установить то состояние дел, которое хочет установить Джонс, ибо он и есть тот специалист, который ведет пациентов. И если спасение их жизней может считаться в данном случае целью поступка Джонса, оно должно быть принято во внимание при его оценке. Поэтому тактика, показавшая себя эффективной при защите томистской оценки действия в деле о заложниках, в деле о больнице не сработает.
Но оценка поступков у Фомы требует принимать во внимание как объект действия, так и его цель. Поскольку объект и цель совместно делают действие тем, что оно есть, и поскольку благость чего-либо есть функция его бытия, то, чтобы действие было благим, благими должны быть и его объект, и его цель. Между тем поступок Джонса в деле о больнице имеет своим объектом смерть невинного Смита и забор его органов, что, с точки зрения Аквината, безусловно является моральным злом. По собственным словам Фомы, «никогда не позволено убивать безвинного человека»93. Но в деле о больнице принесение в жертву одного, дабы спасти многих, формально предстает как вариант истории Эсфирь. Чтобы оценить дело о больнице с позиций Аквината и понять, применима ли эта оценка также к мужественному акту альтруизма со стороны Эсфирь, мы должны коротко рассмотреть томистскую концепцию справедливости.
Справедливость и ее место в схеме добродетелей
В отличие от других кардинальных добродетелей – благоразумия, умеренности и мужества, – справедливость есть такая добродетель, которая в томистской схеме добродетелей определяет отношения человека с другими людьми в обществе и с самим обществом. По мнению Аквината, общество обладает собственным бытием. Одни вещи способствуют бытию общества, другие – его распаду. Именно этим определяется, например, позиция Фомы в отношении смертной казни. Фома говорит:
Всякая часть подчиняется целому, как несовершенное совершенному. И поэтому всякая часть по природе существует ради целого. И поэтому мы видим, что если здоровью всего человеческого тела способствует отсечение какого-либо члена – если он, например, гниет и разрушает прочие члены, – то будет похвальным и здоровым его отсечь. Но всякий отдельный человек относится ко всему обществу, как часть к целому И потому, если некий человек представляет угрозу для общества и разрушает его неким грехом, будет похвальным и здоровым убить его ради сохранения общего блага94.
Готовность, с какой Фома, в частности, принимает смертную казнь и, в общем виде, отдает предпочтение государству перед индивидом, способна ужаснуть многих читателей95. Ниже, в главе о справедливости, я буду анализировать в деталях сомнения относительно политической теории Аквината. Здесь же томистское понимание справедливости рассматривается лишь настолько, чтобы понять, каковы ресурсы этической теории Фомы при разборе видимых контрпримеров, наподобие дела о больнице.
В соответствии с метаэтикой Аквината, вещи, способствующие бытию общества, составляют часть общественного блага, а добродетель справедливости в членах общества в целом направлена на утверждение и сохранение этого общего блага. Следуя здесь за Аристотелем, Аквинат различает дистрибутивную и коммутативную справедливость96. Дистрибутивная справедливость есть разумная регуляция распределения общих мирских благ, и в этом смысле она имеет целью разумное отношение между обществом в целом и его индивидуальными членами97. Коммутативная справедливость, напротив, есть разумная регуляция отношения между индивидами или подгруппами внутри общества. В теории Фомы основой коммутативной: справедливости выступает та точка зрения, что человеческие существа, взятые в качестве личностей, равны. Стало быть, для них является разумным как для личностей относиться друг к другу как к равным, и неразумным – относиться друг к другу, как к неравным98.
Продавец и покупатель подержанных машин, если рассматривать именно как личностей, равны. Если продавец обманывает покупателя относительно дефектов машины и таким образом жульнически заставляет его платить завышенную цену, то в этом конкретном случае продавец извлекает гораздо большую выгоду из сделки, чем покупатель. Но, с точки зрения Фомы, это противно разуму, потому что продавец и покупатель равны во всех релевантных аспектах.
Неравенство в торговом обмене есть жульничество; таким образом, жульничество является моральным злом, ибо идет вразрез с принципами коммутативной справедливости".
Итак, согласно Аквинату, всякий раз, когда один человек нечто берет у другого, это действие будет справедливым, только если: оно разумно. Необходимое (но не достаточное) условие разумности состоит в равенстве торгового обмена, причем «торговый обмен» во многих случаях понимается весьма расширительно. Например, клеветник отнимает у жертвы репутацию, ничего не давая взамен; следовательно, клевета есть несправедливость100. Убийство – особенно вопиющая несправедливость101, ибо, лишив жертву жизни, этого величайшего блага, с точки зрения Фомы, убийца не только не дает никакой компенсации, но и делает жертву неспособной к получению какой-либо компенсации:102.
В деле о больнице объект поступка Джонса характеризуется именно таким родом несправедливости. Отнять у Смита жизнь и забрать жизненно важные органы: означало бы принести: существенную пользу пяти пациентам, но нанести величайший вред Смиту, причем такой вред, возместить который компенсирующим благом нельзя. Убийство Смита со стороны: Джонса будет, таким образом, несправедливостью по отношению к Смиту; и эта несправедливость служит достаточным основанием для того, чтобы оценить поступок Джонса как морально дурной, независимо от благих моментов его цели. Аквинат формулирует эту мысль следующим образом
Расположение вещи по отношению к бытию и к благу – одно и тоже… Как бытие вещи зависит от деятеля и формы, так благость вещи зависит от цели… Но человеческие действия… принимают характеристику блага от цели, от которой зависят, помимо абсолютного блага, существующего в них. Таким образом, благо в человеческом действии может рассматриваться четырьмя способами… Второй род блага согласуется с видом, который принимает действие в соответствии с объектом. Третий согласуется с обстоятельствами как некими акциденциями. Четвертый же согласуется с целью как наклонностью к причине блага103.
И далее:
Ничто не мешает действию, обладающему одним из перечисленных видов блага, страдать отсутствием другого; соответственно, случается так, что действие, благое с точки зрения видовой принадлежности или обстоятельств, служит дурной цели, и наоборот. Но действие будет безоговорочно благим, только если в нем сойдутся все [четыре вида] добродетели104.
Следовательно, в деле о больнице Аквинат оценил бы негативно поступок Джонса, принесшего в жертву Смита, и в то же время не оценил бы негативно самоотверженный поступок Эсфири. Эсфирь не была бы повинна ни в какой несправедливости, если бы отдала свою жизнь за свой народ, а вот Артаксеркс, безусловно, был бы повинен в несправедливости, если бы отнял у нее жизнь в этих обстоятельствах. С точки зрения учения Фомы о коммутативной справедливости, для Эсфири фактически невозможно быть несправедливой к себе, потому что в пользовании благами человек не может извлечь для себя несправедливую выгоду в ущерб себе же. Таким образом, резон, по которому поступок Джонса не одобряется в деле о больнице, не применим к гипотетическому самопожертвованию Эсфири, а одобрение самопожертвования Эсфири не может и не должно основываться на прямолинейной бухгалтерии центрального метаэтического тезиса Фомы105.
Агент-центричные ограничения в этике аквината
Эти соображения дают некоторое основание считать этику Аквината деонтологической теорией моральности, в которой возможно рассматривать проблему агент-центричных ограничений. Сэмюэль Шеффлер описал эти ограничения как способ придать «типичным деонтологическим воззрениям… явно парадоксальный вид». Шеффлер пишет:
Агент-цеытричное ограничение представляет собой в общих чертах ограничение, которое хотя бы иногда запрещено нарушать в обстоятельствах, когда нарушение позволило бы минимизировать общее число нарушений этого же самого ограничения, и когда оно не повлекло бы за собой никаких других морально значимых последствий. Например, запрет убивать невинного человека даже для того, чтобы минимизировать общее число убийств невинных людей, сочли бы, как правило, агент-центричным ограничением. Включение агент-центричных ограничений придает традиционным деонтологическим воззрениям мощную анти-консеквенционалистскую силу, а вместе с тем и мощную интуитивную притягательность.
Но при всем своем созвучии моральному здравому смыслу агент-центричные ограничения загадочны. В самом деле, как может быть рациональным запрет на морально нежелательное действие, если оно имеет следствием минимизацию общего числа равно нежелательных действий (которые в противном случае будут совершены), и если оно не влечет за собой иных морально значимых последствий? Как может минимизация морально нежелательного поведения быть морально неприемлемой?106
Теория Аквината, безусловно, поддерживает тот трюизм, что чем больше блага, тем лучше. Но при этом она так интерпретирует природу блага вообще и природу благих поступков в частности, что ни одно действие, объект которого затронут несправедливостью, не может быть разумным, сколько бы блага ни заключала в себе его конечная цель. На этом основании этическая теория Фомы поддерживает и усваивает себе расширенную версию агент-центрированных ограничений.
Расширенная версия примера Шеффлера предусматривает запрет совершать или допускать несправедливость, которая выражается в невосполнимом страдании, даже если ее совершение минимализирует общее число случаев такой несправедливости. На этом уровне обобщения «то же самое ограничение» означает запрет совершать или допускать несправедливость. С точки зрения Фомы, особенно с его точки зрения на справедливость и на место, занимаемое справедливостью в схеме добродетелей, агент-центричные ограничения, запрещающие агентам действия совершать или допускать несправедливые поступки, разумны именно в силу этого основания, безотносительно к тому благу, которого можно было бы достигнуть, совершив эти поступки.
Краткое замечание о естественном законе
Учение Фомы о естественном законе было и продолжает быть предметом оживленной дискуссии107. У нас нет возможности рассматривать его здесь в подробностях, но хотя бы коротко мы должны его затронуть.
По мнению Фомы, не вполне ясно, что такое естественный закон; его характеризуют по-разному, подчас даже одни и те же толкователи. Например, иногда естественный закон описывают так, словно он проистекает из врожденного и нерушимого знания моральных истин. Ральф Макинерни разъясняет это следующим образом «Естественный закон есть природное схватывание разумом некоторых общих принципов, призванных направлять наши поступки»108.
Однако в других местах предлагаемое у Макинерни описание естественного закона таково, как если бы сам естественный закон и был набором моральных принципов подчеркнуто фундаментального характера. Например, Макинерни говорит: «Естественный закон есть диктат разума»; а чуть ниже он замечает, что в некотором роде «естественный закон есть притязание на то, что существуют моральные абсолюты»109.
С другой стороны, моральный закон иногда описывают также как зависимый не столько от эпистемологии и морали, сколько от метафизики, как некое основание морали. Например, Джон Финнис, обсуждая взаимоотношение прав и закона, говорит: «Если я обладаю естественным – я бы сказал, человеческим – правом, я обладаю им в силу естественного закона»110.
У Аквината характеристика естественного закона достаточно сложна, чтобы найти в ней обоснование этим различным интерпретациям. Сам Фома объясняет естественный закон как некую причастность божественному вечному закону со стороны разумной твари111, а божественный вечный закон – как упорядочение тварных вещей в мире, осуществляемое в божественном уме112. Для разумной твари быть причастной вечному закону означает быть причастной вечному божественному разуму и обладать естественной склонностью к своей надлежащей конечной цели. Но причастность божественному разуму означает обладание тем светом человеческого разума, который позволяет людям различать добро и зло113. Чуть ниже Фома утверждает, что человек может быть субъектом вечного закона двумя способами: во-первых, через участие в вечном законе благодаря познанию, и, во-вторых, через участие в нем благодаря внутреннему началу, побуждающему к действию. И далее Фома замечает, что оба пути умаляются в порочном человеке из-за того, что его познание добра и склонность к добру несовершенны114.
В другом месте Аквинат доказывает, что, хотя мы не ведаем вечного закона в том виде, в каком он пребывает в божественном уме, мы можем познать его либо разумом, либо через откровение115.
И далее Фома замечает, что мы можем познать в общем виде волю Божью, потому что знаем, что волимое Богом волимо как благо. И потому, говорит Фома: «Всякий, кто волит что-либо как то или иное благо, обладает волей, согласной с волей Божьей, с точки зрения формальной сущности [ratio] волимого»116.
Аквинат описывает закон вообще как разумное подчинение общему благу, установленное и обнародованное кем-то, кто имеет попечение о сообществе. Таким образом, для Фомы встает вопрос о том, является ли естественный закон обнародованным. На него Фома отвечает, что естественный закон обнародован уже тем, что Бог вложил его в сознание человека – вложил как природное знание117. Но это природное знание составляют самые общие моральные предписания – предписания естественного закона, такие как необходимость творить добро и избегать зла118.
Хотя эти наиболее общие принципы до конца неистребимы даже в самых порочных людях, производные от них вторичные принципы: могут быть уничтожены; более того, приложение наиболее общих принципов к частным поступкам может быть затруднено воздействием морального зла на разум человека119.
Аналогичное утверждение высказывает Фома относительно естественной склонности поступать в согласии с благом. Он говорит:
Все добродетельные акты принадлежат к естественному закону… ибо к естественному закону принадлежит все то, к чему человек склонен по своей природе. Но по природе всякое сущее склонно к действиям, которые подобают ему сообразно его форме… Следовательно, поскольку разумная душа есть собственная форма человека, во всякого человека вложена природная склонность к тому, чтобы поступать сообразно разуму. Это и означает поступать сообразно добродетели120.
Но, как сказано далее:
Если говорить о добродетельных поступках самих по себе, то есть рассматривать их в их собственных видах, то не всякие добродетельные поступки принадлежат к естественному закону. Ибо сообразно добродетели совершается многое, к чему природа изначально не склоняет; но по размышлении люди приходят к этому как к тому, что полезно для благой жизни121.
В другом тексте Фома доказывает, что даже природная склонность к благу может быть подорвана моральным злом. В порочном человеке не только естественное знание добра разрушено страстями и морально дурными привычками, но и «природная склонность к добродетели разрушена порочностью»122.
В пространном обсуждении морального сознания [синдересиса][19], которое Аквинат объясняет как врожденный познавательный хабитус в практическом разуме, он помещает свою концепцию естественного закона в более широкий контекст, что помогает нам понять многогранный характер его позиции123. В томистском учении об ангелах они, в отличие от людей, познают вещи недискурсивно, не нуждаясь в рассуждениях, чтобы прийти к выводам о вещах на основе знания других вещей. Основой этого ангельского познания служит врожденное понимание некоторых вещей, вложенное в ангелов Богом при их сотворении124. Люди имеют столь много общего с ангельской природой, что Бог вложил и в наши разумные способности некоторые хабитусы, которые нам врождены. Так вот, у людей разумными способностями являются интеллект и воля, а сам интеллект можно понимать и как теоретический, и как практический разум. В теоретическом разуме врожденный познавательный хабитус имеет дело с фундаментальными принципами абстрактного разума, такими как закон непротиворечия. Мы, не рассуждая, обнаруживаем в себе непреодолимую склонность верить в те или иные законы разума. Напротив, в практическом разуме врожденный познавательный хабитус имеет дело с тем, что нужно делать, – например, с упомянутым выше предписанием естественного закона. Что же касается воли, то в эту разумную способность вложен не познавательный хабитус, а, скорее, врожденная склонность к действию. Воля есть алкание блага, и в силу Божьего замысла о ней она по природе склонна волить благо, как его понимает разум. Итак, одним способом естественный закон понимается у Аквината как пара врожденных хабитусов, вложенных Богом в практический разум и волю. Моральное сознание будет тогда названием для хабшуса в практическом разуме.
Далее Фома отличает моральное сознание от совести, которая подразумевает использование врожденного хабитуса практического разума как при рассмотрении того, что надлежит делать в конкретных обстоятельствах, так и в оценке прошлых поступков, совершенных человеком125. Моральное сознание, с точки зрения Фомы, не способно заблуждаться и не может быть истреблено грехом126; совесть же может и заблуждаться127. Фома придерживается той суровой позиции, что даже заблуждающаяся совесть обладает обязывающей силой. Поступать вопреки собственной совести всегда есть моральное зло; но если человек поступает в согласии с заблуждающейся совестью, то его поступок тоже будет моральным злом128.
Богословская интерпретация центрального метаэтического тезиса фомы
Центральный метаэтический тезис получает у Фомы богословскую интерпретацию, более фундаментальную, чем любые из его этических приложений. Так что будет правильным, завершая рассмотрение томистской метафизики блага и метаэтических оснований морали, обратиться к этой богословской позиции.
С точки зрения Аквината, Бог – единственный, кто по своей сущности есть «само бытие» (Ipsum esse); поэтому, согласно центральному метаэтическому тезису Фомы, только Бог есть по своей сущности само благо129. Фома говорит: «Только у Бога… сущность есть его бытие… И потому только Он благ по своей сущности»130.
На вопрос о простоте Бога Фома отвечает: «Бог тождествен своей сущности, или природе… Бог есть его божество, его жизнь и все прочее, что таким образом сказывается о Боге»131.
Итак, центральный метаэтический тезис о бытии и благе, вкупе с концепцией божественной простоты, подразумевает у Фомы такое отношение между Богом и моралью, которое избегает затруднений как богословского субъективизма, так и богословского объективизма. Это отношение служит основой концепции религиозной морали, в существенных чертах отличной от общеизвестной морали божественных заповедей, которую обсуждают современные философы религии. Так как эта часть томистской метаэтики зависит от доктрины божественной простоты, я отложу ее обсуждение до главы 3, посвященной простоте Бога. Но уже сейчас мы должны указать на то, что, согласно метаэтическому тезису Аквината, благо, ради которого и в согласии с которым Бог волит все, что он волит применительно к человеческой морали:, – это благо тождественно природе Бога.
Заключение
Центральный метаэтический тезис Фомы, сформулированный в контексте общей метафизики, полагает тонко разработанное метафизическое основание томистской этики, базирующейся на понятии добродетели. Он представляет собой как бы единую обширную теорию блага, внутрь которой помещается, в качестве частного приложения общей теории, концепция человеческой морали. Когда же центральный метаэтический тезис комбинируется с богословскими воззрениями Аквината, особенно с его пониманием доктрины: божественной: простоты, тогда богословская: интерпретация центрального метаэтического тезиса полагается в основание религиозной этики, где Бог мыслится сущностно важным для человеческой морали, но мораль не привязывается к божественной воле. Результатом становится метафизически обоснованная, объективная, нормативная этика добродетелей, богословская хотя бы в том смысле, что она, в конечном счете, имеет своим основанием природу Бога.
Примечания
1 ST IIа IIae. 122; На IIae. 140, соответственно.
2 Более подробное обсуждение этого знания, и особенно обсуждение отношения между интеллектуальными добродетелями и соответствующими дарами Св. Духа, см. главу 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
3 См. например, Robert В. Louden, “On Some Vices of Virtue Ethics” // American Philosophical Quarterly 21 (1984): 227–236; Gregory E. Pence, “Recent Work on Virtues” // American Philosophical Quarterly 21 (1984): 281–297.
4 ST I. 5. 1. Томистская разработка этого тезиса о бытии и благе – особенно ценный вклад в долгую и сложную традицию. См. Scott MacDonald (ed.), Being and Goodness (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991).
5 Эта идея Фомы встраивается в контекст средневекового учения о трансценденталиях, которое составляет часть ее метафизического основания. У нас нет возможности заниматься здесь трансценденталиями; обстоятельное рассмотрение этой темы см. в издании: Jan Aertsen, Medieval Philosophy and the Transcendentals: The Case of Thomas Aquians (Leiden: E. J. Brill, 1996). Было бы особенно важно показать связь, которую Фома усматривает между благом и красотой и которая является трансцендентальной или квази-трансцендентальной. См., например, Umberto Eco, Problem Estetico in Tommaso d’Aquino (Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988). Впечатляющее рассмотрение красоты в искусстве, природе и религии см. в издании: John Foley, Creativity and the Roots of Liturgy (Portland, OR: Pastoral Press, 1994).
6 ST I. 5. 1. См. также SCG I. 37; III. 3. Cp. Аристотель, Никомахова этика I, 1, 1094a 1–3.
7 Обсуждение отношения между интеллектом и волей в процессе, ведущем к моральному проступку, см. главу 11 о мудрости (в перевод не вошла. – Прим. пер.).
8 SCG I. 37.
9 SCG I. 37.
10 SCG I. 38.
11 SCG I. 39.
12 SCG I. 37.
13 SCG III. 3, passim.
14 См., например, ST Iа IIае 1. 5.
15 Когда описываемая вещь является разумным существом, то объект ее устремления будет включать в себя ее представление о полной о существ л енно сти своей природы, которое может быть более или менее ошибочным. Объективно дурные объекты желания желанны постольку, поскольку обладание ими воспринимается желающим как благо.
16 ST Iа IIae. 1.6.
17 ST Iа IIae. 1.7.
18 SCG III. 3.
19 SCG I. 37; см. также ST I. 5. 1.
20 ST I. 5. 5; см. также QDV 21. 6.
21 ST 1.48.3.
22 СТ 109; см. также ST I. 48. 3.
23 СТ 115.
24 См., например, Augustinus, Confessiones, lib. VII.
25 См. главу 1 о вещи.
26 ST Iа IIae. 85.4.
27 Т. Н. Irwin, “The Metaphysical and Psychological Basis of Aristotle’s Ethics” / A. Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics (Berkeley, CA: University of California Press, 1984), pp. 35–53. Эта статья весьма полезна ввиду зависимости Аквината от Аристотеля. О важной роли субстанциальной формы в единичном сущем см. с. 37–39 статьи Ирвина.
28 См., например, DEE 2.
29 DEE 3.
30 Современную параллель такому пониманию формы можно усмотреть в следующей статье: Sydney Shoemaker, “Causality and Properties” / Peter van Inwagen (ed.), Time and Cause (Dordrecht: Reidel, 1980), pp. 109–135; reprinted in: Shoemaker, Identity, Cause and Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1984), pp. 206–233.
31 SCG III. 7.
32 ST la IIae. 55. 2.
33 См., например, SCG I. 42 (n. 343): «Отличие, придающее видовую определенность роду, не восполняет природу рода, но придает роду актуальное бытие. В самом деле, природа живого существа полна и до присоединения отличительного признака разумности, но обладать актуальным бытием живое существо может, лишь будучи разумным или неразумным».
34 STI. 48.5.
35 STI. 48.6.
36 ST IA IIae. 3.2.
37 ST Iа IIae. 49. 4, особенно ad 1.
38 См., например, SCG III. 16. 3.
39 См., например, ST Iа IIae. 18.1.
40 ST I. 5. 1, sed contra. Ср. Augustinus, De doctrina Christiana I. 32.
41 См., например, SCG III. 7, passim.
42 SCG III. 15, passim.
43 См., например, ST I. 5. 3 ad 2: «Ни одно сущее не называется дурным постольку, поскольку оно сущее, но поскольку оно лишено некоторого бытия. Например, человек называется дурным, поскольку лишен бытия добродетели, и глаз называется дурным, поскольку лишен остроты зрения».
44 См., например, SCG III. 20, III. 22.
45 ST Iа IIae. 94.3.
46 ST Iа IIae. 18.5.
47 ST Iа IIae. 18. 5 ad 2.
48 ST la IIae. 55. 1; см. также ST Iа IIae. 55. 2.
49 STIallae. 63. 1.
50 ST la IIae. 58. 3.
51 ST la IIae. 18. 5 ad 1.
52 SCG III. 7: «Стало быть, поскольку зло и злое – это лишенность того, что свойственно по природе, оно ни для чего не может быть естественным».
53 См., например, ST Iа IIae. 71. 2.
54 ST I. 59. 1.
55 ST I. 59. 1; ср. SCG И. 47 и QDV 23. 1.
56 См., например, SCGIII. 9, и ST IA IIae. 18. 5.
57 Обзор темы, примеры и много другого важного материала см. в статье: Jaegwon Kim, “Concepts of Supervenience” // Philosophy and Phenomenological Research 45 (1984): 153–177; reprinted in: Jaegwon Kim, Supervenience and Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
58 John Campbell and Robert Pargetter, “Goodness and fragility” // American Philosophical Quarterly 23 (1986): 155–165. P. 161: «Отношение между хрупкостью, феноменами хрупкости и основанием хрупкости дано через два тождества: (1) быть хрупким = обладать свойством, в силу которого нечто таково, что (X рушится, X разбивается), и т. д.; (2) свойство, в силу которого объект О таков, что (О рушится, О разбивается), и т. д. = обладанию химической связью В. Это объясняет «почему» хрупкости, то есть сообщает нам, что это означает, когда мы говорим, что О является хрупким, потому что имеет химическую связь В. Когда же мы говорим, что объект N хрупок, потому что имеет химическую связь А, тождество (1) сохраняется, а тождество (2) очевидным образом изменяется».
59 Я говорю «по видимости», потому что иногда Аквинат проводит различение между разумом как дискурсивной способностью, характерной для человеческих существ, но не для ангелов, и умопостижением, которое недискурсивно и свойственно ангелам. Здесь мы оставляем в стороне это дополнительное осложнение.
60 STI. 5. 1 obj. 1.
61 Могут возразить, что Гитлер, находясь у власти, вел войну и управлял Германией очень умело, и поэтому, исходя из утверждаемой Аквинатом связи между разумом и моральностью, Аквинат должен был бы назвать Гитлера благим. Но это возражение опирается на смешение определенного вида сноровки с разумностью. Некоторые соображения об этой дистинкции см. в начале главы 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
62 STI. 5. 1 obj. 3.
63 Способность к репродукции – потенциальность, которую люди разделяют со всеми живыми существами.
64 Уточнение «при прочих равных условиях» здесь важно. Даже если вид А превосходит вышеописанным образом вид В, теоретически возможно, что конкретный индивид вида В окажется превосходящим индивида из вида А. Предположим, что существуют ангелы, что ангелы образуют вид, подобно тому, как люди образуют вид; что вид «ангел» превосходит вид «человек», и что сатана есть падший ангел. Теоретически возможно, что мать Тереза превосходит сатану в этом релевантном смысле, хотя количество бытия, доступное ангелу, больше, чем количество бытия, доступное любому человеческому существу. В самом деле, если мать Тереза предположительно актуализировала всю свою видообразующую потенциальность, а сатана – лишь ее малейшую часть, можно будет приписать матери Терезе больше бытия, а значит, и больше блага, чем сатане.
65 См., например, ST Iа IIae. 60, passim. Хорошее обсуждение аристотелевских оснований см., например, в статье: L.A. Ко smart, “Being Properly Affected: Virtues and Feelings in Aristotle’s Ethics” / A. Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics (Berkeley CA: University of California Press, 1984), pp. 103–116.
66 ST la IIae. 61.2.
67 См., например, ST la IIae. 57. 5; la IIae. 58. 4; На IIae. 47–56.
68 ST la IIae. 57. 5.
69 См., например, ST la IIae. 60. 4.
70 См., например, ST la IIae. 61. 2; IIа IIae. 57–71.
71 ST la IIae. 58. lad 2.
72 Внятное и детальное изложение части этого материала см., например, в статье: Alan Donagan, “Aquians on Human Action” / N. Kretzmann, A. Kenny, J. Pinborg (eds), The Cambridge History of Later Medieval Phulosophy (Cambridge: Cambridge University Press, 1982), pp. 642–654.
73 «Трактат о действии» Фомы содержится в ST Iа IIae. 6-17; Iа IIae. 18–21 и связан с оценкой действий.
74 Об этой дистинкции см. ST Iа IIae. 1. 1.
75 Об объекте действия см., например, ST Iа IIae. 10. 2; Iа IIae. 18. 2.
76 ST Iа IIae. 18.5.
77 ST Iа IIae. 18. 5. ad 3.
78 О цели действия см., например, ST Iа IIae. 1. 1–3; Iа IIae. 18. 4–6.
79 ST Iа IIae. 1.3.ad3.
80 О некоторых осложнениях см., например, ST Iа IIae. 18. 7.
81 О видовой определенности поступка см., например, ST Iа IIae. 1. 3; 1а
Пае. 2, 5, 7.
82 Об обстоятельствах действия см., в частности, ST Iа IIae. 7, passim.
83 О роли обстоятельств при оценке действий см., например, ST Iа IIae. 18.
3, 10, 11.
84 ST Iа IIae. 18. 8.
85 См., например, ST Iа IIae. 7. 2 ad 2.
86 О томистском подходе к такого рода вопросам, касающимся постановлений или законов, см. Norman Kretzmann, 'Чех iniusta non est lex: Laws on Trial in Aquinas’ Court of Conscience” // American Journal of Jurisprudence 33 (1988): 99-122.
87 См., например, ST IA IIae. 123, passim.
88 ST IIа IIae. 64.6.
89 ST На IIae. 64. 6 obj. 2 и ad 2.
90 ST la IIae. 1.3.
91 ST la IIae. 1.3adl.
92 Эта проблема, в хорошо известной постановке, рассматривается в публикации: Philippa Foot, “The Problem of Abortion and the Doctrine of Double Effect”, в ее книге Virtues and Vices (Berkeley, CA: University of California Press,
1978), pp. 19–32. ST IIа IIae. 64. 6.
93 ST IIа IIae. 64. 6.
94 ST IIа IIae. 64. 2.
95 Дело не только в моральном отвращении, которое могут почувствовать многие читатели по отношению к этой позиции Фомы; дело еще и в философских проблемах. Например, непонятно, почему, согласно собственным воззрениям Аквината, смертная казнь не отменялась бы центральным мета-этическим тезисом как аморальная, если бы общество могло адекватно защитить себя от злодея, применив определенные средства (такие, как тюремное заключение) вместо того, чтобы убивать его. Убедительную аргументацию в защиту того, что любое убийство человеческого существа всегда аморально, см. в книге: John Kavanaugh, Who Count As Person?: Human Identity and the Ethics of Killing (Washington, DC: Georgetown University Press, 2001).
96 Подробное рассмотрение взглядов Фомы на дистрибутивную и коммутативную справедливость см. в главе 10 о справедливости.
97 ST IIа IIae. 61. 1.
98 См., например, ST На IIae. 57. 1 и На IIae. 61. 2.
99 См., например, ST На IIae. 77, passim.
100 См. ST На IIae. 73, passim; сравнение клеветы (или «злословия») с воровством или убийством см., в частности, в IIа IIae. 73. 3.
101 Чтобы понять, каким образом Аквинат примиряет это отношение к убийству с принятием смертной казни, важно отнестись серьезно к тому его взгляду, что общество обладает собственным бытием, и вред, который преступник способен причинить обществу, может быть достаточно велик, чтобы уравновесить утрату бытия и блага, сопряженную с убийством преступника. В этом случае убийство преступника не будет, по мнению Фомы, нарушением коммутативной справедливости. Анализ затруднений, связанных с томистским воззрением на коммутативную справедливость, см. в главе 10 о справедливости. (Здесь – глава 4. – Прим, пер.)
102 Об убийстве как пороке, противоположном коммутативной справедливости, пороке, «которым человек наносит величайший вред ближнему», см. ST IIа IIae. 64, passim.
103 ST la IIae. 18.4.
104 ST la IIae. 18. 4 ad 3.
105 Кто-то может тем не менее поинтересоваться, не подпадают ли действия Эсфирь под томистское моральное осуждение самоубийства. Анализ воззрений Фомы на самоубийство см. в главе 10 о справедливости (здесь – глава 4. – Прим. пер.).
106 Samuel Scheffler, “Agent-Centred Restrictions, Rationality, and the Virtues” // Mind 94 (1985): 409M19. Здесь Шеффлер комментирует статью Philippa Foot, “Utilitarianism and the Virtues” // Proceedings and Adresses of the American Philosophical Association 57 (1983): 273–283; см. Также (отредактированная версия) Mind 94 (1985): 196–209. О том, как сам Шеффлер решает головоломку агент-центричных ограничений, см. его книгу The Rejection of Consequentialism (Oxford: Clarendon Press, 1982).
107 Недавний утонченный анализ этой темы см. в работе: Mark Murphy, Natural Law and Practical Rationality, Cambridge Studies in Philosophy and Law (Cambridge: Cambridge University Press, 2001).
108 Ralph Mclnery, Aquinas on Human Action: A theory of Practice (Washington, DC: Catholic University of America Press, 1992), p. 110.
109 Ralph Mclnery, Ethica Thomistica: The Moral Philosophy of Thomas Aquinas (Washington, DC: Catholic University of America Press, revised edition 1997), pp. 46–47.
110 John Finnis, Aquinas: Moral, Political and Legal Theory (Oxford: Oxford University Press, 1998), p. 135.
111 ST la IIae. 91.2.
112 ST la IIae. 91. 1.
113 ST la IIae. 91. 2.
114 ST la IIae. 93.6.
115 ST la IIae. 19. 4 ad 3.
116 ST la IIae. 19. 10 ad 1; cp. также ST la IIae. 21. 1.
117 ST la IIae. 90. 4 ad 1.
118 ST la IIae. 94. 2.
119 ST la IIae. 94. 6.
120 ST la IIae. 94.3.
121 ST la IIae. 94.3.
122 ST la IIae. 93.6.
123 QDY 16.
124 Более подробное обсуждение томистской теории ангельского познания см. в главе 5 о внутрибожественном знании (здесь глава 3. —Прим. пер.).
125 QDV 17.
126 QDV 16. 2–3.
127 QDV17. 2.
128 QDV 17. 4.
129 См., например, ST I. 2. 3; I. 3. 4. 7; I. 6. 3. Бонавентура, современник и товарищ Аквината по учебе в Парижском университете, прямо отождествлял Бога с простым референтом терминов «бытие» и «благо» в своей собственной версии центрального тезиса. Бонавентура интерпретировал Ветхий Завет как акцентуацию бытия, а Новый Завет – как акцентуацию блага (см., например, Itinerarium mentis ad Deum, V, 2).
130 STL 6.3.
131 ST 1.3.3.
Глава 3 Внутрибожественное знание[20]
Введение
Большинство людей согласятся с тем, что любое сущее, достойное именоваться Богом, должно знать все, что только доступно познанию. Но каким образом Бог предполагается знающим все то, что он знает? Очевидно, его познание не начинается с ощущений, как это обычно бывает у людей, ибо – с чем, возможно, согласится еще большее число людей – Бог бестелесен, а потому не может обладать ощущениями. Видимо, материальные объекты как-то иначе оказывают познавательное причинное воздействие на бестелесного Бога, но нелегко представить себе, чем бы оно могло быть. Кроме того, любому описанию такого воздействия придется столкнуться с таким, по-видимому, непреодолимым препятствием, как абсолютная бесстрастность Бога, часто причисляемая к стандартным божественным атрибутам1. Но если, скажем, движение рукой, которое совершает человек, не может оказать причинное воздействие на сознание Бога, каким образом Бог узнает, что человек двигает рукой? «Он: это просто знает!» – в таком притязании на ответную реакцию со стороны всемогущего существа есть некоторая привлекательность, но это не ответ.
Аквинат много работал над тем, чтобы найти ответы: на такого рода вопросы, но предлагаемое им объяснение во многих отношениях обескураживает. Более того, томистская концепция внутрибожественного знания: интерпретируется: таким образом, что это лишь увеличивает затруднения. Поэтому, прежде чем обратиться к ее загадкам, я хотела бы сказать несколько слов о проблемах, возникающих в связи с ее общепринятой интерпретацией.
Для примера возьмем интерпретацию Лео Элдерса2. Элдере говорит, что, по мнению Фомы, Бог знает «все вещи, которые существуют в любой момент времени, будь то прошлое, настоящее или будущее… [Он] знает все, что произойдет с течением времени»3. Но «божественное знание вещей, отличных от самого Бога, может основываться только на божественной причинности. Он знает вещи потому, что является их причиной, и знает их в своей причинности: и через свою причинность»4. Обсуждая точку зрения Аквината на божественную причинность, Элдере замечает:
Очевидно, что Бог причиняет вещи своим интеллектом… [Разумеется], умопостигаемая форма сама по себе служит действующим началом лишь тогда, когда имеется склонность к произведению такого следствия. Поэтому божественный интеллект должен определяться к именно такому следствию божественной волей5.
Тем не менее Элдере считает: «Божественное знание есть причиняющее знание, так что Бог знает вещи потому, что творит их»6. И Элдере не одинок в такой трактовке учения Фомы о божественном знании. Например, Брайан Шэнтли утверждает:
Ничто не искажает учение Аквината сильнее, чем ошибочное вменение Богу перцептуальной парадигмы познания… Божественное знание не производится познаваемым и не зависит от него, но само выступает причиной познаваемого7.
Подобные интерпретации влекут за собой любопытные эпистемологические следствия. Строго говоря, люди не способны познавать не обусловленную необходимостью вещь или состояние дел, пока они не обретут существования. Но в данной интерпретации учения Фомы для Бога все обстоит наоборот: строго говоря, ничто не может произойти или обрести существование, прежде чем Бог будет иметь знание об этом. Что касается Бога, то в такой интерпретации учения Фомы божественное знание логически предшествует познаваемой реальности и причинно обусловливает ее.
Но хотя такая интерпретация учения о внутрибожественном знании и выглядит основанной на собственных словах Аквината, она сталкивается, как будет показано ниже, с серьезными затруднениями в истолковании воззрений Фомы.
Во-первых, она никоим разом не состоятельна как целостная концепция божественного знания. Дело в том, что, по мнению Фомы, существует множество вещей, которые считаются известными Богу, но в отношении которых никто, в теории Фомы, не считает, что Бог является их причиной. Например, существует знание Богом самого себя, своей природы и существования, а также необходимых истин; это божественное знание не может быть причиняющим, как ни толковать учение Фомы. Так, Фома считает, что Бог знает вечные истины, однако божественное знание не является их причиной. Бог знает, что 1=1, но тем самым (или любым другим способом) он вовсе не создает такого положения дел, при котором 1=1. Вдобавок, и это еще важнее, Бог знает о себе, что он существует, что он обладает знанием, и что у него есть определенная природа. Но вполне очевидно, что божественное знание этих вещей не причиняет их бытия. Божественное знание не может быть производящей причиной существования Бога или его бытия в качестве знающего, так как эти вещи логически предшествуют его знанию. И если Бог знает все, то он, как минимум, обладает природой знающего, а обладание природой тоже логически предшествует познанию, а не порождается им.
К тому же имеется божественное знание тех возможных творений, которых Бог решил не творить и которые, следовательно, не существуют8. В тексте, по видимости поддерживающем интерпретацию Элдерса, в том месте, где Аквинат говорит, что вещи зависят от Бога, как продукт ремесла зависит от ремесленника (то есть существование вещей зависит от божественного знания, а не наоборот), – в этом месте Фома подчеркивает, что любой ремесленник обладает двумя видами: знания своего изделия – умозрительным и практическим. Практическое знание имеет своим результатом изготовление изделия, тогда как умозрительное знание артефакта совместимо с тем, что оно так и не было изготовлено. Поэтому Аквинат утверждает: «Бог имеет знание о вещах, которые он никогда не намеревался творить и которые, следовательно, никогда не существовали»9. Очевидно, что такое божественное знание не будет и причиняющим.
Ясно, что мы не можем понимать Фому в том смысле, что все божественное знание выступает в качестве причины. Для некоторой части божественного знания перцептуальная парадигма, понятая по аналогии, будет, казалось бы, вполне верной: эта часть божественного знания зависит от предшествующего существования некоей вещи, а именно от существования природы и идей в Боге, а не наоборот.
Во-вторых, даже если ограничиться обсуждением божественного знания преходящих вещей в существующем мире, возникают серьезные проблемы с интерпретацией позиции Фомы как утверждения, что божественное знание служит производящей причиной всего познаваемого Богом.
Для начала заметим, что, поскольку в интерпретации Элдерса божественное знание всегда является причиной предмета божественного познания, отсюда следует, что Бог либо не знает человеческого зла, ибо не причиняет его. Следовательно, в такой интерпретации Фома должен считать, что Бог либо является причиной человеческого зла, либо не имеет знания о нем и, стало быть, не всеведущ. Но так как Фома, безусловно, считает Бога всеведущим, а также во многих местах утверждает10, что Бог не является причиной греховных поступков, эта интерпретация, к сожалению, приписывает Фоме явное противоречие11. Хуже того, в некоторых местах Аквинат прямо отвергает ту позицию, которую приписывает ему указанное толкование. Например, Фома говорит: «Из того, что Бог имеет знание о зле, не следует, что он есть причина зла»12.
Более того, коль скоро Бог причиняет все человеческие поступки в той мере, в какой он их познает, эта интерпретация, судя по всему, приписывает Фоме детерминизм, не оставляющий места свободе человеческой воли13. Но даже если и есть некий способ сохранить человеческую свободу во всеобъемлющей сфере божественной производящей причинности, тождественной его знанию, тем не менее в этой интерпретации не кто иной, как Бог будет конечной производящей причиной, а значит, и конечным агентом греховных человеческих поступков – именно в силу того, что он их ведает. Здесь вопрос не в том, совместима ли человеческая свобода с причиняющей деятельностью Бога. Вопрос в другом если Бог есть производящая первопричина греховных человеческих поступков, не он ли ответствен за прегрешение, им причиняемое?
Наконец, в такой интерпретации божественное знание будущих случайных событий должно объясняться так же, как божественное знание любых прочих вещей, а именно как результат производящей причинности, свойственной божественному познанию. Фактически не должно возникать никаких особых проблем, связанных с божественным знанием будущих случайных событий. Если божественное знание вещей во времени всегда является причиняющим, то божественное знание будущего свободного действия должно адекватно объясняться тем же способом Бог знает его потому, что причиняет его. Но Фома очевидно считает, что божественное знание будущих случайных событий должно объясняться совсем иначе – в терминах вечности Бога14. Например, он говорит:
Случайное событие, как будущее, познаваемо лишь таким познанием, которое может оказаться ложным. Но так как божественное знание не является и не может быть ложным, знание будущих случайных событий оказалось бы недоступным Богу, если познавать их как будущие… [Но] так как божественное умозрение измеряется вечностью, которая дана вся одновременно, и, однако, включает в себя полноту времени… отсюда следует, что все рожденное во времени Бог зрит не как будущее, а как настоящее… Таким образом, Бог неложно зрит все случайные события, будь они для нас настоящими, прошедшими или будущими, ибо для него они – не будущие15.
Здесь Аквинат очевидно исходит из того, что божественная вечность есть ключевой пункт в объяснении божественного знания будущих случайных событий.
Сам Элдере прочитывает томистское объяснение именно так. Будущие случайные события, по словам Элдерса, «могут рассматриваться… в их причинах; [но] так как они не детерминированы к тому, чтобы производить одно-единственное следствие, они не могут доставить достоверного знания»16. Чтобы Бог познавал случайные положения дел, которые для нас являются будущими, они должны, в аргументации Элдерса, быть в вечности реально настоящими для Бога: «Если бы они не были настоящими, Бог не мог бы иметь о них достоверного знания»17. Причина, по которой Элдере выдвигает это требование, заключается в том, что Бог «познает эти вещи, как они существуют в реальности. Нет науки [т. е. полноценного, «достоверного» знания], если нет существующих вещей как ее объекта»18.
Но если предлагаемая Элдерсом интерпретация томистской концепции божественного знания верна, если у Фомы Бог знает вещи лишь потому, что является их причиной, то утверждать, что рассмотрения будущих случайных событий в их причинах недостаточно для божественного знания о них, равнозначно тому утверждению, что Бог не может их знать. Кроме того, как было указано выше, божественное знание любых вещей, отличных от самого Бога, в интерпретации Элдерса логически предшествует существованию объекта этого знания и причинно обусловливает его, в силу причиняющей природы божественного знания. Стало быть, в свете собственных позиций Элдерса нужно считать ошибочными его утверждения, что, «если бы они [будущие случайные события] не были настоящими, Бог не мог бы иметь о них достоверного знания», или: «Нет знания, если нет существующих вещей как его объекта». Напротив, интерпретация Элдерса обязывает к тому выводу, что будущие случайные вещи и события вовсе не осуществимы без предварительного божественного знания о них.
Итак, если всеохватное божественного знание всегда и непременно каузально, то божественного умозрения будущих случайных событий в их причинах не просто достаточно для того, чтобы Бог имел о них знание: фактически, знание этих событий в их причинах (или в их божественной первопричине) будет для Бога единственным способом их познания. В таком случае ссылка на доктрину вечности Бога с целью объяснить вневременное настоящее, которое присуще временным объектам в божественном знании, оказывается просто иррелевантной для объяснения божественного знания будущих случайных событий. Но, как явствует из предыдущих параграфов, Аквинат вовсе не считает, что божественное знание будущих случайных событий, как объектов божественного знания, нужно объяснять в терминах их вневременного настоящего19. С другой стороны, если понимать божественное знание как производящую причину всего, что ведомо Богу, доктрина вечности не только не понадобится для объяснения божественного знания будущих случайных событий, но для нее просто не останется места. Следовательно, либо учение Фомы о божественном знании будущих случайных событий несовместима с его общей теорией божественного знания, либо в действительности Фома не считал, что божественное знание всегда имеет каузальную природу.
С моей точки зрения, эти соображения воздвигают непреодолимые проблемы перед любой интерпретацией типа элдерсовской, где божественное знание понимается как производящая причина всего, что ведомо Богу, или всех временных вещей в актуально существующем мире, который познается Богом.
Проблематичность концепции аквината
Нетрудно понять, как возникает тот тип интерпретации, который представлен работой Элдерса. Его главная опора – неоднократно повторяемое у Фомы утверждение. Например, в «Сумме теологии» Фома спрашивает, является ли божественное знание причиной вещей, и его ответ подчеркнуто положителен:
Следует сказать, что божественное знание есть причина вещей. Ибо знание в Боге так относится ко всем тварным вещам, как знание, присущее ремесленнику, относится к произведениям ремесла20.
Кроме того, в «Сумме теологии» Аквинат утверждает, что «Бог постольку ведает вещи, отличные от него самого, поскольку является их причиной»21. В обоснование этой точки зрения говорится, что
следствие адекватно познается через познание его причины…
Но сам Бог, по его сущности, есть причина бытия всего остального. Итак, коль скоро он с предельной полнотой познает свою сущность, необходимо полагать, что он познает и остальное22.
Этот последний фрагмент намекает на некоторые другие реальные проблемы в томистской концепции божественного знания: проблемы, которые нужно рассмотреть, вкупе с интерпретацией этой концепции. По мнению Аквината, любое знание требует уподобления между познающим и тем, что познается23; а для того, чтобы имелось такое уподобление, в познающем должно присутствовать подобие, или форма той вещи, которая познается24. И потому Фома говорит: «Все, что постигается, постигается через некоторое свое подобие (similitudo) в постигающем». И в другом месте:
Познающие сущие отличаются от не способных к познанию тем, что в не способных к познанию имеется лишь их собственная форма, тогда как познающее по природе имеет в себе и форму другой вещи, ибо species познанного пребывает в познающем25.
Формы, необходимые для познания, человеческие существа принимают из внементальной реальности. Так, в человеке, познающем чашу, узнающем в видимой им вещи именно чашу, необходимая для познания форма чаши имеет своим непосредственным действующим стимулом саму чашу, которая находится перед человеком и оказывает причинное воздействие на его зрение. Или когда человек вдыхает запах выпекаемого хлеба, слышит рокот машины под окнами или жужжание комара над ухом, он обычно обладает этими постижениями потому, что нечто во внементальной реальности оказывает причинное воздействие на его чувства, поставляя интеллекту сырье, из которого он извлекает путем абстракции необходимые формы.
Все обстоит иначе, когда речь идет о Боге. По мнению Фомы, даже божественное познание требует умопостигаемой формы, но в божественном познании чего-либо отличного от самого Бога требуемая форма не извлекается из познаваемой вещи. Форма, через которую Бог познает все тварные вещи: вместе и по отдельности, – это его собственная природа, так что кажется, что Бог познает творения, лишь познавая самого себя.
Нечто познается двояко: одним способом – в самом себе, другим способом – в ином. В самом себе нечто познается, когда… например, око видит человека в зеркальном отражении человека… Надлежит утверждать, что Бог… видит вещи, отличные от него самого, не в них самих, а в себе, поскольку его сущность содержит в себе подобия того, что отлично от него26.
Итак, Бог, в отличие от познающего человека, не извлекает умопостигаемой формы познаваемой тварной вещи: из самой: познаваемой вещи. Скорее, он обладает знанием самого себя и познает все вещи, отличные от него самого, через одну-единственную умопостигаемую форму – свою собственную природу: «Кроме божественной сущности, в божественном интеллекте не может быть иной формы, которая была бы подобием другой вещи»27.
Более того, единственная умопостигаемая форма, через которую познает Бог, есть всеохватная, совершенная в своей универсальности форма. Фома говорит: «Чем выше интеллект, тем больше он способен через нечто одно познать то, к познанию чего низший интеллект приходит лишь через многое»28. Стало быть, для божественного интеллекта, высочайшего из всех возможных, есть лишь одна совершенная в своей универсальности форма, а именно божественная сущность.
Но если Бог знает отличные от него самого вещи только потому, что знает себя, и если умопостигаемая форма, через которую имеется божественное знание, предельно универсальна, то непонятно, каким образом Бог знает индивидуальные творения, в том числе людей, как они существуют в самих себе.
Наконец, концепция Аквината вызывает возражение, которое обычно вызывает всякий дуализм и которое особенно трудно опровергнуть: как может нематериальный интеллект взаимодействовать с материей?29 Против Аквината это возражение принимает особенно острую форму, потому что даже при обсуждении человеческого познания Фома энергично отрицает за нематериальным человеческим интеллектом возможность прямо познавать материальные вещи. Нематериальный интеллект способен непосредственно познавать лишь нематериальные универсалии, абстрагированные от единичных материальных вещей, в коих они воплощаются. Фома считал, что человеческий интеллект действительно познает материальные вещи, но лишь в силу того, что обращается к «фантазмам» – нематериальным подобиям, обретаемым через телесные внешние чувства и проходящим через внутренние телесные чувства, но доступным бестелесному интеллекту30. Экстраполируя эту черту томистского учения о человеческом познании, нетрудно понять, каким образом абсолютно нематериальный Бог познает универсалии, или природы; но отнюдь не ясно, каким образом Бог способен познавать сами материальные единичные вещи: ведь, помимо всего прочего, у Бога нет телесных органов чувств, через которые божественный: интеллект мог бы соприкоснуться: с индивидуальными сущими. Эти черты концепции Аквината придают ей вид некоей разновидности аверроизма, где Бог способен познавать свою собственную природу и все универсалии, или тварные природы, но не способен познавать индивидуальные сущие – во всяком случае, материальные индивидуальные сущие, каковыми являются человеческие существа.
Конечно, есть убедительные основания сразу же отнестись скептически к любой интерпретации томистского учения в аверроистском духе – прежде всего потому, что, прямо противостоя аверроизму, Фома недвусмысленно утверждает: Бог действительно знает материальные индивидуальные сущие. Более того, Фома настаивает на том, что Бог знает их «в собственном смысле». Иначе говоря, Бог знает индивидуальное как индивидуальное, а не через природы, которые в нем воплощаются, или виды, к которым оно принадлежит. Подводя итог рассуждению на эту тему в «Сумме теологии», Аквинат говорит: «Бог познает все вещи в собственном смысле, сообразно их отличию от прочих вещей»31. И еще: «Божественное знание простирается вплоть до единичных вещей, которые индивидуируются материей»32. Аквинат считал, что материальные единичные вещи должны быть среди объектов божественного знания, потому что признавал, что Бог изначально сотворил единичные материальные вещи и от века прямо и провиденциально правит ими всеми33. Поэтому трудно понять, как Бог мог бы сотворить воплощенные индивидуальные сущие или непосредственно править ими, если бы он не знал их в их индивидуальности.
Проблема в том, что концепция божественного знания, как она изложена у Фомы, по видимости связывает его с определенной разновидностью аверроизма. Виной тому те утверждения Фомы, что Бог познает другие вещи, просто познавая самого себя, и что единая умопостигаемая форма, через которую Бог познает все, есть предельно универсальная форма. Кроме того, те пассажи, где Аквинат называет божественное знание вещей, отличных от него самого, причиной их бытия, тоже по видимости связывают его с каузальной формой универсального эпистемического детерминизма со стороны всемогущего Бога. Вдобавок к тому, что эпистемический детерминизм и аверроистское по духу истолкование божественного познания создают серьезные философские и богословские трудности для Фомы, они противоречат его собственным, прямо выраженным определяющим воззрениям на человеческую свободу и божественное знание единичных вещей. Хуже того, универсальный эпистемический детерминизм и аверроизм явно несовместимы друг с другом.
Я убеждена, что истолкование томистской концепции божественного знания, вовлекающее Фому в указанные затруднения, ошибочно. И хотя я не могу разрешить всех проблем, которые поднимает его концепция, я могу показать, не входя в противоречие с требованием беспристрастности, что она не подразумевает ни аверроизма, ни универсального эпистемического детерминизма со стороны Бога.
Аналогия с ангельским познанием
Чтобы представить томистскую концепцию божественного знания более точно, будет полезным обратиться к томистской теории ангельского познания. Так как Фома считает ангелов полностью нематериальными и сверхчеловеческими, но не всезнающими: существами, и так как его понимание всякого сверхчеловеческого познания в значительной мере сопряжено с его пониманием познания человеческого, рассмотрение ангельского познания у Фомы дает нам ту промежуточную ступень, с которой становятся более понятными его высказывания о божественном познании.
Во-первых, ангельское познание, как и познание всех прочих наделенных умом существ, осуществляется, согласно Аквинату, через умопостигаемые формы. Но ангелы подобны Богу и не подобны людям в том, что познают через формы, которые не извлечены из объектов познания. Так, Фома говорит:
Низшие умные субстанции, то есть человеческие души, обладают способностью постижения, которая не полна от природы, но восполняется в них последовательно, в силу того, что они принимают умопостигаемые формы от вещей. В высших же духовных субстанциях, то есть в ангелах, она по природе восполнена умопостигаемыми формами [species]: они обладают врожденными им умопостигаемыми формами для постижения всего, что они по природе способны познавать34.
И в другом месте:
Ангел никоим образом не познает единичные вещи через приобретенные формы: ни через формы, принятые от вещей, ибо тогда вещи воздействовали бы на его интеллект, что невозможно; ни через какую-либо форму, заново вложенную Богом и нечто заново явившую ангелу, ибо тех форм, которыми ангел обладает от сотворения, достаточно для познания всего, что может быть познано35.
Таким образом, в отличие от человека, который в норме познает стоящую перед ним чашу через умопостигаемую форму чаши, приобретенную в силу причинного воздействия чаши на его органы чувств, ангел считается познающим все то, что он познает, через умопостигаемые формы, сообщенные ему одновременно с его природой в акте творения, то есть через со-тварные ему, или врожденные умопостигаемые формы. Стало быть, подобно Богу, ангел именуется познающим что-либо отличное от него самого исключительно через некий аспект самото себя.
Во-вторых, подобно Богу и в отличие от людей, ангелы – абсолютно нематериальные познающие существа. Поэтому ангельское познание, подобно божественному, полностью интеллектуально и превосходит человеческое интеллектуальное познание как степенью универсальности, так и малым количеством умопостигаемых форм, которые им нужны для познания вещей. Характеризуя ангельское познание, Фома говорит:
Бог постигает все через свою сущность; что же касается высших умных субстанций, они постигают хотя и через множественные формы, но меньшие по количеству и более универсальные, и более действенные для постижения вещей, благодаря мощи интеллектуальной способности, заключенной в этих субстанциях. В низших же субстанциях имеется большее количество форм, и они менее универсальны и менее пригодны для постижения вещей, так как эти субстанции не поднимаются до интеллектуальной мощи высших субстанций36.
В соответствии с этим Фома говорит, что «ангельское интеллектуальное познание более универсально, нежели человеческое интеллектуальное познание, потому что простирается на большее количество вещей с использованием меньшего количества средств»37.
Итак, до сих пор складывается впечатление, что некоторые затруднения, связанные с концепцией божественного познания у Фомы, затрагивают и его концепцию ангельского познания. Если ангелы суть абсолютно нематериальные познающие существа, не имеющие телесных органов чувств, опять-таки трудно понять, каким образом они способны познавать телесные индивидуальные сущие как таковые. Причем, как мы только что видели, Аквинат подчеркивает универсальность их знания. Следовательно, дело выглядит так, что некая разновидность аверроизма угрожает и томистской теории ангельского познания. Далее, Фома исходит из того, что ангелы обладают знанием о вещах, отличных от них самих, через умопостигаемые формы, встроенные в саму их природу, а не через формы, принятые от этих вещей. Стало быть, ангелы, подобно Богу, неким таинственным образом познают отличные от них вещи исключительно путем своеобразной интроспекции. Но как могут существа, чье познание зависит от врожденных умопостигаемых форм, вообще познавать материальные единичные вещи, если только существование и поведение этих единичных вещей не предопределено?
Несмотря на это сходство между ангельским и божественным познанием, Аквинат, конечно, отрицает, будто ангелы, познавая то, что они познают, познают эти вещи как объекты своего воления, то есть что ангельское познание обладает причиняющей силой38. Поэтому, несмотря на то, что умопостигаемая форма в ангельском интеллекте работает как средство познания (подобно форме в человеческом интеллекте или, если речь идет о Боге, в самой божественной сущности), ангельские умопостигаемые формы не причиняют вещей, которые познаются ангелами, как и не извлекаются из вещей.
Столь же однозначно Фома отрицает любую разновидность аверроизма применительно к ангельскому познанию. Ангелы, по его словам, должны знать единичные телесные вещи: «Никто не может охранять то, чего не знает. Но ангелы охраняют людей как индивидов… Следовательно, ангелы знают единичное»39.
Но если ошибочно интерпретировать томистское представление об ангельском познании в духе аверроизма или эпистемического каузального детерминизма, то формальные сходства между концепциями ангельского и божественного познания у Фомы наводят на мысль о равной ошибочности попыток приписывать эти затруднения его концепции божественного знания. Если мы можем объяснить работу ангельского познания, не впадая в аверроизм или каузальный детерминизм, мы также можем прийти к надлежащей интерпретации томистских воззрений на божественное знание.
Подходя к проблеме божественного познания через рассмотрение томистской концепции ангельского познания, было бы, наверное, полезнее всего сосредоточиться на трех вопросах. Во-первых, как может ангел познавать единичное, если характер ангельского познания всецело универсален? Во-вторых, как может ангел познавать единичные вещи, отличные от него самого, не принимая от них форм? Третий, и последний, вопрос: как могут умопостигаемые формы, встроенные в природу ангела при его сотворении, позволить ему познавать единичные вещи, отличные от него самого, если существование и поведение единичных вещей не предопределено? Рассмотрение этих трех вопросов выведет нас на путь к верной интерпретации томистского учения о божественном познании40.
Познавать универсально
Чтобы подойти к ответу на первый вопрос, сущностно важно выяснить, что же подразумевает Аквинат под универсальностью познания. Обсуждая ангельское познание, Фома разъясняет это следующим образом
О том, что нечто познается универсально, говорится в двух смыслах. Во-первых, со стороны познаваемой вещи: например, когда познается только универсальная природа вещи. И в этом смысле познавать нечто универсально означает менее совершенный вид познания: ведь тот, кто познает человека только как живое существо, познает его несовершенно. Во-вторых, это говорится о средстве познания. И в этом смысле познавать нечто универсально означает более совершенный вид познания: ведь тот интеллект, который способен познавать единичное как таковое через одно универсальное средство, совершеннее того, который к этому не способен41.
Другими словами, когда Аквинат утверждает, что ангелы познают универсально, он вовсе не имеет в виду, что универсально всегда то, что они познают, как если бы ангелы имели объектами своего познания только общие природы. Но каков точный смысл этого «познавать универсально», смысл, который имеет в виду Фома, говоря об универсальности ангельского познания?
Найти ответ на заданный вопрос нам поможет признание того факта, что, по мнению Фомы, в этом – другом – смысле даже человеческий интеллект познает индивидуальные вещи универсально. Познавая что-либо, наш интеллект, как правило и прежде всего, схватывает чтойность, или quod quid est вещи42. (Под quod quid est Фома понимает здесь вид, к которому принадлежит вещь и который взят в свернутом виде – то есть, в средневековых терминах, вид в его отличии от дефиниции43). И тем не менее утверждает Фома, человеческий интеллект действительно познает материальные единичные вещи:
Как мы не могли бы ощущать различие сладкого и белого, если бы не существовало общей чувственной способности, познающей то и другое, так мы не могли бы и познавать отношение универсального к единичному, если бы не существовало способности, познающей то и другое44.
Однако человеческий интеллект, продолжает Фома, познает материальные единичные вещи через их общую универсалию:
Итак, интеллект познает то и другое, но разными способами.
В самом деле, природу вида, или quod quid est, он познает, прямо устремляясь к ней, а единичное как таковое – через некую рефлексию, возвращаясь к фантазмам, от коих абстрагируются умопостигаемые формы45.
Другими словами, интеллект использует абстрактную умопостигаемую форму – абстрагированную умом чтойность материальной единичной вещи – как средство познания единичного, схваченного в фантазме. Но при этом умопостигаемая форма оказывается лишь средством, через или благодаря которому интеллект познает материальное единичное; она не есть то, что он познает: «Умопостигаемые формы, которыми: актуализируется возможностный интеллект, не являются объектами интеллекта. Ибо они относятся к интеллекту не как то, что постигается, но как то, посредством чего совершается постижение»46.
То, что здесь подразумевает Аквинат, легче всего пояснить, обратившись к современной нейробиологии. Вследствие неврологического дефекта, вызванного травмой или болезнью, некоторые пациенты страдают различными формами агнозии. Например, пациент со зрительной агнозией имеет нормально работающий входной канал зрительных данных и нормальный понятийный запас, но не может использовать зрительные данные для познания именно потому, что не может ассоциировать эти данные с соответствующими им наличными понятиями.
В популярном рассказе Оливера Сакса о случае зрительной агнозии пациенту, обладающему понятием перчатки и способному идентифицировать ее как таковую в тактильном восприятии, показывали перчатку. Сакс держал ее перед лицом пациента и спрашивал: «Что это?» Вытянутая поверхность с пятью выростами, тотчас отвечал пациент. Когда Сакс вновь спросил: «Да, но что это?», пациент напрягся, воспользовавшись ненадежным методом заключения от акциденций вещи к ее чтойности (как сказал бы Аквинат), и предположил: «Кошелек для мелочи?»47 Пациент мог видеть предъявленный ему единичный материальный предмет, поэтому он легко мог описать то, что представало его глазам как «вытянутая: поверхность с пятью выростами». Но при всем том он не мог опознать предъявленную ему вещь как перчатку именно потому, что посредством доступных зрительных данных не мог ухватить quod quid est того, что видел.
С другой стороны, врач пациента, доктор Сакс, обладая совершенно нормальной зрительной системой, опознавал предъявленную ему перчатку как перчатку; но это не означает, что по этой причине он имел чтойностъ перчатки объектом своего знания. Скорее, как выразился бы Фома, Сакс имел знание этой материальной единичной вещи, знание перчатки как перчатки, через соответствующую универсальную умопостигаемую форму, ассоциируя зрительные данные с понятием перчатка^.
Итак, познавать универсально, в том смысле, в каком, по мысли Аквината, универсально познают ангелы: и люди, означает познавать вещи посредством общей природы, ими разделяемой. Познание единичного требует познавать универсально именно таким способом; даже осознанное видение чаши требует опознать ее как то или иное нечто, которым аффицируется наше зрение. Вот почему человек с нормально работающей зрительной системой видит перчатку как перчатку. Для здорового человека видеть нечто означает видеть это нечто как то, что оно есть. Это и означает «познавать универсально» в релевантном для нашей темы смысле.
Аквинат также считает, что более мощный интеллект способен познавать единичные вещи как подчиненные меньшему количеству универсалий более высокого порядка. Например, маленький мальчик познает мамину одноразовую кофейную чашку, прилагая к ней универсалию чашка. Но (при прочих равных условиях) химик, знающий природу пенопласта, и физик, имеющий понятие о базовых составных частях материи, подготовлены к более глубокому и полному познанию того же самого объекта. Они тоже познают через универсалию чашка, но эта универсалия подпадает под другие универсалии, а те – под третьи, и так вплоть до наивысшей универсалии, достижимой в этом случае для познающего человека; быть может, если речь идет о физике, вплоть до материи как таковой. Научное познание единичного локализуется внутри обширной системы вещей.
Эта черта познания, видимо, и есть то, что имеет в виду Аквинат, когда говорит, что высшие ангелы в познании должны подводить вещи под меньшее количество универсалий, чем низшие ангелы.
Он утверждает:
Чем выше ангел, тем меньше число форм, через которые он мог бы схватить универсальность умопостигаемого. И потому его формы должны быть более универсальными, как если бы каждая из них распространялась на большее число вещей. Некоторым образом нам поможет это понять пример. Есть люди, не способные улавливать умопостигаемую истину, если только она не являет себя в ряде частных случаев, через единичное; и происходит это из-за слабости ума. Другие же, более сильные умом, из меньшего способны уразуметь большее49.
Итак, если иметь в виду второй смысл томистского выражения «познавать универсально», становится ясным, каким образом интеллект, соприкасаясь в познании с индивидуальными сущими, познает их в силу универсального характера познания50.
Познавать через со-тварные умопостигаемые формы
Такой ответ на первый вопрос об ангельском познании, казалось бы, усложняет ответ на второй и третий вопросы. Как может ангел познавать другие тварные вещи, не принимая от них умопостигаемых форм? Человек познает конкретную чашу через умопостигаемую форму чаши, но люди, как правило, принимают свои умопостигаемые формы познаваемых объектов от самих объектов51. Как могут умопостигаемые формы, встроенные в природу ангелов при их сотворении, позволить им познавать другие, отличные от самих ангелов индивидуальные вещи, не принимая форм от этих вещей? Фома и сам признает это затруднение и точно формулирует его:
Если бы через форму, сотворенную вместе с ним, ангел мог познавать нечто единичное сейчас, он знал бы его от начала творения, пока оно было будущим. Но этого не может быть, потому что знать будущее свойственно только Богу52.
Решение здесь зависит, во-первых, от того, признаем ли мы, как раньше, что в познании единичного умопостигаемая форма есть не то, что познается, а всего лишь средство, через которое осуществляется познание. Так, Фома говорит:
Умопостигаемая форма так относится к интеллекту, как чувственная форма – к чувству. Но чувственная форма не есть то, что ощущается, а скорее то, посредством чего чувство ощущает. Следовательно, умопостигаемая форма есть не то, что постигается в акте, но то, посредством чего постигает интеллект53.
За исключением случаев интроспективного всматривания в наши собственные понятия, умопостигаемая форма единичной вещи, по мнению Фомы, не является объектом познания, но служит чем-то вроде репрезентации объекта, посредством которой: познается: единичное54.
Нам также поможет признание того факта, что, как свидетельствуют сегодняшние нейробиологические исследования агнозии, прямое непосредственное познание внементальных вещей включает в себя, как минимум, три компонента. Это (а) познавательный контакт с некоторой вещью, наподобие того, который осуществляет пациент с агнозией, обладающий нормальным во всех прочих отношениях зрением, когда он принимает зрительные данные от чего-то визуально предъявленного ему и выполняет их первичную обработку. Затем следует обработка этих зрительных входных данных на более высоком уровне, которая подразумевает два компонента: (Ь) обладание понятием, или умопостигаемой формой55, посредством которой то, с чем мы соприкасаемся, становится постижимым; и (с) приложение соответствующих понятий, или умопостигаемых форм, которыми мы обладаем, к тому, с чем мы находимся в познавательном контакте. Пациенту с агнозией: в опыте Сакса доступны уровни: (а) и (Ь), но он неспособен достигнуть уровня (с): он не может применить понятие перчатка, которым действительно обладает, к предъявленной ему перчатке. Вот почему он может правильно описать свойства перчатки, но не может опознать ее как перчатку. Поэтому зрительная: агнозия не позволяет ему иметь адекватное знание об этой перчатке.
Схема этого трехчастного анализа процесса познания обнаруживается в том объяснении, которое дает ангельскому познанию сам Фома. Воображаемому противнику Аквинат приписывает возражение в том духе, что ангелы не могут иметь никакого нового знания именно потому, что все их умопостигаемые формы, или репрезентации, встроены в них при сотворении. Фома отвечает, что, хотя ангелы и не принимают никаких новых умопостигаемых форм, они способны к новому знанию, потому что могут по-новому применять формы, имеющиеся: у них по природе, к вновь представшим перед ними вещам56.
Итак, умопостигаемые формы, это средство ангельского или человеческого познания, подобны: концептуальным линзам. Ангельский или человеческий интеллект как бы глядит сквозь них на вещи, с которыми находится (посредством чего-либо) в познавательном контакте, чтобы познать этих вещи или сделать их постижимыми. В такой интерпретации томистского понятия: умопостигаемых форм не имеет большого значения, обретаются ли эти концептуальные линзы в опыте, как это происходит у людей, или же они составляют часть изначального устройства познающего существа. Нетрудно предположить, что средства познания должны приниматься от внементальных вещей: ведь тогда легко объединить различные компоненты когнитивного процесса и считать принятие умопостигаемых форм единственным средством, которое обеспечивает познавательный контакт и в то же время делает постижимыми вещи, с которыми познающий вступает в контакт. Но пример пациента с агнозией ясно свидетельствует о том, что речь идет о разных компонентах. Когда от причудливой, но приемлемой общей характеристики («вытянутая поверхность с пятью выростами») он переходит к неверной видовой характеристике («кошелек для мелочи»), несмотря на то, что обладает правильным понятием перчатки, он тем самым выдает, что владеет лишь некоторыми, но не всеми компонентами. Хотя пациент с агнозией обладал умопостигаемой формой перчатки (как сказал бы Аквинат) еще до того, как ему показали перчатку, он неспособен сделать того, что, по мнению Аквината, делают ангелы с умопостигаемыми формами в интеллекте от начала творения, а именно приложить эту форму заново к чему-то вновь представшему перед его сознанием.
Итак, томистская концепция ангельского познания предполагает своего рода различение между компонентами процесса познания, которое было намечено выше. Но легче всего понять обсуждение ангельского познания у Фомы, связав его с компонентами (Ь) и (с), но не с компонентом (а), не с установлением познавательного контакта. Пациент с агнозией устанавливает визуальный познавательный контакт с предъявленной ему перчаткой, потому что перчатка оказывает причинное воздействие на его глаза. Но в томистской концепции присущих ангелам со-тварных умопостигаемых форм или способности ангелов прилагать эти формы нет ничего, что объяснило бы каким образом ангелы, не имеющие органов чувств, могли бы, с точки зрения Фомы, осуществлять познавательный контакт с индивидуальными вещами.
Подведем итог этому краткому изложению томистской концепции ангельского познания. То утверждение, что ангелы должны познавать универсально, вовсе не означает, что универсалии суть единственные объекты ангельского познания. Напротив, мысль Аквината состоит в том, что врожденные по природе, универсальные умопостигаемые формы служат для ангелов средством сделать постижимыми те единичные объекты, с которыми они вступают в познавательный контакт. И, по меньшей мере, некоторые из приводящих в замешательство черт томистской концепции можно прояснить, признав, что Аквинат прежде всего пытается объяснить природу ангельских репрезентаций, а не способ, каким ангелы устанавливают познавательный контакт с единичными объектами своего познания.
Познание творений богом
Эти разъяснения томистской теории ангельского познания помогут нам понять его концепцию божественного знания. Одним из моментов этой концепции, приводящих в замешательство, является то утверждение Аквината, что Бог познает отличные от него самого вещи, «поскольку его сущность содержит подобия отличных от него вещей»57, и что Бог познает посредством единственной, совершенной в своей универсальности умопостигаемой формы. Так вот, оба эти утверждения можно рассматривать как логическое продолжение томистской теории ангельского познания.
Так как Фома считает Бога самим бытием, божественная природа, с точки зрения Фомы, есть наиболее универсальная форма, через которую могут быть познаны все вещи. Величайшая унифицированная Теория Всего объяснила бы творения не в терминах фундаментальных частиц и сил, а в терминах причастности творений к субсистентному бытию. Таким образом, для Бога познавать тварные вещи в самом себе, через свою собственную природу – умопостигаемую форму бытия, означает познавать их настолько глубоко и понимать их настолько полно, насколько это возможно58. Ничто в этом воззрении Аквината не подразумевает, что единственным предметом божественного знания является всеобщее, или что Бог познает только общие природы, но не единичные вещи. Точно так же углубленное понимание материи со стороны физика не подразумевает, что физик не способен познать обычные материальные индивидуальные вещи вроде этой чаши. Сходным образом то утверждение, что единственной умопостигаемой формой для Бога является его собственная природа, не означает, что Бог не может познавать индивидуальное, потому что эта единственная умопостигаемая форма есть не что иное, как средство, через которое Бог познает единичное. Аквинат говорит: «Бог познает свои следствия через свою сущность, как через подобие вещи познается сама вещь»59. Как человеческий интеллект познает телесную единичную вещь вроде вот этой чаши через умопостигаемую форму чаши, так сущность Бога служит умопостигаемой формой, через которую Бог познает всякую тварную единичную вещь.
(Однако между человеческим интеллектом и божественным умом существует следующее важное различие: за исключением случая интроспекции, для человеческого интеллекта умопостигаемая форма служит только средством познания, но не является, кроме того, предметом познания. Бог же не только вечно познает через свою сущность, но и вечно познает саму сущность, ибо он прежде всего познает себя, а вместе с собой и все прочие вещи. Именно поэтому Аквинат говорит, что «Бог познает себя и другие вещи одним актом познания»60).
Итак, в случае божественного познания, как и в случае ангельского познания, некоторые смущающие черты томистской концепции проясняются. Нужно только видеть в ней теорию природы подобия, или умопостигаемой формы, через которую осуществляется божественное познание, и теорию способа, которым это божественное подобие, или форма, делает постижимыми все вещи, а не теорию того способа, каким Бог вступает в познавательный контакт в творениями, или способа, каким единственное божественное подобие прилагается к объектам божественного познания.
Интеллектуальное познание материальных единичных вещей
Существует, разумеется, и другая проблема, связанная с тем, как именно, с точки зрения Аквината, нематериальный субъект-агент познания – Бог или ангел – способен познавать материальные единичные вещи. В случае человеческого интеллекта Фома настаивает на том, что интеллектуальное познание материальных единичных вещей нуждается в совместной работе интеллекта и чувств, ибо только чувства находятся в контакте с материальным единичным. Но могут ли Бог и ангелы, не имея чувств, познавать материальные вещи?
В связи с этим полезно будет прояснить природу проблемы, как ее видит Аквинат. В чем, с его точки зрения, заключается проблематичность познания материального объекта нематериальным интеллектом? И почему он считает, что прямое познание человеком материальных единичных вещей возможно только через посредство чувств? Философы, выдвигающие возражения против дуализма, обычно усматривают проблему в том, что нематериальный агент познания познает материальный объект: они исходят из того, что знание требует причинного воздействия познаваемой вещи на акт, совершаемый субъектом познания, и неспособны представить себе, чтобы нематериальный познающий мог аффинироваться причинным воздействием со стороны материальной вещи. Но Фома не рассматривал бы проблему в этих терминах; с его точки зрения, главная проблема в другом.
Фома согласился бы с тем, что интеллектуальное познание материальной единичной вещи нельзя объяснить в терминах нематериального бытия ума, непосредственно аффицированного причинным воздействием материального объекта61. В этом смысле он был бы на стороне современных противников дуализма: с точки зрения Фомы, ничто материальное не способно оказывать причинное воздействие на нематериальное, в том числе на нематериальный человеческий интеллект. В его понимании процесса человеческого познания материальный объект познания оказывает производящее причинное воздействие на когнитивный процесс, но только вплоть до того пункта этого процесса, куда Аквинат помещает фантазмы – продукты чувственной обработки данных62. В этом пункте направление производящей причинности переворачивается: чтобы интеллект мог нечто познавать, он должен оказывать причинное воздействие на фантазму63.
Итак, в том пункте, где человеческий интеллект становится активным в когнитивном процессе, на пороге интеллектуального познания, цепь производящей причинности, восходящая в конечном счете к внементальному материальному объекту, завершается. Здесь человеческий интеллект полагает начало новой причинной цепи, где порядок причинности следует от интеллекта к фантазме, не наоборот64. Единственное причинное отношение, непрерывно идущее в направлении от материального объекта к интеллекту, есть формальная причинность: через нее форма внементального материального объекта сохраняется в абстракции, производимой интеллектом, когда он отвлекает от фантазмы все удержанные в ней индивидуальные характеристики.
Следовательно, для Аквината процесс прихода к интеллектуальному познанию никогда не является результатом воздействия материального объекта, его производящей причинности на нематериальный интеллект. Стало быть, то утверждение, что материальное не может причинно воздействовать на нематериальное, не составляет проблемы для его концепции божественного и ангельского познания, равно как и для концепции познания, осуществляемого человеческим интеллектом. Фома вовсе не считает, что даже человеческое познание имеет своей причиной такое воздействие. Итак, применительно к томистской концепции божественного познания материальных единичных вещей проблему следует сформулировать иначе.
Во-первых, проблема, как ее видит Аквинат, связана с материей не в современном ее понимании, любую частицу которой он охарактеризовал бы как соединение материи и формы, а с материей вне всякой формы. Во-вторых, проблема возникает как следствие томистской теории функционирования всякого познания. Познание требует, чтобы форма, или подобие познаваемой вещи, пребывала в познающем; познание со стороны нематериального человеческого интеллекта требует, чтобы формы внементальных материальных вещей, которые он познает, абстрагировались от этих вещей. Но форма, или подобие любого материального объекта отлична от материи этого объекта. Стало быть, принимая умопостигаемую форму материального объекта, абстрагированную от самого объекта, человеческий интеллект вступает в познавательный контакт лишь с чем-то нематериальным. Он не соприкасается непосредственно с материей познаваемого объекта. Но в метафизике Аквината индивидуирующим компонентом материальных объектов выступает материя, а не форма. Если нематериальный интеллект вступает в контакт только с нематериальной формой материального объекта, то он не соприкасается с тем, что делает объект индивидуальной вещью.
Следовательно, реальной проблемой для Аквината оказывается здесь не то, что нематериальный интеллект не может аффицироваться причинным воздействием материальной вещи: ведь, с его точки зрения, интеллектуальное познание и не требует подобного воздействия. Проблема в том, что нематериальный интеллект по природе способен вступать в прямой контакт только с нематериальными аспектами материальных единичных вещей. Фома говорит:
Всякая форма сама по себе универсальна; поэтому добавление формы к форме не может быть причиной индивидуации: ведь сколько бы форм ни соединить вместе одновременно… они не образуют единичного… Индивидуация формы производится материей, через которую форма ограничивается до вот этой определенной вещи66.
В случае человеческого интеллектуального познания умопостигаемые формы, через которые человек обретает знание внементальных материальных объектов, принимаются от этих познаваемых объектов: они начинают процесс познания, причинно воздействуя на человеческие органы чувств. Но абсолютно бесформенная материя абсолютно инертна, поэтому она есть чистая потенциальность и не может воздействовать ни на что. Следовательно, материя как таковая, бесформенная материя, никак не может причинно воздействовать на познающего человека. По словам Аквината,
Из-за слабости своего бытия, ибо она существует лишь в потенции, материя не может быть началом действия; и поэтому вещь, которая воздействует на нашу душу, воздействует только через форму. Отсюда подобие вещи, запечатлеваемое в нашем чувстве и поэтапно очищаемое, пока оно не достигнет интеллекта, есть исключительно подобие формы.
Стало быть, человеческий интеллект не может прямо познавать индивидуирующие материальные компоненты материальных объектов. Следовательно, человеческий интеллект не может непосредственно познавать единичные сущие.
Применительно к человеку проблема познания материальных единичных вещей решаема, потому что человеческие органы чувств телесны и принимают телесные напечатлевания от ощущаемых материальных вещей:
Чувство есть сила в телесном органе… Но все, что принимается во что-либо, принимается по способу принимающего… Стало быть, надлежит, чтобы чувство телесно и материально принимало подобие чувствуемой вещи.
Кроме того, Аквинат говорит:
Объектом любой чувственной потенции является форма как существующая в телесной материи. А поскольку такая материя служит принципом индивидуации, любая чувственная потенция познает только единичное69.
Другими словами, чувства, в отличие от интеллекта, могут вступать в контакт с материей познаваемого – по крайней мере, в том отношении, что чувства телесно аффицируются ощущаемыми материальными вещами. Познаваемый материальный объект причинно воздействует на материю органа чувства и производит в нем материальное изменение. Благодаря этому орган ощущения соприкасается с материей объекта. Осмысляя или «обрабатывая» входные данные, имеющие своим источником такие телесные напечатлевания материальных объектов в телесном органе, нематериальный интеллект сам способен познавать материю лишь косвенно, через обращение к фантазмам. Следовательно, по словам Аквината, «интеллект познает то и другое [общее и единичное], но не одним и тем же способом»70.
Но, разумеется, этот способ решения проблемы применительно к человеческому интеллектуальному познанию не годится для божественного и ангельского познания. Бог и ангелы не принимают умопостигаемых форм от внементальных познаваемых вещей. Ангелы обладают формами вещей, вложенными в них при сотворении Богом, а Бог познает все сотворенные им вещи через универсальную умопостигаемую форму, которая есть его собственная природа. И ни Бог, ни ангелы не принимают телесных напечатлеваний материальных объектов в органы чувств[21]. Тогда почему их можно считать познающими телесные единичные вещи, в том числе, например, людей? Или, более точно формулируя вопрос: каким образом они познают индивидуирующую материю познаваемых ими телесных индивидов, коль скоро они не могут, подобно человеческому интеллекту, обратиться к продуктам чувств?
Для Фомы ответ на этот вопрос связан с тем фактом, что среди сотворенных Богом вещей фигурирует и сама материя. Иначе говоря,
Бог не только составляет композиты из материи и формы, подобно любому ремесленнику или изобретателю, но и творит бесформенную материю, субстрат формы любых материальных объектов. Именно этот аспект его творческой активности заслуживает имени творения ex nihilo. Будучи «изобретателем» материи, Бог познает ее через совершенную в своей полноте универсальную форму – свою собственную природу, причем познает, разумеется, не принимая своего знания от материи. Наоборот, он творит материю, чтобы воплотить то знание, которое у него уже есть. И посредством такого «изобретающего» познания материи Бог познает саму материю так, как познающий человек ее познать не способен. Фома говорит:
От форм вещей, существующих в божественном уме, проистекает бытие вещей, общее для формы и материи; вот почему эти формы непосредственно соотносятся с материей и формой…
И таким образом наш ум имеет нематериальное познание материальных вещей; однако божественный и ангельский ум познает материальное более нематериальным, но более совершенным способом71.
Итак, тот факт, что бесформенная материя не может воздействовать на что бы то ни было, не составляет проблемы для Бога и ангелов, потому что у них нет нужды принимать форму материи от материи. Форма материи заранее пребывает в уме Бога, еще до того, как он творит материю; и он встраивает эту форму, вместе со всеми другими формами, в умы ангелов при их сотворении. Таким образом, форма материи доступна как Богу, так и ангелам, и может быть приложена к материальным объектам в познании, вкупе со всеми прочими: формами, воплощенными в этих объекта. Сама материя внементальных объектов становится постижимой для Бога и ангелов благодаря форме материи, которой они обладают.
Теория Аквината разрешила проблему познания материальных объектов нематериальным познающим в том виде, в каком эта проблема вставала перед Аквинатом, в контексте его метафизики и его понимания природы познания. Это решение позволило Фоме объяснить в собственных терминах, каким образом внементальный материальный объект постижим для нематериального субъекта познания, не могущего познавать материальные вещи чувствами.
Тем не менее это решение оставляет без ответа одно затруднение. В случае человеческого познания материальных объектов операция чувств объясняет две части процесса познания. Она объясняет не только то, каким образом материальный объект оказывает причинное воздействие на познающего человека, позволяя ему принять некоторые формы объекта, необходимые для его постижимости, но и то, каким образом познающий: человек вступает в познавательный: контакт именно с этим, а не иным объектом. Когда же речь идет о познании материальных объектов Богом и ангелами, томистская концепция материальной: формы, предсуществующей: в интеллекте, объясняет лишь то, каким образом познаваемый материальный объект, в его материальности, постижим для Бога и ангелов; но никоим образом не объясняет способа, каким Бог или ангел вступает в познавательный контакт именно с этим единичным объектом. Если принять во внимание, что форма материи в божественном или ангельском уме едина, как может нематериальный ум познавать через нее именно этот, а не какой-то другой: единичный материальный: объект? (Комментарий к этой проблеме будет дан в конце этой главы).
Причинный характер божественного знания
Теперь мы наконец можем рассмотреть то утверждение Аквината,
что божественное знание имеет причинный характер. Как было сказано во введении к настоящей главе, это утверждение часто понимается в следующем смысле: (1) Бог знает все, что он знает, в силу того, что его знание выступает производящей причиной познаваемого. Или в более слабой версии: (2) Бог знает все, что со временем произойдет в реальном мире, потому что его знание является производящей причиной этой части познаваемого. Или в еще более слабой версии: наше знание, например, того факта, что Брут – один из убийц Цезаря, зависит от действия Брута; божественное знание того факта, что Брут – один из убийц Цезаря, есть причина действия Брута. По соображениям, которые приведены выше (и которые последуют ниже), я считаю эту интерпретацию мысли Фомы неверной.
Возможно, здесь будет полезным прояснить, что я отрицаю и чего не отрицаю. Я не отрицаю, что Аквинат утверждает каждое из следующих положений: (3) божественное знание имеет причинный характер (в определенном смысле термина «причинный»); (4) Бог является первичной производящей причиной (в определенном смысле термина «первичная причина»72) существования всех тварных субстанций в мире; (5) имеются некоторые действия, события или состояния дел, производящей причиной которых является Бог73. Но я считаю ошибочным приписывать Фоме тезисы (1) и (2), причем ложность (1) и (2) совместима с истинностью (3)-(5).
С моей точки зрения, именно атрибуция Аквинату следующих допущений стоит за ошибочным пониманием его концепции божественного знания:
(допущение А): причинность, свойственная божественному знанию, есть производящая причинность;
(допущение В): следствия причинности, присущей божественному знанию, включают в себя все действия, события и состояния дел в мире.
Я думаю, что оба допущения приписываются Фоме ошибочно. (И, разумеется, если Фома не делал второго допущения, он также не считал, что божественное знание «само по себе является производящей причиной познаваемого»74).
Будет удобно начать с тщательного рассмотрения вопроса о природе причинности, которую приписывает Фома божественному знанию. Хотя современная философия почти всегда имеет в виду производящую причинность, когда говорит о причинности, Аквинат, безусловно, следует за Аристотелем и признает четыре разных рода причин: материальную, целевую, формальную и производящую.
Собственную природу Бога Фома считает умопостигаемой формой, через которую Бог познает все:
Бог познает свою сущность совершенно, а значит, познает ее всеми способами, какими она познаваема. Но она может познаваться не только сообразно тому, какова она в самой себе, но и сообразно тому, что к ней – через ту или иную разновидность подобия – могут быть причастны творения75.
Стало быть, когда природа Бога рассматривается как умопостигаемая форма, через которую Бог познает прочие вещи, божественная природа выполняет эту функцию благодаря тем способам, которыми тварные вещи могут быть причастными к ней. В уме Бога эти способы существуют как божественные идеи76, формы или подобия77 возможных подражаний божественной природе. Аквинат утверждает, что они играют роль в совокупности божественного знания сущих, отличных от самого Бога78.
Божественные идеи, по выражению Фомы, аналогичны идеям в уме ремесленника. Они подобны тем образцам, которые держит в уме ремесленник, прежде чем изготовить что-либо79. Любимая аналогия Фомы, иллюстрирующая его представление о божественной идее, – замысел в уме строителя, в соответствии с которым тот начинает строить дом80. Точно в таком же смысле божественные идеи выступают причиной вещей, сотворенных в согласии с ними. Доказывая, что божественное знание служит причиной познаваемого, Аквинат говорит:
Божественное знание так относится ко всем тварным вещам, как знание ремесленника относится к продуктам ремесла. Но знание ремесленника служит причиной изделий ремесла потому, что ремесленник совершает свои операции сообразно интеллекту; следовательно, форма в интеллекте должна быть началом операций81.
Таким образом, божественные идеи суть образцы: любая вещь, которую творит Бог, обладает своей формой через подражание той форме, каковой является божественная идея, репрезентирующая эту вещь. Но тогда божественные идеи служат формальными, а не производящими причинами.
Форма есть некоторым образом причина того, что оформляется в соответствии с ней, совершается ли такое оформление по способу укорененности, как это происходит в случае внутренних форм, или по способу подражания, как это происходит в случае форм-образцов82.
Замысел, который держит в уме строитель, начиная строить дом, служит формальной причиной дома, отнюдь не его производящей причиной. И потому Аквинат говорит:
Для того, чтобы нечто единичное было познано, необходимо, чтобы в познавательной потенции пребывало его подобие как единичного… Но подобие познаваемой вещи пребывает в познающем двумя способами: во-первых, в качестве причинного следствия вещи, как, например, подобия тех вещей, которые познаются через формы, абстрагированные от вещей; во-вторых, в качестве причины вещи, как это происходит с ремесленником, познающим свое изделие через ту форму, через которую он его изготавливает83.
Именно потому, что Аквинат понимает причинность божественного знания как причинность формальную, он так говорит о божественном знании:
Природные вещи занимают срединное положение между божественным знанием и нашим знанием. В самом деле, мы принимаем знание от природных вещей, для которых Бог, через его знание, является причиной. Поэтому как природные познаваемые вещи предшествуют нашему знанию и служат для него мерой, так божественное знание предшествует природным вещам и служит для них мерой. Точно так же некий дом есть среднее между знанием строителя, его построившего, и знанием того, кто принимает знание о доме от него самого, когда он уже построен84.
Следовательно, когда Аквинат говорит, что божественное знание обладает причинностью, он не имеет в виду, что акт божественного познания порождает в качестве производящей причины познаваемое Богом. Скорее, он имеет в виду, что божественные идеи служат формальными причинами вещей, которые Бог творит или может сотворить. Вот почему Фома не смущается одновременно утверждать (что он и делает в следующем пассаже), что божественное знание служит причиной познаваемого Богом, и что Бог познает вещи, которые не существуют, потому что Бог не произвел их к бытию:
Знание в божественном интеллекте так относится к вещам, как знание ремесленника к продуктам ремесла, поскольку он через свое знание выступает причиной вещей. Но ремесленник, познавая свое ремесло, познает и то, что еще не изготовлено… Стало быть, ничто не препятствует тому, чтобы в знании ремесленника пребывали и те формы, которые пока не произведены вовне. А значит, ничто не препятствует и Богу иметь знание о том, чего еще нет85.
Если божественное знание есть формальная причина вещей, то причинность, о которой идет речь, в отличие от производящей причинности, совместима с не-существованием вещей. Причиняемое производящей причинностью выводится в бытие; но формальная причина есть просто форма вещи, которая может начать или не начать существовать, в зависимости от того, выводится ли она в бытие действием производящей причины или нет.
Эти соображения выявляют ошибочность атрибуции Аквинату как допущения А, так и допущения В, упомянутых выше. Мы показали, что для Аквината причинное действие божественного знания есть формальная, непроизводящая причинность; следовательно, он не придерживается допущения А. Но по тем же причинам очевидно, что Аквинат не придерживается и допущения В. Средневековые философы, включая Фому, любили дистинкцию материи – формы и, вообще говоря, стремились прилагать ее ко всему подряд; но когда они это делают, они выражаются фигурально, а не буквально и строго.
В строгом и собственном смысле формальная причина вещи – это форма сущего, представляющего собой либо форму, либо соединение материи и формы. Но все то, что является формой или композитом из материи и формы, есть либо субстанция или артефакт, либо часть субстанции или артефакта. Действия, события и состояния дел не являются ни субстанциями, ни артефактами, ни частями того или другого. Не существует ремесленников, изготовляющих состояния дел; и строители возводят артефакты, а не события или деяния. Таким образом, форма дома в уме строителя есть причина существования дома, но не причина связанных с домом состояний дел, например, его ветхости, или связанных с домом событий, например, его разрушения при пожаре. Следовательно, формальные причины суть причины таких вещей, как субстанции и артефакты; они не могут причинять действий, событий или состояний дел.
Стало быть, ошибочно также приписывать Фоме допущение В. Формальная причинность, свойственная божественному знанию, выступает формальной причиной вещей, обладающих формами. Разумеется, если мы в совершенстве знаем форму вещи, мы в силу этого знаем и те черты вещи, которыми ее наделяет форма. Строитель, в совершенстве знающий форму дома, знает, например, как много людей может безопасно находиться в нем. Но остается верным и то, что форма дома в уме строителя не является причиной обрушения дома, если в него набьется слишком много людей.
Итак, Фома не придерживается ни допущения А, ни допущения В. Поэтому даже те интерпретации его учения о божественном знании, которые приписывают Фоме более слабое утверждение (2), ошибочны. Этот вывод совместим с тем, что Бог выступает также производящей причиной, и его производящая причинность простирается в том числе на некоторые действия, события и состояния дел. Этот вывод, который я здесь отстаиваю, отрицает лишь то, что божественное знание служит единственной производящей причиной и что оно причиняет все то или все то временное в мире, что составляет содержание божественного знания. Но это отрицание не наносит ущерба учению Фомы; это просто необходимость, вынужденная угрозой непоследовательности, как было показано в начале этой главы. Наконец, если понимать причинность божественного знания у Фомы как формальное знание, этим отбивается обвинение в том, что концепция Фомы подразумевает познавательный детерминизм. Формальная причинность в отношении вещи совместима с отсутствием причинного детерминизма в отношении этой вещи.
Познавательный контакт
Хотя предшествующее рассмотрение разрешило некоторые затруднения, с коих мы начали эту главу, ибо оно прояснило, что томистская концепция божественного знания не есть разновидность аверроизма и не подразумевает познавательного детерминизма в отношении всего познаваемого Богом, тем не менее остается нерешенной одна важная проблема. В начале этой главы был задан вопрос: каким образом познает всезнающий нематериальный Бог? Казалось бы, томистская концепция божественного знания дает на него детальный, убедительный ответ. Но по меньшей мере часть того, о чем спрашивается в этом вопросе, пока не получила ответа. Обращаясь к анализу процесса познания на примере нейробиологического исследования агнозии, мы можем сказать, что частью ответа на вопрос должно стать прояснение того способа, каким всезнающий нематериальный Бог вступает в познавательный контакт с вещами тварного мира.
Здесь стоит отметить, что, хотя хорошей иллюстрацией этого анализа служит современная нейробиология, сам анализ как таковой предполагается уже у Фомы. Например, Фома принимает в качестве предпосылки различение между тем, чтобы находиться в познавательном контакте с чем-либо, и тем, чтобы делать интеллектуально понятным то, с чем находишься в познавательном контакте. Бог делает преходящие вещи понятными, познавая их через умопостигаемую форму – собственную сущность; а в познавательном контакте с преходящими вещами он находится потому, что они вневременно явлены ему. Так, анализируя божественное знание времени, Фома высказывается в следующем духе: «Весь ход времени и то, что случается во времени, пребывают внутри божественного взгляда как настоящее и как сообразное ему»86.
Третий элемент в анализе когнитивного процесса, а именно приложение понятия умопостигаемой формы к тому, с чем некто находится в познавательном контакте, тоже предполагается в томистском обсуждении знания. Например, Фома говорит:
Всякое познание совершается согласно некоторой форме, которая пребывает в познающем как начало познания. Но такая форма может рассматриваться двояко: одним способом – сообразно бытию, которым она обладает в познающем; другим способом – сообразно ее отношению к вещи, подобием которой она является. Итак, с точки зрения первого отношения она делает познающего познающим в акте, а с точки зрения второго отношения она определяет познание к некоторому определенному предмету познания87.
Умопостигаемая форма, через которую Бог познает свою собственную природу, делает его актуально познающим все, с чем он находится в познавательном контакте. Но, как отмечает Фома, здесь должно иметь место также отношение между умопостигаемой формой и познаваемым отношение, которое «определяет познание к некоторому определенному предмету познания».
Аквинат прямо использует этот анализ познания, в том числе в отношении божественного знания. Как мы видели, Фома доказывает, что, когда ангел обретает новое знание чего-либо, он не принимает новой репрезентации, или умопостигаемой формы, но просто по-новому прилагает уже наличную умопостигаемую форму. Фома объясняет эту черту ангельского познания ссылкой на познание божественное:
Это приложение нужно понимать в соответствии с тем способом, каким Бог прилагает идеи к познанию вещей, то есть не как [само по себе] познаваемое средство познания иного, но как модус познания познаваемой вещи88.
Итак, Фома признает, что познавательный процесс включает в себя нечто большее, чем обладание понятием, или умопостигаемой формой. В приведенной цитате он указывает на то, что это необходимое большее есть приложение умопостигаемой формы к познаваемой вещи.
Стало быть, в концепции божественного знания у Фомы применительно к Богу тоже будет верным, что прямое и непосредственное познание внементальных вещей включает в себя, как минимум, три элемента: (а*) пребывание Бога в познавательном контакте с любым предметом познания; (Ь*) обладание понятием, или умопостигаемой формой познаваемого89; (с*) приложение этого понятия, или формы, к тому, с чем Бог находится в познавательном контакте.
Большую часть прямого обсуждения божественного знания у Фомы составляет разъяснение пункта (Ь*), то есть попытка показать, каким образом Бог обладает формой, необходимой для познания отличных от него самого вещей. Что же касается двух других элементов божественного познания, то их трактовка явствует из того, что Фома говорит о них в описании божественного знания, в рассуждении об ангельском познании, в общем обсуждении интеллектуального познания.
Если принять во внимание главенство доктрины об абсолютной простоте Бога в философской теологии Аквината, а также трудность объяснения того, каким образом идеи вещей пребывают в простом Боге, то, пожалуй, можно понять, почему внимание Фомы фокусируется именно так. Но остаются проблемы, и одна из них – природа познавательного контакта Бога с творениями.
Аквинат ясно представляет себе, каким образом устанавливается познавательный контакт в том случае, когда человек познает внешний объект: познаваемая вещь воздействует на органы чувств познающего, и познавательный контакт конституируется этой причинной связью. Но, конечно, объяснение такого рода не годится для познавательного контакта Бога с творениями. Тогда каким образом, с точки зрения Аквината, Бог устанавливает познавательный контакт с тварными вещами, которые он познает?
Дело выглядит так, как если бы ответ Фомы на этот вопрос не слишком отличался от голой констатации: «Он просто делает это!»90 Отвечая на вопрос о божественном познании единичных материальных вещей, Фома склонен высказываться следующим образом
Бог познает единичное. В самом деле, все совершенства, находимые в творениях, предсуществуют в Боге более высоким образом… Но познание единичного принадлежит к нашим совершенствам; поэтому необходимо, чтобы Бог познавал единичное.
И Философ тоже считает несуразным, чтобы мы могли познавать нечто, что непознаваемо для Бога91.
Но сколь бы ни был неопределенным этот стандартный ответ, он тем не менее выражает ведущую идею Фомы, которая проявляется в его подходе к божественной природе через экстраполяцию свойств человеческой природы: все то, что можем исполнить мы (и что не заключает в себе человеческого несовершенства), еще лучше может исполнить Бог.
Но в текстах Фомы можно найти и более содержательный ответ. Фома разделяет все знание на два рода:
Один именуется знанием через усмотрение, которым познается то, что есть, было или будет. Другое – простой осведомленностью, которой познается то, чего нет, не было и не будет, но что может быть92.
В текстах, однозначно свидетельствующих о том, что сам Аквинат считал возможным приписывать Богу аналогически истолкованную «перцептуальную парадигму познания»93, Фома утверждает, что Бог должен обладать этими двумя видами: знания. Неактуализованное возможное познается Богом
согласно познанию через простую осведомленность. То же, что по отношению к нам является настоящим, прошлым или будущим, Бог познает согласно тому, что оно находится в его потенции, и в собственных причинах, и в самих себе. И такое познание именуется познанием через усмотрение94.
Есть много других мест, где Аквинат говорит о божественной интеллектуальной интуиции95, божественном видении96, божественном зрении97, божественном взгляде98. Вещи, с которыми Бог находится в познавательном контакте, становятся постижимыми через умопостигаемую форму, которая есть сущность Бога и дробится на множество отображений в божественных идеях – этих формальных причинах тварных вещей. Но дело выглядит так, словно, по мнению Фомы, Бог находится в познавательном контакте с творениями в силу некоего метафорического или аналогического «созерцания» творений.
То утверждение, что познавательный контакт Бога с творениями есть разновидность «созерцания», помогает понять и то, каким образом Фома объясняет божественное знание будущих случайных событий. Фома считает, что для такого объяснения необходима доктрина божественной вечности, суть которой в том, что преходящие вещи, будь они для нас прошлыми, настоящими или будущими, для Бога фактически пребывают в настоящем. Но трудно понять, почему божественный способ познания требует присутствия своих объектов, – разве что мы признаем, что Фома пытается анализировать познавательный контакт Бога с творениями в терминах своеобразного божественного «видения». Видение вещи требует, чтобы она некоторым образом стояла перед глазами.
Итак, томистскую теорию познавательного контакта Бога с тварными вещами можно выстроить как теорию божественного видения в несколько расширенном смысле этого термина. Но при таком подходе возникают проблемы.
Наиболее очевидная из них связана с бесстрастием Бога. Если познавательный контакт Бога с творениями заключается в том, чтобы вневременно «созерцать» их, то познание творений и совершаемых ими действий не нарушает неизменности Бога: вне времени, безусловно, никакое изменение невозможно. Представляется, однако, что любой процесс, который можно считать видением случайного, подразумевает рецептивность"; а так как восприятие чего-либо есть разновидность претерпевания, создается впечатление, что «видение» творений несовместимо с бесстрастием Бога.
Некоторые из видов рецептивности, или претерпевания, признаваемых Фомой, включают в себя ухудшение или улучшение: например, таковы заболевание и выздоровление. Это вид рецептивности, или претерпевания, с наибольшей очевидностью исключается божественным бесстрастием. Далее, существует рецептивность, или претерпевание, которое служит просто дополняющим элементом, актуализацией природных потенций субъекта100. Таким видом рецептивности будет принятие форм в познавательную способность. Аквинат описывает этот вид рецептивности, или претерпевания, следующим образом «Претерпеванием называют обычно любое изменение, даже если оно усовершает природу: например, умопостижение, или чувствование, называется неким претерпеванием»101.
И, разумеется, совершенный интеллект бесстрастного Бога не мог бы стать совершеннее. По словам Аквината, «божественный интеллект не пребывает в потенции, но есть чистый: акт»102. Далее, как было показано выше, Бог познает даже преходящие вещи не последовательно, а все одновременно, вне времени, тогда как действительная потенциальность привязана ко времени. Однако претерпевание, связанное с познанием, все же требует, по мнению Фомы, какого-то времени: «Интеллект называется претерпевающим, поскольку некоторым образом находится в потенции относительно умопостигаемого… пока его не постигнет»103.
Итак, Бог, по мнению Фомы, не может подлежать ни одному из двух видов рецептивности, или претерпевания: ни ухудшению или улучшению, ни совершенствованию через принятие формы.
Тем не менее думается, что божественный: интеллект не был бы совершенным, если бы неким вневременным образом не принимал: того, что открывается его «видению», если бы: не сознавал вещей, не приходя, однако, к их осознанию от отсутствия осознания. Более того, даже человеческий интеллект постигает, воздействуя на данные, а не принимая воздействие от них; так что представляется вполне возможным считать, не входя в противоречие с другими воззрениями Аквината, что божественный интеллект как бы созерцает вещи, не претерпевая воздействия с их стороны. В этом случае Бог «видел» бы вещи, но это не нарушило бы его бесстрастия.
Но даже если бы не было никаких проблем с божественным бесстрастием, речи Фомы о божественном «видении» звучат таинственно, и применительно к ним встает вопрос, аналогичный: тому, с которого началась эта глава: каким образом осуществляется это божественное «видение»? Насколько я понимаю, анализ познавательного контакта Бога с творениями ограничивается у Фомы тем утверждением, что Бог прилагает свои идеи ко всему им познаваемому и что Бог вневременно «созерцает» вещи, отличные от него самого. Стало быть, в этом отношении концепция Фомы весьма неполна.
При всем том важно заметить, что общепринятое стандартное объяснение человеческого познания, вопреки тому, что можно было бы подумать, тоже неполно в аналогичном смысле. Хотя ясно, что понятия, или ментальные репрезентации, должны прилагаться ко всему, с чем познающий вступает в познавательный контакт, у нас есть лишь рудиментарные представления о том, в чем состоит такое приложение или что неверно функционирует у пациентов с агнозией, более к нему неспособных. Далее, верно, что познаваемое причинно воздействует на чувства познающего; но чтобы такое причинное воздействие могло считаться познавательным контактом, задействованные здесь чувственные данные должны пройти обработку со стороны центральной нервной системы. Каузальное соприкосновение между объектом и, скажем, глазом в ушате с водой не будет познавательным контактом. Но чувственный ввод данных сам по себе не предопределяет результат обработки в центральной нервной системе104. Тогда каким образом этот результат связан с познаваемой вещью? Или другими словами: каким образом результат обработки конституирует познавательный контакт с внементальными вещами, причинившими чувственный ввод данных? Пока этого не знает никто105. Неполнота томистского объяснения божественного познания выглядит менее удивительной, если мы будем помнить о том, что современные концепции человеческого познания неполны в том же самом отношении.
Заключение
Мы представили интерпретацию томистской концепции божественного знания как ответ на следующий вопрос: каким образом Бог познает то, что он познает? Была продемонстрирована одна из возможных неверных интерпретаций учения Фомы, и было показано, что, если понимать концепцию Фомы правильно, его нельзя упрекнуть ни в детерминизме, ни в аверроизме. В той мере, в какой вопрос о божественном знании (с которого мы начали эту главу) молчаливо подразумевает вопрос о познавательном контакте Бога с познаваемыми вещами, концепция Фомы не дает нам полного ответа. Но я утверждаю, что этот вопрос до сих пор не получил ответа применительно к человеческому познанию. Следовательно, не стоит удивляться тому, что Аквинат не дает нам ответа на него применительно к божественному познанию. Более того, богатая и сложная томистская концепция божественного познания свидетельствует о том, что Фома вполне понимал: в познании, божественном или человеческом, содержится много больше, чем познавательный: контакт. Что касается аспектов познания, выходящих за рамки познавательного контакта, томистская концепция божественного знания не только совместима с остальной частью его монументальной философской: и богословской системы, не только проливает на нее свет, но и многое объясняет в человеческом познании.
Примечания
1 Что именно представляет собой доктрина бесстрастности, в томистском понимании бесстрастия, – вопрос, достойный исследования.
2 Leo Elders, The Philosophical Theology of St. Thomas Aquinas, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters (New York: E. J. Brill, 1990).
3 Elders (1990: 234).
4 Elders (1990: 230).
5 Elders (1990: 234).
6 Elders (1990: 238).
7 Brian Shanley, “Eternal Knowledge of the Temporal in Aquinas” // American Catholic Philosophical Quarterly 71 (1997): 205. (Ответ на эту статью см. Eleonore Stump and Norman Kretzmann, “Eternity and God’s Knowledge: A Reply to Shanley” // American Catholic Philosophical Quarterly 72 (1998): 439–145.
8 См., например, SCG I. 66.
9 QDY 2. 8.
10 См., например, ST la IIae. 79. 1. См. также Norman Kretzmann, “God Among the Causes of Moral Evil: Hardening of Hearts and Spiritual Blinding” // Philosophical Topics 16 (1988): 189–214.
11 Cm. “Divine Causation and Human Freedom in Aquinas” H American Catholic Philosophical Quarterly 72 (1998): 99-122. Здесь Брайан Шенли, видимо, считает возможным примирить свободу и божественную причинность, показав, что для Аквината даже свободная человеческая воля не является независимой от Бога. Разумеется, для Фомы ничто тварное не является независимым от Бога. Но проблема в следующем. С точки зрения Аквината, люди обладают liberum arbitrium, a liberum arbitrium – это способность человека поступать иначе, нежели он поступает: «Мы потому называемся обладающими свободой выбора, что можем принять одно и отвергнуть другое, что и означает выбирать» (ST I. 83. 3). Однако в той интерпретации Аквината, которую отстаивает Шенли, полагая, что божественное знание имеет причиняющий характер, Бог выступает причиной всего (или всего преходящего), что является объектом его знания. Но если Бог выступает причиной человеческих поступков, то в каком смысле для человека возможно поступать иначе, нежели он поступает? Очевидно невозможно, чтобы Бог причинял в человеке выполнение некоего акта А, и все же этот человек выполнял бы акт не-А. Предполагается ли здесь, что «способность поступать иначе» имеет компатибилистский смысл «способности поступать иначе, если человек решит поступить иначе»? С точки зрения компатибилизма, у людей нет подлинно открытого будущего; с точки зрения богословского аналога компатибилизма, у людей нет подлинно открытого будущего потому, что Бог детерминирует будущее во всех отношениях. Разумеется, мы вовсе не приписываем Аквинату этого взгляда, как то полагает Шенли. И все же: в каком смысле открытое будущее все-таки существует для людей, если Бог знает будущее и если божественное знание выступает причиной всего, что он знает? Далее, Шенли, видимо, не признает того, к чему его вынуждает его собственное понимание божественного знания как знания причиняющего. Шенли говорит: «Бог движет волей как действующая причина, склоняя ее изнутри. Как это возможно без насилия над человеческой свободой? Вот ключевой вопрос» (Shanley 1998: 112; подстрочное примечание опущено). Но если внутрибожественное знание обладает причиняющей силой, как это утверждает Шенли, то Бог не просто склоняет волю изнутри: он выступает причиной любого из состояний, в которых находится воля. По мнению Шенли, если бы Бог не был причиной состояний воли, он бы и не знал о них. Шенли утверждает, что воздействие Бога на волю «не имеет принудительного характера» (ibid.: 113). Но, по мнению Шенли, если человеческая воля находится в состоянии А, то Бог знает об этом, и его знание об этом выступает причиной того, что воля находится в состоянии А. Однако весьма трудно понять, как может причинение состояния А со стороны Бога не быть принуждением воли к пребыванию в состоянии А. Возможно ли, чтобы Бог причинял пребывание воли в состоянии А, и все же воля могла бы пребывать в каком-либо ином состоянии?
12 QDV 2. 15 ad 1.
13 Заметим, что этот детерминизм является причинным и, стало быть, не должен смешиваться с обсуждавшейся выше несовместимостью божественного предзнания и человеческой свободы.
14 См., например, ST I. 14. 3 и SCG I. 66.
15 QDV 2. 12.
16 Elders (1990: 237).
17 Ibid.: 239.
18 Ibid.: 238.
19 См., например, ST I. 14. 13.
20 STL 14. 8.
21 SCG I. 65.530.
22 SCG I. 49. 412.
23 См., например, SCG I. 63. 521 и QDV 10. 4 obj. 5.
24 Обсуждение взглядов Фомы на средства осуществления познания см. в главе 8 о механизме познания (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
25 ST I. 55. 2 obj. 1; ST I. 14. 1. «Понимание» – стандартный перевод томистского intelligere, но он может ввести в заблуждение. В томистском употреблении термина intelligere, даже в том случае, когда мы осознаем, что видим дерево, это осознание считается интеллектуальным пониманием.
26 STI. 14.5.
27 SCG I. 46. 389.
28 SCG I. 31. 281. См. также, например, QDV 8. 10 и ST I. 55. 3.
29 Краткое, но показательное изложение этого возражения см. в книге: Daniel Dennett, Consciousness Explained (Boston: Little, Brown, 1991), pp. 33–37.
30 См., например, ST I. 85. 1 и I. 86. 1, а также In DA III. 12–13.
31 ST I. 14. 6. См. также например, SCG I. 65; QDV 2. 5; QDP 6. 1; In Sent. I. 36. 1.1.
32 STI. 14. 11.
33 См., например, SCG III. 76.
34 ST I. 55. 2. См. также ST I. 54. 4 и QDV 8. 9.
35 QQ 7. 1. 3 ad 1.
36 STh I. 89. 1; см. также STh I. 55. 3.
37 QDV 10. 5 ad 6.
38 См., например, QDV 10. 4.
39 ST I. 57. 2 sed contra.
40 Другая хорошая аналогия внутрибожественному знанию – то знание, которым предположительно обладает отделенная человеческая душа после смерти, но до воскресения тела. Отделенная душа тоже познает воплощенных индивидов, хотя у нее отсутствуют телесные чувства; и Аквинат считает, что после смерти она, подобно ангелам, способна к познанию через формы, не принятые от познаваемых вещей (см., например, ST I. 89. 1. 3 и 4; QQ 3. 9. 1). Поэтому обсуждение, которое мы сейчас предпримем, могло бы опираться не на ангельское познание, а на познание, свойственное отделенной душе. Но так как у Фомы возникают особые проблемы в связи с тем знанием, которое предположительно свойственно отделенным душам, нам удобнее сосредоточиться на его описании ангельского познания.
41 STI. 55. 3 ad 2.
42 См., например, ST I. 57. 1; I. 85. 1 и 5; In DA III. 8. См. также Norman Kretzmann, “Infallibility, Error, and Ignorance” / Richard Bosley and Martin Tweedale (eds), Aristotle and His Medieval Interpreters (Canadian Journal of Philosophy, supplementary volume 17, 1991), pp. 159–194.
43 См., например, In DA III. 8. 705, 706, 712, 713.
44 In DA III. 8.712–713.
45 In DA III. 8. 712–713. См. также, например, ST I. 86. 1; I. 85. 1.
46 In DA III. 8. 718. См. Также ST I. 85. 2.
47 Oliver Sacks, The Man Who Mistook His Wife for a Hat (New York: Summit Books, 1985), p. 13. См. недавно опубликованное превосходное нейробиологическое исследование агнозии: Martha J. Farah, Visual Agnosia (Cambridge, MA: MIT Press, 1990). См. также Eric Kandel, James Schwartz, Thomas Jessell, Principles of Neural Science (New York: Elsevier, 1991). В этой работе агнозия определяется как «неспособность воспринимать объекты через нормально функционирующие, во всех прочих отношениях, сенсорные каналы» (р. 831). Не всякая агнозия является зрительной. Например, астереогнозия, вызванная поражением вторичной коры, представляет собой «неспособность узнавать формы объектов при их ощупывании, даже когда нет выраженных признаков утраты соматосенсорной чувствительности» (ibid.).
48 Ради краткости я опускаю многие сложные моменты, но два из них должны быть, по крайней мере, отмечены. Во-первых, агнозия – загадочное явление. Я привожу выразительный пример, но если вглядеться в него пристальнее, он вызывает больше вопросов, чем дает ответов. Например, одна из странных черт агнозии заключается в том, что пациент легко может определить один из родов, к которому принадлежит видимая им вещь. Опознать перчатку как непрерывную поверхность означает опознать эту единичную вещь как принадлежащую к определенной универсалии. Но универсалия, которая служит средством познания, оказывается в данном случае чрезвычайно абстрактной, крайне далекой от ближайшего рода этой вещи, не говоря уже о виде. Во-вторых, я представляю здесь обсуждение агнозии в терминах quod quid est любого предмета познания, но, вообще говоря, в универсальном познании единичного речь идет не только о родах и видах, к которым относится познаваемая вещь. С точки зрения средневековых авторов, универсалии – это не только роды и виды, но и все прочие предикабилии, включая видовые отличия, собственные и акцидентальные признаки. Следовательно, опознавая, что видимая им вещь имеет пять выступов, пациент с агнозией тоже познает единичную вещь через посредство универсалии. Таким образом, любое осознание любой характеристики чувственной вещи, которую она разделяет с другими вещами, считается универсальным познанием этой единичной вещи.
49 ST 1.55.3.
50 Познавательный контакт следует понимать как компонент восприятия или божественного аналога восприятия. Хотя мы, конечно, не обладаем набором необходимых и достаточных условий для понятия познавательного контакта, мы может позаимствовать его приблизительную характеристику из современной нейробиологии. Согласно современным нейробиологическим теориям восприятия, после того, как входные сенсорные данные пройдут обработку на нижних уровнях, они обрабатываются различными «модулями» или «системами», включая ту из них, которая связывает сенсорные данные с осознанием, и ту, которая устанавливает соответствие сенсорных данных информации, хранящейся в ассоциативной памяти. (Ясное и простое обсуждение связей между, например, визуальными сенсорными данными и ассоциативной памятью см. в работе: Stephen Kosslyn and Oliver Koenig, Wet Mind: The New Cognitive Neuroscience (New York: Macmillan, 1992), pp. 52–58). Под «познавательным контактом» я подразумеваю результат обработки сенсорных данных центральной нервной системой, причем он не включает в себя установление соответствия между данными и информацией, хранящейся в ассоциативной памяти. Думаю, это описание познавательного контакта более или менее эквивалентно следующему описанию в терминах Аквината: схватывание акциденций некоторой внементальной вещи без схватывания quod quid est этой вещи.
51 Так как предварительным чувственным опытом в данном примере будет, как правило, опыт восприятия чаш, может показаться, что наши репрезентации имеют источником индивидуальные внементальные вещи, познаваемые ради познания вещей вне нашего интеллекта. Но, разумеется, мы заранее можем обладать и порой действительно обладаем умопостигаемой формой, необходимой для узнавания чего-то, с чем мы сталкиваемся впервые. Обретение умопостигаемых форм возможно концептуальным путем, например, благодаря воображению.
52 QQ 7. 1.3.
53 ST I. 85. 2, sed contra. См. также In DA III. 8.
54 Во многих местах Аквинат тщательно исключает для умопостигаемой формы возможность самой стать познаваемым объектом в ординарных процедурах познания, где познаются внешние единичные вещи. Недавно вышла в свет книга: Joseph Owens, Cognition: An Epistemological Inquiry (Houston, TX: Center for Thomistic Studies, 1992). В ней автор тоже стремится показать, что прямым объектом интеллекта выступает не умопостигаемая форма, а некий внементальный объект. Но автор так озабочен тем, чтобы не допустить возможность скептицизма, что впадает в противоположную крайность и утверждает, будто Аквинат признавал непосредственное осознание вещей в мире. Видимо, позиция Аквината располагается где-то посередине между позицией, которую приписывает ему Оуэнс, и позицией, которую опровергает сам Фома. Оуэнс прав, когда говорит: объект ординарного интеллектуального познания есть часть внемысленной реальности, а не внутреннее состояние интеллекта. Но, с другой стороны, Оуэнс считает, что со стороны интеллекта процесс состоит в том, что интеллект достигает состояния, в котором он обладает знанием некоторого внемысленного объекта; и этот процесс опосредуется умопостигаемой формой. Итак, согласно Оуэнсу, умопостигаемая форма служит посредницей между познающим и познаваемой вещью. Природу томистской позиции можно ясно усмотреть из фрагмента QQ 7. 1. 1: «Следует знать, что в умном видении имеются три посредника… Другой посредник – то, через что интеллект видит, и это – умопостигаемая форма, которая определяет возможностный интеллект и так относится к возможностному интеллекту, как форма камня – к глазу… Итак, первый и второй посредники не делают видение опосредованным ведь некто называется непосредственно видящим камень, хотя видит его через посредство формы, принятой глазом, и через посредство света».
55 О различии между умопостигаемой формой и понятием, по мнению Аквината, и об отношении между ними см. главу 8 о механизмах познания (не вошла в перевод. – Прим. пер).
56 QQ 7. 1. 3, obj. 3: «quamvis nihil recipiat, tamen formam quam apud se habeat prius, applicat ad partivulare quod de novo fit» («Хотя ангел ничего не принимает, он прилагает уже имевшуюся у него форму к вновь возникшей единичной вещи»); ad 3: “applicatio ilia est intelligenda per modum ilium quo Deus ideas ad res cognoscendas applicat, non sicut medium cognoscibile ad aliud, sed sicut modus cognoscendi ad rem cognitam” («Это приложение нужно понимать так, как Бог прилагает идеи к познанию вещей: не как познаваемое средство к чему-то иному, но как способ познания к познаваемой вещи»).
57 STI. 14.5.
58 Формулируя этот пункт таким образом, я упрощаю его ради краткости. В тексте Фомы имеются дополнительные затруднения, которые мы не имеем возможности здесь рассматривать. Некоторое представление об этих затруднениях дает следующий текст: QDV 2. 3 и 4; а также QQ. 7. 1. 1.
59 QDV 2. 3.
60 QDV 2. 3.
61 Разумеется, существует параллельная проблема, касающаяся способа, каким нематериальное сущее может причинно воздействовать на материальное сущее. Но не стоит приписывать эту проблематику традиционному теисту Аквинату, который верит, что нематериальный Бог причинно воздействует на свои материальные творения.
62 ST I. 84. 6.
63 Дальнейшее обсуждение этого вопроса см. в главе 8 о механизмах познания (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
64 Для сравнения: см. обсуждение этих тезисов Фомы о работе интеллекта в моей статье “Ockham on Sensory Cognition” / Paul Spade (ed.), The Cambridge Companion to Ockham (Cambridge: Cambridge University Press, 1999), pp. 168–203.
65 Более подробное обсуждение этих метафизических воззрений Фомы см. в главе 1 о томистской теории вещей.
66 QQ 7. 1.3.
67 QDV 2. 5. См. также QDV 10. 4.
68In DA II. 12. 377.
69 STI. 85. 1.
70 In DA III. 8. 712–713. См. также, например, ST I. 86. 1 и I. 85. 1.
71 QDV 10. 4. См. также QDV 10. 5 и 2. 5–6.
72 Ясное и внятное описание природы первичной божественной причинности в ее отношении к вторичной причине см. в SCO I. 68, где Аквинат говорит: «Власть (dominium), которой обладает воля по отношению к своим актам и в силу которой она вольна волить или не волить, исключает определение способности к чему-то одному и насильственное действие внешней действующей причины, но не исключает влияния высшей причины, от которой обладает бытием и операциями. И таким образом сохраняется причинность за первой причиной, то есть Богом».
73 См. главу 13 о благодати и свободе воли. Я также рассматриваю причинные действия божественной воли в статье: “Sanctification, Hardening of the Heart, and Frankfurt’s Concept of Free Will” // Journal of Philosophy 85 (1988): 395^120, repr. In: John Martin Fischer and Mark Ravizza (eds), Perspectives on Moral Responsibility (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), pp. 211–234; и “Augustine on Free Will” / Eleonore Stum and Norman Kretzmann (eds), The Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), pp. 124–147.
74 Shanley (1997: 205).
75 STL 15.2.
76 ST I. 15. 1 ad 2. См. также QDV 3. 2.
77 См. например, QDV 3. 1: “ideas latine possumus dicere species vel formas” («идеи по-латыни мы можем назвать species, или формами»).
78 QDV 3. 3. См. также ST I. 15. 3 sed conctra.
79 STL 15. 1.
80 См. например, ST I. 15. 2.
81 STL 14. 8.
82 QDV 3.3. См также QDV 3.1.
83 QQ 7. 1.3.
84 STL 14. 8 ad 3.
85 SCG I. 66.
86 QDP 16. 7. В совместной статье Norman Kretzmann, Eleonore Stump, “Eternity, Awareness, ad Action” (Faith and Philosophy 9, 1992: 463^182) мы обсуждаем некоторые проблемы, связанные с эпистемическими и причинными отношениями между вечным сущим и преходящими сущими.
87 QQ10. 4. См. также QDV 3. 1.
88 QQ 7. 1. 3 ad 3.
89 О теологическом понимании у Фомы божественного понятия, или внутреннего слова как второго лица Троицы см. мою статью “Word and Incarnation” / Marco Olivetti (ed.), Incarnation (Padua: Edam, 1999), pp. 543–554.
90 В частной переписке Алвин Плантинга высказал мысль о том, что доискиваться механизма божественного познания – ошибка. Плантинга указывает на то, что мы же не доискиваемся механизма реализации божественного всемогущества. Применительно к божественной мощи мы довольствуемся тем, что отмечаем всемогущество позволяет Богу осуществить что угодно; но мы не исследуем способов, посредством которых всемогущее существо может сделать все, что оно делает. Эта линия рассуждения имеет свои привлекательные стороны. Она также объясняет некоторые своеобразные черты в томистском обсуждении божественного познания. Фома тоже мог считать, что мы не в состоянии обсуждать механизмы божественного познания, но можем обсуждать, каким образом простой Бог мог бы познавать что-либо, коль скоро познание требует репрезентаций или умопостигаемых форм. Если точка зрения Фомы такова, то, вероятно, мы не найдем в его текстах никаких объяснений того способа, каким Бог применяет свои репрезентации или осуществляет познавательный контакт с вещами, зато найдем много рассуждений о том, каким образом простой Бог способен заключать в своем интеллекте умопостигаемые формы. Так что мысль Плантинги, в свете такой интерпретации подхода Фомы, обладает некоторым правдоподобием. С другой стороны, эта линия мысли выглядит скорее как удачное завершение исследования божественного знания, нежели как его начало.
91 ST I. 14. 11. См. также ST I. 57. 1 и I. 84. 1.
92 QQ3.2. 1.
93 Shanley (1997: 205).
94 SCG I. 66. 550–551.
95 См., например, SCG I. 67. 557. См. также СТ 1. 133; ST I. 14. 13.
96 QDP 16. 7.
97 См., например, ST I. 14. 9 и I. 14. 12; также QDV 2. 12.
98 См., например, ST I. 14. 13: “Unde manifestum est quod contingentia et infallibiliter a Deo cognoscuntur, inquantum subduntur divino conspectui secundum suam praesentialitatem” («Отсюда очевидно, что контингентное также непогрешимо познается Богом, поскольку предстает божественному взгляду, как если бы было настоящим»).
99 Об этой априорной истине см. также авторитетный текст Аристотеля: De anima II. 11. 423 b 26 – 424 а 10; III. 4. 429 а 13–18.
100 См., например, ST Iа IIae. 22. 1; I. 79. 2.
101 STI. 97.2.
102 ST I. 79. 2.
103 In DA III. 9. 722. См. также SCG I. 16. 133: “quod est potentia, nondum est” («то, что существует в потенции, еще не существует»).
104 См. выше, прим. 66.
105 Конечно, можно предположить, что эволюция или Бог создали человека таким, что когнитивная обработка данных поставляет ему достоверную информацию о внешнем мире. Критическое рассуждение об эволюции см. в работе: Alvin Plantinga, Warrant and Proper Function (Oxford: Oxford University Press, 1993). Но попытки разрешить загадку указанием на эволюцию или на творческую активность Бога, видимо, немногое нам дадут, если предметом нашего интереса является механизм, посредством которого когнитивная обработка данных у человека достоверным образом связана с тем, что человек познает.
Часть II Природа человеческого совершенства
Глава 4 Репрезентативная моральная добродетель: справедливость[22]
Введение
В минувшее десятилетие справедливость как добродетель, призванная устанавливать и поддерживать добрые отношения в обществе, утратила свой блеск, по крайней мере, в некоторых философских кругах. Например, по мнению некоторых феминистских философов, этика, основанная на справедливости, должна быть дополнена или даже вытеснена «этикой заботы». По словам Аннет Байер,
«Забота» – новое модное словцо. Это не… милосердие, призванное приправить справедливость, а менее авторитарное гуманитарное дополнение, переживаемое попечение о благе других и об общении с ними. ‘Холодная ревнивая добродетель справедливости’ (Юм) была сочтена слишком холодной, и на смену ей были призваны более ‘теплые’ и более коммунитарные добродетели и общественные идеалы1.
Согласно объяснению Байер, этика заботы задумана как вызов
индивидуализму западной традиции, глубоко укорененной вере в возможность и желательность того, чтобы каждый человек искал своего собственного блага своим собственным путем. Ограничивает его лишь минимальное и формальное общее благо, а именно, разветвленный правовой аппарат, который усиливает контрасты и защищает индивидов от недолжного вмешательства со стороны других людей2.
С точки зрения Байер, одна из главных проблем, с которыми сталкивается этика справедливости и либерализм в целом, состоит в том, что правила справедливости, понятые в либеральном смысле,
неспособны защитить юного, умирающего, голодного и вообще относительно слабого от пренебрежения, неспособны обеспечить им образование, которое сформировало бы людей, способных соответствовать этике заботы и ответственности3.
К этому можно добавить, что они также неспособны защитить сильных от коррупции их собственной власти. Считается, что одна из причин коррупции, порожденных абсолютной властью, состоит в нежелании абсолютного правителя слышать от своего окружения что-либо, кроме лести. Разочарованность и мания величия, питаемая лестью, обычны среди таких правителей, и результаты оказываются катастрофическими для возглавляемых ими сообществ. (Вспомним, например, о громком конце тайпинского восстания или о трагедиях маоистского Китая). И при всем том в этике справедливости, понимаемой сообразно либеральным принципам, к которым привлекает внимание Байер, – этике, в которой индивидуальное стремление к реализации собственных замыслов ограничивается только «минимальным формальным общим благом», – в этой этике не существует обязательства заботиться о благосостоянии государства в целом или о моральном и духовном благе его правителей, будь то через прямо выраженное общественное несогласие или через любую форму гражданского неповиновения.
Некоторых читателей может поразить тот факт, что мы говорим об общественном несогласии или о гражданском неповиновении как о заботе. Но было бы серьезной ошибкой считать, что всякая забота нежит, холит и лелеет. Не много же заботы выказывается о человеке или институции, если довольствоваться тем, что этот человек или эта институция морально разлагается; но предупреждение морального разложения людей или институций может потребовать агрессивной публичной оппозиции по отношению к ним. Для Генриха VIII в неуступчивости: Мора было больше заботы, чем в сообщничестве Булей.
Среди тех, кого Байер подвергает резкой критике за слепую приверженность этике справедливости, фигурируют не только современные либеральные философы, но и Фома Аквинский. Его этику Байер характеризует как «весьма легалистскую моральную теорию»4. Этой фразой она хочет показать, как далека этика Фомы от любых соприкосновений с этикой заботы, которую, как думают, гораздо труднее заключить в капсулу законов, нежели этику справедливости.
Это верно, что Аквинат часто обсуждает естественный закон в рамках концепции справедливости и в других пунктах своей этической теории. Но я полагаю ошибочным считать томистскую этику выстроенной вокруг законов. Прежде всего, хотя естественный закон есть кодификация этических норм, законы не выступают основанием этики: они лишь выражают то, что лежит в основе самой природы вещей или конвенций между людьми. Фома говорит:
Некто становится справедливым двумя путями. Одним путем – в силу самой природы вещей, и этот путь называется «естественным правом» (ius naturale). А другим путем – в силу определенного соглашения между людьми, и этот путь называется «позитивным правом»… Разумеется, письменный закон содержит в себе естественное право, но не утверждает его, потому что естественное право получает силу не от закона, а от природы5.
Даже божественный закон Фома понимает сходным образом, проводя различение между естественным правом и правом божественным, аналогично позитивному праву. Так, он говорит, что божественный закон
отчасти касается того, что справедливо по природе, но чья справедливость скрыта от людей; отчасти же касается того, что становится справедливым по божественному установлению. Поэтому божественное право тоже может разделяться на две категории, как и право человеческое. В самом деле, в божественном законе одни вещи предписываются, потому что они благи, и запрещаются, потому что они дурны, а другие благи потому, что предписываются, и дурны потому, что запрещаются6.
Далее, Аквинат выстраивает свою собственную этику, не опираясь ни на какие законы или правила. Напротив, структурирующим принципом для его этики служат добродетели. Более того, даже при описании и анализе добродетелей он уделяет очень мало места правилам, кодифицирующим эти добродетели или предписывающим образ действий добродетельному человеку. Гораздо больше внимания Фома уделяет прояснению отношений между этическими расположениями, в том числе упорядоченным отношениям между некоторыми добродетелями и некоторыми пороками, а также упорядоченному противопоставлению конкретных добродетелей и пороков7.
Но любопытнее всего то, что многие положения, которые сторонники этики заботы более всего стремятся ввести в этику (например, попечение о людях, занимающих самую низкую ступень в социальной иерархии), фактически присутствуют в этике Аквината, причем в тех ее разделах, где философы, отстаивающие этику заботы, не ожидали бы их встретить: в разделе справедливости. Байер исходит из того, что этика заботы необходима, дабы дополнить этику справедливости. Как будет показано ниже, Аквинат исходит из того, что некоторые виды заботы составляют часть самой справедливости. Результаты этого взаимодействия заботы и справедливости поразительны. Например, по мнению Аквината, облегчение нужды бедняка есть моральная обязанность, и бедняк имеет право на вещи, необходимые для выживания, такие как пища, одежда и кров8.
Одна из проблем, с которыми сталкиваются сторонники не просто дополнения, но вытеснения этики справедливости этикой заботы9, заключается в следующем не вполне ясно, каким образом устранить некоторые виды эксплуатации, опираясь исключительно на этику заботы и не прибегая к справедливости. Если забота о других является фундаментальной нравственной ценностью, трудно понять, почему морально приемлемо воздерживаться от заботы о других ради осуществления собственных замыслов. А если поступать так морально неприемлемо, то забота может стать глубоко разрушительной для самого заботящегося. Например, Вирджиния Вулф описывает женщину – «ангела в доме», абсолютно самоотверженно заботившуюся о других, следующим образом
Она никогда не имела ни мысли, ни желания, обращенных на нее саму, но всегда предпочитала сопереживать мыслям и желаниям других… Я приложила все усилия к тому, чтобы убить ее. Если бы мне пришлось предстать перед судом, меня извинило бы то, что я действовала в целях самозащиты. Если бы я не убила ее, она убила бы меня10.
Этико-теоретическая проблема кажущегося соперничества этики заботы и этики справедливости чем-то напоминает политико-теоретическую проблему, связанную с трудностью «примирить точку зрения коллективности с точкой зрения индивидуальности», согласно формулировке Томаса Нагеля11:
Безличная точка зрения в каждом из нас порождает… мощную потребность в универсальном беспристрастии и равенстве, тогда как личная точка зрения дает начало индивидуалистическим мотивам и требованиям, препятствующим достижению и осуществлению подобных идеалов… Когда мы пытаемся выработать разумные моральные стандарты поведения индивидов, а затем пытаемся сочетать их с основанными на справедливости стандартами социальных и политических установлений, мы не видим удовлетворительного способа соединить то и другое… Проблема установлений, которые отдавали бы должное равной значимости всех людей, не выдвигая неприемлемых требований к индивидам, пока еще не решена12.
Безличную точку зрения, эгалитарную и утверждающую, что «никто не более важен, чем любой другой»13, Нагель ассоциирует с теориями социальной справедливости, например, с теорией Роулса14. Но тем не менее с этой точкой зрения связана проблема, общая у нее с этикой заботы: она выдвигает утопические требования к индивиду в интересах других, потому что если «жизнь любого человека важна так же, как собственная жизнь индивида, то его собственная жизнь важна не больше, чем жизнь любого другого»15. Но каждый человек имеет личные планы и личные отношения, которые особенно важны именно для него и которым он хотел бы посвятить себя. Человек, для которого все равны, подобный предельно альтруистичной женщине у Вулф, будет вынужден отодвинуть в сторону те вещи, которые особенно важны для него, или даже отказаться от них. Подобно тому, как, по мнению некоторых феминистских философов, этика заботы должна умеряться этикой справедливости, безличная точка зрения, по утверждению Нагеля, должна переплетаться с личной. Согласно Нагелю, главный вопрос политической философии состоит в том, как сочетать ту и другую; в его собственной формулировке: «Каким образом мы можем, если можем, прийти к согласию относительно того, что мы должны делать, если наши мотивы не являются всецело безличными?»16.
Нагель также думает, что это очень трудный вопрос, может быть, даже практически неразрешимый. Это особенно верно, если принять во внимание существующий сегодня колоссальный разрыв между богатыми и бедными, причем не только в рамках любого данного общества, но прежде всего между странами. «Разрыв в уровне жизни между индустриальными демократиями и слаборазвитыми странами ошеломителен… Никто не мог бы назвать эту ситуацию приемлемой на каком бы то ни было уровне»17.
Безличная точка зрения (как это принято в этике заботы) требует облегчения человеческих страданий. Но дело выглядит так, что любой путь к облегчению массовых страданий людей, находящихся в самом низу социальной лестницы, требует непомерных жертв от людей, находящихся на противоположном ее конце. По словам Нагеля, «в краткосрочной перспективе не существует доступной альтернативы такого рода, чтобы отвергать ее было неразумным для любого человека, поскольку она убедительно сочетала бы в себе личные и безличные мотивы»18.
Нагель думает, что проблема сочетания безличной и личной точек зрения (как и проблема сочетания этики заботы с этикой справедливости) есть проблема теоретическая, а не практическая, вырастающая из моральных неудач индивидов или институций:
Я вовсе не считаю, что все социальные и политические установления, разработанные до сих пор, неудовлетворительны. Такое впечатление, должно быть, объясняется тем, что ни одна из существующих на сегодняшний день систем не сумела воплотить идеал, который мы все признали бы правильным. Но есть более глубокая проблема – не просто практическая, но теоретическая: у нас пока нет приемлемого политического идеала19.
Однако в действительности такой идеал существует: он был предложен в истории философии. Учение о справедливости у Фомы не только включает в себя этику заботы, но и сочетает личную и безличную точки зрения, о которых говорил Нагель. Это особенно верно в том, что касается экономических установлений и социальных отношений между привилегированными и обездоленными в обществе. Безусловно, переход от современных либеральных демократий к тому типу общества, который обрисован у Аквината, столкнулся бы с непреодолимыми практическими трудностями.
Но томистское учение действительно предлагает политический идеал, в котором забота и справедливость, личная и безличная точки зрения сочетаются применительно не только к экономическим благам, но и к прочим благам, которые может и должно обеспечивать общество.
Ниже я детально опишу томистскую концепцию справедливости, а затем, в конце главы, вернусь к обсуждению сочетания в ней заботы и справедливости, личной и безличной точек зрения. Хотя вся эта обширная глава будет посвящена концепции справедливости у Фомы, мы не продвинемся дальше поверхностного рассмотрения этой концепции. Например, я не буду объяснять, каким образом Аквинат встраивает справедливость в более широкий контекст добродетелей, противостоящих им «главных пороков», «даров Святого Духа», богословской добродетели любви, «блаженств» и любых других средневековых знаний, в который он обычно помещает свое учение о справедливости20. Далее, я оставлю в стороне подробное обсуждение у Фомы справедливости как общей и специальной добродетели21, а также обсуждение «частей» справедливости, связанных с ней добродетелей и естественного закона. Оправданием в умолчании: об этой и о многих других темах мне служит, как обычно, тот факт, что невозможно в одной главе сказать обо всем. Моя главная цель в дальнейшем – рассмотреть, каким образом, по мнению Фомы, общая и специальная справедливость выстраивает отношения между людьми в справедливом обществе22, и каким образом томистская концепция проливает свет на существующее напряжение между нашими заботами о себе и заботами: о других – напряжение, обсуждаемое у Нагеля и Байер.
Справедливость и природа государства
По мнению Фомы, хорошее государство – то, где правят справедливость и закон. В действительности, считает Фома, «справедливость и закон» – нечто вроде плеоназма, потому что, с его точки зрения, несправедливый закон – не закон23. Как было показано выше, Аквинат различал два вида политической справедливости – естественную и правовую (или: позитивную). Фома проводит аналогию между естественной справедливостью и основаниями знания: подобно тому, как в scientia, теоретическом знании, есть вещи, познаваемые по природе, например, недоказуемые первоначала, так в практическом знании есть вещи, познаваемые по природе, например, запрет на воровство24. Естественная справедливость – это справедливость, которую люди по природе склонны принимать именно в силу такого знания25. Она одинакова для всех людей, потому что человеческая природа везде одна и та же. Позитивная справедливость, напротив, имеет дело с вещами, которые становятся справедливыми или несправедливыми в силу того факта, что относительно них существует закон: например, предписание ездить по той, а не другой стороне дороги. Позитивная, или правовая, справедливость имеет своим основанием справедливость естественную, но не в том смысле, что она может быть выведена из естественной справедливости, а в том смысле, что она представляет собой ее доопределение. Естественная справедливость определяет, что вор должен быть наказан; позитивная, или правовая, справедливость доопределяет, что он должен быть наказан штрафом такого-то или такого-то размера26.
Фому часто называют сторонником «глубоко анти-эгалистской» политической теории (по словам одного из авторов) и приверженцем монархии как наилучшей формы правления27. Но в такой формулировке эти утверждения в лучшем случае вводят в заблуждение.
Прежде всего, чтобы быть справедливым, человеческое общество должно, по мысли Аквината, быть подчинено общему благу, то есть благу каждого члена общества. По словам Фомы, «чем дальше правление отходит от общего блага, тем оно более несправедливо»28.
Закон (то есть справедливый закон – единственный вид закона, который Фома признавал подлинным) тоже должен быть подчинен общему благу. Те законы, которые нацелены не на общее благо, а на выгоду законодателя или же возлагают неравное бремя на членов сообщества, суть акты насилия, а не законы29. Далее, разъясняя, почему обычай, как правило, имеет силу закона, Аквинат говорит, что в глазах свободных людей согласие народа, представленное в обычае, более весомо, чем власть суверена, ибо суверенный правитель свободного народа вправе устанавливать лишь такие законы, которые репрезентируют согласие народа30.
Далее, хотя Аквинат полагает, что наилучшей формой правления является единовластие, монархия, он также думает, что правитель может считаться монархом, только когда он служит общему благу. Наихудшая форма правления, с его точки зрения, – это единовластие человека, правящего ради собственной выгоды, а не ради общего блага31. Более того, Фома говорит:
Олигархия, в которой доискиваются блага немногих, дальше отступает от общего блага, чем демократия, в которой доискиваются блага многих; а еще дальше отступает от общего блага тирания, в которой доискиваются блага лишь одного. Ибо многое ближе ко всеобщности, чем немногое, а немногое ближе, чем одно32.
Трактовка отличия монарха от тирана у Фомы показывает, что в период правления суверенных государей в Европе, в том числе при жизни Аквината, вряд ли существовал хоть один правитель, который мог бы считаться монархом в томистском смысле. По словам Фомы, монарх
не присваивает себе больше безусловных благ, чем другим, разве что согласно должному соотношению, диктуемому дистрибутивной справедливостью. Поэтому государь трудится не ради собственной пользы, а ради пользы других33.
И далее:
Так как государь трудится ради многих, многие должны воздать ему честью и славой – наивысшими благами, какие могут быть даны людьми. Если же есть государи, которые не довольствуются в качестве воздаяния тем, что им положено по справедливости, но жаждут богатств, то такие государи – несправедливые тираны34.
Далее, монархия, которую хотел бы видеть Аквинат, не является наследственной. По его мнению, в наилучшей форме правления правитель избирается народом и из числа народа35. Монарх также должен разделять власть не только с другими высокопоставленными правящими лицами, но и со всем народом. Фома говорит:
Наилучшая форма правления – в городе или царстве, где один превосходит добродетелью остальных и вознесен над остальными; а ниже его располагаются некоторые из наиболее отличающихся добродетелью. И тем не менее власть принадлежит всем как потому, что правители могут избираться из числа всех, так и потому, что они избираются всеми. Таково наилучшее политическое устройство: в нем благим образом смешаны монархия, ибо надо всеми вознесен один, и аристократия, ибо многие правят в силу превосходства в добродетели, и демократия, то есть власть народа, ибо государи могут избираться из числа народа, и на народ возложено избрание государей36.
Аквинат также признает, что человек, начавший править как монарх, очень легко может превратиться в тирана. Правитель должен быть не только весьма добродетельным человеком, но и «власть его должна быть ограничена так, чтобы он не имел возможности легко соскользнуть в тиранию»37. Если монарх вырождается в тирана, то, по мнению Аквината, народ вправе законным образом его сместить, в том числе посредством тираноубийства, если его правление крайне вредоносно для общего блага38. И хотя Фома считает мятеж серьезным моральным проступком, он не признает мятежом выступление против правителя, который правит ради собственной выгоды, противопоставляя ее выгоде всего народа:
Тираническое правление несправедливо, ибо имеет целью не общее благо, а личное благо правящего… И поэтому свержение такого правителя не будет мятежом… Скорее тиран является мятежником, так как взращивает в подвластном ему народе раздоры и мятежи, чтобы безопаснее править39.
Итак, ясно, что фактически Фома отстаивает как наилучшую форму правления не тот род правления, который известен нам по европейским монархиям Нового времени, а нечто гораздо более близкое к репрезентативному правлению.
Коммутативная и дистрибутивная справедливость
Когда в описании справедливых законов и благоустроенного государства Аквинат вновь и вновь настаивает на общем благе, это может показаться кому-то назойливой проповедью в утилитаристском духе. Я вернусь к этому требованию в конце главы, где мы сможем рассмотреть его в свете всего, что имеет высказать Фома о справедливости. Но уже сейчас стоит отметить, что Фома старается не примешивать сюда тех случаев, которые многим философам представляются аргументом в пользу утилитаризма, например, жертвование собственным благом ради блага общества. Так, Фома явно придерживается той точки зрения, что общее благосостояние государства зависит от степени христианизации его граждан; отсюда кто-то может заключить, что, по мнению Аквината, евреев следует принуждать к крещению, а их детей – крестить вопреки воле родителей, ради общего блага. Но в действительности Фома был против как насильственного обращения евреев, так и принудительного крещения еврейских младенцев40. Более того, он считал, что, вообще говоря, «церкви не подобает карать за неверность тех, кто никогда не принимал веры»41.
Что касается насильственного крещения еврейских детей, «было бы против естественной справедливости, если бы еще до того, как ребенок войдет в разум, его изымали из попечения родителей или нечто делали бы с ним вопреки родительской воле»42.
Чтобы понять, почему Аквинат занимает такую позицию применительно к индивидам и почему упор на общее благо, видимо, не вовлекает его в проблемы, общие некоторым разновидностям утилитаризма, будет полезным рассмотреть аристотелевскую дистинкцию коммутативной и дистрибутивной справедливости, которую принимает и перерабатывает Фома.
Аквинат подразделяет справедливость на множество видов43, но ее членение на виды имеет основанием две аристотелевские разновидности справедливости – коммутативную и дистрибутивную. Коммутативная справедливость управляет отношениями между индивидами в рамках государства; дистрибутивная справедливость управляет отношениями между индивидом и государством как целым44. В обоих случаях справедливым признается равное, а несправедливым – неравное; но что именно является равным, определяется в разных видах справедливости по-разному.
Аристотель говорит: справедливое есть среднее между большим и меньшим. Для коммутативной справедливости это среднее будет арифметическим45; иначе говоря, это количественное равенство46: «Справедливое есть не что иное, как иметь равное до и после обмена.47
Например, в начале сделки у Джо есть дрова на 50 долларов, а у Тома – мульча на 75 долларов. Если теперь Джо отдаст Тому половину своих дров, но не получит ничего взамен, они оба не будут иметь после сделки равное тому, что имели до нее. Чтобы восстановить в этой ситуации справедливость, Том должен отдать Джо мульчи на 25 долларов или отдать просто 25 долларов, и тогда оба будут обладать собственностью на ту же сумму, какой обладали: до сделки48.
Что же касается дистрибутивной справедливости, здесь средним будет среднее геометрическое. Это вопрос соотношения, пропорции. В любом обществе существуют определенные общие блага, подлежащие распределению: деньги и почести, например, – а также существуют определенные обязанности: скажем, денежные расходы и труд49. И все они должны распределяться по справедливости. Но среднее в таком распределении: будет пропорциональным. Если: работники получают одинаковую плату за неодинаковое количество работы, то среднее в дистрибутивной справедливости нарушается50. Если Джо работал в два раза больше, чем Том, с обоими работниками поступят по справедливости, если Джо заплатят в два раза больше, чем Тому51.
Итак, справедливое распределение пропорционально заслугам. Но что считать заслугами, это варьируется от общества к обществу. В аристократических обществах, по словам Аквината, это добродетель, в олигархических – богатство или благородство рождения; в демократиях это – статус свободного гражданина, так что блага общества равно распределяются между всеми52.
Хотя Фома обсуждает вопрос в таких терминах, которые наводят на мысль о преимущественно экономическом характере актов дистрибутивного и коммутативного обмена, тот же самый анализ будет верным, по мысли Фомы, и в том случае, когда обмену подлежат вещи не экономические и даже не измеримые. Например, Фома считает, что если один человек ударил другого с целью нанести: ему оскорбление, имеет место коммутативная несправедливость53: оскорбленный потерпел некий ущерб, который не был компенсирован, а оскорбивший: получил выгоду перед своей жертвой, хотя бы в виде власти. Поэтому после удара соотношение между обоими оказывается иным, нежели до удара. Следовательно, после «сделки» оба имеют не равное тому, что они имели прежде54.
Такого рода соображения побуждают Аквината считать, что несправедливо убивать невинного человека, красть, дурно думать о другом без достаточной причины55, а также несправедливо крестить еврейских детей против воли их родителей. Те случаи, в которых усматривали присутствие неких разновидностей утилитаризма, как правило, подразумевают обстоятельства, при которых права тех или иных индивидов нарушаются ради общего блага. По мнению Фомы, каждый такой случай будет заключать в себе несправедливость по отношению к данному индивиду. На что Фома говорит: «Никто не должен несправедливо вредить другому ради достижения общего блага»56.
Коммутативная справедливость и равенство
Способ, каким Фома понимает коммутативную справедливость, приводит его к решительно некапиталистической позиции в отношении экономического обмена. Эту позицию нетрудно вывести из общей характеристики несправедливости у Фомы:
О несправедливости говорится сообразно некоему неравенству по отношению к другому, когда, например, человек хочет иметь больше благ, то есть богатств и почестей, и меньше зол, то есть трудов и издержек57.
Аквинат часто характеризует справедливость так, чтобы выявить ее связь с равенством «Справедливость призвана… направлять человека в его отношениях с другим. Ибо она заключает в себе некое равенство»58.
Но у нас нет необходимости строить догадки, потому что Аквинат весьма подробно изложил свои экономические воззрения. У него строгие требования к условиям чистой справедливости в делах экономического обмена. Начнем с того, что, по его мнению, цель купли и продажи – выгода обеих сторон. В той же мере, в какой одна сторона оказывается в гораздо большем выигрыше, чем другая, обмен несправедлив.
Вдобавок к этому Аквинат считает, что для вещи существует справедливая цена, измеряемая не столько спросом на эту вещь, сколько ценностью самой вещи. Не вполне ясно, каким образом, по мысли Фомы, определяется ценность вещи, если не руководствоваться спросом на нее; но Фома вполне ясно говорит о том, что пренебрегать этой ценностью в финансовых расчетах нельзя: «Продавать вещь дороже или дешевле ее стоимости само по себе несправедливо и незаконно»59.
Даже если покупатель имеет большую нужду в продаваемой вещи, продавец не может поднять цену, оставаясь в рамках справедливости, если только не понесет соответствующего ущерба, продавая товар. Спрос как таковой не является достаточным основанием для роста цен. Напротив, Аквинат считает, что Золотое правило приложимо также к экономическому обмену: «Никто не хочет, чтобы ему продавали вещь дороже, чем она стоит. Следовательно, никто не должен продавать вещь другому дороже, чем она стоит»60.
Далее, Аквинат противостоит тому, что мы могли бы назвать «везеньем». Любого рода сознательный обман в делах купли-продажи расценивается им как мошенничество. Но, помимо мошенничества, обмен несправедлив, если продавец или покупатель несут ущерб, не ведая о том. Продавец, не знающий о дефектах продаваемой вещи, не виновен в мошенничестве, но тем не менее обязан возместить ущерб за дефекты, если они обнаружатся61. С другой стороны, если продавец ошибся и продал золото, думая, что продает медь, покупатель обязан возместить ущерб, если ошибка выйдет на свет62.
Фома считает, что несправедливость неравного экономического обмена, примеры которого были приведены выше, влечет за собой серьезные моральные и богословские последствия. По его мнению, если проступок обладает значительной моральной тяжестью, он нарушает отношения между деятелем и благим Богом, тем самым ставя под угрозу спасение деятеля. Такой проступок есть смертный грех: он в духовном смысле смертелен для человека, его совершившего. Именно такого рода моральным проступком является несправедливый экономический обмен. Хуже того, пока А не возместит В то, что несправедливо приобрел за счет В (например, купив у В по цене меди то, что оказалось золотом), несправедливость поступка, совершенного А, длится. Вот почему Аквинат говорит: «Возместить то, что было взято несправедливо, необходимо для спасения»63.
Для нас здесь важен не богословский смысл этих строк, а выраженная в них бескомпромиссная моральная позиция в отношении экономической несправедливости.
Как известно, Аквинат, подобно другим средневековым философам своей эпохи, решительно выступал против ростовщичества, то есть против практики извлечения выгоды из предоставления денежной ссуды. Обычно приводят один из его доводов против ростовщичества, а именно: пользование деньгами (с точки зрения Фомы и многих средневековых мыслителей) не является той вещью, которая подлежит продаже. Но у Фомы есть и другой довод, высвечивающий его отношение к операциям экономического обмена: «Очевидно, что это ведет к неравенству, которое противоположно справедливости»64.
Так как деньги, полученные благодаря ростовщичеству, приобретены несправедливо, они, по мысли Фомы, тоже должны быть возвращены под угрозой утраты спасения. Когда герцогиня Брабантская спросила у Фомы, может ли она законным образом экспроприировать собственность иудеев, коль скоро они приобрели ее ростовщичеством, Фома чистосердечно согласился с этим, так как несправедливо удерживать у себя приобретенное несправедливым путем. Но при этом, объяснил он герцогине Брабантской, столь же несправедливым для нее было бы удерживать у себя экспроприированное у иудеев, причем на тех же основаниях, а именно несправедливо удерживать у себя то, что приобретено ростовщичеством. Но если намерение герцогини состоит в том, чтобы найти людей, на которых нажился ростовщик, и вернуть им собственность, это было бы приемлемо65.
В этом пункте становится очевидным, что применительно к операциям обмена понятие выгоды как таковое для Фомы проблематично. Например, когда он спрашивает, законно ли продавать вещь по более высокой цене, чем была за нее уплачена продавцом, то первое возражение против утвердительного ответа, которое он рассматривает, звучит так:
Тот, кто… продает вещь дороже, чем купил, по необходимости либо купил дешевле, чем стоит вещь, либо продает дороже [чем она стоит]66.
Как мы уже видели, то и другое несправедливо, по мнению Аквината. В ответ Фома несколько неохотно67 признает, что «выгода, составляющая цель торговли… по своей сути не заключает в себе чего-либо порочного или противного добродетели»68; тем не менее он все-таки считает, что торговля ради выгоды низменна, потому что служит любви к деньгам. Между тем, объясняет Фома, в торговле человек может искать лишь умеренной выгоды ради поддержания своего домашнего хозяйства. В этом случае он ищет не выгоды как таковой, а лишь соответствующего вознаграждения за свой труд в торговом деле.
В том же духе Аквинат спрашивает, законно ли для юриста брать деньги за свои услуги. И отвечает: законно, равно как и врач может законно брать деньги за свои услуги. Но в обоих случаях это законно лишь тогда, когда плата умеренна и учитывает платежеспособность клиента. Если врачи или юристы берут непомерный гонорар, они поступают порочно и несправедливо69.
Экономика и ветхозаветный закон
Чтобы понять взгляды Фомы на экономическую справедливость, полезным будет также коротко рассмотреть его позицию в отношении экономического законодательства в Ветхом Завете. Аквинат разделяет традиционный взгляд, согласно которому ветхозаветный закон уже не является обязывающим для христиан, живущих при Новом Завете; однако он считает морально приемлемым для христианского правителя управлять своим государством согласно этому закону70. Более того, Аквинат утверждает в большом параграфе, начинающемся с двенадцати возражений sed contra, что ветхозаветный закон заключает в себе много весьма полезных положений71. Особенно приветствует Фома ветхозаветное законодательство, регулирующее отношения собственности.
Некоторые современные философы полагают, что собственностью владеют справедливо в том случае, если она составляет часть изначально справедливого распределения ресурсов или приобретена в результате справедливой передачи от кого-то, кто сам владел ею справедливо. Например, теория законного права собственности у Роберта Нозика опирается на три главных принципа:
1. Принцип справедливости передачи: все, что справедливо приобретено, может быть свободно передано;
2. Принцип справедливости изначального приобретения;
3. Принцип ректификации (исправления) несправедливости: как следует поступить с собственностью, если она была несправедливо приобретена или передана72.
В сочетании с концепцией абсолютного права собственности (как это имеет место у Нозика) эти принципы лежат в основании практически ничем не ограниченного капитализма.
Подобно Нозику, Аквинат считает, что должно иметь место справедливое изначальное приобретение, и одобряет ветхозаветную систему, где принцип изначального приобретения заключается в предоставлении равной доли: «Для регулирования владений [ветхозаветный] закон предлагает три средства. Первое заключается в том, чтобы равно разделять его по числу людей»73.
Из воззрений Фомы на покупку и продажу, представленных выше, становится ясным, что, по его мнению, должна существовать также справедливая система передачи собственности, равно как и система исправления несправедливых передач. Обсуждая ветхозаветный закон, Фома отстаивает принцип, несколько напоминающий первый принцип Нозика, а именно: «Вещи, которыми владеют, находятся во власти владельцев, и поэтому те по собственной воле могут обмениваться ими друг с другом, например, покупая, продавая, принося в дар, и прочими подобными способами»74.
До этого момента концепция собственности, которую Аквинат обнаруживает в Ветхом Завете и одобряет, выглядит очень похожей на концепцию Нозика. Но Фома добавляет сюда еще один принцип ветхозаветного закона, который придает его собственной теории решительно антикапиталистический характер и отличает ее от концепции Нозика: «Второй способ состоит в том, чтобы владения отчуждались не навечно, но через некоторое время возвращались к своим владельцам»75.
Ветхий Завет предписывает считать каждый пятидесятый год юбилейным. В этом году владения возвращаются к их первоначальным владельцам. Ясно, что это правило прилагается не к любой вещи, могущей быть купленной или проданной, потому что сам Ветхий
Завет упоминает некоторые исключения; но среди вещей, подлежащих возврату, закон особо отмечает землю и рабов. В юбилейный год рабы, купленные в любое время в течение предшествующего пятидесятилетнего периода, отпускаются на свободу, а земля возвращается тем, кто продал ее в течение предшествующего юбилейного периода76. Очевидно, что это правило, применявшееся в аграрной экономике, существенно затрудняет накопление обширных состояний.
Именно такова, судя по всему, и была цель этого правила. Длинный список предписаний относительно купленных вещей, подлежащих возврату в юбилейный год, прерывается строками следующего характера: «Не обижайте один другого; бойся Бога твоего, ибо Я Господь, Бог ваш» (Лев 25:17).
В понимании самого Аквината, ветхозаветные экономические законы преследовали именно эту цель. По словам Фомы, правовые предписания Ветхого Завета нацелены на сохранение равенства между людьми77. Сам он разделяет позицию, которую усматривает в этих предписаниях: по его словам, «всякое богатство именуется богатством нечестия, то есть неравенства, потому что оно неравно распределяется между всеми: один нуждается, а другой имеет излишек»78.
Экономическая система, основанная на этих принципах собственности, коим Фома высказывает свое одобрение в обзоре ветхозаветного закона, несколько напоминает игру «Монополия» с ограниченным лимитом времени. Игроки начинают игру с равными ставками. Затем в течение фиксированного периода времени действуют законы стихийного капитализма: половину столетия, согласно книге Левит. Затем все или почти все возвращается в исходное положение. Неясно, могла ли такая экономическая система реализоваться в каком-либо обществе. Для нас здесь важно то, что, по мысли Аквината, если бы такая система была осуществима, она была справедливой именно потому, что помогала бы поддерживать и стимулировать экономическое равенство.
Воровство и подаяние: морально приемлемая собственность
Но в действительности позиция Аквината даже более антикапиталистическая, чем можно заключить из его одобрения ветхозаветного закона. Рассмотрим, например, что Фома говорит о воровстве.
Воровство – столь серьезный моральный проступок, что, по мнению Фомы, считается смертным грехом. Отсюда у него возникает вопрос: будет ли, сходным образом, смертельным грехом совершить кражу по причине нужды? Ответ Аквината вызывает немалое удивление. В sed contra, отвечая, он краток и решителен:
В нужде все вещи являются общими. И потому не представляется грехом, если некто возьмет вещь другого, вследствие нужды ставшую общей79.
Хотя воровство всегда – смертный грех, взять в нужде то, что принадлежит другому, живущему в изобилии, не считается моральным грехом, потому что не считается воровством80.
В продолжение этой мысли, Аквинат считает моральным грехом приобретать или удерживать у себя больше собственности, чем необходимо для поддержания своих жизненных условий81, понимая под этим не только род занятий и общественное положение индивида82, но также число и природу тех, кто от него зависит83. Рассматривая тот аргумент, что отказ дать бедному есть воровство со стороны богатого, Фома возражает, но лишь на том основании, что воровство, строго говоря, предполагает секретность. Тем не менее он соглашается с общим посылом этого аргумента: удерживать то, что должен другому, означает совершать несправедливость, подобную воровству84. Сходным образом Фома с одобрением ссылается на слова Августина, по мнению которого человек, отказывающийся платить десятину, удерживает у себя принадлежащее другому: ведь десятина дается служителям Церкви для употребления на пользу бедным85.
Соображения такого рода приводят Фому и к той мысли, что подавать милостыню есть моральная обязанность86. Хотя в «Сумме теологии» он рассматривает подаяние в связи с обсуждением любви, то есть усматривает в нем свободное выражение любви, он в то же время считает, что отказ подавать милостыню есть смертный грех87. Аквинат разбирает возражение, основанное на таком понимании прав собственности, которое близко выраженному у Нозика: коль скоро любой человек на законном основании вправе использовать и удерживать то, что является его собственностью, подаяние не может быть морально обязательным. Ответ Фомы любопытен и важен для наших целей: хотя то, чем мы владеем, принадлежит нам с точки зрения собственности, с точки зрения пользования этими вещами они: принадлежат не только нам, но всем тем, кому они могут понадобиться после того, как мы утолим наши нужды. И Фома с одобрением приводит слова Василия: «Это хлеб голодного ты ешь, рубаху нагого держишь под замком, сандалии босого гноишь у себя, серебро нуждающегося хранишь зарытым в землю»88.
Сравним с этим, например, позицию Локка в вопросе о собственности:
Если [кто-то] отдавал свои орехи за кусок металла, цвет которого ему понравился, или обменивал овец на ракушки или шерсть, на искрящийся камешек или на бриллиант и хранил их всю свою жизнь, то он не нарушал прав других; он мог накапливать этих долговечных вещей столько, сколько ему угодно, потому что выход за пределы его правомерной собственности состоит не в том, что у него много имущества, а в том, что часть его портится, не принося ему никакой пользы89.
Локка смущает расточительность, а не богатство. В отличие от Аквината, он исходит из того, что существует право на неограниченное накопление собственности и что сопровождающее его неравенство справедливо90. Следовательно, политическая философия Локка совместима с капитализмом в том смысле, в каком с ним несовместима политическая философия Фомы91.
Загадка: морально приемлемая собственность и коммутативная справедливость
Но в этом пункте возникает загадка, поскольку взгляды Аквината на обязанность подавать милостыню, казалось бы, вступают в противоречие с его высказываниями о коммутативной справедливости.
Допустим, что даритель А, обладающий собственностью, эквивалентной ста долларам, встречает нищего, обладающего собственностью лишь в один доллар. Допустим, далее, что А дает В некую вещь стоимостью в один доллар. Обмены такого рода являются, по мысли Фомы, морально обязательными. Но в конце операции обмена А обладает собственностью, равной девяноста девяти долларам, а В – собственностью, равной двум долларам.
Что в этом случае происходит с аристотелевскими воззрениями Фомы на коммутативную справедливость? Согласно этой позиции, обмен между двумя индивидами: будет справедливым, если: предмет обмена обладает равной стоимостью и положение обоих индивидов в конце операции обмена остается тем же, что и в начале. Но если богач обязан раздать все свое богатство, в котором он не нуждается для поддержания своих жизненных условий, если он обязан: подавать милостыню, то бедняк имеет право на такой обмен, в котором он не отдает вообще ничего92. Если податель милостыни А попросит нищего В дать ему, А, эквивалент одного доллара (деньгами или: собственностью), потому что дал В один доллар, то А нарушит свою обязанность по отношению к бедняку. Здесь обязательность милостыни предстает скорее как нарушение, нежели сохранение справедливости в коммутативных обменах. Если в ситуации, когда В просит милостыню у А, предмет обмена между А и В обладает равной стоимостью, то коммутативность этого обмена делает его несправедливым ведь в таком случае А не сможет дать милостыню В и нарушит обязанность подаяния. С другой стороны, обмен, каковым является подаяние, представляется таким обменом, который нарушает условия коммутативной справедливости.
Итак, создается впечатление, что либо томистская концепция коммутативных обменов дает нам формулу сохраняющих справедливость обменов между индивидами в обществе, либо Фома прав в том, что отказ подавать милостыню есть несправедливость. Но не то и другое одновременно.
Один путь к решению этой загадки – признать, что для Фомы не существует абсолютного права собственности, как для: Нозика. Поняв, в чем корень различия между точкой зрения Аквината и точкой зрения Нозика на морально приемлемое право собственности, мы сможем объяснить не только позицию Фомы в отношении подаяния, но и: прочие его экономические взгляды.
В двух разных вопросах Фома спрашивает, естественно ли и законно ли для человека вообще владеть чем-либо. На оба вопроса он дает утвердительный ответ, но с большими оговорками93.
В действительности, говорит Фома, все принадлежит только Богу. Лишь человеческая конвенция, дополненная естественной справедливостью и дополняющая ее, позволяет некоторым людям объявлять некоторые вещи своими. Следовательно, людям позволено удерживать некоторые вещи в своей собственности, приобретать некоторые вещи и располагать ими: как своими: собственными. С другой стороны, замысел Бога состоит в том, чтобы земля кормила его народ, а человеческие конвенции не могут противоречить божественным замыслам. Стало быть, когда дело доходит до пользования собственностью, человек должен: обращаться с ней не как с собственной, но как (в принципе) общей, то есть должен быть готов употребить ее на общее благо94. По этой причине Фома говорит, что богатый не поступает незаконно, воспрещая другим завладеть собственностью, которая некогда была общей, но он поступает неправомерно, воспрещая всем без различия пользоваться ею95.
Ясно, что собственность, понятая в этом смысле, есть нечто гораздо менее абсолютное, чем то, что имеет в виду Нозик. В некоторых, хотя и не во всех аспектах она подобна тому праву собственности, каким федеральное правительство обладает в отношении публичных парков: здесь право собственности в значительной мере заключается в обязанности сохранять и поддерживать землю в состоянии, делающем ее пригодной для использования всеми членами общества. Быть может, ближе всего это к тому виду права собственности, каким в семье обладает добытчик, приносящий деньги. Зарабатываемые им деньги – это его деньги; он по праву может удерживать их и располагать ими по своему усмотрению, как собственными. Но ясно и то, что он: поступит дурно, если, тратя: свои деньги, не примет во внимание нужд всей семьи. Если вместо продуктов питания или медикаментов, в которых нуждаются его дети, он купит импортную дизайнерскую мебель, он будет достоин порицания, хотя истратит на мебель свои собственные деньги. Сходным образом Фома считает морально обязательным для людей, в изобилии владеющих собственностью, учитывать нужды бедного, когда они решают, как этой: собственностью распорядиться.
Такой подход Аквината к собственности объясняет и следующую его позицию: взять нечто от изобилия другого, дабы получить облегчение в великой нужде, – не воровство, сколь бы такой: поступок ни напоминал то, что запрещено как воровство. В случае великой нужды согласие людей в том, что некоторые вещи принадлежат некоторым людям, становится: ничтожным, и вещи делаются общими.
Вот почему нечто, взятое одним человек от изобилия другого, дабы получить облегчение в нужде, превращается в собственность нуждающегося по причине его нужды96. Коль скоро все вещи в действительности принадлежат Богу, а Бог предназначил их к поддержанию жизни всех творений, отнюдь не будет воровством, если человек в великой нужде возьмет от изобилия другого. Распределение божественной собственности в соответствии с божественной волей и замыслом не может считаться воровством97.
Очевидно, что такой подход к собственности помогает объяснить и позицию Аквината, согласно которой то, чем богатый обладает в избытке, он должен направить на облегчение нужды бедного:
Вещи, которые подлежат человеческому закону, не могут быть изъяты из сферы действия естественного или божественного закона. Но, согласно естественному порядку, учрежденному божественным провидением, низшие вещи предназначены к тому, чтобы утолять нужды людей. И поэтому распределение и присвоение вещей, идущее от человеческого закона, не препятствует тому, чтобы нуждающиеся люди получали вспомоществование от этих вещей. И поэтому вещи, которые у некоторых имеются в избытке, в силу естественного закона должны направляться на поддержание бедных98.
Эти фрагменты подсказывают, каким образом разрешить напряжение, существующее между концепцией коммутативной справедливости у Фомы и его же подходом к таким вещам, как подаяние, воровство и ветхозаветный закон о юбилейном годе. Что касается подаяния и других религиозно мотивированных экономических обменов, то, хотя они совершаются между двумя индивидами в обществе, речь идет отнюдь не о коммутативной справедливости. Если такие обмены и подпадают под рубрику справедливости, они, видимо, скорее относятся к дистрибутивной, нежели к коммутативной справедливости. Поскольку в действительности все принадлежит Богу, Бог играет роль, аналогичную роли общества в более привычных объяснениях дистрибутивной справедливости. Более того, удерживая собственность или: располагая собственностью, всякий: человек на самом деле ведет себя как агент Бога, содействующий распределению собственности внутри общества99.
Я не хочу сказать, что подаяние следует в буквальном смысле понимать как пример дистрибутивной справедливости. Аквинат не рассматривает подаяние в трактате о справедливости в «Сумме теологии»; ясно, что, по его мнению, подаяние подпадает под рубрику справедливости только в том случае, если усматривать в справедливости общую добродетель, заключающую в себе все моральные обязательства. Я всего лишь хочу сказать следующее: хотя формальные черты подаяния – обмен собственностью между двумя индивидами в рамках государства – создают видимость того, что подаяние входит в категорию обменов, подлежащих регулированию со стороны коммутативной справедливости, эта видимость обманчива. В действительности все то что Фома имеет сказать о природе и пределах права собственности, свидетельствует о том, что эти обмены, вопреки видимости, разделяют некоторые общие черты с теми обменами, которые регулируются дистрибутивной справедливостью.
Совсем нетрудно применить эту интерпретацию к замечаниям Фомы о юбилейном годе. На пятидесятый год А должен вернуть В землю, которую купил у В в предшествующие полстолетия, даже если В не даст А ничего взамен. Если оценивать этот обмен как пример коммутативного обмена между двумя индивидами в обществе, он выглядит так, словно Фома вынужден называть его одновременно справедливым и несправедливым несправедливым с точки зрения правил коммутативной справедливости100, но справедливым постольку, поскольку он соответствует правилам юбилейного года101. Но если мы поймем дело так, что в этом обмене А неофициально и даже неосознанно выступает агентом Бога, участвующим в перераспределении (согласно замыслам Божьим) того, что принадлежит Богу, тогда загадка исчезает102. В такой интерпретации некоторые виды экономического обмена между индивидами в обществе, кажущиеся примерами коммутативных обменов103, лучше понимать как обмены дистрибутивные.
По той же причине не произойдет нарушения коммутативной справедливости, если А выполнит моральное обязательство, подав милостыню В и не получив ничего взамен. Вопреки видимости, это не тот тип обменов, который регулируется коммутативной справедливостью. Это скорее вопрос распределения (дистрибуции) того, что в конечном счете принадлежит Богу, в согласии с замыслами Божьими.
Здесь стоит отметить еще две вещи в связи с экономическими воззрениями Аквината. Во-первых, различие между достойным и недостойным бедняком, столь важное в эпоху Просвещения и в викторианский период104, не играет никакой роли в замечаниях Фомы о подаянии. Фома рассуждает о том, что удерживать у себя больше собственности, чем необходимо для поддержания своих жизненных условий, есть моральный грех; но он ничего не говорит о моральных характеристиках, которыми должны обладать люди, чтобы считаться достойными получать милостыню. Единственное, что упоминает Аквинат в связи с получателем милостыни, – это его бедность. Разъясняя, в каких условиях подается милостыня, Фома говорит, что для этого необходимы две вещи, одна со стороны подающего милостыню и одна со стороны принимающего: со стороны дающего – избыток, со стороны принимающего – нужда105.
Сходным образом, при обосновании того тезиса, что человек в крайней нужде может просто воспользоваться собственностью другого, имеющего ее в изобилии, Аквинат не проводит различений относительно причин, приведших такого человека в состояние крайней нужды. В том же духе Фома предостерегает герцогиню Брабантскую о пределах морально приемлемых экспроприаций у евреев. Она вправе экспроприировать собственность евреев, если желает найти людей, на которых те нажились путем ростовщичества, и вернуть этим людям отобранное у них ростовщиками. Однако, замечает Фома, экспроприации должны ограничиваться нуждами евреев. Даже нажитое ростовщичеством, что, в глазах Фомы, подобно нажитому воровством, не может быть отобрано у евреев, если составляет часть необходимых средств к существованию106.
Во-вторых, один из способов различения между типами обществ состоит, по мнению Аквината, в природе достоинств, согласно которым производится распределение. В аристократическом обществе большую долю благ получают люди добродетельные; в олигархическом обществе ее получают благородные по рождению или те, кто уже богат. В демократических обществах распределение осуществляется поровну среди всех107.
Имеет смысл задаться вопросом за какой тип общества в действительности ратует Аквинат, когда отстаивает определенный тип распределения?
Это, безусловно, не олигархия. Почести – один из видов благ, подлежащих распределению в обществе. Но, с точки зрения Фомы, всякий, кто почитает богача просто за то, что тот богат, совершает серьезный проступок108, и заключается он в нарушении дистрибутивной справедливо сти109.
Но это, видимо, и не аристократия. Рассуждая о том, что надлежит воздавать бедняку, Фома обращает внимание только на факт его нужды, а вовсе не на вопрос о том, обладает ли бедняк достаточными моральными добродетелями, чтобы наделять его благами.
Это верно, что в справедливом обществе, как его представляет себе Аквинат, не будет равного распределения для всех, ибо, видимо, в определенных границах Фома допускал свободное индивидуальное накопление благ. С другой стороны, запрет иметь в собственности больше необходимого ясно указывает на стремление не допускать роста неравенства между людьми110. Итак, если мы рассмотрим типы общества, различаемые у Фомы, то тип распределения, за который ратует Фома и который он считает способствующим равенству между людьми в обществе, делает его справедливое общество более похожим на демократию, чем на любой другой признаваемый им тип социального устройства.
Телесное и духовное подаяние
До сих пор мы обсуждали милостыню в терминах подаяния бедняку денег или другой собственности. Но в действительности Аквинат признает два вида подаяния: телесное и духовное. Подать телесную милостыню означает накормить алчущего, напоить жаждущего, одеть нагого, приютить бездомного, навестить больного, выкупить пленника, предать земле усопшего. Подать же милостыню духовную означает научить невежественного, помочь советом сомневающемуся, утешить скорбящего, морально наставить грешника, простить обидчика, терпеть тех, кто нам в тягость, и молиться за всех. В глазах Аквината все эти поступки – тоже разновидности подаяния, и, подобно телесному подаянию, составляют предмет обязательства. Мне хотелось бы сосредоточиться на моральном порицании грешника. Обозначение этого вида деятельности у Фомы тоньше, чем то неуклюжее выражение, которым я его перевела, поэтому отныне я буду использовать термин Фомы «братское увещевание», а читатель должен помнить о том, что речь идет именно о моральном увещевании111. Как мы увидим, понятие братского увещевания еще более усложняет проблему, связанную с томистским пониманием подаяния бедному.
Основное благо, на которое нацелено братское увещевание, заключается в исправлении грешника. Вторая цель – исправить его прегрешение постольку, поскольку оно затрагивает других людей. То и другое – обязанность112.
Существует ряд пограничных обстоятельств, в которых отказ от увещевания грешника не является серьезным моральным прегрешением113. Важнейшее из них состоит в том, что грешник вследствие увещевания может сделаться еще хуже (хотя, как будет показано ниже, это соображение может и отступить перед нуждами: общества)114. Далее, не существует обязательства выискивать грешника, дабы высказать ему порицание, или шпионить за людьми, дабы выведать их прегрешения. Имеются и другие ограничения, восходящие к главной цели – братскому увещеванию. Необходимо выбрать подходящее время и способ для братского увещевания; не всякий его способ морально приемлем, не говоря уже о его обязательности115. Наконец, увещевающий должен, разумеется, иметь очевидные доказательства вины увещеваемого116. Очернительство и сплетни – тоже тяжкие моральные прегрешения117.
С другой: стороны, братское увещевание является предметом морального обязательства в тех случаях, когда нам точно известно о чьем-то тяжком моральном прегрешении, когда предоставляется возможность увещевать грешника должным образом, и нет серьезных оснований предполагать, что осуждение сделает его еще хуже. В таких обстоятельствах уклонение от братского увещевания есть тяжкий моральный проступок. Фактически Аквинат с одобрением следует за Августином в той мысли, что отказ от увещевания грешника делает человека хуже, чем сам грешник118.
Далее, обязанность порицать грешника сохраняет силу даже в том случае, если грешник является в некотором официальном смысле вышестоящим по отношению к порицающему. Не составляют исключения ни святость служения, ни святость лица: братское увещевание обязательно, даже если грешник является священником или церковнослужителем119. В таких случаях увещевающий должен особенно заботиться о том, чтобы сохранять почтительность и по возможности высказать увещевание приватным образом. Но в случае тяжкого прегрешения, наносящего вред другими членам общества, публичное обличение церковнослужителей даже обязательно, если приватное увещевание оказалось безрезультатным120.
Вообще говоря, публичному обличению должно предшествовать приватное наставление; но если прегрешение совершается публично и благо тех, кто им затронут, оказывается под угрозой, то необходимо публичное обличение. Обличающий должен попытаться сохранить доброе имя грешника, но если только публичное обличение способно удержать грешника от нанесения тяжкого вреда другим людям, оно становится обязательным в качестве первого шага121.
Аквинат не закрывает глаза на тот факт, что иногда братское увещевание, независимо от того, совершается ли оно публично или приватно, стоит или почти стоит жизни самому увещевателю. Но здесь Фома занимает жесткую позицию. Моральное зло отказа от братского увещевания не уменьшается от того, что обязанный увещевать боится грешника и его возможных ответных действий. Отказ от порицания – тяжкое моральное прегрешение, даже если человек отказывается порицать грешника из страха быть преданным смерти или понести тяжкий ущерб122. Здесь Фома с одобрением цитирует Августина: «Даже когда некто… страшится… народного суда или телесных мук и гибели»123, отказ от братского увещевания все равно остается смертным грехом.
С этой точкой зрения на приватное и публичное порицание связано отношение Аквината к лести. Лесть обсуждается в «Сумме теологии» в трактате о справедливости, и то, что Фома говорит о ней, есть в некотором смысле оборотная сторона его воззрений на братское увещевание124.
Есть обстоятельства, в которых лесть не составляет тяжкого морального прегрешения: например, когда она не побуждает того, кому льстят, к прегрешению, или когда она рождается из такого безобидного желания, как желание доставить удовольствие. Но иногда льстец превозносит то, что в действительности является моральным прегрешением, а потому побуждает того, кому льстит, ко греху. В таком случае лесть оказывается смертным грехом. Более того, она остается смертным грехом даже тогда, когда льстец не имел намерения ввести в грех того, кому льстит, но его лесть сама по себе произвела такое действие. Например, личный врач Мао Цзедуна, Ли Чжисуй, по собственной инициативе регулярно льстил Мао, не имея сознательного намерения сделать того морально хуже, но просто для того, чтобы пользоваться его благоволением125. Но, с точки зрения Фомы, поскольку постоянная лесть в адрес Мао сделала его морально хуже, она была сама по себе тяжким моральным прегрешением, пусть даже льстецы не стремились к такому результату126.
Как явствует из воззрений Фомы на братское увещевание, недостаточно просто удерживаться от участия в прегрешениях другого и от лести ему. Человек также обязан высказывать свою позицию. Это означает, что он обязан неким адекватным образом наставлять тех грешников, которых он имеет возможность увещевать, будь то в приватной беседе или в публичном выражении несогласия. Такой образ действий есть отнюдь не акт героизма, исключительной моральной высоты или соответствия требованиям безупречного совершенства. Отказ от братского увещевания есть тяжкий моральный проступок, который считается смертным грехом и ставит под угрозу вечное спасение человека. По мнению Фомы, духовное подаяние братского увещевания, подобно телесной милостыне, служащей вспомоществованием бедняку, есть вопрос справедливости: в одних случаях – общей справедливости, в других – справедливости коммутативной или дистрибутивной.
Загадка: братское увещевание и коммутативная справедливость
Есть нечто загадочное, но и внушительное в этой жесткой позиции Аквината. Возьмем, к примеру, его высказывания об очернительстве. Очернительство принимает разные формы, одна из которых связана с ложным обвинением. Факт такого рода очернительства имеется тогда, когда А публично обвиняет В в некоторых прегрешениях, что наносит существенный урон репутации В, хотя у А нет достаточных доказательств для обвинения и В в действительности не повинен в указанных прегрешениях127. Очернительство есть нарушение коммутативной справедливости128. Мысль Аквината, видимо, состоит в том, что, клевеща на В, А забирает у В часть его достояния – его доброе имя, не давая взамен никакой равной или большей ценности129. Стало быть, обмен, в конечном счете, оказывается несправедливым.
Но акт братского увещевания или социального протеста ценой тяжкого ущерба для себя тоже представляет собой обмен, в котором один участник отдает нечто: социальное положение, экономическое благополучие или даже собственную жизнь – не получая взамен никакой выгоды для самого себя. Братское увещевание резко отличается от очернительства своей обоснованностью и мотивами увещевателя, а также истинностью или ложностью обвинения130. Но если применительно к жертве очернительства утрата части своего достояния и неприобретение ничего взамен, с точки зрения Аквината, есть нарушение справедливости, то почему в случаях братского увещевания человек морально обязан отдать нечто – быть может, нечто гораздо более ценное, чем репутация, – ничего не приобретая взамен?
Ссылка на то, что Фома не считал братское увещевание примером коммутативной справедливости, не работает. Ведь на самом деле мы о том и спрашиваем почему он так не считал? Если принять во внимание характер принципа, лежащего в основе томистской концепции коммутативной справедливости, то, казалось бы, он не должен был считать морально обязательным для человека отдавать нечто ценное для себя, не имея в виду получить взамен нечто равноценное131.
Быть может, именно эта черта братского увещевания и объясняет, почему Фома считал его разновидностью подаяния. Такая постановка вопроса привлекает внимание к связи между этим примером (из категории духовного подаяния) и дарением собственного имущества бедняку (из категории телесного подаяния). Помощь бедному тоже составляет обязанность, и в этом случае творящий милостыню тоже отдает нечто ценное для себя, не получая ничего взамен.
В случае телесной милостыни, тоже загадочной с точки зрения коммутативной справедливости, решение заключалось в признании того, что обмен, который выглядит как регулируемый коммутативной справедливостью, в действительности гораздо ближе к обмену, регулируемому дистрибутивной справедливостью. С точки зрения Фомы на природу собственности, не существует абсолютного права собственности. В его концепции индивид не имеет права ни на неограниченное накопление, ни на полновластное распоряжение тем, что формально является его собственным. Так как любая собственность в действительности принадлежит Богу и так как цели Бога подразумевают благоденствие всех его творений, эти цели стоят выше права индивида контролировать то, что в других отношениях может законно считаться его достоянием.
Поможет ли нам эта позиция Аквината в отношении телесной милостыни, в предложенной здесь интерпретации, понять его позицию в отношении милостыни духовной – братского увещевания? Я склонна думать, что да.
Чтобы увидеть, почему это так, будет полезным сделать небольшое отступление и послушать, что говорит Фома о самоубийстве. В «Сумме теологии» самоубийство обсуждается в Вопросе об убийстве, причем Фома рассматривает тему убийства в контексте пороков, противоположных коммутативной справедливости132. Нетрудно понять, почему убийство может считаться нарушением коммутативной справедливости, но в каком смысле самоубийство тоже может считаться таким нарушением? Человек не имеет права отнять у себя больше того, что он может дать взамен. Аквинат разбирает аргумент такого рода в первом возражении параграфа об убийстве. Убийство противоположно справедливости, говорится в возражении, но невозможно совершить несправедливость по отношению к самому себе; следовательно, самоубийство не подпадает под запрет на убийство133.
В ответ на возражение Фома соглашается с меньшей посылкой: никто не может совершить несправедливости по отношению к самому себе. Но самоубийство, утверждает Аквинат, есть несправедливость по отношению к обществу и к Богу134. Эта позиция объясняется в корпусе параграфа. Во втором доводе в защиту запрета на самоубийство Фома, вслед за Аристотелем, говорит: «Всякая часть, как часть, принадлежит целому. Но всякий человек есть часть общества, и потому как часть принадлежит обществу. Стало быть, убивая себя, он наносит ущерб обществу»135.
Такая точка зрения на отношения между индивидом и обществом часто встречается у Аквината. Законно ли, спрашивает Фома, чтобы некто А отсек у В часть тела, которая не угрожала жизни В, даже если В согласен на это действие А136? Ответ Фомы – нет, если только А не является лицом, на которое общество возложило соответствующие официальные обязанности, и есть некоторое основание к такому действию, связанное с обществом в целом. Обоснование, которое приводит Аквинат своему негативному ответу, заключается в следующем поскольку В составляет часть целого, то есть общества, общество понесет ущерб, если В подвергнется калечению137. И в другом месте, разъясняя, почему законы должны быть нацелены на общее благо, Фома говорит: «Отдельный человек есть часть множества; всякий человек в своем бытии и в том, что он имеет, принадлежит множеству»138.
Далее, если всякий человек принадлежит обществу, в еще более фундаментальном смысле всякий человек принадлежит Богу. Вот почему самоубийство есть также несправедливость по отношению к Богу: «Кто сам лишает себя жизни, тот грешит перед Богом, подобно тому, как убивающий чужого раба грешит перед господином раба»139.
Таким образом, в основе запрета на самоубийство лежит идея, сходная с базовой идеей Аквината относительно собственности. Индивид может справедливо притязать на некоторые владения как на свои собственные, но только в определенных границах, ибо в действительности все принадлежит Богу, а Бог предназначает собственность ко благу всего человеческого сообщества. Вот почему ни один индивид не обладает абсолютной властью над своей собственностью. Замыслы Бога, который и есть истинный владелец всей собственности, превосходят цели людей, владеющих этой собственностью; и люди могут справедливо распоряжаться ею только при условии, что они не нарушают замыслов Божьих. Сходным образом, люди имеют власть над самими собой в силу того, что Бог сотворил их наделенными интеллектом и волей140; но они не имеют абсолютного права распоряжаться собой. В действительности все вещи, в том числе и человеческие существа, принадлежат Богу, а его замыслы подразумевают благоденствие всего общества. Люди лишь постольку ведут справедливую жизнь и могут располагать собой по своему разумению, поскольку они тем самым не нарушают замыслов Божьих.
Итак, подаяние выглядит как коммутативная справедливость; в некоторых отношениях оно очень похоже на подлинные коммутативные обмены, такие как покупка и продажа. Но в действительности подаяние не является коммутативным обменом, потому что связано с распределением собственности в соответствии с благом всего общества, на основе замыслов Божьих. Аналогичным образом, братское увещевание выглядит как коммутативный обмен и обладает общими чертами с тем грехом, который Фома считает разновидностью подлинного (но несправедливого) коммутативного обмена, а именно, с очернительством. Но в действительности братское увещевание – не коммутативный обмен, потому что подразумевает такой способ осуществления: собственной жизни, который: нацелен на благо всего общества, в согласии с замыслами Божьими.
Духовное и телесное подаяние: вопрос
Таков, разумеется, лишь начальный: шаг интерпретации, примиряющей воззрения Фомы на братское увещевание с его же концепцией справедливости. Но нам достаточно напомнить некоторые вопросы, поставленные в начале этой главы.
В связи с одобрением, которое высказывает Фома относительно ветхозаветного закона о юбилейном годе, мы заметили, что предпочитаемая Аквинатом экономическая система напоминает игру в монополию с ограничениями. В некотором смысле эта аналогия применима и к томистским воззрениям на подаяние, духовное и телесное. Морально позволительно неудержимо копить собственность, но только до определенного предела: по его достижении процесс накопления, монополия, заканчивается. Человек должен раздать свою собственность в виде милостыни: ведь, в конечном счете, распоряжение собственностью определяется целями не человека-собственника, но Бога. Сходным образом, человек может справедливо предаваться осуществлению собственных замыслов и планов, но только до определенного предела: по его достижении жизнь человека принадлежит обществу, и он живет справедливо лишь постольку, поскольку следует божественным замыслам, подразумевающим благоденствие всего общества.
Но что это за предел? И откуда нам знать, не ставит ли он нас перед той: же проблемой, что и этика заботы, или безличная точка зрения, а именно, перед необходимостью жертвовать своими индивидуальными и личными планами ради нужд других людей?
С другой стороны, откуда нам знать, не позволяет ли он человеку слишком многого, так что начинает страдать общее благо? Здесь очевидно мы возвращаемся к вопросам, поднятым Байер и Нагелем.
Первое, что мы должны здесь отметить: проблемы, связанные с томистской концепцией, гораздо ближе к тем, которые ставит этика заботы и безличная точка зрения, нежели к тем, которые ставит их противоположность – «этика справедливости» и личная точка зрения. Согласно Байер, для западной традиции (и преобладавшей в ней «этике справедливости») характерна убежденность в том, что осуществление индивидом его собственных планов должно «ограничиваться лишь минимальным и формальным общим благом, а именно действующим правовым аппаратом, укрепляющим договоры и защищающим индивидов от недолжного вмешательства других людей»141. Очевидно, однако, что Фома, который, безусловно, принадлежит к западной традиции, не разделяет этой убежденности. Его концепция справедливости требует от индивида жестких ограничений ради общего блага, которое отнюдь не минимально и не формально.
Должно быть также ясно, что томистская: этика справедливости весьма отлична от той этики справедливости, которую Байер приписывает либерализму и которая, на ее взгляд, «слабо защищает от пренебрежения юных, умирающих, неимущих – всех, кто относительно беспомощен»142. Как мы видели, Фома считает морально обязательным не только облегчать материальные нужды бедняка, но и заботиться о духовном и нравственном благе других людей. Мы: сосредоточились лишь на одном примере – обязанности братского увещевания – и показали, что воззрения Фомы имеют следствием необходимость (в некоторых обстоятельствах) морального порицания и даже социального протеста. Но, как было сказано выше, по: мимо братского увещевания, есть и другие виды: духовного подаяния, в том числе, например, наставление невежественного; и все эти другие виды равно обязательны. Многие черты этики заботы, включая ее упор на защиту беспомощных и важность образования, были, таким образом, подведены у Аквината под рубрику справедливо сти143, понятой как добродетель в широком или в узком смысле144.
В той мере, в какой замыслы индивида относительно его собственности или жизни могут быть превзойдены замыслами Бога, а божественные замыслы включают в себя благоденствие всего общества, безличная точка зрения, видимо, берет у Аквината верх над любыми персональными планами и предпочтениями. Стало быть, первый из вопросов, поставленных в начале этого раздела в отношении концепции Фомы, таков: не вынуждает ли она индивида, подобно этике заботы и безличной точке зрения, жертвовать своими собственными целями ради блага других людей? Не уподобится ли справедливый человек у Аквината «ангелу» Вирджинии Вулф, будь то в доме или в обществе? Не превратится ли он в человека, жертвующего собой вплоть до саморазрушения?
Это верно, что Фома решительно утверждает: ради общего блага нельзя обходиться с индивидом несправедливо145. Но эта линия мысли несколько теряет в своей убедительности, если припомнить воззрения Фомы на подаяние. Фома также считает, что по отношению к индивидам не совершается никакой несправедливости, когда они морально принуждаются жертвовать своим благоденствием или даже жизнью ради братского увещевания и того блага, которое оно приносит обществу.
Забота, беспристрастность и справедливость
В этом пункте может сложиться впечатление, что Аквинат не согласует между собой заботу и справедливость, безличную и личную точки зрения, вопреки утверждению, высказанному в начале этой главы. Дело скорее выглядит так, что он поддерживает лишь одну сторону в споре между этими двумя позициями – сторону заботы, безличной точки зрения. Соответственно, требования, предъявляемые к индивиду в томистской концепции справедливости, могут показаться слишком жесткими. Но это ложное впечатление.
Прежде всего, обратим внимание на важное различие между теми двумя примерами подаяния, о которых здесь идет речь (помощь страждущему и братское увещевание ценой некоторой жертвы), и примерами коммутативного обмена, с которыми эти виды подаяния: отчасти сходны (корыстные обмены: и очернительство). При нечестном обмене один из участников сделки получает меньше, чем отдает. В случаях очернительства один из участников теряет нечто (блага, связанные с добрым именем), не получая ничего взамен. В обоих случаях человек, страдающий от коммутативной несправедливости, обычно страдает против своей воли146. С другой стороны, хотя подающий телесную или духовную милостыню утрачивает нечто ценное для себя и ничего не приобретает взамен, он поступает так добровольно. Верно, что если бы он так не поступал, то был бы, по убеждению Аквината, повинен в смертном грехе; но верным остается и то, что совершать или не совершать смертный грех – это решать самому человеку. Библейская позиция в отношении подаяния гласит: «Блаженнее давать, нежели принимать» [Деян 20:35], а не «блаженнее терять, нежели принимать».
Итак, по мнению Фомы, хотя к индивидам и предъявляются жесткие требования, люди сами: решают, поступать им в соответствии с этими требованиям или нет. Если бы их к этому принуждали силой, они напоминали бы жертв нечестного и корыстного обмена или очернительства. Но тогда они тоже страдали бы от несправедливости, а несправедливое обращение с индивидами Аквинат считает неприемлемым даже ради общего блага, перевешивающего благо индивидов.
А как быть с тем случаем, который описывает Вирджиния Вулф, когда женщина приносит себя в жертву – пусть даже добровольно – ради других людей, причем таким способом, который поражает своей абсолютной несправедливостью и оказывается разрушительным для нее самой? Должны ли мы утверждать, что, по мнению Фомы, ее самопожертвование следует считать подаянием, поскольку оно совершатся добровольно? И не окажется ли такое самопожертвование, с точки зрения Фомы, морально обязательным для нее?
Возьмем, например, шекспировскую Офелию. Она подавляет собственные желания и послушно покоряется желаниям окружающих ее людей. Они используют ее, как пешку, в собственных планах, пока она не теряет разум, а в конце концов и жизнь. Следует ли считать покорность Офелии обязательным подаянием147?
Здесь, думаю, ответ очевиден: нет; и причины такого ответа помогут нам понять, каким образом концепция Аквината включает в себя защиту индивидов. Например, рассмотрим отношения между Офелией и ее отцом Полонием. Суть подаяния – в том, чтобы помочь человеку в острой моральной или материальной нужде. Разумеется, от материальной нужды Полоний не страдает. А от нужды моральной? Способствует ли покорность дочери: его моральному благополучию? Представляется очевидным, что нет. Благо Офелии менее важно для Полония, чем втереться в доверие к Клавдию, королю; поэтому Полоний хочет использовать ее, например, как приманку для Гамлета, чтобы добыть информацию для короля. Но когда Полоний так обращается с нею, Офелия выглядит такой же жертвой коммутативной несправедливости со стороны Полония, как если бы она была жертвой очернительства или бессовестной торговли. Поскольку послушание Офелии облегчает Полонию возможность и впредь обращаться с ней несправедливо, постольку она делает его морально хуже, а не лучше. В действительности можно предположить, что, если бы подаяние того рода, который отстаивает Фома, имело место в истории Офелии, это было бы подаяние в виде увещевания отца. Сопротивление отцу, а не покорность ему – вот что было бы полезным для того, чтобы сделать его морально лучше, а значит, могло бы считаться подаянием и соответствовать условиям морально обязательного подаяния, о которых говорится у Фомы148.
Итак, примеры, которые тревожили Вирджинию Вулф и в которых один человек добровольно позволяет использовать себя другим людям, почти или вовсе не заботящимся о его благе, – эти примеры отнюдь не санкционируются томистской концепцией справедливости. Человек, о котором идет речь, позволяет обращаться с собой: несправедливо, в смысле коммутативной несправедливости, и тем самым делает того, кому служит, морально хуже, а не лучше. В концепции Аквината нет ничего, что требовало бы так поступать. Напротив, высказывания Фомы о братском увещевании и его цели наводят на мысль, что человек морально обязан противостоять такому обращению, а не покоряться ему. Так что и по этим причинам концепция Фомы (пусть даже она включает в себя многие положения, которые, как принято считать, отличают этику заботы от этики справедливости, в том числе морально обязательное попечение о нуждающемся) неуязвима для некоторых критических высказываний, адресованных этике заботы. Тот факт, что такие положения составляют часть концепции справедливости, означает, что Фома принципиально идет средним путем между заботой человека о других и надлежащей: заботой о себе самом.
Человеческая успешность: моральная обязанность братского увещевания и безличная точка зрения
Тем не менее может сложиться впечатление, что и независимо от этих опасений Аквинат требует от индивидов чрезмерной заботы о других или о благоденствии общества. Можно подумать, что он слишком акцентирует безличную точку зрения и оставляет недостаточно места собственным замыслам и предпочтениям человека. У некоторых людей это возражение может быть вызвано, прежде всего, воззрениями Аквината на моральное обязательство не заботиться о своем благополучии больше, чем это необходимо для сохранения своих жизненных условий. Но я думаю, что энергичнее всего это возражение напрашивается в связи с позицией Фомы относительно братского увещевания. Если вы живете в дурно устроенном обществе, то социальный протест может стать катастрофой для вашего благополучия: он может стоить вам работы, социального положения, детей, жизни. Можно ли тогда говорить о моральном обязательстве губить собственную жизнь ради блага общества (или ради чистой возможности блага общества, ибо ясно, что братское увещевание может оказаться абсолютно бесплодным)?
Но я думаю, что при такой постановке вопроса, при всей ее силе, недооценивается мощь зла в дурно устроенном обществе149. Чтобы понять, что здесь имеется в виду, отметим, что вопрос исходит из той имплицитной предпосылки, что в дурно устроенном обществе человек, решившийся на братское увещевание или социальный протест, может избежать разрушения собственной жизни, может быть успешным, может поднимать собственное благосостояние. Верна ли эта предпосылка?
Возьмем пример нацистской Германии. Малейший открытый протест обычно вызывал ответные санкции, включая слежку, тюремное заключение, потерю работы и пенсии, интернирование в лагеря и даже смерть. Верно ли, что те, кто не протестовал, кто сумел выжить на своих местах, реализуя собственные планы, преумножили или сохранили свое благополучие?
Вспомним, например, Альберта Шпеера, который только выиграл в возможности реализоваться как архитектор благодаря своей готовности ублажать Гитлера. Или Герхарда Киттеля, который был весьма уважаемым библеистом в Тюбингене в период нацизма. Киттель удержал свои позиции отчасти потому, что вступил в нацистскую партию и был готов служить нацистам, когда его вызывали в качестве эксперта150. Так как Киттель не создавал нацистам помех, он сумел написать в нацистский период влиятельный труд «Theologisches Worterbuch zum Neuen Testament» [ «Богословский словарь к Новому завету»].
И тем не менее, если бы это было возможным, кто из нас захотел бы прожить такую жизнь, какую прожили Шпеер или Киттель? Киттель умер вскоре после войны, в возрасте пятидесяти девяти лет, презираемый всеми за коллаборационизм. Война открыла широкие возможности перед талантом Шпеера, но она же разрушила его творения, и все, что осталось от его трудов, – это дурная репутация архитектора Гитлера. С другой стороны, мы сегодня идеализируем людей, подобных Дитриху Бонхёфферу, которые участвовали в активном сопротивлении и жестоко поплатились за это.
Несомненно, многие из нас, окажись они в такой же ситуации, сделали бы выбор скорее в духе Киттеля, нежели Бонхёффера. Но это уже другой вопрос, грустный вопрос о расхождении между идеалом и реальностью. Мы же сейчас говорим об идеале: кто из нас хотел бы прожить так, как Киттель, а не Бонхёффер?
Быть может, печальная истина состоит в том, что в дурно устроенном обществе, где социальный протест встречает суровые санкции, уклонение от протеста оказывается столь же разрушительным для успешности человека, что и вовлеченность в него, только по-другому.
В действительности, быть может, это уточнение – «по-другому»– объясняет, почему настойчивость Аквината в отношении обязательного характера братского увещевания является менее жесткой, чем кажется. Франц Штангль, заурядный немец без особых дарований, поднялся по ступеням нацистской иерархии благодаря не протесту, а сотрудничеству с нацистами, сколь бы чудовищными ни были даваемые ему поручения. В конце концов он стал комендантом Треблинки. Отказавшись от протеста, он сохранил свое положение, доходы, семью, безопасность внутри системы и даже, возможно, жизнь. Его материальное благоденствие было достигнуто ценой отказа от протеста. Но за это ему пришлось заплатить непомерную цену: он стал человеком, способным относительно безразлично видеть смерть тысяч евреев – мужчин, женщин и детей – в газовых камерах.
В конце жизни Штангль сказал своему биографу, Гитте Сере-ни: «Моя вина в том, что я все еще здесь… Я должен был умереть. Вот моя вина»151. Штангль думал – быть может, побуждаемый инстинктом самосохранения, – что мог бы заплатить за протест собственной жизнью. Но в конце жизни он считал, несколько парадоксально, что, наверно, прожил бы лучше, если бы выбрал смерть. Я согласна с этим суждением. Но если это суждение верно, то, возможно, упор Фомы на то, что братское увещевание есть обязанность, даже если оно повлечет за собой серьезные последствия для человека, есть не жестокость, а реалистичность. В по-настоящему дурно устроенном обществе наиболее прочная или даже единственная надежда на человеческую успешность может подразумевать сильнейшие страдания или даже смерть.
Если понимать томистскую концепцию справедливости в таком смысле, она в действительности не предполагает преобладания безличной точки зрения над индивидуальным стремлением к собственному благу. Скорее, дело обстоит так, что в некоторых обстоятельствах и в некоторых обществах наилучший или единственный способ достигнуть собственного блага состоит в том, чтобы стремиться к благу для всех.
Заключение
Подведем итоги. Томистская концепция справедливости – это политическая теория, которая вовсе не является «глубоко анти-эгалитарной» и монархической152; напротив, она эгалитарна, репрезентативна и глубоко антикапиталистична.
Но, в отличие от некоторых политических теорий, удовлетворяющих такому описанию, политической теории Аквината удается усвоить личную точку зрения и найти для нее место в безличной позиции. Хотя Фома всячески делает упор на общем благоденствии и на обязанности индивидов способствовать этому благоденствию, он против того, чтобы индивиды и их жизненные цели подавлялись заботой об обществе в целом. В томистском понимании коммутативной справедливости, было бы неправильным отнимать нечто ценное у невинного человека против его воли, исключительно ради общего блага, не давая ему взамен ничего, что он ценил бы, по меньшей мере, столь же высоко.
Более того, жесткий подход Аквината к вопросу о том, чем индивид должен добровольно жертвовать ради общего блага, отчасти имеет вынужденный характер. Моральная обязанность подаяния бедному требует от человека отдать нечто, в чем он не нуждается для сохранения своего жизненного положения. Но что именно необходимо для сохранения индивидуальных жизненных условий, это очевидно вопрос спорный. Ничто в обязанности подаяния не подразумевает, что всякий нравственный человек должен в вопросе о милостыне следовать францисканской (или даже доминиканской) бедности. Требование братского увещевания ради общего блага может очень дорого обойтись индивидам, но только в катастрофически дурных обществах, настолько дурных отчасти или в целом, что человеческая успешность в них скорее достигается уплатой этой дорогой цены, чем уклонением от нее.
Таким образом, томистская концепция справедливости дает нам то, что Нагель считал крайне трудным или вообще недостижимым политический идеал, в котором неким рациональным образом сплетались бы воедино личная и безличная точки зрения. Я, конечно, вовсе не утверждаю, что, по моему мнению, томистская концепция справедливости дает нам практически: эффективную политическую модель справедливого общества. Это, безусловно, политический идеал, скорее всего, неосуществимый. Есть основания полагать, что как практическая модель он был бы обречен на неудачу. Но неудача имела бы: причиной общие человеческие слабости, а не неспособность самой концепции соединить личное и безличное в некий приемлемый политический идеал. Сама концепция – это политический идеал, который: отдает должное как заботе индивидов о собственных жизненных планах, так и благосостоянию общества в целом.
Если рассматривать концепцию справедливости Аквината как часть его этической теории, она оказывается вовсе не «легалистской моральной теорией», признающей лишь минимальное и формальное общее благо и пренебрегающей интересами наименее защищенных слоев общества. Недостатки либеральных теорий справедливости, необходимым средством против которых некоторые философы считают этику заботы, отсутствуют в томистской концепции справедливости. Она уделяет самое серьезное внимание общему благу, налагающему обязанности: на индивида, а удовлетворение потребностей бедных и сирых полагает делом справедливости. Как видим, множество моментов, относящихся к этике заботы, Аквинат включает в свою «этику справедливости». С другой стороны, так как эти моменты рассматриваются в контексте справедливости, и так как справедливость, а не забота, составляет фундаментальную этическую ценность, регулирующую отношения человека с другими людьми, томистская концепция, в отличие от этики заботы, в принципе способна объяснить моральную неприемлемость того, чтобы человек позволял эксплуатировать себя другим людям. Следовательно, томистская справедливость так сплетает между собой вопросы справедливости и заботы, чтобы сохранить прозрения этики заботы, но минимизировать их цену.
Мне кажется, что, если мы поймем справедливость так, как понимал ее Аквинат, она нисколько не утратит своей притягательности – притягательности добродетели, призванной утверждать и оберегать добрые и заботливые отношения в морально приемлемом обществе.
Примечания
1 Annette Baier, “The Need for More than Justice” / Virginia Held (ed.), Justice and Care. Essential Readings in Feminist Ethics (Boulder, CO: Westview Press, 1995), p. 48.
2 Baier (1995, p. 52).
3 Baier (1995, p. 55).
4 Baier (1995, p. 54).
5 ST На IIae. 60. 5 resp; см. также На IIae. 57. 2.
6 ST IIа IIae. 57. 2 ad 3.
7 Описание сложных иерархических отношений, о которых здесь идет речь, см. в главе 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
8 Ведется дискуссия о том, было ли у Фомы понятие права в нашем смысле. См., например, Richard Tuck, Natural Rights Theories. Their Origin and Development (Cambridge: Cambridge University Press, 1979), p. 19, и приведенную в этой книге литературу. Я не собираюсь вступать в этот спор. Здесь я употребляю термин «право» лишь в широком смысле: А обладает правом по отношению к В, только если В имеет в некотором релевантном отношении обязательство по отношению к А. Прояснение связи между обязательствами и правами – сложная задача, выходящая за пределы данной работы. Существует обширная литература по этой теме. Некоторые аспекты я рассматривала в статье: “God’s Obligations” // Philosophical Perspectives vol. 6, James Tomberlin (ed.) (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing, 1992), pp. 475–492.
9 Аргумент в пользу такого вытеснения см., например, в работе: Nel Noddings, “Caring” / Virginia Held (ed.), Justice and Care. Essential Readings in Feminist Ethics (Boulder, CO: Westview Press, 1995), pp. 7-30.
10 Из “Professions for Women”, цитир. в статье: Jean Hampton, “Feminist Contractarianism” / Louis Anthony and Charlotte Witt (eds), A Mind of One’s Own. Feminist Essays on Reason and Objectivity (Boulder, CO: Westview Press, 1993), p. 231.
11 Equality and partiality (Oxford: Oxford University Press, 1991), p. 3.
12 Nagel (1991, pp. 4–5).
13 Nagel (1991, p. 11).
14 Nagel (1991, p. 12).
15 Nagel (1991, p. 14).
16 Nagel (1991, p. 15).
17 Nagel (1991, pp. 170–171).
18 Nagel (1991, p. 171).
19 Nagel (1991, p. 3).
20 Пример того способа, каким Фома совокупно рассматривает все эти комплексы богословских и этических вопросов, см. в главе 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
21 Справедливость – общая добродетель, примерно соответствующая тому, что мы называем моральным обязательством в широком смысле. См., например, ST На IIae. 58. 5.
22 См., например, ST IIа IIae. 58. 8 sed contra, где Аквинат с одобрением цитирует аристотелевское высказывание о справедливости как о добродетели, специально относящейся к реалиям социальной жизни.
23 См., например, ST Iа IIae. 95. 2 и IIа IIae. 60. 5. См. Norman Kretzmann, “Lex Iniusta Non Est Lex: Laws on Trial in Aquians’ Court of Conscience” // American Journal of Jurisprudence 33 (1988): 99-122.
24 Обсуждение естественного закона см. в главе 2 о благе.
25 In NE V. 12, 1018–1019. См. также ST Iа IIae. 94. 5, где Аквинат различает два вида естественной справедливости: одна справедливость – та, к которой нас склоняет природа, другая такова, что природа не склоняет нас вопреки ей. Итак, справедливость Фома считает основанной на природе вещей, поскольку в человеческое естество вложена склонность считать природу вещей справедливой. (Как поясняет приводимая Фомой аналогия, можно принимать недоказуемые первоначала, истинность которых имеет основанием природу вещей или природу Бога, поскольку людям присуща универсальная склонность находить их истинными). Можно было бы предположить, что томистское понимание естественной справедливости обязывает Фому принять то очевидно ложное мнение, будто у всех человеческих воззрений на справедливость имеется общее ядро, а также принять весьма оптимистичный взгляд на способность людей к правильному моральному поведению. Но такое предположение было бы ошибочным.
Фома говорит, что люди по природе склонны принимать эти вещи в качестве справедливых, но не утверждает, что люди всегда поступают в соответствии с этой склонностью или что эта склонность не может быть преодолена.
26 In Ж N. 12, 1020–1023.
27 См., например, Paul Sigmund, “Law and Politics” / Norman Kretzmann and Eleonore Stump (eds), The Cambridge Companion to Thomas Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press, 1993), p. 220. Тем не менее Сигмунд склонен считать, что «в томистском монархизме имеется примесь конституционных и республиканских элементов» (ibid., р. 221).
28 DRP 1.4. 756.
29 ST Iа IIae. 96. 3–4.
30 ST Iа IIae. 97. 3ad3.
31 DRP 1. 4. 754.
32 DRP 1.4. 756.
33 In ME N. 11, 1010.
34 In NE V. 11, 1011.
35 Практика выбора монарха существовала в некоторых средневековых государствах; в отдельных частях Европы, например, в Чехии, она продолжала существовать вплоть до XVII в. Я признательна Ховарду Лутану за это указание.
36 ST Iа IIae. 105. 1.
37 DRP I. 7. 767.
38 См., например, In II Sent. 44. 2. 2 ad 5; более подробно в DRP I. 7.
768-770.
39 ST IIа IIae. 42. 2 ad 3.
40 См., например, ST IIа IIae. 10. 8, IIа IIae. 10. И, IIа IIae. 10. 12.
41 ST IIа IIae. 12. 2.
42 ST IIа IIae. 10. 12. Когда же ребенок войдет в разумный возраст, будет по-прежнему несправедливым принуждать его к принятию христианства каким бы то ни было способом принуждения.
43 Например, справедливость имеет квази-составные части и квази-потенциальные части (которые представляют собой добродетели, сопряженные со справедливостью). См. ST IIа IIae. 61 prooemium.
44 In NE V. 4, 928.
45 In NE N. 6, 954.
46 In NE N. 6, 950.
41 In NEN. 7, 964.
48 ST IIа IIae. 61. 2. С этой точки зрения, не вполне понятно, что следует утверждать о дарении. С одной стороны, дарение подарков, вообще говоря и по словам самого Фомы, не является примером несправедливости (см., например, ST IIа IIae. 63. 1 ad 3). Разумеется, дарение может быть только добровольным; справедливость не нарушается, если некто предпочитает не подарить, а продать свою собственность. Поэтому представляется, что если стороны, участвующие в сделке, остаются друг к другу в том же отношении после сделки, в каком находились до нее, то это – достаточное, хотя и не всегда необходимое условие справедливости. (В самом деле, можно отвечать условиям коммутативной справедливости, но все еще быть несправедливым, когда речь идет о подаче милостыни, порождающей обсуждаемую здесь загадку подаяния). С другой стороны, человек может свободно решить сделать такой большой, такой незаслуженный и такой ничем не компенсируемый подарок, что принять его кажется несправедливым, причем именно по тем соображениям, которые стоят за понятием коммутативной справедливости.
49 In NE V. 4, 927.
50 In NEV.4, 935.
51 In NEV. 5, 941.
52 In NE V. 4, 937. Очевидно, что даже в условиях демократии многие люди оказались бы в неравном положении, если опираться на критерий заслуг, о котором говорит Аквинат. Так, акцент на критерии свободы призван, видимо, исключить рабов.
53 In NE V. 6, 953.
54 Наказания и взыскания могут показаться актами коммутативного обмена, в которых стороны в завершение обмена имеют не то же самое, что в начале.
В действительности, разумеется, наказания и взыскания мыслятся как средства исправления неравенства, имевшего место в более ранних актах обмена.
55 ST На IIae. 60.4.
56 ST На IIae. 68.3.
57 ST На IIae. 59. 1.
58 ST На IIae. 57. 1; см. также ST На IIae. 58. 2.
59 ST На IIae. 77. 1 resp.
60 ST На IIae. 77. 1 sed contra.
61 ST На IIae. 77. 2.
62 ST На IIae. 77. 2.
63 ST На IIae. 62.2.
64 ST На IIae. 78. 1.
65 DRJ 1.728.
66 ST На IIae. 77. 4.
67 Это нежелание чувствуется в том утверждении Фомы, что торговля – занятие, которого клирики должны избегать, причем именно из-за его связи с извлечением выгоды: ST На IIae. 77. 4 ad 3.
68 ST IIа IIae. 77. 4.
69 ST IIа IIae. 71.4.
70 До тех пор, пока правитель не сочтет, что следование ему уже не является необходимым для спасения. ST Iа IIae. 104. 3.
71 ST Iа IIae. 105.2.
72 Так анализируется точка зрения Нозика в работе Will Kymlicka, Contemporary Political Philosophy. An Introduction (Oxford: Clarendon Press, 1990), р. 97. Выражаю признательность Джеймсу Бомэну зато, что он обратил мое внимание на эту книгу.
73 ST Iа IIae. 105. 2. Можно предположить, что в этом случае переводить латинское homines как «люди» было бы неверным. Мне нечего сказать о, вообще говоря, неблагоприятном мнении Аквината о женщинах, выражающем настроение той эпохи.
74 ST Iа IIae. 105.2.
75 ST Iа IIae. 105.2.
76 Чтобы эту систему можно было хотя бы представить работающей, ясно, что цены должны были варьироваться в зависимости от того, насколько близок юбилейный год.
77 ST IIа IIae. 87. 1.
78 ST IIа IIae. 32. 7 ad 1.
79 ST IIа IIae. 66. 7 sed contra.
80 Предположительно, нужда должна быть большой, а заимствование – таким, чтобы не поставить владельца значительной собственности в положение нуждающегося. Обыденный, но показательный пример такого рода заимствования приводится в книге Victor Klemperer, I Will Bear Witness: A Diary of the Nazi Years, 2 vols., trans. Martin Chalmers (New York: Random House, 1998); оригинал: Ich will Zeugnis ablegen bis znm letzten. Tagebucher 1933–1945 (Berlin: Aufbau Verlag, 1996). Клемперер сообщает, что, когда он и его жена из-за введенных нацистами ограничений вынуждены были довольствоваться в питании картофелем, причем несообразно малым его количеством, он регулярно воровал по ложке джема или по куску хлеба у соседки, у которой было больше еды, чем она могла съесть со своим семейством.
81 ST IIа IIae. 18. 1.
82 По мнению Фомы, то, что человеку необходимо для поддержания жизни, различается в зависимости от рода занятий и положения в обществе. Например, президент Соединенных Штатов должен тратить на одежду больше, чем молодой преподаватель философии в университете.
83 См. ST IIа IIae. 32.5.
84 ST IIа IIae. 66. 3 ad 2.
85 ST IIа IIae. 87. 1 sed contra и ad 4.
86 Права и обязанности, связанные с подаянием, сложны. Как показывает одобрительная ссылка Фомы на Василия, Фома считал, что бедняк имеет право на вещи, которые он получает в виде милостыни: пищу, одежду и кров. Ясно также, что, по его мнению, имеющие больше необходимого обязаны подавать милостыню. И все же, согласно его точке зрения, конкретный податель милостыни А не обязан подавать милостыню конкретному нуждающемуся N, а N не имеет права претендовать на собственность, принадлежащую А. А мог раздать все, что имел, до того, как встретил N, или же мог выбрать в качестве получателей подаяния других людей, отличных от N. Как именно разъясняются права и обязанности в томистской концепции обязательности подаяния – любопытный вопрос, но он выходит за рамки этой главы.
87 ST IIа IIae. 32. 5. Связь между подаянием и любовью – обширная тема, которую не рассмотреть походя. Кроме того, в трактате о справедливости Фома говорит об уплате десятины, но не о подаянии (хотя и высказывает ту мысль, что в определенном смысле акт подаяния тождествен акту справедливости: ST IIа IIae. 32. 1 ad 2). Тем не менее ясно, что, в его понимании, универсальная обязанность помогать бедному есть обязанность соблюдать справедливость, по крайней мере, в общем смысле термина «справедливость». См., например, ST IIа IIae. 122. 6, где Фома говорит, что справедливость подразумевает уплату должного всем без различия; ST IIа IIae. 117. 5 ad 3, где он говорит, что щедро одаривать странников – дело справедливости; ST IIа IIae. 32. 3 sed contra, где он с одобрением цитирует высказывание Августина о том, что отослать бедняка ни с чем означает обнаружить разновидность жадности, то есть захвата и удержания у себя имущества, принадлежащего другим, а она противоположна справедливости. И, конечно, одна из главных целей, ради которых уплачивается десятина, представляющая собой дело справедливости в особом смысле, состоит в том, чтобы позволить духовенству утолять нужды неимущих (ST На IIae. 87. 1 ad 4).
88 ST На IIae. 32. 5 ad 2.
89 Locke, The Second Treatise of Government, sec. 46, ed. Peter Laslett (New York: New American Library, 1963), p. 342. [Русск. пер. приводится на изданию: Джон Локк. Сочинения в трех томах. Т. 3. М., Мысль, 1988. С. 289].
90 Как говорит один исследователь, враждебный по отношению к позиции Локка, у него «всецелая теория собственности служит оправданием естественного права не только на неравную собственность, но и на безграничное индивидуальное присвоение» (С. В. MacPherson, The Political Theory of Possessive Individualism. Hobbes to Locke, Oxford: Clarendon Press, 1965, p. 221. Я признательна Джеймсу Боману за то, что он привлек мое внимание к этой работе). Точка зрения Макферсона на Локка спорна, и было бы искажением считать эту единственную черту локковской «всецелой теорией собственности»; но Макферсон, как мне кажется, действительно прав в том, что Локк, в отличие от Аквината, склонен одобрять безграничное приобретение как справедливое.
91 Разумеется, ничто из того, что я говорю об экономических воззрениях Фомы, не имеет отношения к тому, как в действительности обращались с бедняками в средние века. Нелицеприятный исторический анализ бедности в средневековый период см., например, в работе: Michael Mollar, The Poor in the Middle Ages, trans. Arthur Goldhammer (New Haven, CT: Yale University Press, 1986).
92 Именно по этой причине не существует подобной загадки относительно моральной приемлемости дарения. Подарок есть нечто такое, на что его получатель не имеет права. Следовательно, лицо А, которое решает отдать некоторый предмет лицу В, но только при условии получения от В другого предмета равной стоимости, не нарушает никаких прав В и не совершает никакой несправедливости по отношению к нему. У А нет обязанности дарить В предмет О. (Конечно, могут возникать и такие социальные ситуации, когда отдается нечто, что имеет черты дара, однако в действительности представляет собой возмещение нанесенного ранее ущерба, ожидаемое подношение лицу, выполняющему определенную социальную функцию, или что-нибудь еще в том же роде. В таком случае существует обязательство дать нечто, что выглядит как дар, но в действительности им не является).
93 Безусловно, есть основания предполагать, что некоторые взгляды Аквината на законность частной собственности сформировались под влиянием францисканского спора о бедности. Краткий обзор литературы по тому вопросу см. в Tuck (1979, рр. 20 1Ї).
94 ST IIа IIae. 66. 2.
95 ST IIа IIae. 66. 2 ad 2.
96 ST IIа IIae. 66. 7 ad 2.
97 Сходный аргумент Фомы выдвигает в связи с разъяснением ветхозаветного повествования об ограблении египтян. См. ST IIа IIae. 66. 5 ad 1.
98 ST IIа IIae. 66. 7.
99 Я не имею в виду – и ничто в предложенной интерпретации не понуждает к этому, – что человек, вовлеченный в такого рода обмен, осознает себя инструментом Бога.
100 Я имею в виду, 1) что обеспечения равенства при обмене необходимо и достаточно для справедливости коммутативных обменов, если ни одна из сторон не решит добровольно подарить другой стороне часть своей доли при сделке; 2) что если бы не предписания юбилейного года, А не пожелал бы подарить часть своей собственности В.
101 Утверждая, что было бы морально приемлемым, если бы правитель управлял государством, следуя ветхозаветному закону, включая закон юбилейного года, Аквинат в действительности хочет сказать, что предписания этого закона согласуются со справедливостью как общей добродетелью.
102 Так как обязанность подавать милостыню есть обязанность общей, а не специальной справедливости, загадка исчезла бы, если бы нечто могло быть одновременно справедливым с точки зрения общей справедливости и несправедливым с точки зрения коммутативной справедливости – или, наоборот, несправедливым с точки зрения общей справедливости, но справедливым с точки зрения коммутативной справедливости. Но, разумеется, ценой такого решения была бы моральная система, в которой при некоторых обстоятельствах человек вынужден был бы нарушать моральную обязанность, что бы он ни делал. Некоторые этические системы одобряют неразрешимые моральные дилеммы, но Аквината трудно в этом заподозрить. Хуже того, если трактовать этическую систему Фомы таким образом, то неразрешимые дилеммы возникали бы в ней не в редких трагических случаях, а регулярно и повседневно.
103 Акты экономического обмена, такие как покупка и продажа, несомненно, представляются собой акты коммутативного обмена у Фомы, который предпочитает говорить о них как о «добровольных обменах [commutationes]. См., например, ST IIа IIae. 77 proemium.
104 K.D.M. Snell, например, говорит, что в Британии периода огораживания «моральная правота… то и дело смешивалась с экономическим благосостоянием»; Annals of the Laboring Poor: Social Change and Agrarian England 1160–1900, Cambridge Studies in Population, Economy and Society in Past Time, vol. 2 (Cambridge: Cambridge University Press, 1987), p. 170. См. также Gertrude Himmelfarb, The Idea of Poverty: England in the Early Industrial Age (New York: Knopf, 1983). Но различение между достойным и недостойным бедняком старше века Просвещения. Его можно обнаружить, например, у Мартина Лютера, в его рекомендации государственным властям поддерживать тех бедняков, которые честно трудились в своем ремесле или в крестьянском хозяйстве» (курсив мой. – Э. С.), но больше не могут работать (цит. у Frances Fox Piven and Richard Cloward, Regulating the Poor: The Function of Public Welfare (New York: Vintage Books, 1971), p. 9. Найвен и Кловард открывают также любопытную дискуссию о предпринятой в эпоху Ренессанса и продолженную в период Просвещения попытку перехода от частной и церковной помощи неимущим к регулируемой государством системой социальной поддержки. Этот переход отчасти объяснялся резким ростом числа обездоленных, вызванным в Британии, помимо прочих факторов, огораживанием общинных земель и сломом приходской системы. Я благодарна Джеймсу Боману за то, что он привлек мое внимание к этой работе. Наконец, нечто подобное различению между достойным и недостойным бедняком можно найти уже в патристический период. Это различение решительно отбрасывает Амвросий. Он говорит: «Ты не должен взирать на то, чего достоин каждый человек. Милосердие стремится не судить по заслугам, а помогать в нужде, не испытывать праведность, а приходить на помощь неимущему… Если у тебя есть средства, дабы проявить милосердие, не медли… ато упустишь возможность отдать… Но почему я говорю, что ты не должен медлить в проявлении щедрости? Скорее речь идет о том, чтобы не торопиться грабить, чтобы не вымогать желанное, чтобы не искать чужой собственности». De Nabuthae (“On Naboth” / Ambrose, ed. and transl. Boniface Ramsey, O.R, London: Routledge, 1997, p. 130).
105 ST IIа IIae. 32. 5.
106 DRJ 1. 727. Указывая на эти места в данном сочинении Фомы, я не хочу создать впечатление, будто, на мой взгляд, позиция Аквината в отношении евреев не является антисемитской или хотя бы в минимальной степени морально приемлемой. И в этом трактате, и в других сочинениях есть много мест, свидетельствующих о моральной оскорбительности его отношения к евреям. В этом случае, как и во многих других, можно сказать лишь одно: Фома был сыном своего времени.
107 In NEV.4. 937.
108 ST На IIae. 6. 3 sed contra.
109 ST IIа IIae. 63 proemium. Таким образом, Аквинат считает почесть одним из благ, подлежащих распределению со стороны общества, и полагает морально ошибочным накапливать богатство, а затем производить на основе богатства распределение почестей.
110 Как было отмечено выше, Аквинат считал, что правовые предписания Ветхого Завета, которые он одобрял, имели в числе своих целей уменьшение неравенства.
111 См. ST IIа IIae. 33. 1 sed contra.
112 Братское увещевание, направленное на исправление прегрешения, есть акт справедливости, только если понимать справедливость в общем смысле; напротив, будучи направленным на исправление последствий прегрешения, сказывающихся на других людях, оно является актом справедливости даже в смысле специальной справедливости. См. ST IIа IIae. 33. 1. Является ли братское увещевание в этом смысле актом коммутативной или дистрибутивной справедливости, зависит от природы прегрешения, подлежащего исправлению.
113 Идея Фомы, согласно которой моральная обязательность «братского увещевания» допускает в этом случае исключения, схватывает, как мне кажется, тот верный момент, который имеется в часто (и справедливо) звучащей критике взглядов Ханны Аренд, говорившей о сотрудничестве евреев с нацистами. Признавая, что братское увещевание может оказаться неэффективным, Фома занимает гораздо более мягкую позицию, нежели Аренд. С точки зрения Аренд, жертвы несправедливости, например, евреи в нацистской Германии, «отчасти виновны в своем положении, а тем самым и в том позоре для человечества, которым оно является». Цит. в работе: Richard Bernstein, Hannah Arendt and the Jewish Question (Cambridge, MA: MIT Press, 1996), p. 37. Суть позиции Аренд, поясняет Бернстайн, заключается в том, что существует долг политического действия протеста против несправедливости, и те жертвы социальной несправедливости, которые не выполнили этого долга, становятся до некоторой степени ответственными (если не морально, то, по крайней мере, политически) за то положение, в котором они сами оказались. Позиция Аквината более снисходительна. Он не считает долг социального протеста абсолютным, но ставит его в зависимость от определенных обстоятельств; а так как он признает к тому же, что такой протест может оказаться неэффективным, ему удается избегнуть вывода, что жертвы социальной несправедливости всегда отчасти ответственны за собственные страдания.
114 ST IIа IIae. 33. 2 ad 3. Бывают и более сложные случаи, когда отказ от упрека в адрес того, кто совершает проступок, сам по себе не является серьезным моральным проступком человек колеблется, нужно ли ему высказывать упрек, но, несомненно, высказал бы его, если бы мог быть уверенным в том, что это сделает лучше того, к кому обращен упрек. В таком случае отказ от упрека все еще остается моральным проступком, но не слишком тяжким.
115 ST IIа IIae. 33. 2 resp., ad 4.
116 См., например, высказывания Аквината об обязанностях обвинителей: ST IIа IIae. 68. 3 ad 1. Не вполне ясно, должен ли обвиняемый быть действительно виновным в прегрешении, о котором идет речь. См. ниже прим. 127.
117 В самом деле, клевета и очернительство – нарушения коммутативной справедливости. См., например, ST IIа IIae. 64 proemium, IIа IIae. 67 proemium, IIа IIae. 72 proemium.
118 ST IIа IIae. 33. 2 sed contra.
119 ST IIа IIae. 33. 4.
120 ST IIа IIae. 33. 4 ad 2.
121 ST IIа IIae. 33.7.
122 ST IIа IIae. 33. 2 ad 3.
123 ST На IIae. 33. 2 ad 3. В связи с этим нельзя не вспомнить о таких диктаторах, как Гитлер или Мао, и не задуматься о том, насколько иной была бы судьба обществ, которыми они правили, если бы в их окружении нашлись люди, поступавшие в соответствии с выраженными здесь у Аквината нормативными взглядами. Ср. также сожаления Адольфа Эйхмана о том, что «никто… не пришел ко мне и не упрекнул меня в том, как я исполняю свои обязанности» (цитир. в работе: Bernstein, 1996, р. 164).
124 Лесть обсуждается в связи с добродетелями, сопряженными со справедливостью, то есть добродетелями, которые имеют дело с моральными обязательствами индивидов в обществе, но лишены некоторых черт справедливости. Лесть – порок, противоположный добродетелям, сопряженным со справедливостью. Фома разъясняет свою сложную классификацию добродетелей, сопряженных со справедливостью, и противоположные им пороки, в том числе лесть, в ST IIа IIae. 80. 1.
125 Li Zhisui, The Private Life of Chairman Mao, trans. Tai Hung-chao (New York: Random House, 1994).
126 STIIallae. 115.2.
127 ST IIа IIae. 73. 1 ad 3; IIа IIae. 73. 2 resp. Неясно, думал ли Аквинат, что отсутствия любого из этих условий достаточно, чтобы акт очернительства уже не был актом очернительства. Например, если намерение А состояло в том, чтобы испортить репутацию В, причем у А не было надежных доказательств обвинения, но В действительно был виновен в том, в чем его обвиняли, будет ли обвинение со стороны А актом очернительства? Я склонна считать, что Фома ответил бы «да», но тексты, как мне кажется, не дают окончательного ответа на этот вопрос. (Есть и некоторые другие неясности в этом описании очернительства; см. ниже прим. 129 и 130).
128 См., например, ST На IIae. 72 proemium, На IIae. 64. premium, На IIae. 67 proemium.
129 Нетрудно вообразить обстоятельства, при которых клевета фактически оборачивается для оклеветанного немалым благом. Представим себе, например, что В – немецкий охранник заключенных евреев, занятых на работах по уборке снега, и что В пытается, как может, помочь заключенным, позволяя им часто делать передышки в теплом укрытии. Предположим, что В заподозрен начальством в симпатиях к евреям, а симпатии к евреям со стороны немецкого охранника караются заключением в концлагерь. В такой ситуации заключенный еврей, который будет громко жаловаться в присутствии начальства В на то, что В жестоко обращается с заключенными, будет на него клеветать, но тем самым сделает для В доброе дело, перевешивающее зло клеветы. Приведенная в качестве иллюстрации к томистскому пониманию очернительства, моя история содержит в себе, по меньшей мере, два сложных момента. (1) Я исхожу из того, что клевета, или публичный подрыв чьей-либо репутации, подразумевает приписывание человеку объективно дурных вещей, даже если тот, кто слышит клевету, ошибочно принимает эти дурные вещи за хорошие. Но в этом пункте очернительство представлено у Фомы неясно. Если А приписывает В дурные вещи, намереваясь испортить репутацию В, однако аудиторию А целиком составляют люди, которые, услышав А, начинают думать о В только лучше, то будет ли это очернительством со стороны А? (2) Вторая неясность касается первого признака очернительства, о котором говорит Аквинат, то есть намерения клеветника нанести серьезный ущерб репутации жертвы: нужно ли понимать это в том смысле, что клеветник хочет нанести вред жертве, или же он хочет нанести вред именно его репутации? В зависимости от того, как мы истолкуем этот признак, и в зависимости от того, какой смысл вложим в приведенную в качестве примера историю, заключенный еврей будет виновным или невиновным в очернительстве, когда начнет обличать своего охранника в присутствии начальства. (Разумеется, если мы истолкуем признак, о котором говорит Фома, во втором смысле и посчитаем, что заключенный еврей пытался помочь охраннику, то моя история послужит контрпримером к тому утверждению Фомы, что клевета – всегда зло). Таким образом, в некоторых важных аспектах ни мой пример, ни томистское описание очернительства не вносят окончательной ясности. Я привела свой пример лишь для того, чтобы показать, каким образом стать жертвой клеветы могло бы оказаться благом для жертвы.
130 Хотя и здесь Фома высказывается не вполне ясно. Если А намеревается по-братски увещевать В и имеет веские основания для этого, будет ли достаточным, чтобы у А имелись надежные свидетельства виновности В в прегрешении, о котором идет речь, или же обвинение со стороны А непременно должно быть истинным? Если у А есть надежные свидетельства, но в действительности В тем не менее не виновен, будет ли акт обвинения со стороны А все еще актом братского увещевания? Должен ли А быть уверенным в виновности В, чтобы братски увещевать его?
131 Здесь, как и в случае телесного подаяния, ничто из сказанного не нужно понимать в том смысле, будто дарение несовместимо со справедливостью, как ее понимает Аквинат. Если человек хочет принести в безвозмездный дар себя или свое имущество, чтобы улучить своего ближнего или его состояние, моральная приемлемость такого поступка не вступает в противоречие с коммутативной справедливостью, как ее представляет Фома. Вопрос возникает лишь потому, что Аквинат считает подаяние обязательным, так что отказ от братского увещевания в некоторых обстоятельствах оказывается смертным грехом.
132 ST IIа IIae. 64 proemium.
133 ST IIа IIae. 64. 5 obj. 1.
134 ST IIа IIae. 64. 5 resp. и ad 1. Разумеется, неясно, можно ли считать самоубийство делом коммутативной несправедливости, даже если мы будем думать о нем как о несправедливости по отношению к сообществу и к Богу. Неясно и то, каким образом нечто может считаться несправедливым по отношению к Богу, не принимающему никакого ущерба и не страдающему, по мнению Фомы, ни от каких недостатков. Здесь для меня важнее не классифицировать томистские воззрения на самоубийство, а показать, что мысль Фомы проливает свет на его позицию к отношению к братскому увещеванию.
135 ST IIа IIae. 64.5.
136 Возможно, здесь Фома имеет в виду то телесное увечье, которое Ориген нанес себе сам и которое мыслилось как вспомогательное средство целомудрия. См. обсуждение телесного увечья и «евнухов для царства Божьего» в ST IIа IIae. 65. 1 ad 3.
137 ST IIа IIae. 65. 1.
138 ST IIа IIae. 96. 4; см. также похожую ремарку в ST IIа IIae. 64. 5.
139 ST IIа IIae. 64.5.
140 О том, как разъясняется и отстаивается этот тезис, см. главу 9 о свободе (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
141 Baier (1995, р. 52).
142 Baier (1995, р. 55).
143 Верно, что в этике заботы искомым отчасти является теплое человеческое отношение, и может сложиться впечатление, что оно отсутствует в томистском понимании заботы о других как об обязанности. Но такое впечатление будет ошибочным. Если рассматривать томистское понимание справедливости в целом, то станет очевидным справедливость и все прочие реальные добродетели должны сопрягаться с милосердной любовью. Эта сопряженность, наряду со многими другими вещами, не рассматривается здесь потому, что невозможно в одной главе охватить все.
144 Я формулирую этот момент именно в такой форме не только потому, что телесное подаяние может быть интерпретировано как, по меньшей мере, связанное с дистрибутивной справедливостью, но и потому, что Аквинат прямо говорит: братское увещевание подпадает под рубрику коммутативной справедливости с точки зрения своей второй цели – защитить отдельных людей или общество от последствий чьих-то прегрешений.
145 ST IIа IIae. 68.3.
146 Разумеется, могут быть случаи несправедливого коммутативного обмена, в которых человек, с которым обращаются несправедливо, желает, чтобы с ним обращались именно так. Я вовсе не имею в виду, что несправедливость несправедливого коммутативного обмена есть результат исключительно того факта, что получающий меньше, чем он отдает, страдает против воли. Суть моих слов состоит в том, что для подаяния необходима именно добровольность.
147 С этим, безусловно, связан вопрос: имеет ли кто-либо право на такую покорность со стороны Офелии? Но он вполне может быть поставлен в связь с другим вопросом обязана ли Офелия быть покорной, если ответ на предыдущий вопрос отрицательный. Очень трудно вообразить такую ситуацию, при которой Р имеет право на определенное отношение со стороны О, однако О не обязан обращаться с Р именно таким образом. Стало быть, если Офелия не обязана быть покорной Полонию, то Полоний не имеет права на такую покорность со стороны Офелии. Правда, если бы вопрос об обязанностях Офелии получил утвердительный ответ, у нас все еще оставался бы открытым вопрос о правах Полония. Если только права и обязанности не всегда коррелируют друг с другом, а я не думаю, что они всегда коррелируют (см. Stump 1992), то представляется возможным, чтобы О был обязан обращаться с Р определенным образом, однако Р не имеет права на такое обращение со стороны О.
148 Иное затруднение возникает, если представить себе, что ни один человек не предъявляет эксплуататорских или несправедливых требований к Офелии, но великое множество людей предъявляют к ней по маленькому разумному требованию. Если Офелия попытается удовлетворить все эти маленькие разумные требования, она будет раздавлена ими точно так же, как если бы стала жертвой эксплуатации со стороны одного лица. Ответ на такого рода ситуацию заключается в том, чтобы помнить: по убеждению Аквината, божественные цели подразумевают благо всех людей. Офелия входит в число этих всех. В той мере, в какой ее безумная попытка удовлетворить великое множество малых требований для нее разрушительна, ее податливость будет идти вразрез с целями Бога. Я обязана этим возражением и его разрешением Джону Греко.
149 А также недооценивает ту мощь, которой обладает моральное благо, позволяя людям сохранять высоту даже в самых невероятных условиях. Волнующий пример человеческого величия и высоты в чудовищных обстоятельствах см. в издании: Klemperer (1996/1998).
150 См. Robert Ericksen, Theologians under Hitler (New Haven, CT: Yale University Press, 1985), pp. 28–29.
151 Gita Sereny, Into That Darkness (New York: Vintage Books, 1983), p. 364.
152 См. прим. 27.
Глава 5 Репрезентативная богословская добродетель: вера[23]
Введение
Вера – первая из богословских добродетелей. Ее описание у Фомы богато и одновременно загадочно. Загадочность, пожалуй, связана с обоснованием, которое в данном случае можно понять двумя разными способами. Согласно Аквинату, человек, принимающий веру, приходит к согласию с некоторой группой высказываний, побуждаемый актом воли: именно он побуждает интеллект к согласию, которое в противном случае не оформилось бы. Так как интеллект приходит к признанию положений веры под влиянием воли, возникает вопрос о том, обоснованно ли человек придерживается этих положений, и если да, то почему это так. С другой стороны, Аквинат считал акт воли, в силу которого интеллект побуждается к согласию с верой, произведенным в человеке действием божественной благодати, за которое ответствен один лишь Бог. Тем не менее акт воли и порожденная им вера оправдывают человека, в богословском смысле термина «оправдание»: комбинированный акт воли и интеллектуального согласия составляет необходимое и достаточное условие спасения человека и делает его приемлемым для Бога. Кажется, что у Фомы слишком большое значение придается волевому контролю над эпистемологическим обоснованием, но недостаточное внимание уделяется богословскому обоснованию. В этой главе мы рассмотрим томистскую концепцию веры, чтобы показать, какими ресурсами она располагает для разрешения: этих двух групп проблем.
Воля и интеллектуальное согласие
Согласно воззрениям Фомы на отношения между интеллектом и волей, воля играет важную роль во многих, если не во всех, актах интеллекта1. Что это так, можно увидеть уже из того утверждения Аквината, что воля способна указывать интеллекту, обращать ему или не обращать внимание на что-либо. Однако воля участвует в актах интеллекта и другим способом, еще более непосредственно воздействуя на некоторые виды интеллектуального согласия (assensus), то есть на признание человеком определенного утверждения или набора утверждений2.
Согласно Аквинату, интеллектуальное согласие может возникать разными способами. Согласие с неким тезисом может всецело определяться объектом интеллекта. Фома приводит в качестве примера случаи согласия с первыми принципами и с выводами из доказательств3. В любом из указанных случаев объект интеллектуального акта (первый принцип или вывод из доказательства) сам по себе приводит интеллект в движение и порождает интеллектуальное согласие, помимо какого-либо воздействия воли на интеллект. Описывая такие случаи, Фома подчеркивает, что объект интеллектуального акта сам по себе достаточен для того, что побудить интеллект к согласию. Этой формулировкой Фома хочет сказать, что вследствие когнитивного отношения между конкретным человеком и познаваемым объектом познающий человек оказывается в определенный момент в таком познавательном состоянии, в каком для него естественно и нетрудно согласиться с некоторыми утверждениями, но трудно или даже психологически невозможно с ними: не согласиться. Примеры Аквината причудливы, но у нас под рукой есть множество обыденных. Один из них – пример матери, которая наблюдает за выражением лица и жестами экзаменатора, оценивающего игру ее сына на фортепьяно, и которая, независимо от ее воли, вынуждена согласиться с тем утверждением, что экзаменатору игра ее сына не нравится.
Но в других случаях, по мнению Фомы, интеллектуальное согласие достигается иным путем: интеллект побуждается: к согласию не объектом, а волей. В таком случае интеллект соглашается с одним утверждением скорее, чем с другим, под влиянием воли и на основе соображений, достаточных, чтобы подвигнуть волю, но не интеллект4. Этих соображений достаточно для того, чтобы подвигнуть волю, когда для конкретного волящего человека естественно и легко желать или: волить нечто, но трудно или даже невозможно этого не желать. Обыденные примеры такого рода имеются в изобилии5. Так, мать, видя реакцию экзаменатора на игру своего сына, может безрассудно и безосновательно думать, что судье не нравится его игра в силу неких предубеждений против него; причем эта мысль может быть вызвана не очевидным свидетельством против экзаменатора, а неким внешним признаком вкупе с тем, что она сама предпочитает думать об экзаменаторе в силу тех или иных настоятельных побуждений.
По мнению Фомы, когда объект интеллектуального акта достаточен для того, чтобы самостоятельно привести в движение интеллект, уже не остается места побуждающему действию воли, которое привело бы интеллект к согласию. Если для матери очевидно, что экзаменатор не предубежден против ее сына, и эта очевидность преобладает, то ей невозможно поверить, будто экзаменатор предубежден, как бы ей ни хотелось так думать. Ничто в томистской концепции отношения между интеллектом и волей не противоречит тому обыденному взгляду, что в подобных случаях нам неподвластен: прямой волевой контроль над нашими верованиями6. Но в тех случаях, когда объекта интеллекта недостаточно для того, чтобы самостоятельно привести интеллект в движение, воля может, по мнению Фомы, оказывать влияние на интеллектуальное согласие с неким утверждением. Так воля человека способна оказывать воздействие на его верования7.
Воля воздействует на нашу веру в то, что нас ждет, в тех случаях, когда действие воли на интеллект направлено в отрицательную сторону, как в приведенном выше примере, где мать считает экзаменатора предубежденным. Но можно привести также примеры, где воздействие воли: на интеллект выглядит направленным, в познавательном смысле, в положительную сторону. В романе Джорджа Элиота «Миддлмарч» Доротея Кейсобон застает своего друга и поклонника Уилла Ладислава во время его компрометирующего визита к жене одного из его друзей. Хотя возможно (и в романе это оказывается действительно так), что считать поведение Ладислава предательством было бы: преувеличением, внешние обстоятельства выглядят для Доротеи именно таким образом. Но, несмотря на эту видимость, Доротея настолько предана Ладиславу, что продолжает считать его добропорядочным человеком, не мерзавцем и не предателем8. Доротея и читатель романа понимают, что ее вера опирается на желание, чтобы отношения с Ладиславом были подлинными; если бы не влияние воли Доротеи на ее интеллект, она вынесла бы ложное суждение о Ладиславе.
Роль воли в вере
По мнению Аквината, значение воли для веры аналогично значению желаний: Доротеи по отношению к Ладиславу в «Миддлмарче». Воля влияет на интеллект таким образом, что приводит его к согласию с истинностью некоторого высказывания, когда объекта самого по себе достаточно, чтобы привести в движение волю, но не интеллект.
Согласно Аквинату, действительным объектом веры выступает сам Бог; но так как в земной жизни наш ум не в силах постигнуть Бога прямо и непосредственно, при ближайшем рассмотрении объектом веры оказываются высказывания о Боге9.
Согласие с положениями веры Фома рассматривает как нечто среднее между знанием и мнением10. Интеллект соглашается с этими положениями, но фактически его согласие порождается воздействием воли на интеллект. Даже вкупе с какими-либо дополнительными знаниями или верованиями человека положений веры недостаточно для того, чтобы в этой жизни побудить к согласию чей-либо интеллект. Когда человеческий интеллект соглашается с положениями веры, он делает это под влиянием воли, которая действительно и достаточным образом побуждается: соответствующим объектом к тому, чтобы воздействовать на интеллект и привести его к согласию с ним11. В этом смысле вера не похожа на знание, но подобна мнению, по отношению к которому воля тоже играет роль генератора согласия. С другой стороны, вера твердо придерживается своего объекта12, не колеблясь и не отступая; и в этом она подобна знанию и не похожа на мнение13.
Чтобы понять, почему объекта достаточно для побуждения: воли, будет полезным припомнить воззрения Фомы на волю: по природе воля есть стремление к благу. Но высшее благо и конечная цель воли могут мыслиться двояко. С одной стороны, то, чего воля желает как величайшего блага, есть счастье волящего; с другой стороны, величайшим благом в действительности является Бог, и единение с ним – высшее счастье для всякого тварного человека. Положения веры представляют высшее благо в соответствии с этими двумя описаниями, а именно как счастье вечной жизни в единении с Богом, причем представляют как достижимое для верующего. Того, кто приходит к вере, воля побуждает к высшему благу, представленному в положениях веры, а в результате она воздействует на интеллект, побуждая его согласиться с ними. Таким образом, для веры необходимы оба побуждения – со стороны воли и со стороны интеллекта. Более того, вследствие этого влияния воли интеллект прилепляется к положениям веры с той уверенностью в их достоверности, которая в норме характерна только для знания14.
Оформленная вера
Такое описание томистской концепции веры может, однако, ввести в заблуждение, поскольку его недостаточно для различения между подлинной религиозной верой и верой бесовской15. Согласно средневековой традиции, к которой принадлежит Аквинат, бесы тоже веруют, но их вера не спасительна. Вера бесов не побуждает их довериться Богу и спастись, она лишь приводит их в трепет16.
Комплекс вероучительных положений не одинаков для людей и для бесов. Есть положения, которые в традиционной христианской доктрине считаются вероучительными только для людей, тогда как бесы по отношению к этим положениям обладают не верой, а знанием (например, таков тезис о существовании Бога). Но даже бесы вынуждены принимать некоторые положения, в которые веруют люди, не как знание, а как веру: например, таков тезис о том, что человек Иисус есть воплощенный Сын Божий, или о том, что Христос придет вновь, дабы утвердить Царство Небесное на земле. По крайней мере, вплоть до определенного момента в истории ничто в бесовском опыте Бога или сверхъественного не дает им знания о том, что вот этот конкретный человек обладает двумя природами или является богоизбранным посредником в спасении земли. Фома считает, что, по отношению к таким положениям, различие между бесами и верующими состоит не в том, что верующие имеют веру, а бесы нет, но в том, что бесы не имеют (в терминологии Аквината) «оформленной веры», которая есть у верующих17.
Различие между оформленной и неоформленной верой зависит от способов, какими воля способна приводить к согласию интеллект. Воля может двигать интеллект разными путями, два из которых, согласно Аквинату, значимы в данном контексте18. В тех, кто имеет оформленную веру, воля побуждает интеллект к согласию с вероучительными положениями, потому что сама влекома жаждой подлинного божественного блага. Возникающая в результате вера называется «оформленной верой», ибо в ней интеллектуальное согласие с вероучительными положениями принимает свою форму от милосердной любви к благу, одушевляющей волю. В бесах же вера не столько оформлена, сколько деформирована злом19, ненавистью к тому, что в действительности есть подлинное благо20, и любовью к (относительному) благу – власти.
Итак, вера бесов рождается иным путем, нежели оформленная вера. Подобно верующим оформленной верой, бесы верят в вероучительные положения, но не видят их истинности для себя, потому что по отношению к этим положениям – как у бесов, так и у людей – одного лишь объекта интеллекта недостаточно, чтобы привести интеллект к согласию. Но у бесов воля, согласно Аквинату, предписывает интеллекту согласиться с учением Церкви, потому что бесы видят силу, сопутствующую тем, кто проповедует эти учения, и поэтому они видят явные знаки того, что эти вероучительные положения идут от Бога21. Фома говорит, что вера бесов оказывается, таким образом, разновидностью той веры, какую имел бы человек, если бы услышал пророка, сначала предсказавшего будущее, а затем воскресившего мертвеца. Чудо воскрешения мертвеца отнюдь не служит прямым и очевидным доказательством того, что предсказанное будущее событие свершится; но созерцание силы чуда побуждает зрителя, убежденного этой силой, верить, что пророк пребывает в общении с божеством, а потому верить в истинность его предсказаний.
Этот пример показывает: то, что Аквинат подразумевает под явными знаками, склоняющими бесов к вере, суть прежде всего знаки силы, стоящей за глашатаями положений веры, и лишь косвенным образом – знаки истинности того, на что обращена вера. Если теперь мы примем во внимание то утверждение Аквината, что бесовскую веру отличает от спасительной веры в Бога характер воздействия воли на интеллектуальное согласие, то мы лучше поймем томистское различение между неоформленной и оформленной верой. В обоих видах веры воля приводит интеллект к согласию действием неких сильных желаний; но в случае оформленной веры желание, о котором идет речь, устремлено к реальному моральному и метафизическому благу, а в случае веры бесовской оно устремлено к благу власти.
Когда вера оформлена, она представляет собой добродетель, хабитус, способствующий совершенству определенной потенции, или способности. Поскольку акт веры вовлекает в себя и волю, и интеллект, постольку вера, чтобы быть добродетелью, должна приводит к совершенству и то, и другое. Так вот, по мнению Аквината, интеллект достигает совершенства в стяжании истины, а так как вероучительные положения, по его убеждению, истинны, то и верования, принятые в вере, способствуют совершенству интеллекта. В этом смысле нет различия между верой как добродетелью и верой бесовской. Различие проявляется в отношении воли. В оформленной вере воля побуждает интеллект согласиться с вероучительными положениями, потому что она любит божественное благо и взыскует его. В бесовской вере, напротив, воля побуждается не любовью к благу, а скорее реакцией на силу: реакцией, в которой мощной составляющей оказывается зло. Таким образом, вера в бесах не делает их волю совершенной. Следовательно, бесовская вера, не оформленная милосердием и любовью к божественной благости, не считается добродетелью, ибо воля есть одна из двух потенций, вовлеченных в веру22.
Итак, согласно томистской концепции веры, вероучительных положений в интеллекте верующего недостаточно, чтобы побудить интеллект к согласию; но воля человека, приходящего к вере, влекома благом вечной жизни в единении с Богом, которое представлено в совокупности вероучительных положений. Так как воля стремится к этому благу, она побуждает интеллект согласиться с положениями веры; причем она приводит интеллект в движение таким образом, что последующее интеллектуальное согласие оказывается разновидностью убеждения, или чувства достоверности, в норме характерного только для знания. Так как вероучительные положения истинны, вера способствует совершенству интеллекта; а так как верующая воля желает того, что в действительности является ее высшим благом, вера способствует совершенству воли. По этим причинам вера, оформленная любовью к благу, есть добродетель, тогда как бесовская вера добродетелью не является.
Возражения
Это краткое изложение томистской концепции веры рождает множество вопросов и возражений. Сейчас я хочу сосредоточиться лишь на трех из них23.
Возражение 1
В силу той роли, которую Аквинат отводит воле в вере, складывается впечатление, что вера лишена эпистемологического обоснования; более того, Аквинат уязвим для упрека, который фрейдисты часто обращают против религиозной веры: упрека в том, что вера – это всего лишь очередная иллюзия удовлетворения желаний.
Если интеллектуальное согласие человека с положениями веры возникает, прежде всего, из стремления его воли к благу, представленному в этих положениях, то, видимо, нет оснований считать их эпистемологически обоснованными для этого человека. Чтобы вера была обоснованной, она должна отвечать определенным критериям. Верующий должен прийти к вере посредством надежного метода, вера должна правильно сочетаться с другими верованиями человека, приверженность ей не должна нарушать никаких эпистемологических обязательств, и т. п. Тем или иным из указанных способов, в зависимости от теоретико-познавательных позиций, которых мы придерживаемся, мы формируем суждения о том, оправдана ли вера и достоин ли верующий определенного разумного доверия, когда считает действительно истинным то, во что верит24. Вообще говоря, Аквинат разделяет эти воззрения и принимает (в своей интерпретации) аристотелевскую эпистемологию25. В случае веры эпистемологические соображения, судя по всему, вообще не играют у Фомы никакой значительной оценочной роли. Что же тогда предохраняет веру от произвольности? С другой стороны, если и существует способ опровергнуть эти обвинения:, то все же убежденность человека в обоснованности и истинности своей веры представляется в точности аналогичной той ложной и необоснованной, но твердой убежденности, с какой Кромвель, будучи смертельно больным, был уверен, что полностью поправится и по-прежнему будет возглавлять нацию.
Возражение 2
Если вера опирается – по крайней мере, в широком смысле —
на действие воли, если объекта веры недостаточно самого по себе, чтобы побудить интеллект к согласию, то почему вере следует приписывать какую бы то ни было достоверность? Достоверность набора верований представляется заключенной в некоем эпистемическом свойстве этих верований или зависящей от него. Но, по мнению Фомы, достоверность веры есть следствие того, что воля приводится в движение объектом веры. Почему же Аквинат считает, что акт воли способен породить достоверность верований?
Возражение 3
Аквинат считает веру добродетелью, которая приводит к совершенству как интеллект, так и волю. Но почему он так считает? Разве человек не может прийти к интеллектуальному согласию на основе соображений, которые сами по себе достаточны: для такого согласия, как это имеет место в познании? Видится что-то нелепое в том, чтобы приходить к интеллектуальному согласию в результате стремления воли к благу, а не в результате очевидности, приводящей в движение интеллект. Это так же нелепо, как нелепо было бы использовать швейную машинку в качестве груза, склеивая две части одежды и прижимая их машинкой до тех пор, пока не высохнет клей. Даже если: рассуждать в терминах Аквината, в терминах его теологии, есть некая несообразность в том, как он объясняет процесс прихода к вере. Коль скоро Бог всезнающ и всемогущ, коль скоро он есть творец и создатель человеческого интеллекта, ему было бы нетрудно дать интеллекту такой объект, который позволил бы тому прийти к согласию с вероучительными положениями на основе одних лишь истинностных суждений. Бог мог бы, например, сделать положения веры настолько очевидными, что они неизменно подвигали бы интеллект к познанию. Почему же Бог этого не сделал? И почему Аквинат считает, что вера, порожденная воздействием воли на интеллект, есть добродетель, приводящая интеллект к совершенству?
ОТНОШЕНИЕ ВЕРЫ К БЛАГУ: ВОЗРАЖЕНИЕ 1
Возражение 1 распадается на две части. С одной стороны, говорится, что положения веры для верующего лишены обоснования, ибо согласие интеллекта с этими положениями обусловлено не побуждением интеллекта со стороны его собственного объекта, а стремлением воли к предъявленному в этих положениях благу. С другой стороны, данное возражение гласит, что если бы существовал некий способ обосновать верования, принятые и исповедуемые указанным путем, то такой способ, по-видимому, служил бы оправданием любых произвольных верований вообще.
Томистская метафизика блага дает ответ на первую часть этого возражения. Самый легкий способ убедиться в этом – сосредоточиться на каком-нибудь конкретном вероучительном положении, а именно на положении о существовании Бога. Хотя Аквинат считает, что это положение может быть познано естественным разумом, он также считает, что не все люди к этому способны и что те, кто к этому не способен, могут с полным правом придерживаться его как положения веры. (Относительно других вероучительных положений, например, о воскресении Христа, могут быть даны аналогичные, хотя и более сложные ответы)26.
Чтобы сформулировать ответ на возражение в связи с утверждением о существовании Бога, нам нужно рассмотреть связь, прочерченную Аквинатом между бытием и благом. Центральный тезис томистской метаэтики гласит, что термины «бытие» и «благо» тождественны по референции, но различны по смыслу27. Таким образом, выражения «бытие» и «благо» аналогичны выражениям «утренняя звезда» и «вечерняя звезда»: они относятся к одной и той же вещи, но имеют разный смысл.
Аквинат считает, что Бог, сущностным и уникальным образом, есть само бытие. Если исходить из этого метаэтического тезиса, нет ничего удивительного в том, что Аквинат, оказывается, считает Бога, сущностным и уникальным образом, самим благом. Если «бытие» и «благо» тождественны по референции, то везде, где имеется бытие, имеется и благо, хотя бы в некотором отношении и до некоторой степени. Поэтому в концепции Аквината даже худшее из творений, Сатана, дурно не абсолютно, но заключает в себе некоторое благо в некотором отношении. Однако здесь важно понимать, что отношение, которое усматривает Фома между бытием и благом, взаимообратимо. Присутствие блага подразумевает также присутствуе бытия.
Так вот, Аквинат считает метафизическое бытие чем-то более широким и сложным, чем простое существование в актуально сущем мире; поэтому утверждение, что там, где есть благо, есть и бытие, не подразумевает того упрощенческого вывода, что любая благая вещь, какую только мы в состоянии вообразить, действительно существует. Взаимообратимость бытия и блага у Фомы не подразумевает, например, что любая выдуманная благая черта существует, пусть даже неким особым или ослабленным существованием. Так что, когда речь идет о каком-то ограниченном благе, сколь бы точно мы ни разъясняли приписываемое ему свойство бытия, бытие этого блага, с точки зрения Аквината, тоже будет ограниченным и не обязательно включает в себя актуальное существование.
С другой: стороны, в случае совершенного блага дело обстоит иначе. Бытие, соответствующее совершенному благу, есть совершенное бытие, а Фома утверждает, что совершенное бытие включает в себя не просто существование, но необходимое существование28. Если принять во внимание дентальный метаэтический тезис Фомы о бытии и благе, то окажется, что там, где имеется совершенное благо, имеется и необходимо существующее совершенное бытие29.
Итак, если то, чего жаждет воля, есть совершенное и безграничное благо, и если именно эта жажда со стороны воли в значительной мере побуждает интеллект согласиться с утверждением о существовании желаемого, то возникающее в результате верование не будет необоснованным. Когда интеллект соглашается с утверждением о существовании Бога потому, что воля жаждет божественного совершенного блага, он действительно и достоверно прав, ибо существует связь между благом и бытием. По мнению Аквината, интеллект сотворен таким образом, что может в подобных случаях приводиться в движение волей; а природа метафизической реальности такова, что в указанных обстоятельствах согласие интеллекта с положением о существовании Бога обосновано. С другой стороны, если воля жаждет некоей благой вещи, благость которой не достигает степени совершенства, и если интеллект побуждается к согласию с тезисом о существовании этой вещи в силу стремления к ней со стороны воли, то возникающее в результате верование не будет столь же обоснованным. В самом деле, хотя из базового метаэтического тезиса Фомы следует, что любое частное благо, ограниченное в благости, обладает некоей разновидностью бытия, отсюда не следует, что оно обладает совершенным бытием и, стало быть, актуально существует.
В связи с этим полезно будет провести различение между уровнями обоснования. Мы можем различать между тем, что, одной стороны, S обоснованно верит в р, и тем, что, с другой стороны, S обоснованно верит в то, что он обоснованно верит в р. Как старался показать Уильям Олстон, лицо S может обоснованно верить в р, не имея оснований верить, что оно обоснованно верит в р30.
Объяснение обоснованности вероучительных положений, предлагаемое в томистской концепции бытия и блага, дает основания полагать, что верующий может обоснованно верить в существование Бога, но не обоснованно верить в то, что его вера обоснованна. Позиция Фомы объясняет, что именно в реальности и в нашем отношении к реальности оправдывает веру в существование Бога, принятую вследствие того, что воля стремится к божественному благу. Обычно (как, например, в тех случаях, которые в научном исследовании призваны устранить надлежащее планирование эксперимента) верования, исходно возникающие в силу того, что воля стремится к некоторому благу и побуждает интеллект согласиться ним, – эти верования имеют слабое обоснование, если имеют его вообще. Так как в томистской метафизике блага бытие и благо взаимообратимы и ограниченные блага обладают ограниченным бытием, они могут существовать, а могут и не существовать в действительности. Но если воля побуждает интеллект согласиться с существованием Бога потому, что стремится к совершенному благу, то в этом случае, по мнению Аквината, возникающая вера будет в значительной мере обоснованной. С точки зрения Фомы на природу Бога как совершенного бытия, на отношение между совершенным бытием и совершенным благом и на предназначение интеллекта и воли, вера в существование Бога, оформленная указанным путем, достоверно истинна.
Но то, что мы обоснованно верим в существование Бога, не означает, что, по мнению Аквината, мы обоснованно верим в обоснованность нашей веры в существование Бога. У нас может не быть надежных (или убедительных для нас) аргументов в пользу некоторых или даже всех соответствующих метафизических теорий; или мы можем принимать эти аргументы, но не верить, что какое-либо благо совершенно. В результате стремление воли к благу, предъявленному в положениях веры, окажется лишь еще одним вариантом стремления воли к ограниченному благу. Концепция Аквината не дает нам никакой надежной процедуры, которая позволила бы установить, является ли предмет устремлений воли совершенным или ограниченным благом. Вот почему томистская концепция бытия и блага хотя и объясняет, почему верующий S обоснованно верит в вероучительные положения, но не приводит аргументов в пользу того, что человек может обоснованно верить в обоснованность своей веры в существование Бога: верить лишь на том основании, что его воля желает блага.
Но, вообще говоря, ничто в томистской метафизике блага не оправдывает иллюзорных верований. В иллюзорных желаниях (например, в желании нерадивого и посредственного студента успешно сдать экзамен, к которому он не готовился) воля потому побуждает интеллект согласиться с истинностью предложения, утверждающего существование некоторого блага, что она желает этого блага. Но так как, по мнению Аквината, ограниченные блага могут и не существовать, ничто в стремлении воли к ограниченному благу не дает оснований считать истинной пропозицию, приписывающую ограниченному благу существование. Таким образом, происходящая отсюда вера в то, что такое благо существует, необоснованна. Стало быть, хотя вера в существование Бога, сформировавшаяся вследствие стремления воли к божественному благу, обоснованна, ничто в томистской концепции не заставляет утверждать, будто любое иллюзорное верование равным образом обоснованно или правдоподобно.
Наконец, помимо сомнений относительно эпистемологического статуса иллюзорных верований, мы еще и потому склонны считать такие верования недостоверными, что полагаем позволять воле руководить интеллектом, как это происходит в случае иллюзорных верований, означает в итоге прийти к фрустрации или к разочарованию. По мнению Аквината, это, может быть, и так применительно к иллюзорным желаниям вообще, но это неверно, когда речь идет о желании, связанном с верой. Согласно Аквинату, конечной целью воли является счастье; человек не может не желать счастья31. Но истинное счастье человека заключается в единении с Богом. Следовательно, желание воли не будет утолено до тех пор, пока человек либо не соединится с Богом, либо не вступит на путь, неизбежно приводящий к единению с Богом, при полной гармонии прочих желаний с этой конечной целью. Обращаясь к Богу, Августин говорил: «Наши сердца не ведают покоя, пока не успокоятся в Тебе». Но коль скоро неутолимая жажда воли приуготовляет человека к принятию положений веры, то вера стоит у начала цепи событий, завершением которой становится спасение человека. Поэтому тот факт, что стремление воли к благу управляет верованиями и действиями, проистекающими из этих верований, в долгосрочной перспективе не является, по мнению Аквината, препятствием для человеческой успешности. Если, следуя желанию воли, мы идем до самого конца, если не успокаиваемся преждевременно и не удовлетворяемся чем-то, что не способно утолить волю (как это бывает, когда человек склонен предпочитать высшему благу сиюминутное наслаждение или власть), то, позволяя желанию воли управлять нашими верованиями, мы приходим не к фрустрации, а к обладанию тем, к чему стремится воля. (Нижеследующий раздел, посвященный вере и оправданию, приведет нас к тому же выводу, но предложит другое объяснение и по-другому расставит акценты).
ВЕРА И ДОСТОВЕРНОСТЬ: ВОЗРАЖЕНИЕ 2
Ответ на возражение 1 способен лишь усилить выраженное в возражении 2 беспокойство, связанное с тем, что ничто в теории Аквината не способно гарантировать достоверность веры. Томистская концепция блага и бытия объясняет, что именно в мире, согласно метафизике Фомы, оправдывает веру в существование Бога, когда интеллект соглашается с этим под воздействием воли; но одного этого основания недостаточно, чтобы сходным образом оправдать веру человека в то, что такая вера действительно обоснованна. Поэтому складывается впечатление, что Аквинат не вправе утверждать, будто применительно к пропозициям веры верующий обретает достоверность, когда его интеллект соглашается с ними: под влиянием воли.
В некотором смысле Аквинат соглашается с этим возражением. Проводя различение, которое, по меньшей мере, отчасти напоминает различение между уровнями: обоснования, Фома отмечает, что достоверность мыслится двумя разными способами: либо как причина достоверной истинности положений, в которые мы верим; либо как характеристика лица, верящего в эти положения32. Согласно Аквинату, причина достоверной истинности: вероучительных положений сама по себе характеризуется абсолютной необходимостью: это сам Бог. Таким образом, с точки зрения причины достоверной истинности вероучительных положений, религиозная вера, по меньшей: мере, столь же достоверна, что и другие истинные верования, принимаемые человеческим разумом. С другой стороны, если рассматривать достоверность веры с точки зрения верующего лица, она окажется намного меньшей, чем достоверность множества объектов знания: ведь некоторые или даже все вероучительные положения превышают разум любого человеческого существа33.
Позиция Фомы в этом вопросе выглядит глубоко разочаровывающей. Фома начинает с того смелого, по видимости, утверждения, что положения веры обладают достоверностью того же рода, что и математические положения, истинность которых не вызывает сомнений. Но при ближайшем рассмотрении это притязание оказывается совместимым с тем утверждением, что верующим отнюдь не дано обладать такой же достоверностью относительно положений веры, какой: обладают математики относительно математических истин. Что же в точности означает эта томистская дистинкция, прилагаемая к достоверности? И подрывает ли она то, что обычно считают главной характеристикой веры: глубокую убежденность верующих в истинности положений их веры?
Один способ понять дистинкцию Аквината в отношении достоверности – это понять ее опять-таки в терминах уровней обоснования. Видимо, Фома хочет сказать, что некто S, считающий истинными вероучительные положения, настолько оправдан в своих верованиях, насколько это вообще возможно для него, ибо «причиной достоверности» этих вероучительных положений является сам Бог. Но отсюда не следует, что S с той же самой степенью обоснованности может верить в обоснованность своей веры в вероучительные положения. Таким образом, с точки зрения этого уровня обоснования, его вера, скажем, в математические истины более оправдана, чем вера в доктринальные положения.
Хотя такой подход к томистской дистинкции может оказаться полезным для ее понимания, он вряд ли поможет разрешить главное затруднение, сформулированное в возражении 2. В самом деле, перед лицом этого затруднения дело выглядит так, словно в обосновании достоверности религиозных верований должен играть определенную роль более высокий уровень обоснования. Но, заняв такую позицию относительно достоверности веры, не лишается ли Фома возможности объяснить то доверие, с каким верующие признают истинность вероучительных положений?
Если бы Аквинат считал, что доверие верующих сводится к интеллектуальному состоянию или переживанию, то ответ на этот вопрос был бы, наверно, утвердительным. Но Фома придерживается более сложной позиции, поскольку определенную роль в вере играет воля. Поэтому, считает Фома, доверие верующих к вероучительным положениям можно объяснить двумя разными способами, отталкиваясь либо от интеллекта, либо от воли.
Что касается интеллекта, верующий может быть не в состоянии знать или даже обоснованно полагать, что его вера в вероучительные положения обоснованна. Тем не менее он все еще в состоянии знать, что если вероучительные положения истинны, то его блаженство может быть достигнуто, а глубочайшие желания его сердца могут исполниться лишь через приверженность положениям веры. И в этом случае, считает Фома, верующий будет придерживаться этих положений с величайшей преданностью, потому что этого желает его воля. Стало быть, согласно томистскому пониманию отношений между интеллектом и волей, воля, воздействуя на интеллект в качестве производящей причины и будучи всецело предана искомому благу, также приводит к тому, что согласие интеллекта с положениями веры становится предельно убежденным. Такая интерпретация позиции Аквината позволяет объяснить то его утверждение, что, хотя в случае веры объект интеллекта сам по себе недостаточен для побуждения интеллекта, он достаточен для побуждения воли, а уже она, в свою очередь, побуждает интеллект к тому неколебимому согласию, которое присуще знанию.
ЦЕЛЬ ВЕРЫ: ВОЗРАЖЕНИЕ 3
Эти ответы на возражения 1 и 2 лишь заостряют проблему, сформулированную в возражении 3. Почему Аквинат считает, что способом, каким интеллект должен приходить к согласию с положениями веры, является именно побуждение со стороны воли? Некоторые философы считали, что, если существует всемогущий, всезнающий и всецело благой Бог, он должен являть достаточные очевидные свидетельства своего существования. Аквинат же просто принимает в качестве важной характеристики веры то обстоятельство, что в случае веры объекта как такового недостаточно для побуждения интеллекта и что интеллект должен приводиться в движение волей, побуждаемой благом, которое предъявляется в положениях веры.
Чтобы понять, почему Аквинат занимает такую позицию, важно выяснить, что он считает в вере главным. Как интеллект, так и воля играют свою роль в вере, но мы спонтанно склонны считать, что первым и важнейшим следствием, которое производит в верующем принятие веры, является изменение в его интеллектуальных состояниях. Стало быть, мы можем предположить, что главным моментом веры непосредственно является некоторая перемена ума. Если действенность веры мыслить таким образом, то, конечно, наше замешательство становится понятным. Почему всеведущий и всемогущий Бог, творец интеллекта, устроил все так, что некоторые важнейшие состояния ума обеспечиваются средствами, превосходящими естественную работу ума?
Но Фома видит роль веры иначе. С его точки зрения, важнейшим непосредственным моментом веры оказывается ее воздействие не на интеллект, а на волю. Разумеется, если принять во внимание характер связи, постулируемой Аквинатом между интеллектом и волей, то воздействие на волю так или иначе будет отзываться и на интеллекте. Но, по мнению Фомы, изменения, наступающие с принятием веры, прежде всего нацелены на перемену воли. Эти изменения полагают начало процессу оправдания верой, этому sine qua поп условию спасения (о котором мы подробнее будем говорить в следующих разделах).
Но если волевой акт в вере настолько значим для схемы спасения, и если, согласно теории Аквината, воля движима также интеллектом, то это, казалось бы, лишь усиливает доводы, сформулированные в возражении 3. В свете всего сказанного выше, может заявить сторонник этого возражения, разве не очевидно, что благой Бог должен был бы сделать положения веры явными для каждого, сделав объект интеллекта сам по себе достаточным для приведения интеллекта в движение, и тем самым обеспечил бы каждому человеку возможность выполнить надлежащий волевой акт? Если бы неверующие могли убедиться в истинности вероучительных положений, то они могли бы, по мнению такого оппонента, прийти также к желанию блага, то есть к волевому акту в вере.
Но допустим, что человек явно и достоверно видит истинность вероучительных положений. Такой человек знал бы, что существует сущее, безграничное по своей мощи, правитель универсума, искупительной властью воплощенного Христа ведущий людей к единению с собой. Но если бы такой человек вступил в союз с Богом, он мог бы сделать это как из-за притягательности божественной благости, так и из желания быть на стороне силы, как это происходит в случае неоформленной веры бесов.
А поскольку, согласно доктрине первородного греха, люди уже испорчены и склонны предпочитать собственную власть более важным благам, весьма опасно позволять вещам, утверждаемым в положениях веры, быть слишком очевидными. Это подобно тому, чтобы завлекать публику на собрания общества худеющих обещаниями роскошного банкета. Только в последнем случае это менее опасно: ведь на будущее можно запланировать более аскетические собрания и, таким образом, разделить желание обильной еды и стремление к благу умеренности, представленные на собраниях общества худеющих. В результате первое желание будет уменьшаться, а второе возрастать. Если же речь идет о Боге, то, если однажды станет безусловно очевидным, что всеведущий, всемогущий, совершенный в своей благости Бог существует и у него есть план спасения, представленный в положениях веры, станет безусловно очевидным и то, что люди, становясь на сторону блага, могут тем самым становиться на сторону силы34. Но в таком случае желание власти и желание блага будет уже невозможно разделить, чтобы обеспечить уменьшение первого и возрастание второго.
Эти соображения приводят к следующему: отсутствие достаточной очевидности у всех вероучительных положений и приход к интеллектуальному согласию исключительно под влиянием стремления воли к благу не только не составляют затруднения для томистской концепции веры, но в действительности служат важным средством достижения той цели, которую Фома приписывает вере: спасения падшего человечества.
Эпистемологическое оправдание
Итак, существует другой способ мыслить веру. В нем центральная роль в порождении веры отводится воле, и целью веры считается ее воздействие на волю, а не на интеллект. Конечно, ничто в этой позиции Аквината не отрицает за разумом той роли, которую он играет в жизни веры. Учение Фомы составляет часть традиции, восходящей по меньшей мере к Августину, который считал веру предварительным условием понимания и отводил разуму важную роль в процессе прихода к пониманию. Более того, хотя, по мнению Фомы, было бы ошибкой считать, что вера приобретается через упражнение разума, разум тем не менее способен устранять некоторые интеллектуальные препятствия, затрудняющие приход человека к вере. Согласно такому способу мыслить веру, интеллект соглашается с вероучительными положениями в силу того, что воля побуждает его к согласию: ведь она сама стремится к божественному благу, тогда как объект интеллекта недостаточен сам по себе для того, чтобы привести интеллект в движение. Однако верование, возникающее в результате, не исчерпывается иллюзорной верой в исполнение желания. Томистская метафизика бытия и блага объясняет, почему вера в доктринальные положения оправдана, причем оправдана таким образом, каким не могут быть оправданы другие, иллюзорные верования. Кроме того, хотя метафизика блага и бытия объясняет достоверность веры с точки зрения доктринальных положений, в которые верит верующий, именно стремление воли к божественному благу обосновывает достоверность веры с точки зрения верующего субъекта.
Наконец, томистская концепция веры имеет то преимущество, что она объясняет, почему всеведущий, всемогущий и совершенный в своей благости Бог позволяет познавательному отношению человека с Богом опираться не на знание, а на веру, и почему обладание верой следует мыслить как некую заслугу. Ибо Фома считает, что вера, порожденная актом воли, становится для человека началом спасения в ходе оправдания верой, к которому я теперь обращаюсь35.
Богословское оправдание: введение
Оправдание через веру – одно из фундаментальных основоположений христианской доктрины. Оно понималось по-разному, но неизменно признавалось всеми традиционными христианскими богословами, включая Аквината. В традиционном понимании, все человеческие существа испорчены первородным грехом, а это означает, помимо прочего, что воля падшего человека стремится волить недолжное, и что этот врожденный дефект воли рано или поздно приводит к совершению грехов и связанной с ним моральной деградации. В таком состоянии человек не способен соединиться с Богом на небесах, но осужден пребывать наедине с собой в аду. Однако Бог, по своей благости, провиденциально уготовил нам спасение из этого состояния: спасение, доступное всем, хотя не все используют эту возможность.
Какова природа спасения? На этот вопрос есть два равно приемлемых ответа, и Аквинат подписывается под обоими. С одной стороны, существует доктрина оправдания через веру, согласно которой мы избавлены от зла в самих себе не вследствие успешной моральной борьбы с нашей стороны, но благодаря вере. С другой стороны, существует доктрина искупления, согласно которой спасение добыто для нас страданиями и смертью Христа. Связь между этими двумя ответами неочевидна с первого взгляда.
Вообще говоря, Аквинат считает оправдание через веру необходимым и достаточным для спасения. Оно подразумевает, что Бог принимает человека оправданным вне зависимости от каких-либо его моральных заслуг; но оно также знаменует начало процесса, в котором человек становится праведным и стяжает добродетели. Иначе говоря, согласно томистскому пониманию этой доктрины, оправдание через веру полагает начало процессу, в котором характер человека, подлежащего оправданию, претерпевает реальную перемену к лучшему.
В таком понимании доктрины оправдания через веру есть нечто загадочное. Если веру понимать в терминах Фомы, как согласие интеллекта с вероучительными положениями, то возникает проблема: приверженность религиозным верованиям оказывается совместимой с упорным отсутствием добродетелей. Свидетельство тому – некоторые неприятные личности, которые, несомненно, были искренне преданы христианству. Да и с божественной благостью плохо согласуется то, что принятие человека Богом зависит от определенных верований этого человека и не связано с его моральным состоянием.
Доктрина искупления, согласно которой мы спасены от греха страданиями и смертью Христа, отчасти проблематична потому, что представляет собой второй ответ на вопрос о природе спасения. Если вера в Бога способна оправдать человека и если оправдания достаточно для спасения, то какова роль искупления в спасении? Но есть и другие загадки. Если страдания и смерть Христа спасают падшее человечество, то каким образом это происходит36? Какова природа благодеяния, произведенного страданиями и смертью Христа? В частности, как это благодеяние может быть усвоено человеком, уже искупленным верой, чтобы послужить спасению этого человека? И каким образом это благодеяние связано с благотворящими следствиями оправдывающей веры?
Вера и оправдание
Для оправдания, говорит Фомы, необходимы следующие три вещи: 1) вложение благодати; 2) акт воли со стороны человека, подлежащего оправданию; 3) исцеление грехов. Эти элементы можно истолковать как 1) движение движущего (вложение благодати Богом), 2) движение движимого (осознанный акт воли) и 3) завершение движения, или достижение конечной цели (процесс исцеления, или устранения грехов)37. Следовательно, чтобы понять томистскую концепцию оправдания через веру, мы должны рассмотреть каждый из этих трех элементов оправдания.
Легче всего начать с пункта 3: с достижения конечной цели оправдания. Под «оправданием», согласно Аквинату, подразумевается продвижение к праведности, а праведность в данном случае заключается в правоте, или правильном устроении ума и воли индивида, так что его страсти подчиняются его разумным способностям (к коим относится также разумное стремление, то есть воля), а разумные способности подчиняются Богу. Оправдание есть процесс, в результате которого некто, кто прежде был закоренелым грешником, изменяет направление движения и устремляет свои ум и волю к Богу. В этом процессе привычка человека ко греху постепенно исчезает вследствие перемен, происходящих в его интеллекте и воле под воздействием божественной благодати.
Аквинат признает, что может возникнуть впечатление, будто суть оправдания – в простом невменении греха со стороны Бога, что оно означает просто прощение грехов Богом и не предполагает также перемены в характере человека, подлежащего оправданию. Но Фома считает, напротив, что, прощая человеку грехи, Бог производит перемену в природе грешника38. Такой вывод согласуется с общим взглядом Фомы на Бога как на активного, отнюдь не пассивного участника процесса. Когда мы любим кого-то, говорит Аквинат, мы принимаем во внимание некое реальное или кажущееся благо в этом человеке; когда же Бог любит кого-то, он не просто принимает во внимание, но причиняет благо в этом человеке. Сходным образом, когда Бог удерживает его от совершения греха, это означает, что Бог производит изменение к лучшему во внутренних свойствах человека, которому не вменяется грех39. Таким образом, для Фомы процесс оправдания: есть процесс, в коем человек постепенно переменяется из грешника в праведника, хотя завершение этого процесса, то есть полное устранение всякого греха от оправданного человека, недостижимо в земной жизни.
Чтобы понять элемент (1) оправдания – вложение благодати Богом, мы должны уяснить себе одно из четких томистских разделений благодати, а именно, разделение между благодатью действующей и благодатью содействующей[24]. Действующая и содействующая благодать, говорит Фома, – это одна и та же благодать, а различение между ними проводится на основе следствий, производимых ею в сознании верующего40. Благодать, которая служит источником добрых дел, совершаемых человеком, есть благодать содействующая; а благодать, которая оправдывает или исцеляет душу человека, есть благодать действующая. Другими словами, Бог – источник и причина всего доброго, что имеется в нас; но иногда то доброе, что имеется в нас, может быть приписано и нам тоже: не потому, что мы можем сделать что-либо доброе и без Бога, но просто потому, что наша воля сотрудничает с Богом, побуждающим нас к доброму делу своей содействующей благодатью41. Однако процесс оправдания имеет иной характер. В этом случае все дело совершается одним лишь Богом, и потому благодать Божья, которой оправдывается человек, есть действующая благодать.
Вторя знаменитому изречению Августина о том, что Бог, сотворивший нас без нашего согласия, не оправдывает нас без нашего согласия42, Фома говорит, что Бог не оправдывает нас «без нас»: одновременно с божественным оправданием мы даем согласие на божественное правосудие – даем актом свободной воли, который составляет элемент (2) в процессе оправдания43. По словам Аквината, действующая благодать осеняет человека внезапно. Приуготовление к действующей благодати может занять какое-то время (в течение которого Бог провиденциально влияет на жизнь человека), но само вложение действующей благодати осуществляется мгновенно44. И одновременно с вложением действующей благодати совершается акт свободной воли, составляющий часть оправдания45. Вложение благодати предшествует по природе – то есть логически предшествует – акту свободной воли, в том смысле, что воление зависит от благодати, не наоборот; но по времени они совершаются совместно и одномоментно.
Это верно, что, по мнению Аквината, такой акт свободной воли причиняется в нас Богом, и, конечно, вопрос о том, в какой мере Фома является богословским детерминистом, непрост46. Но Фома неоднократно настаивает на свободе воли. Например, он решительно отрицает, что воздействие Бога на волю побуждает ее волить то, что она волит. Воздействие благодати на волю имеет характер не производящей, а скорее формальной причинности47. Далее, хотя Бог движет волей через вложение действующей благодати, он движет всякой вещью согласно ее собственной природе; но частью человеческой природы является обладание свободной волей, и потому Бог движет волей таким образом, чтобы она оставалась свободной48. Наконец, по мнению Аквината, человек не принуждается к добродетели божественной благодатью. Человеку естественно поступать согласно собственной воле и контролировать свои поступки, а принуждение противно такому характеру человеческого действия. Но так как Бог осуществляет свое провидение относительно всякой вещи сообразно ее природе, божественная благодать не исключает свободного акта нашей воли49. Так что, по мнению Фомы, хотя божественная благодать воздействует на волю, и хотя следовало бы разрешить долгий спор о воззрениях Фомы на благодать и свободную волю, в этой главе я предлагаю поверить ему на слово и признать, что, с его точки зрения, благодать не принуждает волю и не удерживает ее от присущего ей естественного и произвольного действия. (Подробное обсуждение этого вопроса мы отложим до следующей главы, посвященной благодати и свободной воле).
Что касается элемента (2) в процессе оправдания, то, по мнению Аквината, акт воли, сопровождаемый действующей благодатью, всегда имеет две составляющие. Весь процесс оправдания, лишь начинающийся с элемента (2), представляет собой движение, в котором Бог приводит человека от состояния греховности к состоянию праведности. Следовательно, человек, подлежащий оправданию, должен принимать во внимание обе крайние точки этого движения: и учитывать их при формировании акта воли. Итак, сопровождаемый действующей благодатью акт воли должен иметь две составляющие: посредством одной составляющей человек ненавидит свои грехи, а посредством другой устремляется к божественной благости и праведности50.
То, что Фома говорит о роли свободной воли в оправдании, казалось бы, стирает различие между действующей и содействующей благодатью, которое зависит от того, сотрудничает ли: воля с благодатью. Коль скоро оба вида благодати, действующая и содействующая, сопровождаются актом свободной воли, как можно отличить один вид благодати от другого? Думаю, это можно делать двумя: путями. Во-первых, когда Бог влагает содействующую благодать, воля и благодать в сотрудничестве порождают нечто третье: ментальное или физическое действие. Но действующая благодать имеет своей: целью не что иное, как сам единичный акт воли. Следствие действующей благодати, по словам Аквината, заключается в том, что ум приводится в движение, но сам не движет; и это следствие связано с внутренним актом воли, посредством которого воля впервые начинает волить божественное благо51. В самом деле, такое воление представляет собой акт согласия с работой действующей благодати52. Во-вторых, когда воля сотрудничает с содействующей: благодатью, часть работы следует приписать воле, а часть – божественной благодати. Вот почему Аквинат говорит, что вложение содействующей благодати в душу человека служит источником заслуг для этого человека. Но акт воли, сопряженный: с действующей: благодатью, хотя и является полноценным действием воли со стороны подлежащего оправданию лица, но не таким действием, в котором часть работы следовало бы: приписывать волящему или в котором его можно было бы считать стяжавшим заслугу именно в результате воления.
Пример действующей благодати, который приводит Фома, – Павел на пути в Дамаск. В этом случае, по признанию Фомы, перед нами пример редкого способа оправдания, но тем не менее он высвечивает элементы, существенные для этого процесса. Павел был обращен внезапно, в силу видения, которое было ему по дороге в Дамаск; но его согласие с христианством, как следствие этого видения, было тем не менее двойственным волевым актом в вере, сопровождающей действующую благодать. Можно сравнить этот двойственный акт воли, например, с решением Павла продолжить свою проповедническую деятельность после побивания камнями в Листре. То, что Павел захотел продолжать проповедовать, а не пришел в уныние, не устрашился и не отказался от этого труда, свидетельствует о его добродетели: этот акт воли со стороны Павла можно приписать самому Павлу как добродетель, увеличивающую заслуги Павла. Следовательно, по мнению Фомы, источником его должна была быть содействующая божественная благодать, целью которой было продолжение евангельской проповеди Павла. С другой стороны, сам акт воли, которым Павел принял христианство, не был совершен самим Павлом, и потому его нельзя приписывать Павлу как доброе дело. Скорее, в этом случае все было сделано Богом и должно быть приписано его провидению и благодати. Единственный вклад Павла ограничился тем, что он не отверг влагаемую в него Богом благодать; потому-то этот акт и не увеличивает заслуг Павла53. Не отвергнуть ее, по-видимому, единственное, что мог сделать Павел в этих обстоятельствах54.
Итак, в этом случае непосредственным следствием вложения: действующей благодати оказывается акт свободной воли, который представляет собой ответное согласие Павла принять христианство. Действующая и содействующая благодать различаются здесь на основе той роли, которую играет воля: претерпевает ли она воздействие со стороны благодати или же сама оказывает воздействие вкупе с благодатью, производя некоторое отличное от себя ментальное или: физическое действие.
Обсуждая вопрос об оправдании, Аквинат подчеркивает двойственную природу необходимого акта воли: он включает в себя, во-первых, стремление к божественному благу, а во-вторых, ненависть ко греху. Таким образом, первая составляющая акта воли, подразумеваемого оправданием, связана с верой, а вторая составляющая производна от первой. Если человек имеет некоторое представление о божественном благе и любит его, он будет одновременно ненавидеть в себе то, что противно божественному благу и в сравнении с ним выглядит отталкивающе. Так что одна причина, по которой оправдание включает в себя веру, связана с тем, что акт воли, этот конститутивный элемент веры, есть именно тот волевой акт, который необходим для оправдания.
Оправдание через веру
В томистской концепции веры и благодати человек Нафан оправдан, когда Бог так воздействует на Нафана, чтобы привести его к согласию с вероучительными положениями и породить соответствующий двойственный акт воли. Вследствие этого Нафан начинает желать божественного блага и ненавидеть собственные грехи. И он верит (помимо прочих вероучительных положений), что Бог исполняет подобные желания, потому что Бог оправдывает верующих через посредничество Христа. Но под верующими здесь понимаются именно те, кто верует оправдывающей верой, или, говоря более конкретно, кто верит, что Нафан верит и волит так, как он верит и волит. Если проговорить все импликации того, во что верит Нафан, окажется, что верование Нафана опирается (имплицитно или эксплицитно) на веру в то, что Бог оправдывает верующих в свое божественное оправдание. Добавим к этому присущее Фоме понимание оправдания как приведения человека к праведности. Тогда, с точки зрения интеллектуального компонента оправдания через веру, процесс превращения Нафана в праведника начинается с веры Нафана в то, что Бог сделает его праведным, и продолжается столь долго, сколь долго Нафан будет сохранять эту веру, вплоть до кульминации процесса, когда он сделается совершенно праведным.
Акт воли, сопровождающий эту веру в процессе оправдания, есть акт, в котором воля приближается к благу через стремление к этому благу и ненависть к собственным грехам55. Другими словами:, акт воли, который сопровождает оправдывающую веру Нафана в то, что Бог оправдает его, – этот акт есть присущее Нафану желание, чтобы Бог поступил именно так: желание, основанием которого служит упование на благость Божию и ненависть к собственным грехам, к тому в себе, что видится противным божественному благу.
Коротко говоря, собственный вклад Нафана в достижение праведности заключается в том, чтобы верить, что Бог сделает его праведным, и желать, чтобы Бог это сделал. А божественное начинание по оправданию тех, кто имеет веру, заключается в том, чтобы непременно приводить к праведности верящих, что он это сделает, и желающих, чтобы он это сделал.
В таком понимании оправдания через веру может создаться впечатление, будто желания активны, а испытывающие их лишь пассивно влекомы ими. Но в данном конкретном случае у нас есть что сказать о таком представлении. Акт воли, составляющий часть процесса оправдания, есть желание того, чтобы Бог привел верующего к праведности. Но такой акт воли равнозначен (логически, а возможно, и психологически) желанию того, чтобы Бог сделал волю верующего праведной. Желать божественного блага в указанном смысле означает желать праведности, а праведность любого человека зависит в первую очередь от того, чтобы его воля желала лишь должного. Сходным образом, отвергать собственные грехи: означает желать больше не грешить, а значит, иметь такую волю, которая волит только должное. Стало быть, акт воли, задействованный в оправдании, есть воля к тому, чтобы: волить лишь должное. Такая воля есть воление второго порядка, воление, в котором воля действует рефлективно, руководя сама собой56.
Если Нафан обладает такого рода волением второго порядка57, то Бог может произвести изменения в первопорядковых желаниях и волениях Нафана и привести их в согласие с этим второпорядковым волением, тем самым удерживая Нафана от греха и делая его праведным. Этот процесс морального исправления: достигает кульминации после смерти, в состоянии совершенной праведности. Если бы Бог просто переменил первопорядковое воление Нафана, помимо соответствующего воления второго порядка у самого Нафана, то Бог, очевидно, совершил бы насилие по отношению к свободной воле Нафана: ведь, по мнению Фомы, если воление человека изменяется в результате прямого вмешательства внешней производящей причинности, свойственной: внешнему деятелю, то такое воление не будет свободным58. Но если Бог переменяет воление, когда Нафан сам желает (желанием второго порядка), чтобы Бог так поступил, тогда, переменяя первопорядковое воление в Нафане, Бог не упраздняет его свободную волю, но, напротив, укрепляет или пробуждает ее59.
То, что Нафан имеет такое первопорядковое воление, какое он имеет, есть результат его собственного второпорядкового воления. Не в том смысле, что желанное первопорядковое воление укрепляется или даже производится в нем волением второго порядка, а в том смысле, что, пока Нафан не обретет такого второпорядкового воления, Бог не подействует на его воления первого порядка. Если бы второпорядковое воление Нафана было иным, его первопорядковое воление тоже было бы иным. А вот произвести в нем первопорядковое воление, расходящееся с его же желаниями второго порядка, означало бы подрывать свободу воли Нафана. Бог, оберегающий природу своих творений, не совершил бы такого поступка.
Кто-то может возразить, что, если Бог способен изменить первопорядковые воления при наличии второпорядкового воления, которым человек желает, чтобы он так поступил, и если Нафан имеет второпорядковое воление, чтобы: Бог привел его к праведности, то всецелый процесс оправдания Нафана будет завершен в тот самый момент, когда Нафан оформит свое второпорядковое воление. Ибо в ответ на это второпорядковое воление Бог может сделать Нафана полностью праведным, не совершая насилия над его свободной волей. Но такое возражение основано на путанице, связанной с содержанием второпорядкового воления, которое требуется для оправдания. Второпорядковое воление Нафана заключается в том общем желании, чтобы Бог переменил его волю и сделал его праведным. Но в отличие, скажем, от второпорядкового воления иметь волю не курить, содержание данного воления смутно. Оно состоит в некоей общей покорности Богу и в действенном желании позволить ему переделать мой характер. Такого рода желание психологически совместимо с упорствованием во множестве грехов. Когда у Джорджа Элиота Ромола испытывает мощное желание, чтобы: Бог изменил ее, эта вновь обретенная покорность Богу и желание блага поначалу сосуществуют с острой ненавистью к мужу. Поэтому процесс превращения грешника в праведника будет процессом, в котором конкретные воления приводятся в гармонию с главенствующим второпорядковым волением, по мере того, как Бог приводит человека к праведности: и постепенно переменяет его первопорядковые воления60. В отличие от требуемого для оправдания акта свободной воли, который совершается мгновенно, эта часть процесса требует времени.
Могут также возразить, что такая интерпретация той роли, которую в оправдании играет у Фомы воля верующего, ошибочно превращает его в пелагианина или, по меньшей мере, в полупелагианина. Ясно, что такой богословский детерминизм, с одной стороны, и некая форма пелагианства, с другой, подобны Сцилле и Харибде, между которыми должна пройти ортодоксальная концепция оправдания через веру. В том объяснении концепции Фомы, которое я предлагаю, она явно избегает богословского детерминизма, ибо утверждает, что Бог совершает тот или иной акт в ответ на некоторое действие со стороны самой человеческой воли.
Удается ли этой концепции избегнуть пелагианства или полупелагианства, легче ответить, если мы сначала коротко напомним, в чем состоит природа этих ересей[25]. Пелагианство было осуждено на Карфагенском соборе в 418 г. за то, что в нем отрицалось учение о первородном грехе и утверждалось, что человек способен достигнуть совершенной праведности помимо божественной благодати; под благодатью же понималось, например, нечто вроде умственного просветления, наступающего в результате чтения Библии. Томистская концепция в том виде, в каком она здесь представлена очевидно свободна от пелагианства.
Но как насчет полупелагианства? Полупелагианство утверждало, что Бог дает благодать в ответ на заслуживающий этого первый акт свободной человеческой воли: акт, взывающий к благодати. В томистском понимании действующей благодати второпорядковое воление хотя и является необходимым условием божественного воздействия на первопорядковые воления верующего, однако сам верующий не порождает никакого благого волевого акта в отрыве от благодати. Это касается и волевого акта в вере, коим инициируется: оправдание верующего. По мнению Аквината, один лишь Бог вызывает в верующем требуемое воление второго порядка. Каким в точности образом божественная благодать вызывает, согласно учению Фомы, такое воление, это, безусловно, нелегкий вопрос, в связи с которым я адресую читателя к главе 6, посвященной благодати и свободе воли[26]. Пока же достаточно будет отметить то утверждение Аквината, что второпорядковое воление верующего есть результат божественной благодати. Насколько последователен Фома, говоря, что в процессе оправдания божественная благодать вызывает воление в верующем и что в то же время это воление свободно, – вопрос спорный. Но до тех пор, пока Фома настаивает на таком объяснении отношения между действующей благодатью и этим волением, он не повинен в полупелагианстве61.
Богословское значение оправдания
Итак, совместный акт интеллекта и воли, конституирующий веру, которой, по убеждению Фомы, оправдывается человек, действует подобно лекарству от рака: целительно, но медленно. Предположим, что некто Аарон умирает от рака, но чудотворное лекарство найдено вовремя. Лекарство гарантированно излечит рак, если Аарон будет принимать его, но принимать его нужно в течение многих лет, прежде чем оно завершит свою работу. Когда лекарство впервые доставят Аарону, и он согласится принимать его, друзья Аарона будут склонны с облегчением считать, что кризис миновал, потому что с помощью этого нового средства врач уже исцелял рак.
Разумеется, в определенном смысле такая успокоенность друзей явно ложна. Рак у Аарона будет действительно исцелен лишь по прошествии многих лет после первого приема лекарства; и в течение этого долгого периода все еще будет верным, что Аарон болен раком. Но, с другой стороны, порой мы действительно говорим, что некоторое положение дел достигнуто, когда пройдена некая критическая точка, после которой можно разумно утверждать, что это положение дел будет непременно достигнуто. Например, мы говорим, что уплатили ренту, когда в действительности лишь отправили почтой чек, или что приготовили кофе, когда в действительности лишь включили кофеварку. В этих и подобных им случаях мы ведем себя так, словно окончание процесса уже достигнуто, хотя знаем, что процесс не окончен. Ибо нам известно, что необходимое условие для его осуществления или неосуществления действительно выполнено, и мы можем разумно ожидать последующего завершения без особых волнений. Так что вполне естественно и понятно говорить о том, что врач вылечил рак у Аарона, подразумевая, что врач дал Аарону лекарство, которое вылечит рак, если Аарон будет принимать его в течение некоторого количества лет62.
Аналогичным образом, если Нафан сформировал акт воли[27], сопровождающий интеллектуальную составляющую веры, будет в некотором смысле истинным утверждать, что Бог исправил недостаточность его воли и исцелил его. Воля Божья – в том, чтобы все люди спаслись63; но слабое звено в цепи событий, требуемых для спасения Нафана, скрыто в самом Нафане. Поэтому, если Нафан не спасется, вина за это будет возложена на него самого, а не на Бога. По этой же причине, как только Нафан обретет интеллектуальную и волевую составляющие веры, мы вправе утверждать, что он спасен от своих грехов и сделался праведным. Если Аарон принимает лекарство, его исцеление гарантированно наступит; и если Нафан имеет веру, Бог приведет его к праведности. С другой стороны, разумеется, даже если Аарон принимает лекарство, в его теле все еще остаются раковые клетки; и даже если: второпорядковое воление Нафана заключается в том, чтобы Бог сделал его праведным, он может все еще склоняться к тем или иным видам зла. В этом смысле томистская теория оправдания: совместима в той: мыслью, которая выразилась в знаменитом изречении Лютера: «SimulJustus etpeccator»64 («Одновременно праведник и грешник»)65; и проливает свет на слова Павла о том, что Бог животворит мертвых и называет несуществующее как существующее [Рим 4: 16–20]66.
Томистская теория оправдания через веру предлагает также последовательное и любопытное прочтение многих других хорошо известных изречений Павла об оправдании через веру. Например, согласно теории Аквината, Бог праведен и делает праведными тех, кто верует67. Он делает праведными тех, кто верует, потому что приводит верующих к праведности, и он праведен сам, потому что в процессе оправдания действительно искореняет грех. Те, кого он берет к себе, суть те, которые сделались праведными: сделались в процессе, проходящем через всю земную жизнь и завершающемся в иной жизни. Отсюда ясно, почему никто не может быть оправдан через «дела закона». Согласно теории Аквината, оправдание есть процесс, в котором человек, прежде не праведный, переменяется и приводится к праведности68. Но исполнять дела закона означает совершать праведные поступки. Всякий, кто исполняет дела закона, тем самым не переменяется от неправедности к праведности, но уже находится в конце или, по меньшей мере, в середине преображения. Оправдание включает в себя перемену воли, которая была склонна ко злу, а отныне обращается к благу. Дело не в том, будто бы до оправдания воля человека была некоторым образом принуждаема ко злу; проблема скорее в том, что такая воля не желает блага. Однако любой человек, исполняющий дела закона, будет иметь волю, которая уже желает блага. Даже тот, кто лишь начинает борьбу за исполнение дел закона, то есть тот, кто лишь пытается, часто безуспешно, совершать поступки, соответствующие закону, уже обладает волей, склонной к благу, по крайней мере, настолько, что желает попытаться исполнять дела закона. Следовательно, дела закона, то есть праведные поступки, не могут быть средством преображения злой воли в благую. Вот почему даже первоначальное согласие с благодатью, конституирующее волевую составляющую веры, должно быть результатом божественного воздействия на верующего. Поскольку это первоначальное воление есть жажда блага и – в этом качестве – праведное воление, постольку воля, осуществляющая это воление, уже до некоторой степени обращена к праведности.
Наконец, в этой концепции Аквината становится очевидным, в каком смысле верующие суть сыны Авраама, по слову Павла [Гал 3:7]69. Авраам был оправдан через веру в обетование Божье; верующие, говорит Павел, суть семя Авраама и потому наследуют данное ему обетование70. Но обетование, согласно Павлу, обещает оправдание через веру: «И Писание, провидя, что Бог верою оправдает язычников, предвозвестило Аврааму: в тебе благословятся все народы»71. Стало быть, согласно этим речениям, верующий оправдан, ибо верует в то, во что верил Авраам в то, что Бог оправдает его через веру. И это именно то видение оправдания через веру, которое представлено в теории Аквината72.
Вера: решение некоторых загадок
В томистской теории оправдания через веру нетрудно понять, почему обладание верой со стороны человека оказывается значимым для его моральных свойств. В той мере, в какой желание благой воли морально предпочтительнее отсутствия такого желания, то есть состояния, в котором человек не признает своей моральной недостаточности или безразличен к ней, тот, кто приходит к вере, становится лучше в нравственном отношении просто в силу стяжания веры. Более того, когда верующий обретает второпорядковое желание оправдания через веру, Бог может подействовать на первопорядковые желания и воления верующего, чтобы привести его к праведности, не нарушая свободы его воли. С другой стороны, нетрудно понять, каким образом обладание верой совместимо с упорством во зле, более того, с упорством во зле во имя христианства. Как мы видели выше, воление второго порядка, подразумеваемое верой, по своему содержанию смутно и совместимо с волениями (перво– или второпорядковыми) к совершению зла. Процесс движения к праведности, начатый второпорядковым волением в вере, требует времени; в этом процессе воля и ум верующего постепенно приводятся в гармонию с общим второпорядковым желанием блага и отвращением ко греху. Теория Аквината также объясняет, почему оправданный человек принимается Богом потому что природа волевой составляющей веры такова, что она позволяет Богу соединить с собою верующего – позволяет в той мере, в какой это воление дает Богу возможность сделать верующего морально благим, не нарушая свободы его воли.
Выдвигая возражение, представляющее собой вариант того возражения, которое мы рассматривали в связи с эпистемологическим обоснованием, некто может заметить, что все равно акт воли в вере доступен: не каждому: ведь некоторые люди: не ведают о притязаниях христианства, на которые опирается воля в вере. Следовательно, для Бога все еще может выглядеть морально неприемлемым принимать человека лишь на основании его веры, даже в томистском понимании веры. Однако томистская концепция показывает, что в глазах Бога необходимость веры для оправдания – не произвол и не принуждение: ведь без волевой составляющей веры воздействие Бога на волю с целью сделать ее благой нарушило бы ее свободу. Стало быть, суть этого возражения сводится к тому, что благой Бог должен был бы сделать больше для того, чтобы необходимые верования стали доступны всем людям. Следовательно, в действительности это возражение составляет часть проблемы зла, которая выходит за рамки этой главы.
Но, может быть, можно притупить остроту этого возражения даже в контексте этой главы. По-видимому, оно исходит из той предпосылки, что только те, кто явно и непосредственно обладает христианскими верованиями, могут иметь верующую волю. Но Аквинат отвергает эту предпосылку. По его словам, важно отличать сущностные характеристики объекта веры от его привходящих свойств. Можно пребывать в правильном отношении к объекту веры, даже не ведая некоторых истин, содержащихся в Писании73. По мнению Фомы, некоторые из тех, кто жил до пришествия Христа или в краях, куда не дошла весть о христианстве, тем не менее могут спастись, потому что находились в правильном отношении к объекту веры, даже если прямо не придерживались вероучительных положений. Например, язычники дохристианской эпохи могли иметь имплицитную веру – веру в провидение Бога, который позволял людям следовать его путями, известными тем, кому он отрыл истину74. Имплицитная вера тоже спасительна.
Искупление и воля
Способ, каким в теории Аквината разрешаются эти загадки веры, лишь усугубляет загадочность той роли, которую играет искупление. По мнению Фомы, вера оправдывает потому, что подразумевает определенное воление второго порядка: в нем она соглашается, чтобы Бог совершил работу оправдания в верующем. В этом процессе, по-видимому, нет ни нужды в искуплении, ни места для него. Коль скоро Бог может привести верующего к праведности в силу того, что верующий согласен на это действие со стороны Бога, в чем тогда роль искупления в спасении? Почему Бог не мог выполнить всю работу по оправданию без страданий и смерти воплощенного Христа? С другой стороны, если мы можем описать искупление таким образом, чтобы представить его составной частью спасения, какова связь между ним и процессом оправдания через веру? Каким образом искупление содействует оправданию, если оправдание – в том, что Бог вызывает в верующем второпорядковое желание божественного оправдания и отвечает на него?75
Чтобы понять, каким образом, с точки зрения Аквината, связаны между собой доктрина искупления и доктрина оправдания через веру, задумаемся над тем, каким образом искупление связано с актом верующей воли. Возьмем, например, Розамунду Лидгейт из «Миддлмарча» Джорджа Элиота. Ее расточительность, социальные амбиции и эгоистичное манипулирование мужем привели его к краху, вынудили оставить мечты о медицинских исследованиях и заставили вести жизнь, которую он презирал. В той мере, в какой Розамунда вообще задумывается о религии, ее можно, не рискуя ошибиться, назвать смутно верующей; но никто на свете не сказал бы о ней, что она желает божественного блага и питает отвращение к собственным грехам. Каким образом можно было бы привести Розамунду к такому волению?
Мы, конечно, можем предположить, что Бог просто мог бы произвести в ней такое воление и непосредственно привести ее от дурного состояния, в котором ее воля отвергает благодать, к состоянию, в котором она выразит согласие с благодатью. Ибо свободная воля, как и все остальное, подвластна всемогущему Богу. Другими словами, мы можем предположить, что Бог мог бы просто предопределить волю Розамунды76. Но такой ответ, на мой взгляд, не уменьшит, а увеличит загадочность искупления. Если простым актом воли Бог мог бы произвести воления, которые он желает видеть в человеческих существах: воления, необходимые для спасения, – то почему он вместо этого послал Христа на крестную муку? И почему он не произведет такое воление в каждом человеке, чтобы спаслись все? Так как здесь перед нами проблема и так как этот подход противоречит многим высказываниям Фомы о свободе верующей воли, в этой главе я просто отодвигаю в сторону ответы, утверждающие, что акт воли, необходимый для оправдания, прямо производится одним лишь Богом и никоим образом не является божественным ответом на нечто происходящее в самом верующем. В следующей главе мы обратимся к более подробной интерпретации воззрений Аквината, которые отвергают подобный божественный детерминизм.
Мы можем предположить, в порядке альтернативы, что Розамунда сама способна выполнить волевой акт, необходимый для спасения. Если не тревожиться о пелагианстве, то может показаться, что люди преобразуют себя сами. История брата Розамунды, Фреда Уинси, дает нам замечательный пример шалопая, который преодолевает юношескую праздность и потакание собственным слабостям и превращается в сдержанного и порядочного человека.
Но преображение Фреда Уинси неполно и, в сравнении с преображением через обращение, незначительно. Когда он подсчитывает деньги, проигранные в бильярд, или недели и месяцы жизни, растраченные по мелочам, он сам понимает, насколько далек от собственного идеала человеческой жизни. Следовательно, он может решить оставить бильярд и научиться какой-нибудь полезной профессии. Но для оправдания необходимо понять, что в преобразовании нуждается не тот или иной способ поведения, а всецелая, безнадежно порочная душа человека.
Стало быть, чтобы прийти к обращению, Розамунда нуждается не в критике тех или иных своих поступков в свете своих собственных представлений о ценностях, а в чем-то гораздо более радикальном. Речь не об изменении некоторой склонности ее воли в свете общего расположения этой воли, а о том, что ее всецелая воля должна подвергнуться моральному перерождению. Очевидно, что сама Розамунда не способна осуществить эти изменения, необходимые для обращения: желая таких изменений, она уже проявляла бы изменившуюся волю.
Но если мы не можем объяснить акт воли, необходимый для спасения, приписывая его Розамунде или Богу, определяющему волю Розамунды без участия ее собственной воли, то как мы можем его объяснить? Чтобы ответить на этот вопрос, будет полезным подробно рассмотреть, какие изменения должны были бы произойти в Розамунде, чтобы она могла сформировать волевой акт в вере.
Во-первых, она должна была бы, как минимум, признать, что некоторые из ее поступков глубоко неверны, и озаботиться этим фактом. Затем она должна была бы понять, что зло, которое она совершает, является симптомом гораздо более глубокого недуга ее воли: недуга, который отчуждает ее от Бога, и должна была бы пожелать, чтобы этот недуг был исцелен. Ей было бы необходимо догадаться, что она способна к моральному возрождению, и не отчаиваться в себе; но было бы необходимо также признать, что она нуждается в помощи, чтобы достигнуть такого морального преображения. Далее, она должна была бы понять, что Бог способен совершить в ней желанное моральное преображение, даже если она не может сделать этого самостоятельно. Сама эта вера зависит от других верований и, быть может, сильнее всего от веры в то, что совершенное ею в прошлом зло не отделяет ее от Бога навеки, что Бог хочет обновить ее. Наконец, она должна была бы захотеть, чтобы Бог произвел в ней эти изменения, и то, что она знает от Боге, должно было бы пробудить в ней желание приблизиться к нему.
Разумеется, многие события в жизни человека способны подготавливать и побуждать его к подобному преображению. Единственное движение подлинного альтруизма пробудилось в Розамунде в ответ на беззаветное сострадание, которое проявила к ней Доротея Кейсобон. Такие сердечные движения, или смягчения, суть предвестники преображения на пути в Дамаск; быть может, подобный опыт предшествует любым актам морального возрождения. Но чтобы эти обетования исполнились, сердце человека, подобного Розамунде, должно не только испытывать порывы или смягчения, но также сокрушаться и оттаивать. Наполнявшие ее холодное и гордое своеволие и себялюбие должны поколебаться и отступить перед новым пониманием блага и новым желанием следовать ему.
Когда провиденциально упорядоченные обстоятельства и акты жизненного выбора подготовят ее, размышление о страстях и смерти Христа станет тем клином, который взломает ее сердце. Готовность Христа умереть за страждущих и нищих духом задает меру, которой Розамунда сможет измерить себя и увидеть свой мелкий эгоизм, эту первооснову ее характера и поступков. Те же события сделают явной также великую Божью любовь к ней. Бог, ясно видящий чувства Розамунды, не ответит на ее зло отвержением, не оставит ее в злобе и недовольстве, но возвысит ее до себя. Если благородное сочувствие Доротеи смогло смягчить ее сердце, то страдание и смерть Христовы сокрушат его, если вообще что-либо способно его сокрушить.
Сокрушение, или смягчение, сердца – это, конечно, метафора. Говорить о том, что нечто сокрушается или смягчается, означает, что нечто дает дорогу внешней силе после внутреннего сопротивления или пренебрежения – или несмотря на них. Сказать, что сердце сокрушается или смягчается, означает, стало быть, что воля, которая прежде сопротивлялась или склонялась к чему-то другому, оставила прежнюю склонность и сопротивление77.
Следовательно, теперь мы можем следующим образом объяснить связь между искуплением и оправданием через веру. До оправдания человек сопротивляется или отворачивается от второпорядкового воления, в котором грешники ненавидят свои грехи и стремятся к божественному благу: воления, к которому нас побуждает провидение Божье. Когда человек подготовлен прошлым опытом и благодатью (а может быть, как в случае Павла, он и не нуждался в подготовке), страдания и смерть Христа становятся средством, приводящим финальное сопротивление грешника к такому волению. Внутреннее сопротивление тому, чтобы претерпеть тотальное изменение, а также робость, подразумеваемая таким волением, сокрушаются страстями Христовыми и являемой в них любовью.
Но, как будет подробно показано в следующей главе о благодати и свободе воли, отказ от несогласия не равнозначен свободно волимому согласию. Если мы можем провести различение между отказом от несогласия и позитивным благом согласия – а философская психология Аквината показывает, что можем, – то Бог может воспользоваться отсутствием несогласия и ввести прежде отвергаемую благодать, чтобы побудить волю от непротивления к полному согласию. Сообразно этой точке зрения, божественная благодать производит второпорядковое воление, необходимое для оправдания, как это утверждается в томистской теории оправдания; и все же, поскольку Бог совершает это лишь в отсутствие отвержения благодати, он не принуждает волю и не подрывает ее свободу, а лишь отвечает ей. Тем не менее любые формы пелагианства здесь исключены, ибо в человеческой воле нет ничего благого, что не было бы произведено в ней божественной благодатью. Следовательно, в добавление ко многим другим благодеяниям, которые искупление принесло людям, существует еще одно, очень важное: искупление сокрушило сопротивление воли перед лицом благодати, так что отныне Бог может преобразить ее, не совершая насилия над ней78.
Таким образом, томистская теория оправдания через веру, вкупе с воззрениями Фомы на природу воли, демонстрирует ресурсы для решения поставленных выше загадок. Используя томистскую теорию оправдания, мы можем, стало быть, показать, почему вера оправдывает и, далее, каким образом искупление связано с этой верой.
Заключение
Томистская концепция веры, этой первой из богословских добродетелей, поднимает вопросы, связанные с эпистемологией и философской теологией. Она имеет дело с оправданием, понимаемым по-разному. Эти вопросы надлежит рассматривать в контексте томистской метафизики и философии сознания, а также видеть в них томистское понимание теологии, непосредственно значимое для его описания веры. Когда мы рассматриваем их внутри этого более широкого контекста, становится очевидным, что философия и теология Аквината обладают ресурсами для самозащиты; они отвечают на вопросы, связанные с эпистемологическим обоснованием, а также позволяют убедительно объяснить доктрину оправдания через веру.
Примечания
1 Воззрения Аквината на интерпретацию интеллекта и воли имеют кардинальное значение для его понимания веры. Но так как я подробно разбирала эти его воззрения в более ранних главах о свободе и мудрости (не вошли перевод. – Прим, пер.), ограничусь тем, что коротко суммирую их в этой главе, сделав небольшие добавления там, где этого потребует специальное рассмотрение веры.
2 См. ST На IIae. 2. 1; QDV 14. 1.
3 ST На IIae. 1.4.
4 О способах, какими воля может воздействовать на интеллект, см. в главах 9 и 11 о свободе и мудрости (не вошли в перевод. – Прим. пер.).
5 Описание и разбор множества таких примеров и аргументы в защиту роли воли в порождении интеллектуального согласия см. в главе 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
6 Обзор этих примеров и анализ позиции Аквината в отношении к ним см. в главе 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
7 См., например, ST IIа IIae. 5. 2; см. также QDV 14. 1.
8 Можно предположить, что это именно тот случай, когда Доротея взвешивает свидетельство, противоречащее ее знанию характера Ладислава, и отдает предпочтение тому свидетельству, которое согласуется с ее знанием его характера. Если бы такой анализ этого случая был верным, он не мог бы служить примером воздействия воли на верование. Но в действительности, думаю, этот анализ не отвечает видимому положению дел, причем он неверен в нескольких отношениях. И прежде всего, Доротея не обдумывает и не взвешивает свидетельства. Хотя она размышляет над тем, что видела, она с самого начала склонна оправдывать Ладислава. Очевидность видимой ею сцены достаточна для того, чтобы перевесить ее прошлый опыт общения с ним. Для нее психологически невозможно сразу после того, как она стала свидетельницей этой сцены, подыскивать безобидное объяснение поведению Ладислава. Она отдает себе отчет в той горькой правде, что никто, сколь бы ни был хорош его характер, не является неуязвимым для морального зла.
9 ST IIа IIae. 1.2.
10 В данном случае мы будем говорить о «положениях веры» в широком смысле, подразумевая все те положения, которые надлежащим образом принимаются в качестве объектов религиозной веры, включая те из них (вроде положения «Бог существует»), которые, по мнению Фомы, некоторые люди могут познать естественным разумом, а значит, не нуждаются в том, чтобы принимать их исключительно на веру.
11 Некоторые положения веры, например, «Бог есть единая сущность, но три лица», могут показаться некоторым людям достаточными для того, чтобы подвигнуть волю к несогласию с ними. Из экономии места я не рассматриваю здесь такие вероучительные положения и связанные с ними проблемы. Но пример того, что можно сделать даже в этих случаях, чтобы отбить обвинение в противном разуму характере некоторых положений веры, см. в работе: Peter van Inwagen, “And Yet They Are Not Three Gods But One God” / Thomas V. Morris (ed.), Philosophy and the Christian Faith (South Bend, IN: The University ofNotre Dame Press, 1988), pp. 241–278.
12 Что именно подразумевает здесь Аквинат под «достоверностью», будет показано в следующем разделе.
13 ST На IIae. 1. 4; IIа IIae. 2. 1–2.
14 Ср. ST IIа IIae. 4. 1; QDV 14. 1–2.
15 Ср. ST Iа IIae. 113. 4, где ясно показано, что вера, о которой идет речь, есть вера религиозная.
16 Библейский текст, который обычно цитируют в связи с этим, – Иак 2:19.
17 См. ST IIа IIae. 4. 3–5; см. также ST IIа IIae. 6. 2.
18 ST IIа IIae. 5.2.
19 Ср. в связи с этим у Фомы анализ искажения веры в тех случаях, когда воля верующего не оформлена любовью: ST На IIae. 6. 1 ad 2.
20 ST IIа IIae. 5.2 ad 3.
21 ST IIа IIae. 5.2.
22 ST IIа IIae. 4. 1, 4, 5; IIа IIae. 7. 1; QDV 14. 2, 5, 6.
23 Несколько иначе томистская концепция веры анализируется в следующих работах: Terence Penelhum, “The Analysis of Faith in St. Thomas Aquinas” // Religious Studies 13 (1977): 133–151; Louis Pojman, Religious Belief and the Will (London: Routledge and Kegan Paul, 1986), особенно pp. 32^10; Timothy Potts, “Aquians on Belief and Faith” / James F. Ross (ed.), Inquiries in Medieval Philosophy: A Collection in Honor of Francis P Clark (Westport, CT: Greenwood, 1971), pp. 3-22; James Ross, “Aquinas on Belief and Knowledge” / William Frank and Girard Etzkom (eds), Essays Honoring Allan B. Wolter (Saint Bonaventure, NY: Franciscan Institute, 1985), pp. 245–269, и “Believing for Profit” / Geald McCarthy (ed.), The Ethics of Belief Debate (Atlanta, GA: Scholars Press, 1986), pp. 221–235. Мои возражения на интерпретацию Авината, предлагаемую в работах Penelhum и Potts, уже приведены в выше, в моем собственном анализе. С моей точки зрения, проблемы, которые поднимают эти авторы в связи с томистской концепцией, либо уже решены, либо – с позиций приводимой здесь интерпретации – не являются первоочередными. Хотя между моей интерпретацией Авината и той, за которую ратует Росс, имеются некоторые поверхностные различия, во многих отношениях мы предлагаем похожий анализ; именно работы Росса оказали стимулирующее воздействие на мой интерес к воззрениям Фомы на веру.
24 Ничто в этой главе не требует отдать предпочтение одной концепции обоснования перед другой; но из всех концепций, которые обычно рассматриваются, я склонна считать наиболее правдоподобной ту, которую предложит Уильям Олстон. См., например, William Р. Alston, “Concepts of Epistemic Justification” // The Monist 68 (1985): 57–89; repr. in William P. Alston, Epistemic Justification: Essays in the Theory of Knowledge (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989). По мнению Олстона, обоснованно верить, чтор, означает верить, что р, таким образом, чтобы иметь все основания считать нечто истинным.
25 См. главу 7 об основаниях знания (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
26 Рассмотрим, например, веру в то, что Христос восстал из мертвых. Мы должны будем добавить к томистской метафизике блага некоторые соображения либо относительно других метафизических атрибутов Бога и их отношения к божественной благости, либо относительно совершенно благой воли в Боге, и эти дополнительные соображения послужат основой для объяснения обоснованности веры в воскресение.
27 ST I. 5. 1; QDV 21. 1–2. Метаэтика Фомы подробно обсуждается выше, в главе о благе; см. также JanAertsen, Nature and Creature: Thomas Aquinas ’ Way of Thought (Leiden: E. J. Brill, 1988). См. также Scott MacDonald (ed.), Being and Goodness: The Concept of the Good in Metaphysics and Philosophical Theology (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1991).
28 Для Аквината совершенным является сущее цельное и полное, безущербное и неограниченное. Но быть полностью цельным и безущербным, по мнению Фомы, означает не заключать в себе никакой неактуализованной потенциальности. Следовательно, совершенное сущее всецело актуально. Но все, что всецело актуально, должно заключать в своей сущности собственное существование; в противном случае, согласно Фоме, оно находилось бы в потенции к не су ще ств ованию. Но если совершенное сущее заключает в себе свое существование как часть собственной сущности, если оно не обладает никакой потенциальностью по отношению к несуществованию, то оно существует с необходимостью. См., например, ST I. 3. 4. Соображения такого рода стоят за тем тезисом Аквината, что совершенное сущее существует с необходимостью.
29 Так как Фома отождествляет совершенное сущее с Богом, могут возразить, что, если принять его заключение от совершенной благости к совершенному бытию, мы получаем аргумент в пользу существования Бога, особую вариацию онтологического доказательства. Но эта линия мысли ошибочна. Предпосылки такого предположительного аргумента мог принять лишь тот, кто уже принял томистскую разновидность классического теизма, так что аргумент явно сводился бы кpetitio principii (предвосхищение основания).
30 См., например, William Р. Alston, “Level Confusions in Epistemology” / Peter A. French, Theodore E. Uehling, Jr. and Howard K. Wettstein (eds), Midwest Studies in Philosophy, vol. 5 (Minneapolis: University of Minnesota Press, 1980), pp. 135–150; repr. in id., Epistemic Justification.
31 См. главу 9 о свободе (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
32 См. ST IIа IIae. 4. 8.
33 ST IIа IIae. 4. 8.
34 Могут возразить, что всякий, кто верит, что Бог одновременно всемогущ и всецело благ, верит и в то, что, становясь на сторону совершенного блага, он становится на сторону силы, а значит, применительно к верующим невозможно отделить желание блага от желания силы. Посылка возражающего представляется мне в основном верной, но вывод, который он хочет сделать из этой посылки, не следует из нее. Всякий, кто верит во всемогущего и всецело благого Бога, будет верить и в то, что, следуя за благом, он также последует за силой. Но до тех пор, пока для верующего не будет непоколебимо очевидным, что существует всецело благое и в то же время всемогущее сущее, не будет непоколебимо очевидным и то, что, следуя за тем, что он считает благом, он становится на сторону силы. Например, если кто-нибудь вроде матери Терезы будет с полной очевидностью следовать благу, то для верующих, глядящих на нее со стороны, а может быть (предположительно), и для нее самой не будет столь же очевидным, что она выбирает сторону силы. В таком случае возможно, что стремление к благу и стремление к силе будут толкать человека в разные стороны, несмотря на его веру во всемогущего и всецело благого Бога. Стало быть, когда не является непоколебимо очевидным, что существует всемогущий и всецело благой Бог, можно отделить желание блага от желания силы. Глубокое и проницательное изображение этого вопроса – повествование об искушениях Христа в «Обретенном рае» Мильтона. Я признательна Стиву Мейтзену за то, что он привлек мое нимание к этому возражению.
35 Это также объясняет ту парадоксальную очевидность, что большая часть обращений в религиозную веру вызывается отнюдь не философскими или богословскими аргументами. Они скорее придают начальный импульс воле, вследствие чего воля, в свою очередь, приводит в движение интеллект и побуждает его согласиться с положениями веры.
36 Более полно вопросы, связанные с томистской доктриной искупления, см. в главе 15 об искуплении (не вошла в перевод. – Прим. пер).
37 STIallae. 113.6.
38 STIallae. 113. 1.
39 STIallae. 113. 2 ad2.
40 STIallae. 111. 2 ad4.
41 Философское объяснение содействующей благодати и способа, каким она может совмещаться даже с либертарианской свободой, см. в моей статье “Augustine on Free Will” / Eleonore Stump, Norman Kretzmann (eds), The Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 2001). (О либертарианской свободе см. «Введение», прим. III. – Прим, ред.)
42 Sermo 169. 11. 13.
43 STIallae. 111. 2 ad2.
44 STIallae. 113.7.
45 ST la IIae. 113.8.
46 В связи с этим см. также главу 5 о божественном знании.
47 STIallae. 111. 2 ad 1.
48 STIallae. 113.3.
49 SCG III. 148; см. также III. 149–150.
50 ST la IIae. 113. 5; см. также la IIae. 113. 6–7. Чтобы быть оправданным, человеку не обязательно помнить и ненавидеть каждое прегрешение, когда-либо им совершенное. По словам Аквината, он должен ненавидеть те грехи, которые сознает, и должен быть готовым ненавидеть всякий другой грех, который вспомнит.
51 STIallae. 111. 2resp.
52 ST la IIae. 113, особенно art. 7, resp.
53 Когда вера, которую принимает Павел в этом акте, становится хабитуальной и влечет за собой другие физические и ментальные акты, она превращается в добродетель; как таковая, она питается содействующей благодатью и служит источником заслуг.
54 Я не хочу сказать, что согласие Павла не достойно похвалы в некотором отношении. Если ребенок после всех упрашиваний, умасливаний и угроз, какие только приходят на ум его изобретательной матери, наконец открывает рот и проглатывает ложку ненавистных овощей, он вряд ли приобретает заслугу в силу одного лишь факта, что не стал держать рот закрытым. Но мать, которая сделала всю работу и заставила его съесть овощи, может тем не менее с полным правом похвалить его за то, что он позволил себя накормить. Точно так же согласие Павла может в некотором отношении заслужить ему похвалу, не считаясь благим поступком со стороны самого Павла. Более подробное рассмотрение этого вопроса см. в главе 13 о благодати и свободной воле.
55 ST Iа IIae. 113.5.
56 Обсуждение иерархии в воле см. в главе 11 о мудрости (не вошла перевод. – Прим. пер.). Гарри Франкфурт написал немало статей на эту тему; его классическая работа – Harry Frankfurt, “Freedom of the Will and the Concept of a Person” // Journal of Philosophy 68 (1971): 5-20.
57 Есть нечто, как минимум, загадочное в изначальном описании акта воли, о котором идет речь, как желания верующего, чтобы Бог привел его к праведности: ведь собственными объектами нашего воления могут быть только те вещи, которые находятся в нашей власти. Лидгейт в “Миддлмарче” Элиота может хотеть или желать, чтобы Булстрод решил ссудить ему денег; но было бы странно говорить, что Лидгейт хочет, чтобы Булстрод дал ему ссуду, потому что решение Булстрода может быть объектом только воли Булстрода, а не Лидгейта. Далее, такой способ описания второпорядковых волений выглядит нарушающим дефиницию второпорядкового воления как воли, повелевающей самой собой. Но есть ситуации, в которых, видимо, не будет несообразным сказать нечто вроде “Лидгейт хочет, чтобы Булстрод ссудил ему денег”, и размышление над ними помогает разрешить обе проблемы. Приведем лишь один пример: если бы Лидгейт нуждался в медицинской помощи (а не в деньгах) и в конце концов согласился бы на операцию, мы были бы склонны описывать его ситуацию так: Лидгейт хочет, чтобы врач его прооперировал. Но, говоря так, мы описываем отнюдь не такую ситуацию, в которой объектом воления Лидгейта является действие врача. В этом примере врач настаивает на медицинском вмешательстве, которому Лидгейт подвергаться не желает. Говоря, что Лидгейт хочет, чтобы врач его прооперировал, мы имеем в виду, что Лидгейт, во-первых, перестал противиться операции, предлагаемой врачом, и, во-вторых, переменил мнение и согласился на операцию. Следовательно, объектом воления Лидгейта выступает не действие врача, а скорее его собственные первопорядковые воления. Желая, чтобы врач его прооперировал, он желает не иметь желания противиться настоянию врача и, наоборот, иметь желание, делающее операцию возможной. Другими словами, он желает иметь такую волю, которая волит все необходимое с его стороны для того, чтобы врач имел возможность (юридическую и моральную) сделать операцию.
58 См. главу 9 о свободе (не вошла в перевод. – Прим. пер.). См. также, например, SCG III. 148 и ST Iа IIae. 111. 2 ad 1, где Фома говорит, что благодать воздействует на волю как формальная причина, а не как причина производящая. Подробнее см. в главе 13 о благодати и свободе воли.
59 См. мою статью “Augustine on Free Will” / Eleonore Stump, Norman Kretzmann (eds), The Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press, 2001), где подробно разбирается аргументация в пользу сходной позиции, которую занимал Августин.
60 Я не имею в виду, что изменения, происходящие в процесе оправдания, совершаются, по мнению Аквината, только в воле. В той мере, в какой интеллект и воля, по убеждению Фомы, сопряжены между собой, изменения в одной способности или потенции будет иметь результатом изменение и в другой способности. Но здесь я хочу сделать упор на оправдание и искупление, и поэтому воззрения Аквината на изменения в воле для моих целей всего важнее.
61 Ср. обсуждение пелагианства у Фомы в ST IIа IIae. 6. 1.
62 Метафору, отчасти напоминающую мой пример с Аароном, можно найти у Лютера, в комментарии на Рим 4:7. См. Wilhelm Pauck (ed.), Luther: Lectures on Romans, Library of Christian Classics (Philadelphia: Westminster Press, 1961), p. 127.
63 1 Тим 2:4.
64 См., например, Luther, Lectures on Romans, op. cit., p. 127.
65 Для Аквината грех, о котором идет речь, не может быть смертным грехом, потому что смертный грех несовместим с милосердной любовью; без любви же оформленная вера становится неоформленной, или безжизненной. См. в связи с этим ST IIа IIae. 4. 4, где Аквинат поясняет: оформленная вера утрачивается через смертный грех. А вот греховные наклонности, привычки и расположения совместимы даже с оформленной верой.
66 Рим 4:17.
67 Рим 3:26.
68 ST IIа IIae. 113. 1.
69 Ср. Гал 3:7.
70 Рим. 4:11–18.
71 Гал 3:8.
72 См. Aquians, In Gal 3. 3; In Rom, особенно 4. 3, где Аквинат обсуждает разнообразные следствия из тех мест у Павла, где говорится об Аврааме.
73 ST IIа IIae. 2. 5–7.
74 ST На IIae. 2. 7 ad 3. Мысль Фомы здесь живо иллюстрирует случай, рассказанный Колином Тернбуллом в исследовании о пигмеях. Пигмей, который служил у Тернбулла помощником и проводником, был представлен католическому священнику, отцу Лонго, который воспользовался этим, чтобы обратить его в христианство. Согласно Тернбуллу, у пигмеев есть своя религия; они не имеют развитой теологии или формальных религиозных институтов, но верят в бога леса, в котором живут и чьими детьми себя считают. Однажды после встречи со священником пигмей, особенно взволнованный естественной красотой окружающей природы, воскликнул: «Отец Лонго был прав, этот Бог должен быть тем же самым, что и наш Бог в лесу». (Colin Turnbull, The Forest People, 1961; repr. New York: Simon and Schuster, 1968, p. 258).
75 Следует с самого начала понять, что, согласно Аквинату, искупление выполняет несколько функций в плане спасения, и его роль в процессе оправдания верой – лишь одна из них. В самом деле, Фома перечисляет пять наиболее важных следствий страстей и смерти Христа, включая освобождение от наказания и примирение с Богом. Здесь я говорю об искуплении только в его отношении к оправданию верой. Подробный анализ учения Фомы об искуплении см. в главе 15 (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
76 Пример хорошего интерпретатора Аквината, который понимает его точку зрения иначе, нежели излагаю ее я в этом разделе, – R. Garrigou-Lagrange, God, His Existence and Nature, 5th edn, trans. Dom Bede Rose (St. Louis, MO: Herder, 1955), p. 546. Мои соображения о том, почему я считаю интерпретацию Гарригу-Лагранжа ошибочной, рассеяны по всей книге, но прежде всего см. главу 3 о простоте Бога (не вошла в перевод. – Прим, пер.), где обсуждается та мысль Гарригу-Лагранжа, что Бог – всегда определяющая и никогда не определяемая сторона.
77 Состояние воли в таком случае я описываю скорее как прекращение всякого действия, чем как выполнение действия прекращения, потому что описание воли как пассивной представляется мне более соответствующим положению дел и потому что философская психология Аквината дает такую возможность. А она служит основанием для той позиции, которую я отстаиваю. Более подробное обсуждение этого вопроса см. в главе 13 о благодати и свободе воли (в переводе – глава 6. – Прим. ред).
78 Мы рассмотрели способ, каким Бог мог бы пробудить такое воление в человеке, чьи религиозные взгляды мы описали как смутно теистические. Но можно рассказать похожую историю, хотя она будет более длинной и сложной, о том, как Бог мог бы пробудить воление того же рода в атеисте.
Глава 6 Благодать и свободная воля
Введение
Согласно томистской концепции веры и благодати, человек оправдан, когда Бог так действует в нем, что приводит его к вере через двухчастный акт воли. Вследствие действующей божественной благодати этот человек желает божественного блага и ненавидит собственные грехи; как было показано в предыдущей главе о вере, для воли, желающей того, чего стоит желать, этот акт является актом второго порядка. Но как мы должны понимать генезис этого второпорядкового акта воли? В этом пункте мы, наконец, готовы обратиться к трудному вопросу об отношении между благодатью и свободной волей. Согласно Аквинату, в оправдании через веру второпорядковый акт свободной воли производится в человеке божественным вложением действующей благодати; воля не сотрудничает с Богом в этом акте, но просто движима им. Тем не менее утверждает Фома, этот волевой акт все еще свободен.
Проблема отношения между благодатью и свободной: волей, как ее мыслит Фома, стоит, безусловно, в центре долговременного конфликта между Молиной и Баньесом, а также их интеллектуальными потомками[28], и этот конфликт многим представляется неразрешимым. Тем не менее в духе здорового недоверия, я хочу показать, что можно найти способ совместить утверждение Фомы о том, что божественная благодать производит акт воли, необходимый для оправдания, и его же утверждение о том, что этот акт воли свободен в не-компатибилистском смысле[29]. Придерживался ли сам Аквинат позиции, которую я хочу изложить, или одобрил бы он эту позицию, если бы не придерживался ее сам, но усматривал ее, со всеми ее импликациями и разветвлениями, – это, безусловно, всегда будет спорным. Я лишь хочу показать, что его воззрения открывают возможность такой интерпретации, что эта интерпретация сводит его взгляды на благодать и свободу воли в единое связное целое, и что, не впадая ни в одну из форм пелагианства, эта интерпретация возлагает финальную ответственность за оформление оправдывающего второпорядкового акта воли на верующего. Я думаю, что предлагаемая здесь интерпретация действительно является позицией самого Аквината, но не буду настаивать здесь на этом выводе. Мое намерение ограничивается тем, чтобы показать: существует способ представить томистскую концепцию благодати и свободной воли как последовательную позицию, не выхолащивая утверждений Фомы ни о благодати, ни о свободной воле.
Воля как внутреннее начало действия
Первое, что следует рассмотреть в связи: с этим, – это настойчивое утверждение Аквината о том, что ничто не воздействует на волю посредством производящей причинности. Например, Фома обсуждает необходимость, вовлеченную в действие каждой из четырех аристотелевских причин – материальной, формальной, целевой и действующей или производящей, – и доказывает, что в отношении воли невозможна производящая причинность, потому что любая причинность такого рода, по его убеждению, принудительна. Но, говорит Фома, «необходимость принуждения абсолютно противоречит воле… Невозможно, чтобы нечто было в абсолютном смысле принудительным, то есть насильственным, и добровольным»1.
В другом месте Фома говорит:
Если бы воля приводилась в движение неким внешним началом, это было бы насильственным движением. Я имею в виду движение, вызванное внешним началом, которое движет как двигатель, а не как цель. Но насильственное противоречит добровольному. Следовательно, невозможно, чтобы воля приводилась в движение внешним началом как действующим, но следует, чтобы любое движение воли исходило изнутри2.
В том параграфе QDV [ «Дискуссионных вопросов об истине»], где Фома растолковывает тот же пункт, он именно так интерпретирует высказывание Августина: «Необходимость в смысле принуждения никоим образом не приложима к воле»3.
Аквинат не отступает от этого убеждения, даже переходя к божественному вложению благодати. Например, он пишет:
Бог движет всем согласно способу, присущему каждому… Поэтому и людей он побуждает к праведности согласно условиям человеческой природы. Но человек, согласно его собственной природе, обладает свободой выбора. И поскольку он пользуется свободой выбора, он побуждается Богом к праведности не без движения свободного выбора4.
В SCG [ «Сумме против язычников»] Фома говорит:
Кому-то может показаться, что божественным содействием совершается некое принуждение человека к благим поступкам…
Очевидно, однако, что это неверно. В самом деле, божественное провидение провидит обо всех вещах согласно их собственному способу… Но человеку и всякому разумному естеству свойственно действовать произвольно и быть хозяином собственных поступков… А принуждение этому противоречит. Стало быть, Бог своим содействием не принуждает человека к благим поступкам5.
В другом месте QDV Фома подытоживает свою позицию, говоря: «Бог может с необходимостью переменить волю, но не может ее принудить»6.
Вложение благодати и формальная причинность
Но что означает то утверждение, что Бог может с необходимостью переменить волю, но не может ее принудить? Как это возможно? Если всемогущий Бог изменяет нечто с необходимостью, может ли быть истинным, что тем самым он не совершает принуждения?
Аквинат сам подробно отвечает на этот вопрос, и лучше всего процитировать его ответ без сокращений. Фома говорит:
Волить что-либо означает склоняться к этому; а принуждение, или насилие, противоположно склонности к той вещи, к которой принуждают. Следовательно, когда Бог переменяет волю, он делает так, чтобы на смену предыдущей склонности пришла новая склонность, и первая устранилась, а вторая осталась. Поэтому то, к чему Бог приводит волю, противоположно не уже существующей склонности, а склонности, бывшей прежде; так что здесь нет ни насилия, ни принуждения.
Так, камню, по причине его тяжести, присуща склонность пребывать внизу; и если при сохранении этой склонности его подбросить вверх, это будет насилием. Но если Бог устранит из камня склонность, присущую тяжести, и вложит склонность, присущую легкости, тогда подбрасывание вверх не будет для него насильственным; и, таким образом, перемена движения может совершиться без насилия. Точно так же следует мыслить и то, что Бог переменяет волю, не принуждая ее насильственно…
Но Бог переменяет волю двояко. Одним способом – просто приводя в движение, без вложения какой-либо формы в волю, когда, например, не добавляя никакого хабитуса, он порой делает так, что человек начинает желать не желанного прежде. Другим способом – напечатлевая некую форму в самой воле.
Так, по самой своей природе, которой Бог наделил волю, она склонна к тому, чтобы нечто волить… Так и в случае дополнительного дара, например, благодати или добродетели, душа склоняется к дальнейшему волению – того, к чему прежде она не была определена природной склонностью.
Но и эта дополнительная склонность иногда бывает совершенной, иногда – несовершенной. Когда она совершенна, она с необходимостью склоняет к тому, к чему определяет. Так, у блаженных воля по природе с необходимостью склоняется к желанию конечной цели… Порой же дополнительная форма не вполне совершенна, как это имеет место у земных людей; и тогда в силу дополнительной формы воля хотя и склоняется, но не с необходимостью7.
Здесь Аквинат привлекает внимание к тому, что он считает важным различием в способах перемены воли со стороны Бога. Но в чем конкретно это различие, и почему оно важно для Фомы?
Думаю, здесь полезен приводимый Фомой пример с движением камня. Согласно его точке зрения, камень имеет такую конфигурацию, что склонен падать вниз. Если подбросить камень вверх, пока он все еще обладает такой конфигурацией, это будет насилием, или принуждением по отношению к камню, потому что он будет двигаться вопреки своей собственной склонности, или конфигурации. Но можно изменить конфигурацию камня. Конфигурация, делающая камень склонным падать вниз, может быть устранена Богом, а вместо нее в камень может быть вложена новая склонность – склонность двигаться вверх. В этом случае камень, вероятно, уподобился бы огню: он был бы по природе склонен двигаться вверх. Если бы Бог изменил конфигурацию камня таким образом, то в результате камень двигался бы вверх; и теперь движение вверх не было бы результатом никакого принуждения, или насилия со стороны Бога.
Точно так же Аквинат неоднократно подчеркивает, что подача божественной благодати есть не просто желание Бога, чтобы человеческая воля волила то или другое. Скорее речь идет о вложении формы со стороны Бога – формы благодати, после того, как была устранена прежняя форма человеческой воли. Так как благодать оправдывает человека, ее получившего, Аквинат считает прежнюю, утраченную или изгнанную, форму формой виновности, или прегрешения: это та форма воли, которой она обладала, прежде чем возненавидела грех и возлюбила благость Божью. Поэтому во множестве мест в QDV Фома говорит:
Благодать, которая пребывает и вложена, изгоняет вину – не ту вину, которая есть, но ту, которая была прежде и которой [теперь] нет. Ибо благодать изгоняет вину не как производящая причина: ведь если бы это было так, то благодать действовала бы на существующую вину, чтобы изгнать ее… Но благодать изгоняет вину как формальная причина (formaliter). Ибо из самого факта, что благодать вложена в свой субъект как форма, следует, что вины нет в субъекте8.
И в другом месте: «Бог сотворяет в нас благодатное духовное бытие не посредством какой-либо действующей причины, но посредством тварной формы, каковой является благодать»9. И поэтому, говорит Фома, «благодать изгоняет вину не как производящая причина (effective), а как причина формальная (formaliter)»10.
Аквинат подробно разъясняет, какого рода та формальная причина, о которой идет речь в этих случаях. Например, доказывая, что оправдание совершается мгновенно, он говорит:
Когда между двумя крайними точками движения принимается нечто среднее, то переход от одной крайней точки к другой должен быть последовательным, ибо среднее есть то, в чем непрерывно движущееся изменяется прежде, чем изменится в конце… Когда же между двумя крайними точками изменения или движения не может вместиться ничего среднего… то переход от одной крайней точки к другой совершается не во времени, а мгновенно. А это происходит тогда, когда двумя крайними точками движения или изменения служат… лишенность и форма… Итак, я утверждаю, что крайние точки оправдания суть благодать и лишенность благодати, между коими нет середины… Отсюда следует, что переход от одного к другому совершается мгновенно… Стало быть, всякое оправдание нечестивого совершается мгновенно11.
Итак, по мнению Фомы, воля человека до прихода к оправдывающей вере характеризуется формой виновности. Бог мог бы просто повелеть, чтобы этот человек возжелал ненависти: ко греху и любви к божественному благу. Но если бы он так поступил, то до той поры, пока форма виновности сохраняется в воле, Бог принуждал бы волю и совершал насилие над ней. Но Бог в своей благости обращается со всеми вещами согласно их природе, и поэтому, утверждает Аквинат, не совершает насилия по отношению к воле. Вместо того, чтобы принуждать волю нечто волить, Бог придает ей новую форму, устранив старую. По словам Фомы, крайними точками изменения, каковым является вложение благодати со стороны Бога, выступают не две противоположные формы, а лишенность формы и обладание формой. Таким образом, в процессе оправдания форма вины устраняется из воли, оставляя волю в состоянии лишенности – отсутствия оформленности в отношении греха и блага. Затем лишенность, в свою очередь, устраняется формой благодати, которую Бог соединяет с волей12. Так вложенная Богом благодать придает воле оформленности, не изменяя структуру уже существующей формы, но соединяя с формой волю, которая в этом отношении была лишена формы. Именно поэтому Аквинат говорит, что вложенная Богом благодать совершает свою работу в воле по способу формальной причины, а не по способу причины производящей.
Лишенность формы и бездействующая воля
Но почему мы должны считать, что эта несколько запутанная схоластическая дистинкция может быть полезной? Почему мы должны думать, например, что, когда Бог переменяет конфигурацию воли посредством формальной, а не производящей причины, в этом меньше насилия или принуждения по отношению к воле? Гончар, переделывающий чашу в соусник, может считаться совершающим насилие по отношению к чаше; но гончар, оформляющий: бесформенный кусок глины в соусник, тоже, наверно, может считаться совершающим насилие по отношению к куску глины. Так почему мы должны полагать волю свободной из-за того, что ее конфигурация вложена Богом по способу формальной: причины? Если: Бог контролирует конфигурацию человеческой воли, то какое имеет значение, контролирует ли он ее посредством формальной или производящей причинности? Почему же тогда Аквинат так настойчиво подчеркивает это различие?
На мой взгляд, ответ связан с тем решительным утверждением Фомы, что благодать влагается в волю, лишенную противоположной формы. Благодать оформляет волю в ненависть к прошлым грехам и в любовь к божественному благу. Но благодать вводит эту конфигурацию в волю, которая была прежде, но не остается в настоящий момент оформленной любовью ко греху и ненавистью к божественному благу. Чтобы понять, почему этот пункт так важен для Фомы, мы сначала должны внимательнее рассмотреть его понятие лишенности формы у воли. Как надлежит понимать волю в состоянии лишенности формы в данном аспекте? Еще важнее: что является причиной этой лишенности?
В связи с этим полезно припомнить воззрения Аквината на природу воли. Согласно Фоме, воля способна соглашаться с чем-то или отвергать что-то, но способна и просто ничего не делать. Она может просто отвернуться, быть бездеятельной, покоящейся13. Иногда, говорит Фома, воля определяется к желанию чего-либо природой желанного объекта; но приведение воли в действие – отвернется ли она от объекта или повернется к нему – всегда во власти самой воли14. Далее, воля в принципе может прямо переходить от одной позиции к другой. То есть, вообще говоря, она может переходить от отвержения к бездействию, от бездействия к согласию, от согласия к отвержению, и т. д. В этом, по мнению Фомы, движение воли аналогично движению тела. Я могу идти на восток или на запад, но я могу и просто перестать идти на восток; и это прекращение движения на восток само по себе еще не означает, что я стал двигаться на запад. Далее, я могу перейти от движения на восток к прекращению движения на восток, не будучи вынужден для этого двигаться на запад. Наконец, прекращение движения на восток не есть особый род ходьбы; это просто отсутствие ходьбы, бездействие или покой тех конкретных частей тела, которые отвечают за ходьбу.
Если такое понимание воли верно, то, согласно метафизике Аквината, у воли есть, как минимум, три возможности в отношении оформленности благодатью: воля может ненавидеть свои прошлые грехи и любить божественное благо (назовем это «принятием благодати»); она может любить свои прошлые грехи и отвергать божественное благо (назовем это «отвержением благодати»); и она может просто бездействовать, отвернуться. Когда воля бездействует, она не отвергает благодати, но и не принимает ее. В томистском понимании оправдания через веру, после совершения первородного греха взрослый человек обладает волей, отвергающей благодать, пока в какой-то момент отвержение благодати не сменится лишенностью формы, отсутствием оформленности в воле, то есть состоянием бездействия. Только когда воля приходит в такое состояние, Бог влагает в нее благодать.
Аквинат не обсуждает субъективную феноменологию человека, чья воля бездействует по отношению к чему-либо определенному. Но есть один способ понять эту мысль. Возьмем человека, страдающего тяжелой аллергией на пчелиный яд, но тем не менее яростно протестующего против инъекции жизненно необходимого антидота из-за панического страха перед уколами. Такой человек не способен сам привести свою волю к согласию с инъекцией. Другими: словами, если врач спросит его, согласен ли он на инъекцию, этот человек не сможет заставить себя сказать «да». Однако он может заставить себя прекратить активный протест против инъекции, зная, что, если он перестанет отказываться, врач сделает ему укол. Если этот человек так поступит, его воля будет бездействовать по отношению к инъекции: она не будет ни принимать, ни отвергать ее, но просто отвернется от нее.
Мне кажется, что случаи такого рода, когда воля не склоняется ни к отвержению, ни к принятию, распространены шире, чем можно было бы предположить, и что интуитивно их нетрудно понять. Возьмем другой пример: человека, который пытается с помощью друга преодолеть истерический страх перед прикосновением змеи, потому что ему решительно необходимо дотронуться до змеи. Испуганного человека можно подвести к тому, что он перестанет горячо восклицать: «Я не могу! Я не могу!», если друг положит ему в руки живую змею; но сам он все же не сможет заставить себя высказать в какой бы то ни было форме согласие дотронуться до змеи. Я думаю, для подобных случаев характерно то, что человек, отчаянно противящийся чему-либо – быть может, чему-то, к чему его настойчиво побуждает другой человек, – в конце концов отказывается от сопротивления, не будучи способен, однако, дать полноценное согласие на побуждение со стороны другого. Если мы спросим у друга, положившего змею, в руки приятеля, испытывающего фобический страх перед змеями, согласился ли тот прикоснуться к змее, он может ухмыльнуться и ответить: «Насилу согласился!» Но если мы затем обвиним его в том, что он силой вынудил друга взять змею, он будет решительно – и совершенно справедливо – отрицать это обвинение.
Падший человек Аквината, чья воля бездействует по отношению к благодати, – аналогичный случай. Следовательно, по мнению Аквината, когда Бог дает такому человеку благодать оправдывающей веры, он влагает ее в человеческую волю, которая перестала отвергать ее, но и не приняла. Воля пребывает в этом отношении в состоянии лишенности; она бездействует.
Бездействие воли
Здесь может быть полезным более детально поразмыслить о природе бездействия воли. Фома устанавливает тесную связь между интеллектом и волей: связь, которую мы подробно рассматривали: в главе о свободе. Следовательно, в зависимости от состояния интеллекта деятеля имеются несколько способов, какими воля может прийти к бездействию.
Во-первых, рассмотрим конкретный акт А, который человек S мог бы совершить, но в отношении к которому воля S бездействует. Воля S может бездействовать в отношении А потому, что S никогда не думал о возможности совершить или не совершить акт А. Хотя S несчастен, живя со своей женой, он привык к этой несчастливости, и ему никогда не приходило в голову, что он мог бы положить конец этому браку. Так что интеллект S не формирует никаких суждений об А – просто потому, что мысль о разводе не приходила ему в голову. В этом случае воля S не будет ни отвергать А, ни соглашаться на него: она просто бездействует. Такой вид бездействия представляет собой следствие простого невнимания со стороны интеллекта.
Во-вторых, возможно также, что воля S бездействует в отношении А потому, что S целиком захвачен чем-то другим. Например, S может все силы: направить на то, чтобы выдержать болезненные и рискованные медицинские процедуры в связи с недавно диагностированной тяжелой и трудноизлечимой болезнью. В таких обстоятельствах несчастливость в браке отходит в его сознании на задний план. В этих условиях интеллект S не формирует никаких суждений об А, потому что занят другими вещами. Следовательно, воля S бездействует по отношению к А, и это бездействие объясняется невниманием со стороны интеллекта S. Но в этом случае речь идет о невнимании в силу отвлечения, выталкивающем мысль о разводе из сознания S, а не о простом невнимании, как в предыдущем случае.
В-третьих, может случиться и так, что воля S бездействует, потому что S не желает думать о своем браке на данном этапе своей жизни. Предположим, например, что S – математик, чувствующий, что он стоит на пороге крупного достижения в математике, призванного обеспечить его карьеру. Он боится, что, если что-нибудь отвлечет его от работы, по возвращении к ней вдохновение покинет его. Поэтому, когда он застает себя размышляющим о том, чтобы положить конец несчастливому браку, он сурово приказывает себе перестать думать об этом в данный момент. В этом случае воля S бездействует в отношении А, но бездействует потому, что интеллектуально S пришел к выводу: в данных обстоятельствах лучше всего будет не думать об этом браке. Вследствие такого суждения со стороны интеллекта S его воля приказывает интеллекту не думать о браке; интеллект S повинуется приказу воли, и в конце концов воля S бездействует в отношении А. В этом случае финальное бездействие воли S все еще проистекает из невнимания со стороны интеллекта S, но это, если можно так выразиться, добровольное невнимание16.
В-четвертых, интеллект S может, с другой стороны, размышлять о состоянии брака S, но быть неспособным прийти к какому-либо целостному суждению. S может иметь серьезные доводы как в пользу расторжения брака, так и в пользу его сохранения; и при всем усердии в попытках решить эту проблему он может так и не прийти к однозначному решению. Подходя к концу своих размышлений, разобрав все имеющие отношение к делу обстоятельства, он все еще пребывает в глубоких сомнениях. В таком случае, согласно томистскому пониманию отношения между интеллектом и волей, воля S опять-таки будет бездействовать, но бездействовать потому, что интеллект S окажется неспособен прийти к суждению о наилучшем образе действий в данных обстоятельствах. В этом случае бездействие воли S вызвано не невниманием; скорее, следует говорить о реальном, внутреннем воздержании. Воля удерживает себя от того, чтобы волить то или другое, потому что интеллект S не может прийти к единому суждению.
Здесь важно отметить, что ни один из этих видов бездействия не является в точности тем, какой держит в уме Аквинат, говоря об оправдывающей вере. Это так потому, что ни в одном из названных случаев – простого невнимания, невнимания в силу отвлечения, добровольного невнимания и воздержания – бездействие воли не является лишенностью прежде пребывавшей в ней формы. Во всех четырех случаях воля бездействует в том смысле, что она не имеет оформленности в отношении А; но из отсутствия оформленности в отношении А не следует, что прежде она была в этом отношении оформлена.
Чтобы представить себе пример бездействия, которое описывает Аквинат в своей концепции оправдывающей веры, мы должны вообразить, что некий деятель прежде обладал определенной конфигурацией воли в отношении некоторого действия, а именно отказывался совершать это действие; и что эта конфигурация уступила место бездействию воли в отношении данного действия. Возьмем, например, Генриха VIII, короля Англии, в тот момент, когда он потерял голову от страстной любви к Анне Болейн и решил развестись с Екатериной Арагонской, чтобы жениться на Анне; и допустим, что акт, о котором идет речь, – это отсылка Анны прочь, чтобы сохранить верность Екатерине. В тот момент в отношении этого акта воля Генриха имела форму отказа: он хотел развестись с Екатериной и со всей страстностью отвергал отсылку Анны. Согласно воззрениям Аквината на отношение между интеллектом и волей, воля Генриха могла пребывать в таком состоянии лишь в одном случае: если его интеллект безоговорочно высказывался за то, что в данных обстоятельствах наилучшим будет не отсылать Анну, а развестись с Екатериной. («Наилучшее» в этом суждении не обязательно означает наилучшее с точки зрения морали. По мнению Фомы, воля волит только то, что интеллект сочтет наилучшим в данных обстоятельствах. Но Фома считает, что благое стоит в одном ряду с нравственным, приятным и полезным; и то, что интеллект сочтет наиболее благим, может оказаться скорее разновидностью приятного или полезного, чем нравственного).
Конечно, Генрих мог бы затем переменить свое мнение. Например, советники могли бы убедить его, что разлад в королевстве, который, вероятно, последует за разводом, – слишком высокая цена даже для брака с Анной. В этом случае интеллект Генриха отказался бы от своего прежнего суждения и принял бы то суждение, что отослать Анну ради сохранения брака с Екатериной будет наилучшим, то есть наиболее полезным решением в имеющихся обстоятельствах. Или же советники могли сыграть на нечистой совести Генриха и убедить его, что Бог осудит его на адские муки, если он разведется с женой. В этом случае интеллект Генриха опять-таки (хотя и по другим причинам) сформировал бы суждение, согласно которому отослать Анну было бы наилучшим решением в данных обстоятельствах.
Но если бы Генрих изменил свое мнение указанным образом, если бы его интеллект сформировал такого рода суждение, то, согласно томистской теории отношений между интеллектом и волей, воля Генриха переменилась бы от отвержения действия к его принятию. Но эта не та перемена воли, о которой идет речь в вопросе об оправдании через веру, где за отвержением следует бездействие. Что же должно произойти с интеллектом, чтобы объяснить тот вид изменения, который Фома описывает в своей теории оправдания через веру и в котором форма отвержения сменяется в воле лишенностью формы?
Мы, конечно, можем предположить, что интеллект Генриха находится в одном из состояний невнимания, описанных выше. Он мог просто потерять интерес к вопросу о разводе в целом, например, из-за смерти Анны Болейн; или же он мог перестать рассматривать этот вопрос потому, что был отвлечен беспорядками в королевстве и необходимостью отстоять трон. Тогда сложилась бы ситуация, в которой простое невнимание или невнимание через отвлечение стали бы причиной бездействия воли; а в таком состоянии бездействие в самом деле приходило бы на смену отказу от действия. Но и эти примеры все еще не подпадают вполне под томистское описание бездействия в оправдании через веру. Я думаю, это происходит потому, что в соответствующих текстах Фомы имеется намек на то, что бездействие воли служит, как минимум, одним из средств, отменяющих или: изгоняющих прежний отказ от действия со стороны воли. Между тем в примерах, намеченных применительно к Генриху, бездействие хотя и следует за отказом, но никоим образом не выглядит орудием устранения отказа.
Наконец, рассмотрение обыденных примеров, приведенных выше для иллюстрации субъективной феноменологии томистского понятия бездействия воли, подсказывает еще одну возможность. В примере с пчелиным ядом интеллект страдающего фобией человека охвачен страхом перед уколами; он яростно протестует против намерения врача сделать необходимую инъекцию, и, таким образом, воля пациента отказывается согласиться с врачом. Но в то же время другая сторона того же интеллекта понимает необходимость инъекции. Эта сторона прежде бездействовала перед лицом слепого страха уколов. Но настойчивость и уговоры врача способны значительно укрепить ее и заставить пациента осознать нечто, что до того было вытеснено. Врач достигает этого, актуализируя верования, которым пациент прежде был расположен доверять, но которые упустил из вида, и/или пытаясь пробудить эмоции в связи с другой стороной ситуации. Эти усилия со стороны врача приводят к тому, что интеллект пациента может посчитать гораздо более важными: и весомыми соображения, побуждающие позволить врачу ввести лекарство.
Если эти соображения решительно возобладают над мыслями, изначально ответственными за вызванный фобией отказ от инъекции, то интеллект пациента согласится: с выводом: дать позволение на инъекцию – наилучшее решение в данных обстоятельствах. Тогда воля пациента перейдет от изначального отказа от инъекции к ее принятию. Но в приведенном бытовом примере убеждения со стороны врача недостаточно, чтобы подвигнуть страдающего фобией пациента к согласию на инъекцию: воля пациента переходит от отказа всего лишь к бездействию. Следовательно, дело должно обстоять так, что соображения в пользу инъекции в данных обстоятельствах так или иначе приобрели достаточный вес в глазах пациента, чтобы его интеллект оказался внутренне раздвоенным. Исходные соображения, согласно которым инъекцию следует отвергнуть, остались в силе, но теперь им противостоят новые соображения, подталкивающее к суждению о том, что на инъекцию нужно согласиться. В результате интеллект, как и в приведенном выше примере воздержания, оказывается в состоянии нерешительности, неспособности разрешить собственный внутренний конфликт и прийти к единому и целостному суждению. Перед лицом этой интеллектуальной блокировки пациент приходит в состояние бездействия. Но теперь бездействие может быть с полным правом названо средством вытеснения отказа.
В этом последнем случае воля неактивна не просто потому, что интеллект впал в тот или иной вид невнимательности. Воля бездействует потому, что интеллект оказался разделенным в самом себе. Сдвиг в соображениях интеллекта ответствен за перемену в конфигурации воли. Отсюда представляется уместным описать перемену воли к бездействию как изгнание или вытеснение предшествующего отказа. (Разумеется, в этом процессе играют роль и другие факторы. Обстоятельства, способствующие разделению в интеллекте – а Фома считает, что они складываются провиденциально, – тоже вносят свой вклад. В случае пациента, страдающего фобией, настойчивые напоминания врача о важности инъекции оказывают влияние на процесс, в котором интеллект пациента оказывается раздвоенным; в этом, нетерминологическом, смысле, речи врача тоже помогают изгнать отказ от необходимого укола из воли: пациента).
Кто-нибудь может заметить, что никакой разницы здесь нет, если пациент с фобией знает, что врач сделает ему укол сразу же, как только его воля перестанет противиться. Если пациент знал, что бездействие его воли будет иметь тот же эффект, что и согласие на инъекцию, почему бездействие не равнозначно согласию? Первое, о чем нужно сказать в ответ на такой вопрос, – это о феноменологическом различии этих двух случаев. Чтобы воля выразила согласие, интеллект должен прийти к выводу, что согласиться на инъекцию – наилучшее, что можно сделать в данных обстоятельствах, и воля, соответственно, должна это признать. При этом сознание пребывает в состоянии разумной целостности. Когда же воля бездействует, как бездействует она у страдающего фобией пациента, интеллект резко разделен в самом себе: воля бездействует, потому что интеллект не может прийти: к однозначному решению. Здесь сознание разорвано и напряжено в самом себе, и таково же, соответственно, состояние воли. Если интеллект формирует в этих обстоятельствах единое суждение – о том, что наилучшим будет согласиться: на инъекцию, – то пациент формирует соответствующий акт воли. Но воля человека, чей интеллект блокирован непреодолимой внутренней разорванностью, вообще не формирует никакого волевого акта.
Второе: важно понимать, что даже если пациент с фобией знал, что врач посчитает бездействие его воли достаточным для введения лекарства, он из-за боязни уколов мог так и не принудить себя к согласию на инъекцию, несмотря на все соображения, подталкивавшие его к этому. В таких обстоятельствах бездействие может оказаться для этого человека наилучшим выходом. Однако существует и другая возможность, при которой пациент не остается нейтральным по отношению к своей внутренней борьбе. Хотя его воля бездействует относительно согласия на инъекцию, она может желать победы той или другой стороне внутренне разделенного интеллекта. Иначе говоря, можно вообразить ситуацию, при которой ум пациента с фобией хотя и разделен, а воля, соответственно, бездействует относительно позволения сделать инъекцию, интеллект пациента тем не менее считает благом победу над страхом уколов. Следовательно, у пациента с фобией имеется второпорядковое желание, чтобы воля согласилась принять инъекцию. Желание иметь волю, согласную на инъекцию, разумеется, не то же самое, что воля, согласная на инъекцию. Равно как и второпорядковое желание выполнить некий первопорядковый волевой акт не является достаточным условием для формирования такого акта. Это может засвидетельствовать всякий, кто когда-либо принимался за трудную задачу самопреобразования.
Итак, возможно, что S, человек с бездействующей волей, находится в подобном состоянии. Изначально его воля пребывала в конфигурации отказа по отношению к акту А; затем интеллект S переходит в двойственное состояние по отношению к А, вследствие чего и воля S движется от отказа к бездействию. Но в то же время интеллект S формирует суждение, что было бы хорошо, если бы одна сторона внутреннего разделения взяла верх; соответственно, S формирует желание более высокого порядка – желание иметь волю, которая волила бы согласие, хотя этой волящей согласие воли у него все-таки нет. Хотя это описание отличается психологической сложностью, оно, видимо, адекватно изображает людей, переживающих процесс глубокого психологического преобразования. Приведем лишь один известный пример. Из того, как Августин повествует о борении с самим собой перед тем, как принять безбрачие, создается впечатление, что он в течение краткого времени пребывал в подобном состоянии. Прочитав тексты, властно подтолкнувшие его к принятию целибата, он бежал в пустыню и горько плакал. Посреди рыданий он услышал детский голос, призывавший его прочитать фрагмент из Писания; а по прочтении он, наконец, согласился принять безбрачную жизнь. Итак, верно, что, рыдая, он еще не сформировал этого согласия; но верно и то, что не находился он и в прежнем состоянии безоговорочного отвержения безбрачия. Слезы предстают здесь выражением внутреннего конфликта и сопутствующего бездействия воли, зашедшей в тупик и более неспособной ни отвергнуть, ни принять безбрачие.
При всем том из описания Августином самого себя в «Исповеди» совершенно ясно, что он не был нейтральный наблюдателем борьбы, происходящей в нем самом. Он имел второпорядковое желание19 обладать волей, которая волила бы безбрачие, хотя сам был неспособен сформировать акт воли, которым принял бы безбрачие. Такое второпорядковое желание он имел потому, что его интеллект, не могущий прийти к единому целостному выводу о том, что в этих обстоятельствах лучше всего было бы принять безбрачие (выводу об акте, подлежащем выполнению), тем не менее сформировал суждение о том, что желать безбрачия – морально наилучшее состояние воли для Августина (суждение о моральном ранжировании состояний воли). Важно ясно видеть, что второпорядковое желание обладать волевым актом, о котором идет речь, не есть сам этот волевой акт. Если бы это был волевой акт, он мог бы действенно приказать воле прийти в надлежащее состояние. Но такое, каково оно есть, второпорядковое желание представляет собой саморефлективное и недейственное желание иметь такое состояние воли, которое отличалось бы от нынешнего, актуального. Стало быть, на более высоком уровне в таком человеке совершается: не больше актов воли, чем в студенте, который: хотел бы: разобраться со своими семестровыми задолженностями, но желание это не настолько сильно, чтобы он действительно волил это сделать.
Итак, мы вправе предположить, что человек, чья воля бездействует, – этот человек знает и хочет, чтобы бездействие воли сменилось вложением благодати. У нас нет нужды делать такое предположение, но это допустимая возможность, представленная: в случаях сложной: внутренней разделенности, наподобие той, что выразилась в переживании Августина в саду. И ничто в томистской теории оправдания или природы воли не опровергает этой возможности.
Бездействие, альтернативные возможности и пелагианство
Аквинат считает, что воля всегда сама может выбирать, бездействовать ей или нет. Поэтому мы вправе предположить, что, с точки зрения Фомы, от отвержения благодати к бездействию воля движется благодаря самому человеку, обладающему волей. И в этом воззрении нет ничего пелагианского или полупелагианского. Все формы пелагианства характеризуются притязанием на то, что человеческое существо способно к тем или иным благим поступкам без помощи благодати. Но воля, которая бездействует описанным здесь способом, не есть благая воля. Благодать придает такой воле форму ненависти ко греху и любви к благу. У бездействующей воли такой конфигурации нет. Но ведь очевидно, что воля, не желающая волить благо, не есть благая воля. (Суть дела не меняется, если человек, воля которого бездействует, имеет безрезультатное второпорядковое желание иметь небездействующую волю. Не делать ничего, кроме как безрезультатно желать иметь волю, волящую благо, означает все еще пребывать в морально плачевном состоянии). Это верно, что воля в таком состоянии лучше, чем воля, желающая греха и не желающая волить благо. Но сравнительные суждения не являются основанием для утвердительных. Одна вещь может быть лучше другой, но при этом все-таки не быть хорошей.
Кто-нибудь может возразить, что, даже если это так, движение к бездействию есть движение в направлении блага, а значит, человек, который движется к бездействию воли, делает нечто благое. Но здесь важно помнить, что в концепции Фомы само по себе впадение воли в бездействие не есть очередной акт воли, подобно тому, как прекращение ходьбы не есть очередной акт ходьбы. Но если впадение в бездействие вообще не есть акт воли, то вряд ли можно считать его благим актом. Так что и с этой стороны пелагианство исключается.
Следовательно, не рискуя впасть в пелагианство, мы можем предположить, что воля человека, и только она, решает, отвергнуть ей благодать или пребывать в бездействии относительно нее. Как я всячески пыталась показать, это не означает, будто обладающий волей человек, о котором идет речь, взвешивает альтернативы – отвергнуть благодать или остаться в бездействии по отношении к ней – и выносит решение о том, какой из двух вариантов примет его воля. Это означает лишь то, что контроль над выбором – действовать или бездействовать – в конечном счете принадлежит лишь самому человеку.
Следовательно, в той мере, в какой до вложения благодати от самого человека зависит, бездействовать ли его воле, в том числе применительно к вере, имеются две альтернативные возможности: отвержение и бездействие, причем ни одна из них не является благим актом воли. По мнению Аквината, Бог влагает благодать только в такую волю, которая пребывает в состоянии бездействия; согласно подробному разъяснению Фомы, вызванное вложением благодати изменение представляет собой переход от лишенности формы к ее обладанию. И потому возможно предположить, что, хотя верующая воля всецело порождается Богом посредством действующей благодати, в конечном счете человек сохраняет контроль над состоянием собственной воли. И происходит это потому, что сам человек решает, отвергнуть благодать или нет. И хотя выбор сводится к тому, чтобы отвергнуть благодать или пребывать в бездействии относительно нее, только собственные интеллект и воля человека определяют, какую из этих двух позиций займет его воля, а от выбора позиции зависит подача благодати Богом.
Тем не менее, поскольку тот компонент человеческой воли, на который отвечает Бог, не считается благим волевым актом, можно совместить с этой позицией антипелагианский тезис, согласно которому любой благой акт воли производится благодатью. Следовательно, не рискуя впасть в какую-либо из форм пелагианства, можно утверждать, что человеческое существо после грехопадения, неспособное выполнить благой акт воли независимо от благодати, способно тем не менее контролировать отвержение или неотвержение благодати со стороны: собственной: воли. Переставая отвергать благодать, человек приводит себя в состояние бездействия, на которое Бог отвечает подачей благодати, а уже она производит в человеке благую волю – условие оправдывающей веры.
Заключение
Итак, с той точки зрения, которую я только что обрисовала, мы можем следующим образом объяснить томистскую теорию оправдания через веру. Обычный взрослый человек20 в падшем состоянии, не переживший обращения и не находящийся на пути к обращению, отвергает благодать постоянно, даже если сам не сознает этого. Пока он не оправдан, он противится тому второпорядковому волению, в котором грешники ненавидят свои грехи и стремятся к божественному благу, то есть уклоняется от того акта воли, к которому его подталкивает божественное провидение. Но в определенный момент, способом, который мы обсуждали выше в этой главе, отвержение благодати может быть приостановлено. Однако приостановка отвержения не равнозначна согласию. Человек, переставший отвергать благодать, но не давший согласия на нее, будет, по мнению Аквината, обладать бездействующей волей. При таком положении дел Бог, предлагающий благодать всякому человеческому существу, тотчас влагает в человека прежде отвергавшуюся благодать, пользуясь отсутствием отвержения со стороны человека для того, чтобы произвести в нем благую волю, ведущую к оправданию через веру.
Стало быть, можно одновременно утверждать, что воля в вере, подобно любой доброй воле в человеке, производится только божественной благодатью, и что при всем том человек сохраняет за собой высший контроль над собственной волей. Ведь только сам человек решает, отвергнуть благодать или нет, а подача благодати Богом зависит от состояния человеческой воли21. Тем не менее здесь нет угрозы каких бы то ни было форм пелагианства, так как ничто в этих притязаниях не требует от Аквината отказаться от убеждения: нет ничего благого в человеческой воле, что не было бы произведено в ней божественной благодатью.
Так как высший контроль над состоянием воли остается за подлежащим оправданию человеком, теория Аквината (согласно нашей интерпретации) может ответить на вопрос, мучивший Августина: почему Бог не причиняет оправдывающий акт воли в любом человеке? Причинение такого акта воли со стороны Бога зависит от того, перестала ли воля человека отвергать благодать, а за это несет ответственность только сам человек. Далее, так как человек не только несет высшую ответственность за состояние своей воли, но и обладает альтернативными возможностями воления, представляется справедливым считать вслед за Аквинатом (согласно нашей интерпретации), что оправдывающий акт воли есть свободный акт: свободный даже в либертарианском смысле слова.
Но действительно ли набросанная здесь интерпретация является правильной? Другими словами, поддерживают ли текстуальные свидетельства вывод о том, что именно такова была реальная позиция Аквината? Да, у Фомы есть тексты, которые могут быть использованы в качестве аргументов в пользу положительного ответа. Например, в одном из разделов «Суммы против язычников», где Аквинат доказывает необходимость благодати для веры, он также разъясняет в одной из глав, почему, с его точки зрения, не пришедший к вере человек все равно несет ответственность за свое падшее состояние. Фома говорит22:
Следует принять во внимание, что, хотя никто не может заслужить или произвести движением свободной воли божественную благодать, можно тем не менее помешать себе получить ее…
А коль скоро во власти свободной воли мешать или не мешать получению божественной благодати, тому, кто чинит препятствия принятию благодати, по заслугам вменяется это в вину. В самом деле, Бог сам по себе готов дать благодать всем… лишаются же благодати лишь те, кто в самом себе чинит ей препятствие23.
Но, как было сказано выше, интерпретация томистской концепции благодати и свободной воли была столь спорным вопросом в прошлом, что аргументы в защиту одного толкования перед другим способны скорее вызвать споры, чем примирить разные точки зрения. Поэтому моя цель очень скромна: показать, что существует способ непротиворечиво согласовать томистское описание человеческой психологии, особенно взгляды Фомы на природу воли, с его же воззрениями на благодать и свободу воли в оправдывающей вере. Я лично решительно склоняюсь к той мысли, что именно такова была фактическая позиция самого Аквината. Но единственное, что я стремлюсь здесь доказать, – это возможность такой позиции для Фомы, придерживался он ее в действительности или нет.
Примечания
1 ST I. 82. 1.
2 SCG III. 88.
3 QDV 22. 5 resp.
4 ST la IIae. 113. 3. Остальная часть указанного текста раскрывает другой аспект позиции Аквината, а именно то утверждение, что этот акт свободной воли произведен Богом.
5 SCGIII. 148.
6 QDV 22. 8.
7 QDV 22. 8 resp.
8 QDV 28. 2 ad 9.
9 QDV 27. 1 ad 3.
10 QDV 28. 7 ad 5.
11 QDV 28. 9 resp.
12 См., например, QDV 28. 7 resp.
13 См., например, ST la IIae. 9. 1.
14 См., например, la IIae. 10. 2.
15 См. также мою статью “Augustine on Free Will” / Eleonore Stump, Norman Kretzmann (eds), The Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 124–147.
16 Различие между намеренным невниманием, с одной стороны, и простой невнимательностью, с другой, аналогично различию между разными видами воздержания от действия. Один вид воздержания от действия [omissio] – следствие решения воздерживаться, когда, например, некто воздерживается от отправления подарка ко дню рождения, потому что сердит на человека, у которого день рождения. Другой вид – простое бездействие, когда, например, некто не посылает подарок ко дню рождения потому, что не знает, что у человека день рождения. Ср., например, Harry G. Frankfurt, “An Alleged Asymmetry Between Actions and Omissions” // Ethics 104 (1994): 620–623, и John Martin Fischer, “Responsibility, Control and Omissions” // Journal of Ethics 1 (1) (1997): 45–64.
17 Я признательна Тимоти О’Коннору и Дерку Пербуму за то, что они привлекли мое внимание к необходимости рассмотреть этот случай.
18 Более подробное рассмотрение природы второпорядковых желаний и волений, а также возможностей разделения в воле см. в главе 11 о мудрости (не вошла в перевод. – Прим. пер.).
19 Есть некоторые основания считать, что в августиновской сцене в саду конфликт в интеллекте был связан с второпорядковыми актами воли, и желание более высокого порядка, о котором идет речь, было третьепорядковым желанием. Обсуждение тех редких случаев, когда в дело вступают третьепорядковые желания и воления, см. в моей статье “Sanctification, Hardening of the Heart and Frankfurt’s Concept of Free Will” // Journal of Philosophy 85 (1988): 395^120; repr. in John Martin Fischer and Mark Ravizza (eds), Perspectives on Moral Responsibility (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), pp. 211–234.
20 С детьми и взрослыми людьми в аномальном состоянии возникают особые проблемы, которые осложняют дело, и поэтому я просто оставляю здесь подобные случаи в стороне.
21 Я излагаю эту позицию, желая показать, что она позволяет Аквинату отстаивать оба тезиса, кажущиеся несовместимыми. Но я не считаю эту позицию беспроблемной.
22 Хочу подчеркнуть, что в главе, следующей за той, из которой я привожу цитату, Фома уточняет свою позицию: после того, как человек однажды согрешит, уже не в его власти не препятствовать благодати, пока ему не поможет благодать. Тем не менее в той же самой главе (SCG III. 160) Фома говорит следующее: «Хотя пребывающие во грехе не могут своими силами избежать того, чтобы чинить препятствия благодати… если только им прежде того не придет на помощь благодать, однако им это вменяется в вину, потому что этот ущерб в них – от предшествующей вины… Далее, хотя пребывающий во грехе не может своими силами полностью избежать греха, однако в его силах избежать того или иного греха, как было сказано. Следовательно, все, что он совершает, он совершает добровольно». Позиция, которую здесь старается опровергнуть Фома, – это позиция пелагиан, согласно которой грешник способен творить добро и без благодати (см. обсуждение пелагиан в той же главе, SCG III. 161). Но прекращение действия со стороны воли не есть само по себе какое-либо действие воли; a fortiori (тем более) отказ воли от действия не есть благое действие воли.
23 SCGIII. 159.
Список сокращении
CT Compendium theologiae
Компендиум теологии
DEE De ente et essentia
О сущем и сущности
DPN De principiis naturae
О началах природы
DRJ De regimine Judaeorum ad Ducissam Brabantiae
О правлении иудеев к герцогине Брабантской
DRP De regimine principum
О правлении государей
DSS De substantiis separatis
Об отделённых субстанциях
DUI De unitate intellectu contra Averroistas
О единстве интеллекта против аверроистов
In BDT Expositio super librum Boethii De trinitate
Толкование на книгу Боэция ‘О Троице’
In 1 Cor Commentarium super Epistolam I ad Corinthios
Комментарий на 1 Послание к коринфянам
In II Cor Commentarium super Epistolam II ad Corinthios
Комментарий на 2 Послание к коринфянам
In DA Sententia libri De anima
Сентенции на книгу ‘О душе’
In DC Sententia super librum De caelo et mundo
Сентенции на книгу ‘О небе и мире’
In DDN Expositio super Dionysium De divinis Nominibus
Толкование на Дионисия, ‘О божественных именах’
In Gal Reportatio super Epistolam ad Galatas
Изложение комментария на Послание к галатам
In Heb Expositio super Epistolam ad Hebraeos
Толкование на Послание к евреям
In Met Sententia super Metaphysicam
Сентенции на Метафизику
In NE Sententia libri Ethicorum
Сентенция на книги Этики
In PA Sententia super Posteriora analytica
Сентенции на Вторую аналитику
In Phil Reportatio super Epistolam ad Philippenses
Изложение комментария на Послание к филиппийцам
In Rom Commentarium super Epistolam ad Romanos
Комментарий на Послание к римлянам
In Sent Scriptum super libros Sententiarum
Комментарий на книги Сентенций
In I Thess Reportatio super Epistolam Primam as Thessalonienses
Изложение комментария на 1 Послание к фессалоникийцам
QDA Quaestio disputata de anima
Спорный вопрос о душе
QDM Quaestiones disputatae de malo
Спорные вопросы о зле
QDP Quaestiones disputatae de potentia
Спорные вопросы о потенции
QDSC Quaestio disputata de spiritualibus creatures
Спорный вопрос о духовных творениях
QDV Quaestiones disputatae de veritate
Спорные вопросы об истине
QDVC Quaestiones disputatae de virtutibus in communi
Спорные вопросы о добродетелях вообще
QQ Quaestiones quodlibetales
Вопросы о чем угодно
SCG Summa contra gentiles
Сумма против язычников
ST Summa theologiae
Сумма теологии
Библиография
Adams, Marilyn McCord (1986) “Redemptive Suffering: A Christian Solution to the Problem of Evil”, in Robert Audi and William Wainwright (eds), Rationality, Religious Belief and Moral Commitment: New Essays in the Philosophy of Religion (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 248–267.
Adams, Robert Merrihew (1971) “Has It Been Proved that All Real Existence is Contingent?”, American Philosophical Quarterly 8: 284–291.
– (1973) “A Modified Divine Command Theory of Ethical Wrongness”, in Gene Outka and John P. Reeder Jr. (eds), Religion and Morality (Garden City, NY: Doubleday Anchor), pp. 318–347.
– (1979) “Divine Command Metaethics Modified Again”, Journal of Religious Ethics 7 (Spring): 66–79.
– (1983) “Divine Necessity”, Journal of Philosophy 80: 741–752.
– (1987) “Divine Commands and the Social Nature of Obligation”, Faith and Philosophy 4: 262–275.
– (1999) Finite and Infinite Goods: A Framework for Ethics (New York: Oxford University Press).
Aertsen, Jan (1988) Nature and Creature: Thomas Aquinas’s Way of Thought (Leiden: E. J. Brill).
– (1993) “Aquinas’ Philosophy in its Historical Setting”, in N. Kretzmann and E. Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 12–37.
– (1996) Medieval Philosophy and the Transcendentals: The Case of Thomas Aquinas (Leiden: E. J. Brill).
Albritton, Rogers (1985) “Freedom of Will and Freedom of Action”, American Philosophical Association Proceedings and Addresses 59: 239–251.
Alston, William (1988) “The Deontological Conception of Epistemic Justification”, in J. E. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives 2 Epistemology (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co.), pp. 257–299; reprinted in Epistemic Justification: Essays in the Theory of Knowledge (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1989), pp. 115–152.
– (1989) “Concepts of Epistemic Justification”, The Monist 68 (1985), 57–89; reprinted in Epistemic Justification. Essays in the Theory of Knowledge (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 81–114.
– (1993) “Aquinas on Theological Predication: A Look Backward and a Look Forward,” in Eleonore Stump (ed.), Reasoned Faith (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 145–178.
Ameno, Romano (1950) “Probabile fonte della nozione boeziana di eternità”, Filosofia I: 365–373.
Anderson, James F. (1953) An Introduction to the Metaphysics of St. Thomas
Aquinas (Chicago: Henry Regnery Co.).
Armstrong, Arthur Hilary (ed.) (1967) Plotinus, vol. 3. (London and Cambridge, MA: Harvard University Press).
Ashworth, Earline Jennifer (1991) “Signification and Modes of Signifying in
Thirteenth-Century Logic: A Preface to Aquinas on Analogy”, Medieval Philosophy and Theology 1: 39–67.
Audi, Robert (1993) “The Dimensions of Faith and the Demands of Reason”, in Eleonore Stump (ed.), Reasoned Faith (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 70–92.
Ayo, Nicholas (1988) The Sermon-Conferences of St. Thomas Aquinas on the Apostles’ Creed (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
Baker, Lynne Rudder (1997) “Why Constitution is Not Identity”, Journal of Philosophy 94: 599–621.
– (1999) “Unity Without Identity: A New Look at Material Constitution”, Midwest Studies in Philosophy 23: 144–165.
– (2000) Persons and Bodies. A Constitution View (Cambridge: Cambridge University Press).
Barnes, Jonathan (1975) “Aristotle’s Theory of Demonstration”, in Jonathan
Barnes, Malcolm Schofield, and Richard Sorabji (eds), Articles on Aristotle (London: Duckworth), pp. 65–87.
Beierwaltes, Werner (1967) Plotin über Ewigkeit und Zeit (Enneade iii 7) (Frankfurt am Main: Klostermann).
Bennett, Daniel (1969) “The Divine Simplicity”, Journal of Philosophy 66: 628–637.
Bennett, Jonathan (1990) “Why is Belief Involuntary?”, Analysis 50: 87–107.
Bernstein, Richard (1996) Hannah Arendt and the Jewish Question (Cambridge, MA: MIT Press).
Bezwinska, Jadwiga and Czech, Danuta (1984) KL Auschwitz Seen by the SS: Hoess, Broad, Kremer (New York: Howard Fertig).
Bigongiari, Dino (ed.) (1953) The Political Ideas of St. Thomas Aquinas (New York: Hafner).
Blandino, G. and Molinaro, A. (eds) (1989) The Critical Problem of Knowledge (Rome: Herder – Pontifical University of Lateran).
Boethius (1973) The Consolation of Philosophy, in H. F. Stewart, E. K. Rand, and S. J. Tester, Boethius: The Theological Tractates and The Consolation of Philosophy (London and Cambridge, MA: Harvard University Press).
Boyd, Richard (1980) “Materialism without Reductionism: What Physicalism Does Not Entail”, in Ned Block (ed.), Readings in Philosophy of Psychology, vol. 1 (Cambridge, MA: Harvard University Press).
Bracken, W. Jerome (1978) “Why Suffering in Redemption? A New Interpretation of the Theology of the Passion in the Summa Theologica, 3, 46–49, by Thomas Aquinas”, PhD dissertation, Fordham University.
Bradley, Denis (1997) Aquinas on the Twofold Human Good: Reason and Human Happiness in Aquinas’s Moral Science (Washington, DC: Catholic University of America Press).
Brady, Ignatius (1974) “John Pecham and the Background of Aquinas’ De Aeternitate Mundi”, in A. A. Maurer (ed.), St. Thomas Aquinas 1274–1974: Commemorative Studies (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies), vol. II, pp. 141–178.
Braine, David (1988) The Reality of Time and the Existence of God: The Project of Proving God’s Existence (Oxford: Oxford University Press).
– (1992) The Human Person: Animal and Spirit (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
Brezik, Victor B. (ed.) (1981) One Hundred Years of Thomism (Houston, TX: Center for Thomistic Studies).
Brock, Stephen Louis (1998) Action and Conduct: Thomas Aquinas and the Theory of Action (Edinburgh: T&T Clark).
Brown, Oscar James (1981) Natural Rectitude and Divine Law in Aquinas (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies).
Burrell, David (1979) Aquinas: God and Action (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1986) Knowing the Unknowable God: Ibn Sina, Maimonides, Aquinas (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1992) “Review of Christopher Hughes’s A Complex Theory of a Simple God”, The Journal of Religion 72: 120–121.
– (1993a) Freedom and Creation in Three Traditions (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1993b) “Aquinas and Islamic and Jewish Thinkers”, in N. Kretzmann and E. Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 60–84.
Busa, Roberto (1974–1980) Index Thomisticus: Sanci Thomae Aquinatis operum omnium indices et concordantiae in quibus verborum omnium et singulorum formae et lemmata cum suis frequentiis et contextibus variis modis (Stuttgart-Bad Cannstatt: Frommann-Holzboog).
Campodonico, Angelo (1986) Alla Scoperta dell’Essere: Saggio sul pensiero di Tommaso d’Aquino (Milan: Jaca Book).
– (1996) Integritas metafisica ed etica in San Tommaso (Fiesole: Nardini).
Cartwright, Nancy (1989) Nature’s Capacities and Their Measurement (Oxford: Clarendon Press).
Catan, John R. (ed.) (1980) St. Thomas Aquinas on the Existence of God: Collected Papers of Joseph Owens (Albany NY: State University of New York Press).
Chenu, Marie-Dominique (1964) Toward Understanding St. Thomas (Chicago: Regnery).
– (2002) Aquinas and His Role in Theology, trans. Paul Philibert (Wilmington, DE: Michael Glazier Books).
Chisholm, Roderick (1968) “Lewis’ Ethics of Belief”, in Paul Arthur Schilpp (ed.), The Philosophy of C. I. Lewis (London: Cambridge University Press).
– (1991) “On the Simplicity of the Soul”, in James Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, vol. 5 (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co.).
Churchland, Patricia (1990) Neurophilosophy. Toward a Unified Science of the Mind/Brain (Cambridge, MA: MIT Press).
Cohen, Sheldon M. (1982) “St. Thomas Aquinas on the Immaterial Reception of Sensible Forms”, The Philosophical Review 91: 193–209.
Copleston, Frederick Charles (1955) Aquinas (Baltimore, MD: Penguin Press).
Craig, William Lane (1979) “God, Time and Eternity”, Religious Studies 29: 165–170.
– (1985) “Was Thomas Aquinas a B-Theorist of Time?” New Scholasticism 59: 473–483.
– (1990) “God and Real Time”, Religious Studies 26: 335–347.
– (1991) “Time and Infinity”, International Philosophical Quarterly 31: 387–401.
– (1996) “Timelessness and Creation”, Australasian Journal of Philosophy 74: 646–656.
– (1997) “Divine Timelessness and Necessary Existence”, International Philosophical Quarterly 37: 217–224.
– (1998a) “The Tensed vs. Tenseless Theory of Time: A Watershed for the Conception of Divine Eternity”, in R. LePoidevin (ed.), Questions of Time and Tense (Oxford: Oxford University Press), pp. 221–250.
– (1998b) “Divine Timelessness and Personhood”, International Journal for Philosophy of Religion 43: 109–124.
– (2000a) “Timelessness and Omnitemporality”, Philosophia Christi 2: 29–33.
– (2000b) “Omniscience, Tensed Facts, and Divine Eternity”, Faith and Philosophy 17: 225–241.
– (2001a) Time and Eternity: Exploring God’s Relationship to Time (Wheaton, IL: Crossway).
– (2001b) God, Time and Eternity (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers).
Crotty, Nicholas (1962) “The Redemptive Role of Christ’s Resurrection”, The Thomist 25: 54–106.
Cross, Richard (1996) “Aquinas on Nature, Hypostasis, and the Metaphysics of the Incarnation”, The Thomist 60: 171–202.
– (2002) The Metaphysics of the Incarnation: Thomas Aquinas to Duns Scotus (Oxford: Oxford University Press).
Daly, Mary (1971) “The Notion of Justification in the Commentary of St. Thomas Aquinas on the Epistle to the Romans”, PhD dissertation, Marquette University, Milwaukee.
Davies, Brian (1992) The Thought of Thomas Aquinas (Oxford: Clarendon Press).
Deferrari, Roy J. and Barry, M. Inviolata (1948) A Complete Index of the Summa Theologica of St. Thomas Aquinas (Washington, DC: Catholic University of America Press).
De la Trinité, Philippe (1961) What is Redemption? trans. Anthony Armstrong (New York: Hawthorn Books).
Dennett, Daniel (1991) Consciousness Explained (Boston: Little, Brown and Co.).
Descartes, René (1984) The Philosophical Writings of Descartes, vol. II. trans. John Cottingham, Robert Stoothoff, and Dugald Murdoch (Cambridge: Cambridge University Press).
De Tocco, Guillaume (1323) Ystoria sancti Thome de Aquino de Guillaume de Tocco, edited, with introduction and notes, by Claire Le Brun-Gouanvic (Toronto: Pontifical Insitute of Medieval Studies, 1996).
Dienstag, Jacob I. (ed.) (1975) Studies in Maimonides and St. Thomas Aquinas (New York: KTAV Publishing House, Inc.).
Dittoe, John T. (1946) “Sacramental Incorporation into the Mystical Body”, The Thomist 9: 469–514.
Dobbs-Weinstein, Idit (1995) Maimonides and St. Thomas on the Limits of Reason (Albany, NY: State University of New York Press).
Doig, James (1972) Aquinas on Metaphysics: A Historico-Doctrinal Study of the Commentary on the Metaphysics (The Hague: Martinus Nijhoff).
Donagan, Alan (1977) The Theory of Morality (Chicago: University of Chicago Press).
– (1982) “Thomas Aquinas on Human Action”, in N. Kretzmann, A. Kenny and J. Pinborg (eds), The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 642–654.
– (1985) Human Ends and Human Actions: An Exploration in St. Thomas’s Treatment (Milwaukee: Marquette University Press).
Dretske, Fred (1988) Explaining Behavior: Reasons in a World of Causes (Cambridge, MA: MIT Press).
– (1991) “Perception: Heil”, in Brian McLaughlin (ed.), Dretske and His Critics (Oxford: Blackwell), pp. 180–184.
Dummett, Michael (1964) “Bringing About the Past”, Philosophical Review 73: 338–359.
Dupré, John (1993) The Disorder of Things. Metaphysical Foundations of the Disunity of Science (Cambridge, MA: Harvard University Press).
Eco, Umberto (1988) Problema Estetico in Tommaso d’Aquino (Cambridge, MA: Harvard University Press).
Edwards, Jonathan (1961) A Treatise Concerning Religious Affections (Edinburgh: Banner of Truth Trust).
Elders, Leo (1990a) The Philosophical Theology of St. Thomas Aquinas, Studien und Texte zur Geistesgeschichte des Mittelalters (New York: E. J. Brill).
– (ed.) (1990b) “La doctrine de la revelation divine de saint Thomas d’Aquin”, Studi Tomistici 37. (Rome: Pontificia Accademia di S. Tommaso: Libreria Editrice Vaticana).
Eschmann, Ignatius (1997) The Ethics of Saint Thomas Aquinas (Toronto: Pontifical Institute of Medieval Studies).
Fabro, Cornelio (1961) Participation et causalité selon Saint Thomas d’Aquin (Participation and Causality in the Work of Saint Thomas Aquinas) (Louvain: Publications Universitaires de Louvain).
Fine, Kit (1999) “Things and Their Parts”, Midwest Studies in Philosophy 23: 61–74.
Finnis, John (1980) Natural Law and Natural Rights (New York: Oxford University Press).
– (1998) Aquinas. Moral, Political, and Legal Theory (Oxford: Oxford University Press).
Fischer, John Martin and Ravizza, Mark (1998) Responsibility and Control. A Theory of Moral Responsibility (Cambridge: Cambridge University Press).
Flint, Thomas (1987) “Compatibilism and the Argument from Unavoidability”, Journal of Philosophy 84: 423–440.
Flint, Thomas P. and Freddoso, Alfred J. (1983) “Maximal Power”, in Alfred J.
Freddoso (ed.), The Existence and Nature of God (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press), pp. 81–113.
Foley, John (1994) Creativity and the Roots of Liturgy (Portland, OR: Pastoral Press).
Foster, Kenelm (1959) The Life of Saint Thomas Aquinas, Biographical Documents (London: Longmans, Green).
Frankfurt, Harry (1969) “Alternate Possibilities and Moral Responsibility”, Journal of Philosophy 66: 829–839.
– (1971) “Freedom of the Will and the Concept of a Person”, The Journal of Philosophy 68: 5–20; reprinted in The Importance of What We Care About (Cambridge: Cambridge University Press, 1988).
Gallagher, David M. (1988) “Thomas Aquinas on the Causes of Human Choice”, Dissertation. Catholic University of America, 1988.
– (1990) “Aquinas on Moral Action: Interior and Exterior Acts”, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 64: 118–129.
– (1991) “Thomas Aquinas on the Will as Rational Appetite”, Journal of the History of Philosophy 29: 559–584.
– (1994) Thomas Aquinas and His Legacy, Studies in Philosophy and the History of Philosophy, vol. 28 (Washington, DC: Catholic University of America Press).
Garfinkel, Alan (1993) “Reductionism”, in Richard Boyd, Philip Gasper, and J. D. Trout (eds), The Philosophy of Science (Cambridge, MA: MIT Press), pp. 443–459.
Garrigou-Lagrange, Reginald (1943) The One God (St. Louis and London: B. Herder Book Co.).
– (1950) Christ the Savior: A Commentary on the Third Part of St. Thomas’ Theological Summa (St. Louis and London: B. Herder Book Co.).
– (1955) God: His Existence and His Nature: A Thomistic Solution of Certain Agnostic Antinomies, vol. 2, trans. Dom Bede Rose (St. Louis and London: B. Herder Book Co.).
Gauthier, René Antoine (1961) “Introduction”, in Saint Thomas d’Aquin: Contra
Gentiles, Livre premier (Lyons: P. Lethielleux).
– (1993) Saint Thomas d’Aquin: Somme contre les gentils: Introduction, Collection Philosophie Européane, dirigée par H. Hude (Paris: Editions Universitaires).
Geach, Peter (1969) God and the Soul (London: Routledge & K. Paul).
– (1977) Providence and Evil (Cambridge: Cambridge University Press).
Gellman, Jerome (1977) “Omnipotence and Impeccability”, The New Scholasticism 51: 21–37.
Gilby, Thomas (1955) The Political Thought of Thomas Aquinas (Chicago: University of Chicago Press).
Gilson, Etienne (1956) The Christian Philosophy of St. Thomas Aquinas, trans. L. K. Shook (New York: Random House).
– (1960) Elements of Christian Philosophy (New York: New American Library).
Glannon, Walter (1955) “Responsibility and the Principle of Possible Action”, Journal of Philosophy 92: 261–274.
Greco, John (1993) “Virtues and Vices of Virtue Epistemology”, Canadian Journal of Philosophy, 23: 413–432.
Grene, Marjorie (1972) “Aristotle and Modern Biology”, Journal of the History of Ideas 33: 395–424.
Griffin, David Ray (1976) God, Power, and Evil: A Process Theodicy (Philadelphia, PA: Westminster Press).
Haldane, John J. (1983) “Aquinas on Sense-Perception”, The Philosophical Review 92: 233–239.
Hankley, W. J. (1987) God in Himself: Aquinas’ Doctrine of God as Expounded in the Summa Theologiae (Oxford: Oxford University Press).
Heil, John (1991) “Perceptual Experience”, in Brian McLaughlin (ed.), Dretske and His Critics (Oxford: Blackwell), pp. 1–16.
Henle, Robert John (1956) Saint Thomas and Platonism (The Hague: Martinus Nijhoff).
Hoffman, Joshua (1979) “Can God Do Evil?”, Southern Journal of Philosophy 17: 213–220.
Hoffman, Joshua and Rosencrantz, Gary (1991) “Are Souls Unintelligible?”, in James Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, vol. 5 (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co.).
Hoffman, Paul (1990) “St. Thomas Aquinas on the Halfway State of Sensible Being”, The Philosophical Review 99: 73–92.
Hood, John (1995) Aquinas and the Jews (Philadelphia, PA: University of Pennsylvania Press).
Hughes, Christopher (1989) A Complex Theory of a Simple God (Ithaca, NY: Cornell University Press).
Ingardia, Richard (1993) Thomas Aquinas: International Bibliography 1977–1990 (Bowling Green, KY: The Philosophy Documentation Center).
Irwin, Terence H. (1984) ‘The Metaphysical and Psychological Basis of Aristotle’s Ethics’ in Amélie Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics (Berkeley, CA: University of California Press).
– (1988) Aristotle’s First Principles (Oxford: Clarendon Press).
– (1992) “Who Discovered the Will?”, in J. E. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives 6: Ethics (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co.).
Jaffa, Harry V. (1952) Thomism and Aristotelianism (Chicago: University of Chicago Press).
Jenkins, John (1997) Knowledge and Faith in Thomas Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press).
Johnston, Mark (1992) “Constitution is Not Identity”, Mind 101: 89–105
Jordan, Mark (1983) “The Names of God and the Being of Names” in Alfred
J. Freddoso (ed.), The Existence and Nature of God (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press), pp. 161–190
– (1986) Ordering Wisdom: The Hierarchy of Philosophical Discourses in Aquinas (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1993) “Theology and Philosophy”, in Norman Kretzmann and Eleonore Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 232–251.
Kavanaugh, John (2001) Who Count as Persons?: Human Identity and the Ethics of Killing (Washington, DC: Georgetown University Press).
Keenan, James F. (1992) Goodness and Righteousness in Thomas Aquinas’s Summa Theologiae (Washington, DC: Georgetown University Press).
Kenny, Anthony (1969a) “Divine Foreknowledge and Human Freedom”, in A. Kenny (ed.), Aquinas: A Collection of Critical Essays (Garden City, NY: Anchor Books).
– (ed.) (1969b) Aquinas: A Collection of Critical Essays (Garden City, NY: Doubleday).
– (1979) The God of the Philosophers (Oxford: Clarendon Press).
– (1980a) Aquinas (New York: Hill & Wang).
– (1980b) The Five Ways: St Thomas Aquinas’ Proofs of God’s Existence (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1993) Aquinas on Mind (London: Routledge).
Kent, Bonnie (1995) Virtues of the Will: The Transformation of Ethics in the Late Thirteenth Century (Washington, DC: The Catholic University of America Press).
Kim, Jaegwon (1993a) “Supervenience for Multiple Domains”, reprinted in Supervenience and Mind (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 109–130.
– (1993b) “Concepts of Supervenience”, reprinted in Supervenience and Mind (Cambridge: Cambridge University Press, 1993).
Kirn, Arthur G. (ed.) (1967) G. B. Phelan: Selected Papers (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies).
Kitcher, Philip (1993) “1953 and All That: A Tale of Two Sciences”, in Richard Boyd, Philip Gasper, and J. D. Trout (eds), The Philosophy of Science (Cambridge, MA: MIT Press), pp. 553–570.
Klee, Robert L. (1984) “Micro-determinism and Concepts of Emergence”, Philosophy of Science 51: 44–63.
Klemperer, Victor (1996) Ich will Zeugnis ablegen bis zum letzten: Tagebücher 1933–45 (Berlin: Aufbau Verlag).
Kneale, Martha (1968–9) “Eternity and Sempiternity”, Proceedings of the Aristotelian Society, 69: 223–238.
Kneale, William (1960) “Time and Eternity in Theology”, Proceedings of the Aristotelian Society 61: 87–108.
– (1967) “Eternity”, in Paul Edwards (ed.), The Encyclopedia of Philosophy, vol. 3 (New York: Macmillan).
Knuuttila, Simo (1993) Modalities in Medieval Philosophy (London: Routledge).
Korolec, J. (1981) “Free Will and Free Choice” in Norman Kretzmann, Anthony Kenny, Jan Pinborg (eds), assoc. ed. Eleonore Stump, Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
Kosman, L. A. (1984) “Being Properly Affected: Virtues and Feelings in Aristotle’s Ethics”, in Amélie Rorty (ed.), Essays on Aristotle’s Ethics (Berkeley, CA: University of California Press).
Kremer, Klaus (1971) Die neuplatonische Seinsphilosophie und ihre Wirkung auf Thomas von Aquin (Neoplatonist Metaphysics and Their Effect on Thomas Aquinas) (Leiden: E. J. Brill).
Kretzmann, Norman (1976) “Time Exists – But Hardly, or Obscurely (Physics iv, 10; 217b29–218a33)”, Aristotelian Society Supplementary Volume I: 91–114.
– (1981) “Sensus compositus, sensus divisus, and propositional attitudes”, Medioevo 7: 195–229.
– (1983a) “Goodness: Knowledge, and Indeterminacy in the Philosophy of Thomas Aquinas”, Journal of Philosophy 80: 631–649.
– (1983b) “Abraham, Isaac, and Euthyphro: God and the Basis of Morality”, in Donald Stump et al. (eds), Hamartia: The Concept of Error in the Western Tradition (New York and Toronto: The Edwin Mellen Press), pp. 27–50.
– (1984) “Nos Ipsi Principia Sumus: Boethius and the Basis of Contingency”, in Tamar Rudavsky (ed.), Divine Omniscience and Omnipotence in Medieval Philosophy (Dordrecht: D. Reidel), pp. 23–50.
– (1988a) “Lex iniusta non est lex: Laws on Trial in Aquinas’ Court of Conscience”, The American Journal of Jurisprudence 33: 99–122.
– (1988b) “Warring against the Law of My Mind: Aquinas on Romans 7”, in Thomas Morris (ed.), Philosophy and the Christian Faith (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press), pp. 172–195.
– (1988c) “God Among the Causes of Moral Evil: Hardening of Hearts and piritual Blinding”, Philosophical Topics 16: 189–214.
– (1992a) “Infallibility, Error, and Ignorance”, Canadian Journal of
Philosophy, supp. vol. 17: 159–194.
– (1992b) “Infallibility, Error, and Ignorance”, in Richard Bosley and Martin Tweedale (eds), Aristotle and His Medieval Interpreters, Canadian Journal of Philosophy, supplementary volume (Calgary: University of Calgary Press).
– (1993) “Philosophy of Mind”, in N. Kretzmann and E. Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 128–159.
– (1997) The Metaphysics of Theism: Aquinas’s Natural Theology in summa contra gentiles I (Oxford: Clarendon Press).
– (1999) The Metaphysics of Creation: Aquinas’s Natural Theology in summa contra gentiles II (Oxford: Clarendon Press).
Kretzmann, Norman and Stump, Eleonore (eds) (1993) The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press).
Kuksewicz, Zdzislaw (1982) “The Potential and the Agent Intellect”, and “Criticisms of Aristotelian Psychology and the Augustinian-Aristotelian Synthesis”, in Norman
Kretzmann, Anthony Kenny, Jan Pinborg (eds), assoc. ed., Eleonore Stump. The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 595–602 and 623–628.
LaCroix, Richard (1977) “Augustine on the Simplicity of God”, New Scholasticism 51: 453–469.
Lawler, Michael (1971) “Grace and Free Will in Justification: A Textual Study in Aquinas”, The Thomist 35: 601–630.
Leftow, Brian (1989) “The Roots of Eternity”, Religious Studies 24: 189–212.
– (1990a) “Aquinas on Time and Eternity”, American Catholic Philosophical Quarterly 64: 387–399.
– (1990b) “Boethius on Eternity”, History of Philosophy Quarterly 7: 123–142.
– (1991a) Time and Eternity (Ithaca, NY: Cornell University Press).
– (1991b) “Timelessness and Foreknowledge”, Philosophical Studies 63: 309–325.
– (1991c) “Eternity and Simultaneity”, Faith and Philosophy 8: 148–179.
– (1992) “Timelessness and Divine Experience”, Sophia 30: 43–53.
Lehrer, Keith (1990) Theory of Knowledge (Boulder, CO: Westview Press).
Leibniz, Gottfried (1969) “On the Radical Origination of Things”, trans. Leroy E. Loemker in Gottfried Wilhelm Leibniz, Philosophical Papers and Letters, 2nd edn (Dordrecht: D. Reidel), pp. 486–491.
Lewis, David (1986) “The Problem of Temporary Intrinsics”, in On the Plurality of Worlds (Oxford: Blackwell), reprinted in Peter van Inwagen and Dean Zimmerman (eds), Metaphysics: The Big Questions (Malden, MA: Blackwell, 1998), pp. 204–206.
Lifton, Robert Jay (1986) The Nazi Doctors (New York: Basic Books).
Lisska, Anthony J. (1996) Aquinas’s Theory of Natural Law. An Analytic Reconstruction (Oxford: Clarendon Press).
Lonergan, Bernard (1946) Grace and Freedom: Operative Grace in the Thought of St. Thomas Aquinas, J. P. Burns (ed.) (New York: Herder & Herder).
– (1967) Verbum: Word and Idea in Aquinas, David Burrell (ed.) (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press)
Lynn, William D. (1962) Christ’s Redemptive Merit: The Nature of its Causality According to St. Thomas. Analecta Gregoriana 115, Series Facultatis Theologicae (Rome: Gregorian University).
McCormack, Stephen (1944) “The Configuration of the Sacramental Character”, The Thomist 7: 458–491.
MacDonald, Scott (1984) “The Esse/Essentia Argument in Aquinas’ De ente et essentia”, Journal of the History of Philosophy 22: 157–172.
– (ed.) (1991a) Being and Goodness: The Concept of the Good in Metaphysics and Philosophical Theology (Ithaca, NY: Cornell University Press).
– (1991b) “Ultimate Ends in Practical Reasoning: Aquinas’ Aristotelian
Moral Psychology and Anscombe’s Fallacy”, The Philosophical Review 100: 31–66.
– (1993a) “Christian Faith”, in Eleonore Stump (ed.), Reasoned Faith (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 42–69.
– (1993b) “Theory of Knowledge”, in Norman Kretzmann and Eleonore Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 160–195.
MacDonald, Scott and Stump, Eleonore (eds) (1999) Aquinas’s Moral Theory. Essays in Honor of Norman Kretzmann (Ithaca, NY: Cornell University Press).
Macierowski, E. M. (1998) Thomas Aquinas’s Earliest Treatment of the Divine Essence. (Binghamton, NY: Center for Medieval and Renaissance Studies, Binghamton University).
McInerny, Ralph (1977) St. Thomas Aquinas (Boston: Twayne Publishers).
– (1981) Rhyme and Reason: St. Thomas and Modes of Discourse (Milwaukee: Marquette University Press).
– (1986) Being and Predication. Thomistic Interpretations, Studies in Philosophy and the History of Philosophy, vol. 16 (Washington, DC: Catholic University of America Press).
– (1990a) Boethius and Aquinas (Washington, DC: Catholic University of America Press).
– (1990b) A First Glance at St. Thomas Aquinas (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1992) Aquinas on Human Action (Washington, DC: Catholic University of America Press).
– (1993a) Aquinas against the Averoists: On There Being Only One Intellect (West Lafayette, IN: Purdue University Press).
– (1993b) “Ethics”, in Norman Kretzmann and Eleonore Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 196–216.
– (1996) Aquinas and Analogy (Washington, DC: Catholic University of America Press).
– (1997) Ethica Thomistica: The Moral Philosophy of Thomas Aquinas (Washington, DC: Catholic University of America Press).
McLaughlin, Brian (1992) “The Rise and Fall of British Emergentism”, in Ansgar Beckermann, Hans Flohr and Jaegwon Kim (eds), Emergence or Reduction? Essays on the Prospects of Nonreductive Physicalism (Berlin: Walter de Gruyter), pp. 49–93.
Mahoney, Edward (1982) “Sense, Intellect, and Imagination in Albert, Thomas, and Siger”, in Norman Kretzmann, Anthony Kenny, Jan Pinborg (eds), assoc. ed. Eleonore Stump, The Cambridge History of Later Medieval Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
Mann, William (1975) “The Divine Attributes”, American Philosophical Quarterly 12: 151–159.
– (1982) “Divine Simplicity”, Religious Studies: 451–471.
– (1983) “Simplicity and Immutability in God”, International Philosophical Quarterly 23: 267–276.
Marinelli, Francesco (1977) Segno e Realita. Studi di sacramentaria tomista (Rome: Lateranum).
Maritain, Jacques (1942) Saint Thomas and the Problem of Evil (Milwaukee: Marquette University Press).
– (1951) Man and the State (Chicago: University of Chicago Press).
Marrone, Steven P. (1985) Truth and Scientific Knowledge in the Thought of Henry of Ghent (Cambridge, MA: The Medieval Academy of America).
Martin, Christopher (ed.) (1988) The Philosophy of Thomas Aquinas: Introductory Readings (London: Routledge).
Meiland, Jack (1980) “What Ought We to Believe? or The Ethics of Belief Revisited”, American Philosophical Quarterly 17: 15–24.
Miethe, T. L. and Bourke, Vernon (1980) Thomistic Bibliography 1940–1978 (Westport, CT: Greenwood Press).
Miller, Fred (1974) “Aristotle on the Reality of Time”, Archiv für Geschichte der Philosophie 61: 132–155.
Moore, Sebastian (1977) The Crucified is No Stranger (London: Darton, Longman and Todd Ltd.).
Morris, Thomas V. (1984) “The God of Abraham, Isaac, and Anselm”, Faith and Philosophy 1: 177–187.
– (1986) The Logic of God Incarnate (Ithaca, NY: Cornell University Press).
– (1987) “The Necessity of God’s Goodness”, in Anselmian Explorations: Essay in Philosophical Theology (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press), pp. 42–69.
Nathan, N. M. L. (1993) “Weak Materialism”, in Howard Robinson (ed.), Objections to Physicalism (Oxford: Clarendon Press).
Nelson, Herbert (1987) “Time(s), Eternity, and Duration”, International Journal for Philosophy of Religion 22: 3–19.
Nussbaum, Martha C. (1992) “The Text of Aristotle’s De anima”, in Martha C. Nussbaum and Amélie O. Rorty (eds), Essays on Aristotle’s De anima (Oxford: Clarendon Press), pp. 1–6.
O’Connor, Timothy (1994) “Emergent Properties”, American Philosophical Quarterly 31: 91–104.
O’Leary, Joseph M. (1952) The Development of the Doctrine of St. Thomas Aquinas on the Passion and Death of Our Lord (Chicago: J. S. Paluch Co., Inc.).
Olson, Eric (1997) The Human Animal (Oxford: Oxford University Press).
O’Meara, Thomas F. (1997) Thomas Aquinas: Theologian (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
Owen, Gwilym Ellis Lane (1966) “Plato and Parmenides on the Timeless Present”, Monist L: 317–340.
Owens, Joseph (1980) St. Thomas Aquinas on the Existence of God: Collected papers of Joseph Owens, (ed.) J. Catan (Albany, NY: State University of New York Press).
– (1986) “Aquinas’ Distinction at De ente et essentia 4.119–123”, Mediaeval Studies 48: 264–287.
– (1992a) “Aristotle and Aquinas on Cognition”, in Richard Bosley and Martin Tweedale (eds), Aristotle and His Medieval Interpreters, Canadian Journal of Philosophy, supplementary volume (Calgary: University of Calgary Press), pp. 103–123.
– (1992b) Cognition: An Epistemological Inquiry (Houston, TX: Center for Thomistic Studies).
– (1993) “Aristotle and Aquinas”, in N. Kretzmann and E. Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 38–59.
Parente, Pietro (1949) De verbo incarnato, 3rd edn (Rome: Marietti).
Pasnau, Robert (1997) Theories of Cognition in the Later Middle Ages (Cambridge: Cambridge University Press).
– (2002) Thomas Aquinas on Human Nature: A Philosophical Study of Summa theologiae 1a, 75–89 (London: Cambridge University Press).
Pegis, Anton Charles (1934) St Thomas and the Problem of the Soul in the Thirteenth Century (Toronto: Pontifical Institute of Mediaeval Studies).
Pernick, Martin S. (1985) A Calculus of Suffering: Pain, Professionalism, and Anesthesia in Nineteenth Century America (New York: Columbia University Press).
Perry, John (1979) “The Problem of the Essential Indexical”, Nous 13: 3–21.
Peter of Spain (1972) Tractatus, (ed.) L. M. De Rijk (Amsterdam: Van Gorcum & Co.).
Plantinga, Alvin (1980) Does God Have a Nature? (Milwaukee: Marquette University Press).
– (1983) “Reason and Belief in God”, in Alvin Plantinga and Nicholas Wolterstorff (eds), Faith and Rationality: Reason and Belief in God (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
– (1992) “An Evolutionary Argument Against Naturalism”, Logos 12: 27–49.
– (1993a) Warrant: The Current Debate (Oxford: Oxford University Press).
– (1993b) Warrant and Proper Function (Oxford: Oxford University Press).
– (2000) Warranted Christian Belief (Oxford: Oxford University Press).
Pieper, Josef (1962) Guide to Thomas Aquinas (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
Pike, Nelson (1969) “Omnipotence and God’s Ability to Sin”, American Philosophical Quarterly 6: 208–216.
– (1970) God and Timelessness (London: Routledge and Kegan Paul).
Potts, Timothy (ed.) (1980) Conscience in Medieval Philosophy (Cambridge: Cambridge University Press).
Putallaz, François-Xavier (1991) Le Sens de la Reflexion chez Thomas D’Aquin (Paris: Librairie Philosophique J. Vrin).
Quinn, Philip (1978) Divine Commands and Moral Requirements (Oxford: Clarendon Press).
– (1997) “Tiny Selves: Chisholm on the Simplicity of the Soul”, in Louis E. Hahn (ed.), Roderick M. Chisholm (Boston: Open Court Press).
Rand, Edward Kennard (1946) Cicero in the Courtroom of St. Thomas Aquinas (Milwaukee: Marquette University Press).
Reith, Herman (1958) The Metaphysics of St. Thomas Aquinas (Milwaukee: The Bruce Publishing Company).
Riesenhuber, Klaus (1974) “The Bases and Meaning of Freedom in Thomas Aquinas”, Proceedings of the American Catholic Philosophical Association 48: 99–111.
Rivière, Jean (1909) The Doctrine of the Atonement: A Historical Essay, trans. Luigi Cappadelta. (St. Louis, MO: Herder).
Robinson, Howard (ed.) (1993) Objections to Physicalism (Oxford: Clarendon Press).
Rock, Irvin (1987) The Logic of Perception (Cambridge, MA: MIT Press, Bradford Books).
Rogers, Eugene F. (1995) Thomas Aquinas and Karl Barth: Sacred Doctrine and the Natural Knowledge of God (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press).
Ross, James F. (1969) Philosophical Theology (Indianapolis and New York: Bobbs-Merrill).
– (1981) Portraying Analogy (Cambridge: Cambridge University Press).
– (1985) “Aquinas on Belief and Knowledge”, in G. Etzkorn (ed.), Essays Honoring Allan B. Wolter (St. Bonaventure, NY: Franciscan Institute).
Rowe, William (1984) “Rationalistic Theology and Some Principles of Explanation”, Faith and Philosophy 1: 357–369.
– (1986) “The Empirical Argument from Evil”, in Robert Audi and William Wainwright (eds), Rationality, Religious Belief and Moral Commitment:
New Essays in the Philosophy of Religion (Ithaca, NY: Cornell University Press).
– (1993) “The Problem of Divine Perfection and Freedom”, in Eleonore Stump (ed.), Reasoned Faith (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 223–233.
Salmon, Wesley C. (1975) Space, Time, and Motion (Encino, CA: Dickenson Publishing Company).
Schieck, Charles A. (1955) “St. Thomas on the Nature of Sacramental Grace”, The Thomist 18: 1–30 and 242–278.
– (1989b) “Review of Thomas Morris’s The Logic of God Incarnate”, Faith and Philosophy 6: 218–223.
– (1990a) “Providence and the Problem of Evil”, in Thomas Flint (ed.), Christian Philosophy (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press), pp. 51–91.
– (1990b) “Intellect, Will, and the Principle of Alternate Possibilities”, in Michael Beaty (ed.), Christian Theism and the Problems of Philosophy (Notre Dame, IN: University of Notre Dame Press), pp. 254–285. Reprinted in John Martin Fischer and Mark Ravizza (eds), Moral Responsibility (Ithaca, NY: Cornell University Press, 1993), pp. 237–262.
– (1992) “Aquinas on the Foundations of Knowledge”, Canadian Journal of Philosophy, supp. vol. 17: 125–158.
– (1993a) “Aquinas on the Sufferings of Job”, in E. Stump (ed.) Reasoned Faith (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 328–357.
– (1993b) “Biblical Commentary and Philosophy”, in N. Kretzmann and E. Stump (eds), The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 252–268.
– (1993c) “Intellect, Will, and Alternate Possibilities”, reprinted in John Martin Fischer and Mark Ravizza (eds), Perspectives on Moral Responsibility (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 237–262.
– (1996a) “Libertarian Freedom”, in Daniel Howard-Snyder and Jeff Jordan (eds), Faith, Freedom, and Rationality: Philosophy of Religion Today (Lanham, MD: Rowman and Littlefield), pp. 73–88.
– (1996b) “Persons: Identification and Freedom”, Philosophical Topics 24: 183–214.
– (1999a) “Ockham on Sensory Cognition”, in Paul Spade (ed.), The Cambridge Companion to Ockham (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 168–203.
– (1999b) “Word and Incarnation”, in Marco Olivetti (ed.), Incarnation (Padua: Edam), pp. 543–554.
– (1999c) “Alternative Possibilities and Moral Responsibility: The Flicker of Freedom”, The Journal of Ethics, 3: 299–324.
– (2000) “Transfer Principles and Moral Responsibility” (with John Martin Fischer), Philosophical Perspectives, 14: 47–55.
– (2001) “Augustine on Free Will”, in Eleonore Stump and Norman Kretzmann (eds), The Cambridge Companion to Augustine (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 124–147.
– (forthcoming) “Moral Responsibility without Alternative Possibilities”, in David Widerker and Michael McKenna (eds), Moral Responsibility and Alternative Possibilities (Aldershot: Ashgate Press).
Stump, Eleonore and Kretzmann, Norman (1988) “Being and Goodness”, in T. V. Morris (ed.), Divine and Human Action (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 281–312.
– (1992) “Eternity, Awareness, and Action”, Faith and Philosophy 9: 463–482.
– (1998) “Eternity and God’s Knowledge: A Reply to Shanley”, The American Catholic Philosophical Quarterly 72: 439–445.
Stump, Eleonore and MacDonald, Scott (eds) (1998) Aquinas’s Moral Theory: Essays in Honor of Norman Kretzmann (Ithaca, NY: Cornell University Press).
Swinburne, Richard (1979) The Existence of God (Oxford: Clarendon Press).
– (1986) The Evolution of the Soul (Oxford: Clarendon Press).
– (1993) “God and Time”, in Eleonore Stump (ed.), Reasoned Faith (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 204–222.
Tachau, Katharine (1982) “The Problem of the species in medio at Oxford in the Generation after Ockham”, Mediaeval Studies 44: 394–443.
– (1988) Vision and Certitude in the Age of Ockham: Optics, Epistemology and the Foundations of Semantics 1250–1345 (Leiden: E. J. Brill).
Tilley, Terrence W. (1991) The Evils of Theodicy (Washington, DC: Georgetown University Press).
Tomarchio, John (1996) “The Modus Principle in the Writings of Saint Thomas Aquinas”, dissertation, The Catholic University of America, Washington, DC.
Torrell, Jean-Pierre O. P. (1993) Initiation à Saint Thomas d’Aquin: Sa Personne et son Oeuvre (Introduction to Saint Thomas Aquinas: His Character and His Work) (Fribourg and Paris: Éditions Universitaires and Éditions du Cerf). Translated as Saint Thomas Aquinas. The Person and his Work, vol. 1, trans. Robert Royal (Washington, DC: Catholic University of America Press).
Tugwell, Simon (1988) Albert and Thomas: Selected Writings, The Classics of Western Spirituality (Mahwah, NJ: Paulist Press).
Tuninetti, Luca (1996) “Per se notum”. Die logische Beschaffenheit des Selbstverständlichen im Denken des Thomas von Aquin (Leiden: E. J. Brill).
Tweedale, Martin (1990) “Mental Representation in Later Medieval Scholasticism”, in J. C. Smith (ed.), Historical Foundations of Cognitive Science (Dordrecht: Kluwer Academic Publishers), pp. 35–52.
Van Engen, John (1988) Devotio Moderna: Basic Writings (New York: Paulist Press).
Van Fraassen, Bas (1984). “Belief and the Will”, The Journal of Philosophy 81: 235–256.
Van Inwagen, Peter (1978) “The Possibility of Resurrection”, The International Journal for Philosophy of Religion 9: 114–121.
– (1983) An Essay in Free Will (Oxford: Clarendon Press).
– (1988) “And Yet There Are Not Three Gods But One God”, in Thomas
V. Morris (ed.), Philosophy and the Christian Faith (Notre Dame, IN: The University of Notre Dame Press), pp. 241–278.
– (1990) Material Beings (Ithaca, NY: Cornell University Press).
– (1994a) “Composition as Identity”, in James Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, vol. 8 (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Co.), pp. 207–219.
– (1994b) “Not by Confusion of Substance, but by Unity of Person”, in A. G. Padgett (ed.), Reason and the Christian Religion: Essays in Honour of Richard Swinburne (Oxford: Clarendon Press).
– (1999) “Incarnation and Christology”, The Routledge Encyclopedia of Philosophy (London: Routledge).
Van Riet, Georges (1965) Thomistic Epistemology, vols 1–2. Trans. Donald G. McCarthy and George E. Hertrich. (St. Louis: B. Herder Book Co.).
Van Steenberghen, F. (1980a) Le problème de l’existence de Dieu dans les écrits de S. Thomas d’Aquin (Louvain-la-Neuve: Editions de l’Institut Supérieur de Philosophie).
– (1980b) Thomas Aquinas and Radical Aristotelianism (Washington, DC: Catholic University of America Press).
Velde, Roelf Arend te (1995) Participation and Substantiality in Thomas Aquinas (Leiden: E. J. Brill).
Watson, Gary (1975) “Free Agency”, Journal of Philosophy 72: 205–220.
Weisheipl, James (1983) Friar Thomas D’Aquino: His Life, Thought, and Works (Washington, DC: Catholic University of America Press).
Westberg, Daniel (1994a) Right Practical Reason: Aristotle, Action, and Prudence in Aquinas (Oxford: Clarendon Press).
– (1994b) “Did Aquinas Change His Mind about the Will?”, The Thomist 58: 41–60.
Widerker, David (1995a) “Libertarian Freedom and the Avoidability of Decisions”, Faith and Philosophy 12: 113–118.
– (1995b) “Libertarianism and Frankfurt’s Attack on the Principle of Alternative Possibilities”, The Philosophical Review 104: 247–261.
Wierenga, Edward (1983) “Omnipotence Defined”, Philosophy and Phenomenological Research 43: 363–376.
Williams, Bernard (1973) Problems of the Self (New York: Cambridge University Press).
Wilson, Margaret (1978) Descartes (London: Routledge and Kegan Paul).
Winters, Barbara (1979) “Willing to Believe”, The Journal of Philosophy 76: 243–256.
Wippel, John F. (1984) Metaphysical Themes in Thomas Aquinas (Washington, DC: Catholic University of America Press).
– (1987) “Thomas Aquinas and Participation”, in J. F. Wippel (ed.) Studies in Medieval Philosophy (Washington, DC: Catholic University of America Press).
– (1989) “Truth in Thomas Aquinas (part I)”, Review of Metaphysics 43: 295–326.
– (1990) “Truth in Thomas Aquinas (part II)”, Review of Metaphysics 43: 543–567.
– (1993) “Metaphysics”, in N. Kretzmann and E. Stump (eds) The Cambridge Companion to Aquinas (Cambridge: Cambridge University Press), pp. 85–127.
– (2000) The Metaphysical Thought of Thomas Aquinas. From Finite Being to Uncreated Being (Washington, DC: Catholic University of America Press).
Wolf, Susan (1980) “Asymmetric Freedom”, Journal of Philosophy 77: 151–166.
Wolterstorff, Nicholas (1975) “God Everlasting”, in Clifton J. Orlebeke and Lewis B. Smedes (eds), God and the Good (Grand Rapids, MI: Eerdmans), pp. 181–203.
– (1984) Reason Within the Bounds of Religion (Grand Rapids, MI: Eerdmans).
– (1986) “The Migration of the Theistic Arguments: From Natural Theology to Evidentialist Apologetics”, in Robert Audi and William Wainwright (eds), Rationality and Religious Belief (Ithaca, NY: Cornell University Press), pp. 38–81.
– (1991) “Divine Simplicity”, in James E. Tomberlin (ed.), Philosophical Perspectives, 5: Philosophy of Religion, 1991 (Atascadero, CA: Ridgeview Publishing Company).
Указатель имен
Августин Гиппонский 19, 115, 120, 222, 230, 231, 250, 271, 276, 280, 303, 307, 320–322, 324
Авиценна 19, 21
Альберт Великий 21, 27, 33
Ансельм (Кентерберрийский) 35
Аристотель 13, 18, 19, 22, 23, 28, 29, 31, 32, 34, 45, 55, 57, 85, 102–104, 112, 114, 120, 148, 151, 152, 182, 185, 203, 214, 234
Байер, Аннет 204–207, 210, 237
Баньес, Доминго 305, 306
Бейкер, Линн Раддер 95, 97, 103, 109, 110
Бонавентура, св. 32, 156
Бонхёффер, Дитрих 242
Боэций 23, 27, 29, 84, 328
Василий, св. 223, 249
Вулф, Вирджиния 207, 208, 238—240
Герцогиня Брабантская 218, 228, 328
Григорий Великий 112
Иннокентий IV (папа) 21
Иоанн Кассиан 287
Киттель, Герхард 241, 242
Локк, Джон 223, 250
Лютер, Мартин 252, 289, 303
Молина, Луис де 305, 306
Нагель, Томас 208–210, 237, 244
Нозик, Роберт 219, 220, 222, 224, 225, 248
Олстон, Уильям (Alston) 16, 269, 299, 300, 330
Павел, св. 27, 29, 282, 283, 289, 290, 296, 301, 302, 303
Пеккам, Джон 32, 33
Петр Ломбардский 21
Платон 19, 82, 92, 93, 109
Порфирий 129
Прокл 31
Псевдо-Дионисий 19, 27
Регинальд из Пиперно 33, 34
Сакс, Оливер 172, 175
Финнис, Джон 146
Шеффлер, Сэмюэль 144, 145, 155
Шпеер, Альберт 241, 242
Штангль, Франц 242, 243
Шэнли, Брайан 16
Элдерс, Лео 158, 163
Юм, Дэвид 204
Примечания
1
Это не отменяет, разумеется, факта появления отдельных трудов, реализующих по-настоящему значительные и амбициозные замыслы.
(обратно)2
С крайними формулировками этих двух стратегий и их третейской оценкой можно познакомиться, например, в статье: Флат К. Как писать историю средневековой философии? // Логос / Пер. А. Маркова. 2009. № 4–5. С. 224–246.
(обратно)3
Прозвище, данное Фоме его товарищами по учебе в Кельне. – Прим, пер.
(обратно)4
Здесь и далее в квадратных скобках приводятся дополнения переводчика, а в круглых скобках – авторский текст. – Прим. ред.
(обратно)5
Species – термин средневековой философии, обозначающий формальные образования разных уровней, промежуточные между внешним объектом и конечным понятием об объекте, которое образует интеллект. Собственная функция species – служить средством переноса информации об объекте из внешней среды в интеллект и активизировать на каждом этапе этого переноса соответствующую познавательную способность. Согласно средневековым представлениям, species могут иметь как чувственную, так и умопостигаемую природу; при этом чувственные species имеют место не только в зрительном восприятии, но и в других чувствах, подразумевающих дистанцию между объектом и органом чувства (слух, обоняние; поэтому распространенный в русских переводах термин «вид», которым пытаются передавать латинское species, представляется крайне неудачным). Онтологическая природа species разных уровней и типов интерпретируется в разные эпохи и разными авторами весьма различно. Этот разнобой в понимании species (и в вопросе о необходимости их наличия вообще) у самих средневековых авторов, а также отсутствие в современных философских языках адекватного слова побуждает многих исследователей оставлять этот термин без перевода. – Прим. пер.
(обратно)6
В аналитической философии религии под фундаментализмом понимается такое представление о структуре знания индивида, согласно которому все верования, которых придерживается данный индивид, являются либо базисными, либо они должны обосновываться базисными верованиями. Таким образом, в эпистемологическом фундаментализме устанавливается, что некоторые из убеждений индивида основываются на других убеждениях, в которые он верит, например, в силу их самоочевидности или в силу изначального доверия к источнику этого верования (например, словарю при проверке правописания). В рамках эпистемологического фундаментализма получили развитие два направления: (1) теория «должной базовости» (proper basicality), т. е. теория нелогического обоснования, и теория «должного обоснования» (appropriate support), т. е. теория логического обоснования. – Прим. ред.
(обратно)7
Компатибилизм (от англ, compatible – логически совместимый, логически непротиворечивый) – одно из направлений в решении проблемы детерминизма/ индетерминизма (обладает ли человек свободой воли, если детерминизм истинен?) в рамках современной аналитической философии религии. Компатибилисты считают, что возможно предложить такую теорию, в которой постулаты о божественном всемогуществе и всеведении (детерминизм) и о свободе человеческой воли (индетерминизм) были бы непротиворечиво согласованы между собой. Соответственно, инкомпатибилисты придерживаются противоположной точки зрения. Инкомпатибилисты, считающие, что в мире действуют только законы детерминизма и ни одно живое существо не обладает свободой, называются «жесткими детерминистами». Те же, кто отстаивает, что мир не детерминирован и хотя бы некоторые из живых существ обладают свободой воли, называются «либертарианцами». См. также: Kane, Robert. A Contemporary Introduction to Free Will. Oxford; New York: Oxford University Press, 2005; Pereboom, Derk. Living Without Free Will. Cambridge; New York: Cambridge University Press, 2001. —Прим. ped.
(обратно)8
Хабитус (habitus) – труднопереводимый схоластический термин. У Аквината хабитус относится к категории качества и обозначает трудноустранимую акциденцию, располагающую субъект в отношении либо его бытия, либо действия. Расположение в отношении бытия является сущностным хабитусом (например, здоровье); расположение в отношении действия является способностью (например, способность к мышлению, волеизъявлению). Подробнее см. в: ST Iа IIае 49–54. —Прим. ред.
(обратно)9
«Эмерджентность» (Emergence) – термин современной аналитической философии, восходящий к работе Джорджа Генри Льюиса «Проблемы жизни и сознания» (1875 г.). Общий смысл термина сводится к следующему: эмерджентные сущности (или свойства) вытекают из более фундаментальных сущностей (свойств), но при этом они не сводимы к ним. Этот термин широко употребляется в эпистемологии и в онтологии: в этих областях философии существуют даже различные теории эмерджентных свойств. Однако в целом, можно сказать, что в эпистемологии под теорией эмерджентности понимаются ограничения, свойственные человеческому разуму при попытке им познать сложную систему, а в онтологии – стратифицированное строение реальности, которая состоит из (1) простых и составных структур, при этом каждый последующий уровень сложнее предыдущих, и (2) разных сочетаний элементов предыдущих уровней, но не сводится к ним. – Прим. ред.
(обратно)10
Тем более (лат.). – Прим. пер.
(обратно)11
Максима (лат.). – Прим. пер.
(обратно)12
С соответствующими изменениями (лат.). – Прим. пер.
(обратно)13
Est propria virtus eius – в данном случае, свойственная сущности (сущностная) добродетель. Поскольку добродетель – род совершенства, постольку все, стремящиеся к собственному совершенству, стремится к совершенству, присущему сущности. – Прим. ред.
(обратно)14
Представление об обратимости сущего и трансценденталий восходит к Боэцию. С одной стороны, «благое» подразумевает, что сущее является желаемым, с другой – всякое сущее является желаемым в силу того, что оно сущее. – Прим. ред.
(обратно)15
Формально принцип супервентности гласит, что не может быть различия в наборе свойств А (супервттиые свойства) без различия в наборе свойств В (субвентные свойства): «Супервентность имеется тогда, когда не может быть различия одного рода без различия другого рода» (Lewis, D. К. The Plurality of Worlds. Oxford: Oxford University Press, 1986. P. 14). Супервентность – один из центральных терминов современной аналитической философии, применяющийся в каждой из ее областей: например, получило распространение то утверждение, что моральное, ментальное, эстетическое следуют за физическим (супервентно над ним); модальные истины супервентны над немодальными. – Прим. ред.
(обратно)16
На первый взгляд (лат.). – Прим. пер.
(обратно)17
С большим основанием (лат.). – Прим. пер.
(обратно)18
Акцидентально (лат.). – Прим. пер.
(обратно)19
Синдересис – технический термин схоластической философии, обозначающий внутренний (недискурсивный) принцип морального сознания каждого человека, направляющий его к благу и удерживающий от зла. Понятие было разработано Аристотелем, настаивавшем на существовании отправного пункта для человеческого рассуждения и что первые принципы, служащие этой цели, не могут быть познаны человеческим разумом дискурсивно. В последствии этот термин был использован блж. Иеронимом в «Толковании на книгу пророка Иезекииля», в котором он упоминается как способность души и описывается как искра сознания.
(обратно)20
В оригинале – глава 5. – Прим. ред.
(обратно)21
Имеется в виду знаменитая аналогия Аристотеля из трактата «О душе» 11,12 (424 а 17–25) – о восприятии органами чувств формы как отпечатке предмета на воске. – Прим. ред.
(обратно)22
В оригинале – часть III, глава 10. – Прим. ред.
(обратно)23
В оригинале – глава 12. – Прим. ред.
(обратно)24
Фома Аквинский проводит следующее деление благодати. Во-первых, благодать подразделяется по порядку направления человека к Богу на освящающую (gratia gratum faciens) и даром данную (gratia gratis data). Посредством освящающей благодати человек сам соединяется с Богом, даром данная благодать дается для помощи в спасении другого человека. Во-вторых, в обоих этих смыслах благодать подразделяется на действующую (gratia operans) и содействующую (gratia cooperans). О действующей благодати говорится тогда, когда человек движим к благу, приводящему к спасению, только Богом. В случае содействующей благодати Бог укрепляет человеческую волю изнутри, помогая самой человеческой воле прийти к благу; в этом случае действие приписывается и Богу и человеческой воле. Наконец, в-третьих, любой вид благодати может пониматься как предшествующая (gratia praeveniens) и последующая (gratia subsequens). Здесь деление проводится в соответствии с пятью дарами благодати: излечение души, желание блага, актуальное совершение желаемого блага, непоколебимость в благе, достижение славы. Благодать, обуславливающая первый дар, называется предшествующей относительно второго дара. Благодать, причинно обуславливающая второй дар, называется последующей по отношению к первому дару. Подробнее см.: ST Iа IIae. 111. 1–3. – Прим, ред.
(обратно)25
Для Стамп полупелагианство (подход к решению вопроса о соотношении благодати и свободы воли Иоанна Кассиана) такая же ересь, как и собственно пелагианство. Однако это не так для православных: истинность учения прп. Иоанна была засвидетельствована на Арелатском Соборе между 470 и 475 г. – Прим. ред.
(обратно)26
В оригинале – глава 13. – Прим. ред.
(обратно)27
Здесь речь идет об оформлении волевой способности. Нафан, в данном примере, имеет определенный потенциальный волевой акт. После проявления своей воли, волевой акт станет действительным. – Прим. ред.
(обратно)28
Луис Молина (1535–1600) – испанский католический богослов, известный сочинением «Согласование свободы воли с дарами благодати, божественным предвидением, провидением, предопределением и осуждением в свете некоторых положений первой части божественного Фомы» (1588), в котором он пытался показать, что учение о божественном предопределении согласуется с положением о свободе воли человека, трактуя действенность заслуг в спасении почти так же, как осужденный Пелагий. Для цели согласования божественного предопределения и свободы человеческой воли Молина разработал понятие «среднего знания» (scientia media) Бога, относящееся
(обратно)29
к знанию Богом бесконечного числа высказываний по форме: если Ивану сегодня вечером предложат купить лотерейный билет, то он свободно его приобретет. Против концепции Молины выступили многие богословы, среди которых был и доминиканец Доминго Баньес (1528–1604). Спор между сторонниками теории «среднего знания» и его противниками так и не получил официального разрешения. В современной англо-американской философии религии данная полемика (между современными пропонентами и оппонентами теории «среднего знания») занимает одно из ключевых мест. См., например: Флинт Т. П., Божественное провидение И Оксфордское руководство по философской теологии / Ред. Т. П. Флинт и Рей М. К. / Пер. В. В. Васильева. М.: Языки славянской культуры, 2013. С. 393–427; Dekker, Е. Middle Knowledge. Leuven: Peeters, 2000. —Прим. ред.
11 См. «Введение», прим. III. – Прим. ред.
(обратно)
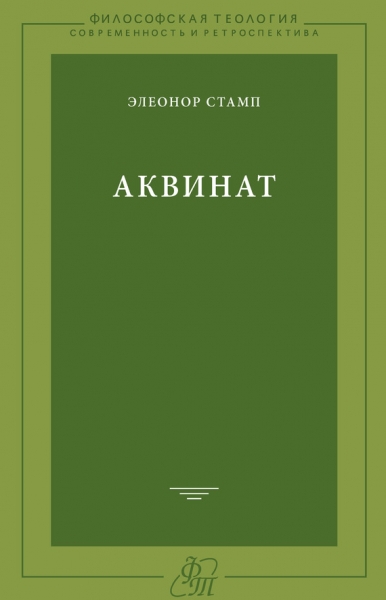



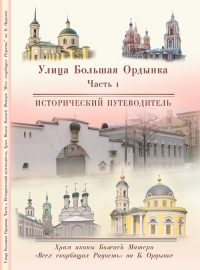
Комментарии к книге «Аквинат», Элеонор Стамп
Всего 0 комментариев