Жизнь Иисуса
Давид Фридрих Штраус и его «Жизнь Иисуса»
Появление книги «Жизнь Иисуса» (она вышла в двух томах в 1835–1836 годах) сразу сделало ее автора, мало в то время известного тюбингенского теолога Д.Ф. Штрауса, европейской знаменитостью, хотя в глазах многих эта популярность была скорее скандального порядка. Публикация «Жизни Иисуса» ознаменовала раскол гегелевской школы, в которой означились правое крыло, представленное лояльными букве Гегеля и ряду его принципов «учениками и друзьями», центр и левое гегельянство. Штраус склонен был причислять себя к центру, между тем в тот момент он, несомненно, был ведущим представителем левого гегельянства, характерной чертой которого было резко критическое отношение к догматизму в философии и религии. Впрочем, очень скоро выдвинулись другие радикальные фигуры — Руге, Фейербах, братья Бауэры, Маркс. Они активно полемизировали с правыми гегельянцами, философским, религиозным и политическим консерватизмом вообще. Их лагерь был неоднороден, а идейно-теоретическое единство недолгим. Фейербах порвал с гегельянством и резко выступил против идеализма как утонченной религии. Маркс и Энгельс повели борьбу с недавними союзниками с иных, нежели Фейербах, позиций. Острота, временами чрезмерная, этой полемики исторически и психологически объяснима: выяснялись принципиальные идеологические отношения, и спорили живые, экспансивные, чрезвычайно одаренные молодые люди, искренне озабоченные поисками решения острейших социальных проблем, прежде всего — эмансипацией человека. Остается лишь сожалеть, что в наших исследованиях возобладала односторонняя оценка левого гегельянства, следствием чего было принижение места и роли многих его представителей и забвение их имен.
К числу таковых относился и Д.Ф. Штраус — оригинальный и смелый мыслитель, христологическая концепция которого, по существу, положила начало новому этапу научной библеистики. Его главный труд «Жизнь Иисуса» существует в двух вариантах, разделяемых почти тридцатилетним периодом, заполненным важными социально-политическими событиями, личными жизненными невзгодами и напряженной работой. И хотя исследовательские интересы надолго уводили Штрауса от богословских тем, они в конечном счете возвращали его к главному теоретическому детищу — мифологической теории христианства. Сформулированная и обоснованная в первой версии «Жизни Иисуса», она была доработана и уточнена во второй, которая и предлагается вниманию читателя.
Формирование Штрауса-мыслителя в значительной мере связано с Тюбингенским университетом. Альма-матер не была объектом безоговорочного пиетического благоговения Штрауса, ибо к одному из выдающихся своих питомцев она отнеслась как к пасынку. И тем не менее Штраус не только получил здесь отличную образовательную подготовку профессионального теолога, но и оказался в той культурной среде, которая своими неоднозначными интеллектуальными импульсами пробудила в нём духовные запросы, ставшие стимулами неустанных теоретических исканий. В этом отношении он не исключение, — в тех же стенах начиналось формирование Гегеля, Шеллинга, Гельдерлина и других выдающихся умов.
Тюбингенский университет сыграл видную роль в развитии богословской мысли. Основанный в 1477 году, он сразу стал важным центром гуманизма, а затем реформаторства (здесь подвизались Науклер, Рейхлин, Меланхтон). В 1536 году в состав университета была включена евангелическая[1] богословская семинария, принесшая ему большую известность, чем традиционные философский, юридический и медицинский факультеты. В конце XVIII столетия на базе семинарии благодаря усилиям Г.X. Шторра сложилась Тюбингенская школа — теоретическое направление, вобравшее ряд просветительских идей и осуществлявшее умеренно рационалистическую критику догматического христианства (определенное влияние эта критика оказала на семинариста Гегеля). Несомненно, школа внесла свой вклад в культурную традицию Тюбингена, но он не столь значителен, чтобы вызывать интерес неспециалистов. Позднее название Тюбингенская школа стало ассоциироваться с более мощным и влиятельным теологическим течением 1830–1860-х годов, зачинателем которого был Ф.X. Баур, крупный протестантский теолог, в философии склонявшийся к гегельянству. Это уже совсем иная эпоха и новое движение, поэтому в литературе школы Шторра и Баура официально называются Старотюбингенской и Новотюбингенской, но в практику эти названия как-то не вошли, поэтому в неоговоренных случаях Тюбингенская школа означает лишь последнюю.[2] Ее авторитет создавался и поддерживался исследованиями Д. Штрауса (который также стоял у ее истоков, во многом определял ее характер и с достаточным основанием может считаться сооснователем), К.Р. Кестлина, К. Вайцзекера. И.Т. Бека и др. Научным органом школы было основанное в 1842 году Э. Целлером издание «Теологические ежегодники», а с 1858 года — «Журнал научной теологии», редактором которого был А. Хильгенфельд. В центре внимания тюбингенцев были книги Нового завета, их источники, авторство, степень исторической достоверности евангельских повествований, а также происхождение и природа христианского вероучения в целом. Они внесли ценный вклад в хронологизацию и текстологию важнейших частей Писания, в критику догматического христианства и оказали важную услугу не только модернистским тенденциям, но и свободомыслию.
Наименования Тюбингенская семинария или Богословский (евангелический) факультет имели только официальное хождение. В обиходе, да и в литературе, употребительным было неформальное полуироническое «Штифт» — буквально «богадельня», «приют». Название связано с тем, что будущие богословы, в основном дети рядовых священников, жили в интернате, где пользовались частичным или полным пансионом. В числе питомцев «Штифта» был и Давид Штраус. Родился он в 1808 году в небольшом вюртембергском городке Людвигсбург (там же ему было суждено окончить свои дни в 1874 году) в семье неудачливого коммерсанта. К тому же отец был склонен к пиетизму, что впоследствии обостряло отношения с сыном. Мать, образованная и набожная женщина, напротив, неизменно сохраняла с ним душевную близость, оказывая неоценимую поддержку в самые сложные периоды жизни. Трудно сказать с определенностью, чем был обусловлен выбор Штраусом духовной карьеры. Немаловажно, очевидно, то, что для него это был практически единственный способ получить университетское образование, ибо обучение на других факультетах стоило непомерно дорого.
Пятилетний срок обучения в университете разделялся на два цикла. Первые два года были посвящены языкам, особенно древним, философии и некоторым общеобразовательным предметам, и лишь с третьего года вводились теологические дисциплины, так что специальная подготовка опиралась на солидную теоретическую и культурную базу. Формальное образование дополнялось усиленными самостоятельными занятиями, значительно расширившими умственный горизонт Штрауса. Он изучал Канта, но симпатией к трансцендентальной философии не проникся. Его захватили натурфилософия Шеллинга и философия романтиков, прежде всего динамичной картиной мира как органического единства божественного, природного и человеческого. Следует отметить неравнодушие Штрауса к идее космизма, обнаруживаемое на всех этапах его творческого развития (это давало ряду авторов не вполне оправданное основание видеть в нём пантеиста). Поэтому естественным представляется его обращение к основательному и заинтересованному изучению работ великих мистиков — Якоба Бёме и Иоганна Таулера, ученика Мейстера Экхарта. Он даже всерьез увлекся спиритизмом, который впоследствии будет критиковать со знанием дела.
Отношение к профессорам было неоднозначным, порой сложным, но Штраус умел извлекать из контактов с ними пользу. Так, скучноватые лекции Ф. Керна по догматике заставили его обратить внимание на противоречия в синоптических евангелиях. Баур пробудил в нём интерес к Деяниям апостолов и, что более существенно, к теологии Шлейермахера. Штраус усиленно штудирует «Речи о религии» и «Христианскую веру», однако всё яснее видит, что и у Шлейермахера противоречия христианства не преодолены. Одним словом, на завершающей стадии обучения Штраус вполне созрел для восприятия гегелевской философии, которая в Тюбингене откровенно третировалась.
Закончив семинарию, Штраус получает небольшой сельский приход, начинает активно сотрудничать в теологических изданиях и увлеченно изучает философию Гегеля. Интерес к ней оказался настолько велик, что он решает продолжить свое образование в Берлине, куда прибывает в ноябре 1831 года. Гегель удостоил земляка аудиенцией на дому, интересовался делами в Вюртемберге и, узнав об отношении к нему в родном университете, среагировал по-библейски мудро: «Нет пророка в своем отечестве». Штраус побывал на двух лекциях Гегеля и был совершенно ошеломлен, услышав во время визита вежливости к Шлейермахеру, что Гегель неожиданно скончался, предположительно от холеры, эпидемия которой только-только затухла в Берлине. Растерянность Штрауса была столь велика, что он не удержался от неосторожной фразы: «Но ведь я приехал в Берлин ради него». Шлейермахер воспринял это как проявление неуважения лично к нему, и с момента первой встречи отношения двух мыслителей приняли весьма прохладный характер.
Штраус покидает Берлин, сообщив своему другу В. Ватке о намерении осуществить фундаментальное исследование жизни Иисуса, руководствуясь новым пониманием предмета и задачи. В Тюбингене он получает назначение на низшую преподавательскую должность в «Штифте» и начинает читать курсы по истории философии и логике. Лекторский дар и глубина мысли молодого педагога сразу обеспечили ему популярность и широкую аудиторию, а его гегелевская ориентация вызвала недовольство коллег и администрации, вследствие чего он был, по существу, отстранен от преподавания. Уязвленного Штрауса несколько успокаивало то, что появилось время для работы над историей жизни Иисуса. В сравнительно короткий срок книга была завершена и вышла в свет под названием «Жизнь Иисуса, критически обработанная Д.Ф. Штраусом».[3] В ней затрагивался большой круг проблем, но основное ее содержание сводилось к отрицанию исторических и каких-либо иных оснований всего супранатуралистического содержания евангелий, которое, согласно Штраусу, представляет собой продукт ненамеренного мифотворчества, возникший в период между смертью Иисуса и появлением во II веке его жизнеописаний.
Последствия публикации оказались для Штрауса неожиданными и драматичными. Он адресовал книгу специалистам-теологам, а она вызвала настолько широкий общественный интерес, что к 1840 году вышла четырьмя изданиями, причем каждый раз в обновленной редакции. Штраус надеялся достойно войти в круг авторитетных профессионалов и внести свой вклад в разрешение выявившихся в христианской доктрине противоречий, но вместо этого едва не стал жертвой остракизма и был уволен из университета. Конечно же он ожидал споров и был к ним готов, однако столкнулся с массированным шквалом обвинений и нападок. Разумеется, случалась и серьезная, даже доброжелательная критика, но как ее было мало! Бруно Бауэр упрекнул Штрауса за излишнюю спекулятивность и недостаточно последовательную демифологизацию евангельских историй. Баур разделял ряд идей «Жизни Иисуса», но избегал публичных оценок. Зато чрезвычайно активно вели себя теисты, оценивавшие книгу с диаметрально противоположных позиций, причем с критиками-протестантами солидаризировались и критики-католики во главе с И.Л. Гугом.
Штраус защищался самоотверженно и изобретательно. В поразительно короткий срок — в течение одного года — он издал три сборника «Полемических заметок»[4], специально посвященных защите «Жизни Иисуса». Нужно отдать Штраусу должное — в этих трудных условиях его теоретическая принципиальность не вылилась в догматическое упрямство. Он не только разъяснял и отстаивал, но и уточнял и дорабатывал свою концепцию. В новых изданиях он пытается более органично связать историческую часть с теологическими выводами; он использует и Шлейермахера, соглашаясь с тем, что религию питают также и психологические факторы; им принимаются в расчет ряд замечаний гегельянцев; наконец, у Штрауса хватает сил для написания и издания новых работ, в том числе двухтомного «Христианского вероучения» (1840–1841), в котором он продолжил свои теоретические разработки (и, между прочим, скрестил шпаги с быстро обретающим популярность Л. Фейербахом). И тем не менее по-своему увлекательная обстановка полемики не могла снять тяжести изоляции. Особенно трудно переживал Штраус отрыв от педагогической деятельности. Возможно, в силу этих обстоятельств в бурный 1848 год он пробует силы в политике, избирается депутатом Вюртембергского собрания. Опыт оказался неудачным (хотя, как увидим ниже, и не бесполезным).
Спасительным выходом из затруднений казалось предложенное ему место профессора церковной истории и догматики в Цюрихском университете. Приглашение объяснялось тем, что в кантоне к власти в начале 40-х годов пришли либеральные силы, которые стремились расширить гражданские права, улучшить дело образования, обеспечить религиозную свободу и в этом плане сочли кандидатуру Штрауса вполне для себя приемлемой. Однако хотя университет и кантональное правительство приняли решение о зачислении Штрауса на должность, мобилизованная клиром общественность не позволила ему занять ее. Церковью была развернута широкая антиштраусовская кампания в прессе, составлялись петиции, публиковались памфлеты — одним словом, были приведены в действие все существовавшие в то время рычаги манипулирования массовым сознанием. Завершилась кампания своеобразным референдумом (мнение граждан выявляли священнослужители), в ходе которого почти 40 тысяч человек высказались против Штрауса и лишь тысяча с небольшим — «за». Таким образом, демократический механизм был умело использован для того, чтобы не пустить в Цюрихский университет профессора, образ мысли которого отклонялся от оберегаемых стандартов.
Штраус окончательно становится свободным писателем, живущим литературным трудом. Он пробует силы в разных жанрах: пишет литературоведческие статьи, рецензии, весьма квалифицированные работы о музыке, изредка выступает по вопросам политики. Однако наиболее значимы его исследования творческих биографий личностей, утверждавших себя в борении против политических, религиозных, культурных стереотипов и рутины. Как правило, это фундаментальные по объему, богатейшие по материалу и концептуально продуманные работы. Таковы книги, посвященные мало известному швабскому поэту Шубарту, берлинскому теологу-гегельянцу Мерклину, Ульриху фон Гуттену, Реймарусу, крупному немецкому гуманисту и поэту Фришлину. На первый взгляд, налицо отход от прежней тематики, но это не совсем так. Видимо, не случайно внимание Штрауса привлекают личности, так или иначе вовлеченные в реформационный процесс или религиозную критику (даже Шубарт импонировал ему своим бунтарским антиклерикализмом). Штраус задумал новые крупные исследования, посвященные Лютеру и Цвингли, но неожиданно обратился вновь к «Жизни Иисуса» и в 1864 году выпустил в свет ее обновленный вариант под названием «Жизнь Иисуса, обработанная для немецкого народа»[5].
Причин возврата к старой теме было несколько. Прежде всего, она продолжала оставаться в центре теоретических споров, в которые включились свежие участники, выдвинувшие новые идеи, и Штраус почувствовал, что его концепция не исчерпала еще своих возможностей. К тому же он считал, что его недавние исторические изыскания, расширившие область исследований, по-своему укрепили его прежние установки, которые нуждаются в незначительной переработке. Непосредственной причиной, ускорившей эту работу, послужило появление книги Э. Ренана «Жизнь Иисуса», во многом вдохновленной мифологической теорией Штрауса. Памятуя о том, что «критическая обработка» жизни Иисуса пользовалась успехом у широкой читающей публики, Штраус создает более популярный вариант «Жизни Иисуса», веря, что ему «удалось написать для немцев такую книгу, какую для французов написал Ренан».
В «Жизни Иисуса», как и в других своих работах, Штраус критиковал не столько христианскую религию, сколько христианскую догматику, которая была внутренне противоречива и пришла в конфликт с современным знанием. Более того, Штраус полагал, что решительное развенчание заскорузлой ортодоксии будет способствовать сохранению и спасению христианства. Само по себе такое обновленческое устремление могло бы встретить понимание и поддержку в церковной среде, если бы программа Штрауса не предполагала разрушения наиболее консервативного, с его точки зрения, догмата — признания Иисуса сыном Божьим. Не случайно книга посвящена жизни Иисуса, то есть исторической личности. Говоря о работе Неандера «Жизнь Иисуса Христа» (1837), Штраус обращает внимание на то, что в ней к «чисто человеческому личному имени добавлено наименование, обозначающее сан и титул» (с. 50). Прибавление «Христос» (то есть «Помазанник») является указанием на духовное помазание Богом-Отцом, наделившее Иисуса всеведением, святостью и могуществом, то есть божественными атрибутами. В догматической интерпретации это способ идентификации его с ипостасью Бога, богочеловеком, призванным спасти человечество. Собственную концепцию Штраус понимает как последовательное развитие рационалистической традиции, ориентированное на реконструкцию естественной жизни Иисуса и выявление причин возникновения в массовом сознании образа Христа-Мессии.
Обе версии «Жизни Иисуса» Штраус рассматривает как два издания одной работы. И действительно, отстаиваемая концепция, анализируемый материал, главные аргументы в них практически те же. Изменения коснулись композиции сочинения, отчасти содержания и в большей мере — объема и редакции, что было связано с переориентацией на более широкую публику. Второй вариант заметно «похудел»: по объему почти вдвое, число главок сократилось с полутораста до сотни, Штраус убрал многие узко богословские темы и облегчил аппарат. Формально упростилась и структура, в которой остались введение и две основные части, посвященные историческому жизнеописанию Иисуса и его мифической истории. Однако основное теоретическое содержание и архитектоника каждого тематического блока остались почти неизменными. Штраус сначала представляет (или обозначает, если предмет общеизвестен) супранатуралистическую трактовку с ее особенностями и противоречиями, затем, как правило, ее рационалистическую критику, после чего демонстрирует достоинства и ограниченность последней, с тем чтобы, использовав ее позитивные моменты, дать свое толкование.
Большое внимание в книге уделено тому, что можно было бы назвать литературной историей Иисуса. Во многом это связано с тем, что дискуссии библеистов в значительной мере переключились на евангелия, появилось много новых исследований, в том числе инициированных самим Штраусом, и, что особенно важно, возрасли усилия по открытию исторического Иисуса, который становится предметом мирского (прагматического) осмысления и отделяется от образа догматического Христа, хотя источник информации остается неизменным — всё те же книги Нового завета и апокрифические материалы.
Штрауса критиковали с разных позиций и по-разному. Если в упомянутой книге Неандера, одного из самых авторитетных в то время историков церкви, дана достаточно вежливая, академическая критика, то книга Эбрарда «Научная критика евангельской истории» (1842) враждебна концепции «Жизни Иисуса» и по тону. Более левые, чем Штраус, позиции заняли Бруно Бауэр, объявивший христианское учение просто фабрикацией поэтических авторов, фантазия которых стала объектом боготворения, и Фейербах, который вообще вышел за рамки узкой христологии, анализируя сущность христианства и религии в целом. Активизировалась и рационалистическая критика. Импульсивный гёттингенец Эвальд пишет «Историю Христа и его времени» (1855), направленную против супранатуралистической интерпретации Писания. В небольшой и высоко оцененной Штраусом книге цюрихского теолога Кейма «Человеческое развитие Иисуса Христа» (1861) сделана попытка рассмотреть главным образом развитие мессианского сознания Иисуса в соответствии с принципами научной психологии и истории. В 1863 году Ренан издает свою «Жизнь Иисуса», которая импонирует Штраусу, но, на его взгляд, недостаточно глубока и содержит многие недостатки и одну крупную ошибку — признание аутентичности четвертого евангелия, от Иоанна.
Из всего, что было высказано в адрес Штрауса, пожалуй, самыми конструктивными были замечания Баура, по мнению которого анализ Штрауса носил слишком негативный характер, — он показал, чем Иисус не был (чудотворцем и богочеловеком), в то время как нужно было уделить больше внимания его положительной характеристике. Если бы Иисус был обычным человеком, считал Баур, его ученики не могли бы признать факта его воскресения. Несомненно, Баур более лоялен ортодоксии, но он привлек внимание исследователей к задаче позитивной реконструкции образа Христа. Поначалу Штраус полагал, что поскольку евангельские рассказы не историчны, не имеет значения, кто и как их сочинил, и поэтому достаточно рассмотреть их через призму мифотворчества. Подход Баура требовал учета всех исторических обстоятельств и документов, в особенности конкретных источников евангелий. Это требование было Штраусом в определенной мере учтено во второй версии книги, где уделено много внимания характеристике личности Иисуса (хотя колебания и неясность в вопросе о степени зависимости мифологического принципа от источников сохранились). Имело значение и то, что исторический подход позволил Бауру увидеть и определить исторический смысл двух важнейших тенденций развития первоначального христианства: петринизма (иудеохристианства) и паулинизма (языкохристианства) и их противоборства. Этот результат Штраус использовал в полной мере и оценил значение компромисса этих движений, отразившегося в Евангелии Иоанна и сыгравшего важнейшую роль в превращении христианства в наднациональную религию.
Обзор точек зрения Гесса, Гердера, Паулуса, Шлейермахера, Газе и других имеет целью не просто выяснить отношения с предшествующими мыслителями, но и обосновать важный для Штрауса вывод о том, что рационалистическая библеистика ограничена и непоследовательна. С одной стороны, она не приемлет чуда как принципа объяснения, с другой стороны, обосновывая редуцируемость чудесных явлений к естественным причинам и основаниям, она нередко лишь обновляет интерпретацию эпизодов священной истории. Это не что иное, как примирение с догматизмом. «Рационализм есть компромисс между старой церковной верой и безусловно отрицательным отношением к ней нашего современного просвещения»[6]. Естественное объяснение парадоксальным образом оставляло чудесный феномен в структуре религиозного миропонимания.
Практически любое чудо допускало, хотя и не без натяжек, натуралистическое объяснение, поскольку Бог, понимаемый Штраусом как абстрактная духовная сущность, действует в мире только через естественные законы. Осознание этого исключает потребность в понятии чуда. Далее, поскольку эти законы универсальны и охватывают все сферы бытия, отступление от принципа законосообразности исключает возможность исторического подхода: «…если повествование противоречит законам природы, оно должно рассматриваться как неисторическое»[7].
При подведении под этот критерий евангелического Иисуса обнаруживается, что всё его чудотворения и связанные с ним знамения не выдерживают исторической верификации. Необходимо реконструировать конкретный образ в реальной обстановке, который, с одной стороны, отвечал бы требованию научного правдоподобия, с другой стороны, позволил бы объяснить неоспоримые исторические реалии, каковыми выступают аутентичные высказывания и принципы учения Иисуса и массовая вера в него как в Бога-Мессию.
Исторический подход Штрауса к многочисленным евангельским эпизодам, начиная с чудесного зачатия и кончая воскресением и вознесением Иисуса Христа, опирается на скрупулезный текстологический, культурологический, компаративистский и иные виды анализа, и каждый конкретный сюжет книги превращается в увлекательное и поучительное путешествие в мир сказаний, образов и символов, полных многих смыслов и значений, которые невидимыми нитями связаны с культурой и жизненной практикой прошлого и настоящего. Неизбежная с сегодняшней точки зрения неполнота научной и литературной базы Штрауса ничуть не снижает познавательной ценности этих сюжетов, тем более что Штраус не стремится упрощать ситуации и тем облегчать свою задачу. Так, говоря о чудотворениях, нельзя, по его мнению, не замечать у Иисуса дара прогнозиста и врачевателя (по современному, экстрасенса), особенно когда он лечит «бесноватых», то есть людей с психическими расстройствами, проявляющимися в беспамятстве, конвульсиях, временном безумии. Вспомним: в середине XIX столетия медицина делала упор на соматические нарушения и почти не видела психогенных и социогенных факторов таких заболеваний. Штраус верно замечает, что такая патология связана с социально-психологической ситуацией неустойчивости, массового суеверия, демономании. В этих условиях воздействие именем Бога вполне могло исцелять «бесноватых». Однако нельзя в этом видеть проявления мессианской силы. За Иисусом следует признать лишь те его деяния и высказывания, которые очищены от всего сверхъестественного и получают подтверждение у разных авторов, прежде всего у синоптиков.
Результатом исследования жизни Иисуса-человека было отрицание достоверности евангелий и размывание исторической базы христианства, как она традиционно понималась. Однако задача Штрауса этим не исчерпывается, он стремится выяснить, как следует толковать действительный смысл христианского учения и чем объясняется возникновение его догматического понимания. В этой связи он особое внимание уделяет смерти и воскресению Христа и проблеме боговоплощения. С традиционной точки зрения сама идея смерти Бога-Мессии представляется чем-то совершенно несуразным. Воскресение Иисуса, снимающее недоумение, напротив, не укладывается в рамки рационалистического толкования и довольно рано становится объектом критики и поводом для самых изощренных и неожиданных натуралистических предположений на этот счет.
К примеру, Реймарус считал, что апостолы попросту похитили мертвое тело и, объявив затем о воскресении, хотели на этом обмане построить новую религиозную систему. Паулус и другие поздние рационалисты не были склонны принять нравственно уязвимую версию и заявили, что ученики не были способны на такую низость. Просто Иисус на кресте впал в коматозное состояние. Копье легионера нанесло ему лишь поверхностную рану. Его сочли мертвым, он был похоронен и в могиле очнулся сам под влиянием благовоний, шума бури и случившегося землетрясения, которое к тому же сдвинуло загораживающий вход камень. Затем он встречался с учениками и распрощался с ними на Елеонской горе, скрывшись за проходящим облаком. Неизвестно, когда и где он умер, поэтому всё случившееся истолковано как воскресение.
Концепция мнимой смерти была очень популярна, но она грубо упрощала проблему и не могла составить основу разумной трактовки Нового завета. Взамен Штраус предлагает новый принцип объяснения: евангельские повествования — не обман или недомыслие, а результат спонтанного мифотворчества, которое выводило сверхъестественные моменты жизни Иисуса из ветхозаветных посылок, прежде всего мессианских пророчеств. По мнению Штрауса, Иисус умер на кресте и, скорее всего, был похоронен вместе с преступниками. Ученики объявили о его воскресении спустя несколько недель, когда проверка была уже практически невозможна. Миф о воскресении подкреплял учение о Христе, и печаль его последователей сменилась энтузиазмом. Объясняется всё это тем, что авторы рассказов об Иисусе принадлежали духу своего времени и были глубоко погружены в протохристианский образ мысли, внушенный Учителем. Чудотворения Иисуса — не исходные данные христианского учения, а способ восприятия любых его слов и дел через призму его богочеловечности и мессианства.
То, что Писание полно мифов, очевидно для всех, но оно не сводится к совокупности намеренных выдумок и легенд. Штраус исходит из того, что в первоначальном виде мифы «суть не произвольные и сознательные продукты поэтического творчества отдельных лиц, а продукт коллективной мысли целого народа или крупной религиозной общины» (с. 139). Разумеется, возможно и сознательное мифотворчество — ведь евангелия связаны с авторством. Но всё дело в том, что осуществленная в них сознательная систематизация и отчасти концептуализация первыми христианскими писателями мифического материала имеет своей основой бессознательный коллективный мифологический процесс. Его результатом является целый художественный мир, особое пространство, в котором — как в реальном — живет сознание ранних христиан. Поэтому, какие бы сомнения относительно реальности евангельских фактов ни были высказаны, для них непорочное зачатие, чудеса, воскресение Иисуса остаются вечными истинами, условие которых не историческая верификация, а поддерживающая их вера.
Следует отметить, что Штраус оперирует понятием мифического (das Mythische) для обозначения как собственно мифического, так и мифологического. Мифическое относится ко всем сверхъестественным характеристикам природы и деятельности Иисуса. Мифологическое обозначает, с одной стороны, механизм экстраполяции мифических моментов Ветхого завета на псевдоисторические реалии Нового завета (прежде всего, перенесения мессианских ожиданий иудаизма на личность Иисуса), с другой стороны интерпретацию евангелической истории (следовательно, становления самого христианского вероучения) в свете принципов такого механизма. Вместе с тем мифологизация имеет объективное основание. Мифический Иисус не возник бы, если бы не было его исторического прототипа. Иисус-человек не мог совершить ничего сверхъестественного, но исторический анализ свидетельствует о том, что он, скорее всего, верил в то, что действительно говорил (так, все евангелия ссылаются на его слова о втором пришествии). Был ли он обманщиком или фанатиком с неустойчивой психикой — вопрос этот остается открытым. Но Штраус уверен в том, что сам Иисус — не фикция, а историческая личность, возможно, великий религиозный реформатор, который свое мессианство понимал в моральном смысле.
Бог Штрауса по-гегелевски абстрактен и вобрал в себя черты мистико-пантеистического абсолюта и субстанциональной основы мира. В любом случае это не антропоморфный творец и промыслитель. «…Если мы во что бы то ни стало захотим представить себе творца вселенной в качестве личного абсолюта, то… можно знать наперед, что это будет лишь продукт нашей фантазии» («Старая и новая вера»). Однако безличностный бог бытийствует лишь как предметная действительность, его социально-историческое созидание осуществляется посредством человеческой деятельности. Бог и человек предполагают друг друга, поскольку божественный дух не может существовать, не осуществляя себя через конечные духи. В этом смысле истина Бога — не сам Бог (то есть абстрактное понятие, идея) и не сам человек, а богочеловек.
Исторически сложившийся тип человеческой рефлексии требует зримого бога во плоти, — в этом причина заданности идеи воплощения и спроса на общедоступное объяснение феномена богочеловека. Ответом на этот спрос выступает миф о непорочном зачатии с участием небесного отца и земной матери (и вся последующая система христианской мифологии). Мог ли реальный, исторический Иисус быть инкарнацией (воплощением, вочеловечением) Бога? Ответ Штрауса честен и мужествен: «Не мог». Богочеловечность не может быть исключительным качеством одной личности, ибо идея Бога «выражает свое богатство среди множества индивидов, которые взаимно дополняют друг друга»[8]. Конечно же идея воплощает себя в разных лицах в неодинаковой степени, вследствие чего каждый человек в стремлении к самореализации нуждается в других людях и человечестве в целом. Истинное воплощение Бога возможно только в человеческом роде, так что богочеловек для Штрауса — это богочеловечество. При таком понимании он готов согласиться с тем, что инкарнация бога в Иисусе могла быть наиболее полной, но никоим образом не абсолютной.
Штраус принимает непреходящие ценности христианства, но считает, что они необходимо связаны с несовершенными историческими формами. Назначение христианства — способствовать реализации человеческих потенций, что предполагает совершенствование самих людей и улучшение условий их бытия. Поэтому христианство не сводимо к этике. Это более широкое и социально значимое учение, подверженное историческому изменению, тенденцию которого Штраус характеризует как «прогрессивное превращение религии Христа в религию гуманности, к которому направлены все благородные стремления нашего времени» (с. 488).
Трудно понять и оценить серьезную книгу, не имея представления о мировосприятии и умонастроениях автора, еще труднее — ориентируясь на неадекватное представление. Поэтому уместно затронуть вопрос о так называемом поправении Штрауса после революции 1848–1849 годов и его политическом консерватизме, тем более что в наших изданиях эти квалификации стали, по существу, нормативными, между тем как они, по меньшей мере, нуждаются в уточнении.
Когда в преддверии революционных событий прусский король Фридрих-Вильгельм IV санкционировал созыв Франкфуртского национального собрания, Штраус, уступая нажиму демократической общественности, выставил свою кандидатуру. Его программа требовала разделения политики и религии, церкви и государства, введения гражданских свобод, объединения Германии. Выборы Штраус проиграл, однако тут же был избран в Вюртембергский парламент. По мнению многих авторов, в политическом отношении Штраус был наивен и непрактичен. Согласиться с этим трудно. Дело скорее в том, что его быстро разочаровало либеральное краснобайство, не подкрепляемое конструктивной деятельностью. Он отмежевывается от левых и сближается с консерваторами, неизменно руководствуясь при этом стремлением к правовому порядку. Его поведение не наивно, а противоречиво, а это не укладывалось в логику политического практицизма. Он голосовал против радикалов, осудив революционные выступления в ряде местностей как анархистские эксцессы, но одновременно он поддержал левых депутатов, когда встал вопрос об ограждении интересов крестьян от крупных землевладельцев, и решительно отверг предложение прусского короля редактировать новый политический журнал. За такой противоречивостью скрывались принципы, не всеми замеченные и оцененные.
Один из главных эпизодов политической биографии Штрауса, принесший ему нелестную репутацию реакционера и «врага немецкой свободы», — его отказ поддержать резолюцию, осуждающую расстрел в Вене участника революционных событий, депутата Франкфуртского собрания Роберта Блюма. Этот случай чрезвычайно важен для понимания характера гражданственности Штрауса. Он отнюдь не колебался в осуждении казни Блюма, но полагал, что принцип свободы предполагает защиту чести и жизни каждого, поэтому в равной мере следует осудить убийство толпой двух других — консервативных — депутатов Франкфуртского собрания, Ауэрсвальда и Лихновски. «Политическая наивность» Штрауса не в том, что для него откровением стала малая конструктивность парламентской риторики, а демократические институты оказались скорее говорильнями, чем выразителями общей воли, а в том, что он не скрывал на этот счет своего мнения, не смог и не захотел стать политиканом. В декабре 1848 года он сложил депутатские полномочия.
Какие бы взгляды Штраус ни разделял, он стремился быть их честным выразителем. Он не скрывал неприятия социализма и приверженности конституционной монархии, но при всём том он был неизменным поборником свободы мысли, совести и слова. Он страстно желал объединения Германии, однако в данном случае его вполне естественное патриотическое чувство не удержалось в рамках нравственно-правовой меры. Изучение германской истории, особенно последнего столетия, и собственный политический опыт привели Штрауса к выводу, что ни религия, ни массовые движения, ни усилия интеллектуалов не способны осуществить эту цель. Поэтому его интерес привлекает фактор иного порядка — набирающий силу гегемонизм Пруссии, причем это интерес не столько идейный, сколько прагматический. В июле 1866 года в письме своему другу А. Раппу он признаётся, что не питает любви к Пруссии, но относится к ней с уважением, поскольку на ней покоится его надежда на германское единство.
После аннексии Пруссией Шлезвига и Гольштинии в Штраусе стал оживать националистический дух, который окреп в период франко-прусской войны, что нашло любопытное преломление в его переписке с Ренаном. По выходе в свет книги о Вольтере Штраус счел естественным отправить дарственный экземпляр своему французскому единомышленнику и другу, публично объявившему себя его последователем и в значительной мере бывшим таковым. Ренан ответил благодарственным письмом, датированным 31 июля 1870 года. К тому времени уже две недели шла война, в связи с чем Ренан выразил глубокое сожаление и осудил обе конфликтующие стороны. Ответ Штрауса от 12 августа с обвинениями в адрес Франции озадачил Ренана, и он в своем новом письме пытается объяснить, что французы в общем-то миролюбивы, а Пруссия несколько агрессивна, — на что последовало еще более резкое послание Штрауса от 29 сентября, положившее конец дружбе двух ученых. В своих письмах Штраус обосновывал право Германии на национальное единство, государственность и независимую от вмешательства извне политику (что Ренаном и не отрицалось). Одновременно он утверждал, отчасти справедливо, что Франция, стремящаяся к гегемонии в Европе, препятствует немецкому единству, и пытался доказать, что Германия имеет право на Эльзас и Лотарингию. Наконец, Штраус откровенно превозносит Пруссию — ее политику, культуру, историческую миссию.
Маленькая деталь: письма Штрауса публиковались в аугсбургской «Альгемайне цайтунг» и вскоре вместе с ответом Ренана вышли отдельным изданием.[9] Иными словами, эпистолярный жанр трансформировался в политическую публицистику. В упоенной победой стране «Переписка» имела огромный успех, а Штраус стал чуть ли не национальным героем.
Неожиданная для не избалованного общественной благосклонностью Штрауса слава ничуть не ослабила его субъективную честность и критическую отвагу в отношении догматического христианства, церкви и самого режима, стремящегося использовать религию как средство политики. В 1872 году выходит в свет последняя книга Штрауса, по силе критики (но не по теоретическому уровню) превзошедшая «Жизнь Иисуса», — «Старая и новая вера», и, по словам биографа Штрауса, «после „Осанна!“ сразу же последовал прежний клич „Распять его!“»[10].
Нетрудно объяснить патриотическую эйфорию Штрауса, но вряд ли можно оправдать измену научной добросовестности, в которой он бесспорно повинен. В этом плане, пожалуй, самый серьезный упрек содержится в посвященном ему эссе, открывающем серию «Несвоевременных размышлений» Ницше: «Из всех дурных последствий последней франко-прусской войны самое дурное — это распространенное повсюду… заблуждение общественного мнения, что в этой борьбе одержала победу также и немецкая культура»[11]. Правда, далее Ницше ополчается против книги «Старая и новая вера» и так называемого филистерства Штрауса, и в ход идут далеко не академические аргументы. В недалеком будущем сам Ницше по-своему и очень нестандартно будет выяснять отношения с христианством. И хотя в этой области его следует отнести к числу противников Штрауса, он далеко не первый и не последний мыслитель, чей христологический интерес был стимулирован автором «Жизни Иисуса».[12]
Влияние Штрауса на последующую философию значительно и неоднозначно, но рассмотрение этого вопроса выходит за рамки задач и возможностей данной статьи. Достаточно сказать, что Штраус был пионером младогегельянства, плодотворное воздействие его идей обнаруживается и в творчестве его выдающихся оппонентов — Фейербаха и Бруно Бауэра. Не случайно и молодой Энгельс пишет в одном из писем: «…я — штраусианец». Это преклонение оказалось непродолжительным, но было важным моментом идейного развития Энгельса, вполне им вскоре осознанном: «Благодаря Штраусу я нахожусь теперь на прямом пути к гегельянству».
Противоречивость Штраусовой концепции проявилась в том, что она сыграла заметную роль в развитии как богословской, так и атеистической мысли. Отчасти это можно объяснить тем, что задача решения ряда проблем библеистики породила потребность в кооперировании средств теологического и научно-исторического анализа. Другая причина — в широте и многоаспектности теории Штрауса, компоненты которой оказали влияние на различные типы мышления.
Давая в какой-то форме общую оценку «Жизни Иисуса» Штрауса, хочется избежать стандартных клише типа «теоретическая ограниченность», «не понял», «не сделал». Легко показать, что Штраус не раскрыл тайны религиозного сознания, — но он и не задавался такой целью, ограничив свою задачу объяснением возникновения и природы евангельского повествования как историко-культурного явления. Поэтому имеет больший смысл обратить внимание на наличие фактических некорректностей, обусловленных отчасти уровнем исторического знания, отчасти — теоретическими установками Штрауса. Так, не находит исторического подкрепления его настойчивое стремление представить апокрифическую книгу Еноха творением или модификацией автора I–II веков с целью доказать, что ее апокалипсические и мессианские идеи являются результатом более поздней христианской интерполяции. Обнаруженные в Кумране в середине нашего столетия фрагменты еврейского и арамейского текстов Еноха свидетельствуют о более раннем происхождении этого сочинения и в то же время дают более полное представление о преемственности между дохристианским и христианским мессианизмом, что, в конце концов, лишь подтверждает основную идею Штрауса.
Встречаются довольно грубые неточности, вызывающие чувство досады. Однако их не всегда можно считать издержками историографической неосведомленности. Нередко они являются следствием спекулятивной методологии Штрауса (характер которой хорошо выражен знаменитой гегелевской репликой: «Тем хуже для фактов») и позволяют лучше ее понять. В 29-й главе книги, затронув важную тему взаимодействия античной языческой и древнееврейской религиозных культур, Штраус делает вывод, что самобытность греческого духа состояла в развитии «истинно человеческого начала», выразившегося в антропоморфизме греческой религии. Она ставится Штраусом выше любого другого политеизма: «Ни индусы, ни ассирийцы, ни египтяне не представляли своих богов в чисто человеческом образе…» (с. 156). Это излишне сильное утверждение. Индуистские боги в подавляющем большинстве антропоморфны. Да и у ассирийцев и у древних египтян далеко не все божества носят птичьи или звериные головы — достаточно вспомнить Осириса и Исиду или шумеро-аккадских богинь-матерей и верховного бога Мардука (позже идентифицировавшегося с Ашшуром). В то же время греческая религия не совсем свободна от зооморфизма, а это не только козлиные ноги и рога Пана или змееподобие Эхидны, но и способность самого громовержца превращаться в иных животных, напоминающая о более «натуральной» генеалогии олимпийцев. Однако Штраус исходит из специфической роли античной культуры в отношении христианства, и этим объясняется резкое, доходящее до небрежения фактологией, противопоставление ее другим политеистическим системам.
Действительно, антропо- и социоморфизация греческого язычества достигла очень высокой степени, по существу, классического предела. С точки зрения Гегеля, переход от зооморфных богов к идеализированным антропоморфным образам связан с новым этапом становления человеческого духа. Он обретает способность к рефлексии, самопознанию, которая вызревала в недрах восточного духа, но смогла реализоваться только у греков. Это осуществление божественного предписания, о котором свидетельствует знаменитая надпись в святилище Аполлона в Дельфах: «Познай самого себя!» И античный дух, особенно от Сократа до поздних стоиков, упорно ему следует, что выразилось в растущем интересе к антропологическим и этическим проблемам, достигающем кульминации в эпоху эллинизма. Иудаизм, отпрыск восточного духа, был к этим проблемам достаточно равнодушен. Ветхозаветные моральные принципы, ритуалистика и вообще предписываемые иудаизмом поведение и правила жизни отличаются жестким нормативизмом, вполне гармонирующим с образом сурового и мстительного Яхве.
Штраус прав в том, что христианство, синтезировавшее оба своих духовных истока (и не сводимое ни к одному из них), во многом обязано языческой культуре тем, что проблемы внутреннего мира («сердца») человека, моральности, исторических перспектив рода человеческого встали в центр его внимания, — а это в немалой степени обеспечило его гуманистические потенции. Таким образом, некорректная оценка Штраусом характера негреческого политеизма не сказалась существенно на его важнейшем выводе. Впрочем, реальная история много сложнее представленной схемы.
Вряд ли благодарна и полезна работа по выявлению и критике фактических неточностей и ошибок Штрауса. В конце концов, возраст переиздаваемой книги дает ей право на снисхождение. К тому же она — не религиоведческое, в узком смысле слова, а философско-религиозное исследование, к которому строгие историографические критерии не всегда приложимы, и ее уроки для сегодняшнего читателя в другом. Знакомясь с работой Штрауса, полезно на ее примере убедиться в том, что условием (но не гарантией) продуктивности любого обществоведческого анализа является доскональное владение материалом. В научном религиоведении это важно вдвойне. Без знания каноники, догматики, теологических концепций, церковной истории и т.д. критика превращается в псевдокритику, подменяющую силой выражений или, хуже того, эстрадным остроумием силу вдумчивой аргументации. Важен и нравственный урок Штрауса: мужественно отрицая догматическое понимание Христа, Штраус в высшей степени деликатно обращается с образом исторического Иисуса, высоко ценя духовные и моральные качества его личности и учения, то есть не превращает аргумент в поношение.
Наша кризисная эпоха отмечена печатью еще одной беды, опасность которой порой недооценивается: тенденцией к деинтеллектуализации общества. Она выражается не только в том, что порнографические и криминалистические жанры успешно теснят серьезную литературную продукцию, а банальные суждения о духовности принимаются за саму духовность. Она выражается в чрезвычайной легкости, с которой принимаются на веру всевозможные псевдонаучные и псевдорелигиозные суждения, в особенности связанные с примитивными метафизическими домыслами относительно так называемых аномальных явлений (сказанное не относится к немногим, действительно профессиональным, исследовательским усилиям в этом направлении). Мы устрашающе быстро утрачиваем то, что по-настоящему еще не обрели, — иммунитет здорового скепсиса и подлинно теоретического любопытства и антидогматизма, требующих трудных умственных усилий и знания. До сих пор нами не освоен значительный опыт критического анализа религиозного сознания, в частности накопленный представителями Тюбингенской школы и левогегельянской традиции. Ознакомление с книгой Штрауса — хороший способ уменьшения этой культурной лакуны. Кант показал невозможность обоснования или опровержения Бога как запредельной, метафизической сущности. Носитель гегелевской традиции Штраус сделал важный шаг вперед в осмыслении Бога как культурно-исторического явления и объекта социального познания. При всей спорности и неполноте его концепции, она вносит определенную ясность в понимание того, как возникает вера в Бога-Мессию. Без этого как не подступиться к более трудному почему. Поэтому, хотя и с опозданием, наше религиоведение должно осмыслить и оценить вклад автора «Жизни Иисуса» в становление научной библеистики и христологии. Настоящее издание воспроизводит перевод В. Ульриха с 18-го немецкого издания (Д.Ф. Штраус. Жизнь Иисуса. Кн. 1–2. Лейпциг — С. Петербург, 1907). Перевод сверен с немецким оригиналом И.В. Купреевой, в русском тексте сделаны необходимые исправления и восстановлены примечания Штрауса (за исключением некоторых библиографических и технических).
А. М. Каримский
Предисловие к первому и второму изданию
Почти 29 лет тому назад в предисловии к первому изданию моей «Жизни Иисуса»[13] я умышленно заявлял, что этот труд мой предназначен для богословов, что для лиц, не получивших богословского образования, он недостаточно популярен и что вообще книга эта намеренно составлена так, чтобы она была понятна только для богословов. Теперь же я, напротив, решил написать книгу, доступную также и для тех, кто не знаком с теологией, и приложил все старания к тому, чтобы меня понял всякий образованный и мыслящий человек, а пожелают ли прочесть мою книгу богословы (я разумею богословов профессиональных), это для меня совершенно безразлично.
Вот как изменились времена! С одной стороны, я уже не могу теперь считать большую публику, как прежде, неподготовленной для такого рода вопросов. Помимо меня, благодаря моим ожесточенным противникам, именно тем, которые когда-то требовали, чтобы я писал свою книгу хотя бы по латыни, и которые не прекращали выпадов в мой адрес, вопросы эти стали интересовать массу, затем их стали популярно, хотя и не всегда удачно, разрабатывать другие авторы, более решительные, чем я. И наконец, политическое пробуждение германского народа расширило арену также и для обсуждения проблем религии. Вследствие этого многие поколебались в своей привязанности к старине и начали самостоятельно размышлять о предметах веры; вместе с тем и в массе населения стали обращаться многие идеи общего характера, присутствие которых нельзя было предполагать в то время, когда мой труд выходил первым изданием. В конце концов, чисто цеховым предрассудком является предположение о том, будто самостоятельно судить о вещах такого рода может только богослов и вообще ученый человек. Напротив, теперь все объекты подобного исследования и обсуждения, в сущности, столь просты, что всякий, у кого есть голова на плечах и мужественное сердце в груди, смело может заявить: то, чего я не могу уразуметь даже по зрелом размышлении и при посторонней помощи, совсем не важно.
С другой стороны, время показало, что именно в этой области теологи менее других способны рассуждать самостоятельно и беспристрастно. Они являются одновременно и судьями и подсудимыми. Им кажется, что критика традиционных устарелых взглядов на предметы христианской веры вообще и на ее основу — евангельскую историю — в частности равносильна потрясению их личного достоинства и авторитета как представителей духовного сословия. Справедливо ли это мнение, или нет, этого мы разбирать не будем; факт то, что они так полагают. Впрочем, каждое сословие своим существованием дорожит прежде всего, и лишь немногие решаются отстаивать такое новшество, которое грозит уничтожением сословия или урезанием его прав. Во всяком случае, справедливо то, что, если христианская религия избавится от элементов чуда, тогда и духовенство перестанет быть той корпорацией кудесников, какой оно является до сих пор; тогда его представителям уже нельзя будет изрекать благословение, а придется довольствоваться ролью простых наставников, хотя, конечно, второе — настолько же трудное и неблагодарное дело, насколько первое — легкое и выгодное.
Итак, прогресс в области религии возможен лишь в случае, если богословы, встав выше предрассудков и своих цеховых интересов и не оглядываясь на большинство своих сотоварищей, протянут руку мыслящим членам общины — паствы. Мы теперь вынуждены апеллировать непосредственно к народу, так как богословы в большинстве своем не желают выслушивать нас, подобно тому, как апостол Павел вынужден был обратиться к язычникам, когда иудеи стали отвергать его благовестие. А если сам народ, в лице своих лучших представителей, успеет настолько развиться, чтобы не довольствоваться тем, что ему обыкновенно преподносит духовенство, тогда и представителям духовного сословия придется образумиться. Их следует подталкивать — ведь и юристы старого покроя только тогда стали отстаивать суд присяжных и иные реформы в своей специальной области, когда на них было произведено давление со стороны общественного мнения. Я знаю, что кое-кто из этих господ станет теперь кричать о перебежчике-богослове, желающем играть роль демагога-клерикала. Пусть так, но ведь и Мирабо был дворянином-перебежчиком, желавшим сблизиться с народом, и, как известно, последствия этого сближения были огромны. Хотя я лично и не приписываю себе талантов Мирабо, однако я с чистой совестью могу оглянуться на свое прошлое и на то деяние, за которое я подвергся опале со стороны цеха, некогда меня в себя включавшего.
Посвящение настоящего труда народу является одною из причин, вследствие которых я отказался от мысли выпустить новым изданием мою критическую обработку жизни Иисуса и решил написать новую книгу, в которой от прежней не сохранилось ничего, кроме основной руководящей мысли. Но в том же направлении меня толкало и другое обстоятельство. Давно уже хотелось мне при новом издании моего труда обозреть все те успехи, которые достигнуты были в этой области со времени его первого опубликования, отстоять занятую мною в нём позицию против новых возражений, исправить и дополнить его выводы результатами дальнейших изысканий, чужих и моих собственных. Но скоро я увидел, что вследствие того утратил бы свое оригинальное лицо мой старый труд, значение которого тем именно и определилось, что он появился ранее упомянутых новейших изысканий, а это обстоятельство меня очень смущало, ибо мой первый труд не только является историческим памятником, отмечающим поворотный пункт в развитии новейшей теологии, но благодаря своей конструкции еще долго может служить небесполезным пособием для учащихся. Поэтому я и решил оставить старую «Жизнь Иисуса» в ее первоначальном, прежнем виде, а если в будущем она окажется распроданной и потребуется ее новое издание, то настоящим я завещаю перепечатать ее согласно первому изданию, включив в нее лишь некоторые исправления по четвертому изданию.
Итак, мне предстояло включить и в этот популярный труд критическое обозрение новейших изысканий, и это я исполнил, хотя и отбросил ученые детали. Конечно, книга от этого потерпела некоторый ущерб, но зато мне удалось отделаться от балласта ученых «предрассудков». Одним из них является столь часто встречающееся в научных трудах богословов-вольнодумцев заверение, будто в основу их исследований положен «чисто исторический интерес». При всём моем почтении к словам ученых людей, я решаюсь всё же утверждать, что они пытаются уверить в том, что невозможно, а если это возможно, я счел бы это маложелательным. Конечно, кто пишет о владыках Ниневии или египетских фараонах, тот, может быть, и преследует «чисто исторический интерес», но христианская религия есть столь живая сила, а вопрос о ее происхождении столь остро интересует современность, что надо быть тупоумным человеком, чтобы в решении таких вопросов усматривать только «исторический интерес».
Но одно верно: кому не нравится в современной церкви и теологии то обстоятельство, что они считают христианскую религию сверхъестественным откровением, ее основателя — богочеловеком, а жизнь его — непрерывной цепью чудес, тот может путем исторических изысканий вернее всего достичь своей цели, то есть избавиться от всего того, что его гнетет. Такой человек уверен, что всё совершается естественным образом, что даже самый совершенный человек остается человеком, что, стало быть, и то из первоначальной истории христианства, что ныне ослепляет глаз наш как предполагаемое чудо, в действительности могло совершиться лишь естественным путем. Поэтому он и надеется, что чем точнее будет установлен действительный исторический процесс, тем явственней обнаружится его естественный характер, и, стало быть, он в силу собственного развития придет к необходимости детальных исторических изысканий и вместе с тем к суровой исторической критике. В этом отношении я вполне согласен с этими учеными, да, вероятно, и они со мною согласятся, если пристальнее всмотрятся в существо своих стремлений: наша цель — не изучать минувшую историю, а оказать содействие человеческому духу в целях его грядущего освобождения от гнетущего бремени веры, и лучшим средством для достижения этой цели я вместе с ними признаю, наряду с философским изъяснением понятий, историческое изыскание.
Оговоркой о «чисто историческом интересе» многие нередко пользуются для того, чтобы не доводить исследование до его логического конца, так что и лес учености ими не расчищается до того места, откуда открывается вид на свободное пространство. Подобных исследователей интересует не то, что Иисус действительно сказал и сделал, а лишь то, какие речи и деяния ему приписывает тот или иной повествователь; их интересует не то, о чём, собственно, речь в евангельской повести, а лишь то, что имел в виду и что хотел сказать повествователь, придерживающийся определенной точки зрения и преследующий определенные цели. Такие исследования посвящаются исключительно евангелистам и совершенно игнорируют Господа, — так и политики, предавшиеся конституционной фикции, толкуют только о правительстве и совершенно игнорируют корону. Подобными исследованиями можно, конечно, бороться против фанатизма; хорошо и то, что при таких изысканиях получают серьезную разработку важные предварительные вопросы, но этим ограничиться нельзя. Мы настоятельно желаем знать, правду ли или неправду говорит евангельская история в целом и в частностях, и упомянутые предварительные вопросы представляют общий интерес лишь в меру своей связи с означенным главнейшим вопросом. В этом отношении работа критиков евангелия за последние двадцать лет была бесплодна. Создавались всё новые и новые гипотезы относительно евангелий (особенно трех первых), а также их источника, их цели, их состава и взаимоотношения, и все эти гипотезы с таким усердием отстаивались одними и оспаривались другими, словно в них вся суть вопроса, а теперь этот спор так сильно разгорелся, что начинаешь сомневаться, прояснится ли когда-нибудь главнейший вопрос, если только спор действительно когда-либо коснется этого вопроса.
Но, к счастью, дело это зашло еще не слишком далеко. Бесспорно, выяснить характер Евангелия от Иоанна и его отношение к другим евангелиям необходимо, чтобы иметь возможность судить о вопросах данной области; но в евангельской истории найдутся многие другие, притом весьма существенные вопросы, которые можно разрешить вполне удовлетворительно, хотя бы мы и не выяснили окончательно, писал ли евангелист Матфей по-еврейски или по-гречески, составил ли он только сборник изречений Иисуса или подлинное евангелие, списал ли евангелист Лука с евангелистов Марка и Матфея, или же Марк списал с Матфея и Луки. Независимо от этих и подобных вопросов, мы можем прежде всего выяснить, как не следует представлять себе евангельскую историю. С точки зрения нашей не чисто исторической цели, обращенной вперед, а не назад, подобный отрицательный вывод как раз является важным, если не главным. Он сводится к предположению, что ни в личности, ни в деятельности Иисуса не заключается ничего сверхъестественного, ничего такого, что требовало бы от человека слепой, беззаветной веры и преклонения перед авторитетом. Я полагаю, что через этот отрицательный вывод можно прийти к ясности, не зависящей от разрешения всех вышеупомянутых бесконечных вопросов критики, ибо нетрудно показать, что все наши евангелия в совокупности и каждое в отдельности не обладают той властной исторической достоверностью, которая нужна, чтобы пленить наш разум и заставить его веровать в чудесное.
Положительный вывод, дополняющий собою вывод отрицательный, сводится к уяснению того, как мы должны смотреть, с одной стороны, на личность, цели и судьбы Иисуса и, с другой стороны, на появление неисторического элемента в евангельских повествованиях о нём. Чтобы разрешить удовлетворительно эти вопросы, нам нужно было бы, конечно, знать, что именно внес от себя лично каждый из евангелистов, рисуя образ Христа, и из каких источников бралась та или иная черта, однако этого нельзя определить достоверно, пока не будут в точности изучены как внешние, так и внутренние условия их авторства, их цели и средства. В действительности мы еще не ушли так далеко, но тем не менее позволительно и даже желательно, чтобы от времени до времени подводились общие итоги и ставился вопрос: что, собственно, можно сказать по существу указанных главнейших вопросов при данном положении исследований, учитывая то, что установлено как вполне вероятное, и опуская то, что основано лишь на шатком предположении. Тогда всем заинтересованным лицам будет ясно, в чём суть вопроса или речи, — и такие ретроспективные обзоры, такие возвращения от периферии к центру были всегда полезны для науки.
Что же касается меня лично, то я продолжаю и теперь отстаивать свою прежнюю позицию, пытаясь лишь использовать все новые евангелические изыскания в интересах освещения вопроса о евангельской истории. С этой целью я старался заимствовать всё поучительное у всех авторов, успевших выдвинуться в области евангелической критики после появления первого издания моей «Жизни Иисуса», и никто не сможет обвинить меня в том «литературном пилатизме», в котором некогда швейцарцы обвинили Готшеда[14] за его упрямое отстаивание единожды написанных слов. Наиболее полезными указаниями я обязан Бауру и тем людям, которые продолжали изыскания в его духе, и если я соглашался и не со всеми их выводами, то всё же сочувствовал духу и методу их исследований, и, наоборот, признавая плодотворным тот или иной отдельный вывод моих противников, я, как всегда, не соглашался с целями и средствами их направления. Критики первого рода, надеюсь, не усмотрят пренебрежения к их исследованиям в том, что в труде, который преследует цели, аналогичные целям настоящей книги, я не коснулся некоторых из затронутых ими вопросов, а то, как отнесутся к моей книге богословы второго рода, я предвижу ясно, и меня ничуть не удивит с их стороны ни высокомерное умолчание, ни пренебрежительная критика, ни даже обвинение в оскорблении святыни. И так как книгу эту я предназначил для германского народа, то я предвижу, что и от имени народа посыпятся на меня протесты от людей, которых сам народ на это не уполномочил.
Под германским народом я разумею народ, верный Реформации, а под Реформацией я разумею не завершенное дело, а дело, которое необходимо продолжать и завершить. К продолжению дела Реформации ныне столь же властно понуждает состояние образованности, как 350 лет тому назад состояние образованности же понуждало приступить к ее началу. Теперь мы тоже переживаем кризис, и тем более мучительный, что нам, как и нашим предкам, одна часть действующего христианского учения стала в такой же мере несносной, в какой другая осталась необходимой. Но век Реформации имел хотя [бы] то преимущество, что несносный элемент он видел, главным образом, в учении и практике церкви, тогда как собственно библейское учение и строй церкви, упрощенный в духе указаний Библии, его вполне еще удовлетворяли. При таких условиях критическое выделение пригодных элементов представлялось делом сравнительно легким, и так как народ продолжал еще считать Библию неприкосновенным сводом божественных откровений и спасительных поучений, то и сам кризис был не опасным, хотя и бурным. Теперь, наоборот, сомнению подвергнуто даже то, что протестантами того времени еще признавалось, Библия, с ее историей и учением; даже в Библии мы стали теперь отличать истинное и обязательное для всех времен от всего того, что зиждилось лишь на представлениях и отношениях определенного момента и что нам стало теперь представляться непригодным и даже неприемлемым. Но даже и то, что ныне считается действительным и обязательным, признаётся таковым не потому, что оно есть божественное откровение, возвещенное через особых посланников, компетентность которых засвидетельствована чудесами, а потому, что мы признали его истинным на основании разума и опыта и опирающимся на законы человеческого существа и мышления.
Необходимым и приемлемым признаётся в христианской вере то, чем она избавила человека от чувственной религии греков, с одной стороны, и иудейской религии закона — с другой; стало быть, с одной стороны — вера в то, что миром управляет духовная и нравственная сила, и, с другой стороны, убеждение в том, что повинность, которую мы обязаны отбывать по отношению к этой силе, может быть только духовной и нравственной, как и сама сила, повинностью сердца и ума. Впрочем, нельзя сказать, что последнее убеждение досталось нам от прежнего христианского учения, ибо оно, по крайней мере в чистом виде, практически еще не осуществлялось. Даже протестанты цепляются еще за целый ряд таких обрядов, которые ничем не лучше древнеиудейских церемоний и тем не менее считаются существенно необходимыми для блаженства. И если мы станем допытываться, как и почему этот чуждый элемент проник в религию Иисуса и утвердился в ней, то мы увидим, что причиной этого является то же, что составляет главное затруднение нашего времени в отношении старой религии: иллюзия чудесного. Пока христианство будет рассматриваться как нечто данное человечеству извне, а Христос — как пришелец с небес, пока церковь Христа будет считаться учреждением, служащим для освобождения людей от грехов посредством крови Христовой, до тех пор и сама религия духа будет религией недуховной, и христианское учение будет пониматься по-иудейски. Только тогда, когда все признают, что в христианской вере человечество лишь сознало себя глубже, чем в былое время, что Иисус — лишь человек, в котором это углубленное самосознание впервые превратилось в силу, определяющую его жизнь и существо, что освобождение от грехов обретается усвоением такого образа мыслей и восприятием его в собственную плоть и кровь, только тогда христианское учение будет действительно пониматься по-христиански.
В наше время люди уже начинают, хотя и смутно, осознавать, что в этом именно и заключается правда и прочность христианского учения и что всё прочее представляет собой лишь тленную и наполовину уже истлевшую оболочку. Теперь к этой мысли даже и простолюдины стали приходить самостоятельно, тогда как многие из представителей общественных верхов ее не понимают, как и вообще не понимают они многого хорошего и высокого. Но при той тесной связи, которая установлена между обоими элементами христианской веры книгами Священного Писания, многие рискуют вместе с оболочкой утратить также и ядро учения или испытать мучения борьбы и колебаний между безграничным неверием и патологической верой, между вольнодумством и ханжеством. Помочь таким колеблющимся и нерешительным людям — долг каждого, кто чувствует себя для этого достаточно сильным. Но оказать действительную помощь можно лишь путем решительного проведения демаркационной линии между нетленными и тленными элементами христианской веры, между подлинной спасительной истиной и мнимоистинным и преходящим предположением. Такая граница, конечно, проходит через Священное Писание, то есть через сердце искренно верующих христиан, особенно протестантов. Но ведь и скорбь сердца когда-то причислялась к делам христианского покаяния, а в данном случае она сводится лишь к терзанию ума и признанию закономерности разумного. Кто хоть раз уразумел, что человечество и всё ему принадлежащее, не исключая и религии, развивалось исторически, тот должен ясно понимать и то, что ни на одном из пройденных этапов этого развития нельзя было достичь абсолютно наивысшего, что идейный кругозор религиозных документов, которые появились полторы тысячи лет тому назад при крайне неблагоприятном состоянии образования, не может быть усвоен нами непосредственно и что он может обрести в наших глазах значение лишь в том случае, если в нём существенное будет отделено от несущественного.
Произвести такое разделение — ближайшая задача протестантов, а поскольку весь германский народ стремится к дальнейшему развитию протестантизма — задача немцев. Стремление к свободной организации церковного управления, сказавшееся уже в разных частях Германии, может быть признано лишь подготовительной работой, и в этом смысле оно представляется явлением отрадным; но было бы роковым заблуждением полагать, что этим исчерпывается сущность всего дела, а заявление о том, что в наше время речь идет уже не о догматах, а о церковной жизни, не о противоположности между рационализмом[15] и супранатурализмом, а о различии между «общинной» и «клерикальной» церковью[16], является лишь близорукой или двусмысленной фразой: ибо церковная организация есть лишь форма, в которой вы сохраняете содержание христианства; чтобы решить, какая форма для этой цели наиболее пригодна, необходимо знать, что такое христианское учение: есть ли оно нечто естественное или сверхъестественное, а этого вопроса нельзя оставить нерешенным, потому что сверхъестественная религия, исполненная таинств и разных средств спасения, логически приходит к учреждению сословия иереев, стоящих над общиной прихожан. Кто хочет удалить попов из церкви, тот должен раньше удалить чудесное из религии.
Призывая германский народ к исполнению этой духовной работы, я не требую, чтобы он отказался от политических задач; я только напоминаю, что для решения этих задач необходимо создать твердую почву. Если несомненно то, что Реформация, зародившаяся в недрах самобытности нашего народа, наложила на него неизгладимую печать, то, разумеется, он не может рассчитывать и на успех того, что к Реформации не примыкает непосредственно, что не выросло на почве внутренней культуры духа и сердца. Мы, немцы, можем политически освободиться лишь в меру нашей духовной, религиозной и моральной свободы. Теперь, когда народ наш пытается объединиться в одну нацию[17], что же мешает ему исполнить это, что же поддерживает безотрадный антагонизм между Севером и Югом, как не двоеверие и то досадное обстоятельство, что успешно развивавшийся процесс Реформации был насильственно задержан, так что Реформация коснулась только одной половины германского народа и страны, или, вернее, поскольку она стала укореняться почти повсеместно, она была святотатственно похищена у народа. Пора понять обоим лагерям, что при настоящем положении вещей никому уже не удастся переманить к себе другого и что воссоединение или объединение противников возможно лишь при новой, третьей точке зрения, более высокой, чем точка зрения борющихся партий. Но встать на эту высшую, объединяющую точку зрения народ германский сможет лишь в случае, если он проникнет в тайники религии и сбросит с себя иго тех внешних аксессуаров, в которых коренится между прочим вероисповедное разномыслие. Серьезную практическую попытку в этом отношении уже успели сделать со стороны католиков группа «Немецкий католицизм»[18], а со стороны протестантов — объединение «Друзья просвещения»[19], начавшие осуществлять слияние в свободных религиозных общинах. Цель настоящего труда — внести научный вклад в это движение.
В этом смысле автор настоящей книги дружески протягивает руку через Рейн своему французскому единомышленнику Ренану. Книгу Ренана[20], столь быстро получившую известность, можно оценивать всячески, но уже тот факт, что тотчас после появления своего она была предана проклятию целым сонмом епископов и даже самой Римской курией, указывает на то, что она обладает крупными достоинствами. Она, конечно, не свободна от промахов и недостатков, но мы в ней находим лишь одну, существенно важную ошибку, и я надеюсь, что даровитый автор когда-нибудь и сам ее осознает и постарается исправить. Прочие же недостатки книги отчасти представляют свойства, которые соотечественниками автора считаются достоинствами и преимуществами, поэтому не будет удивительным, если и то, чем автор настоящего труда надеется приобрести расположение своих соотечественников, будет за Рейном признано неудачным или скучным. «Жизнь Иисуса», написанную Ренаном и появившуюся тогда, когда я уже заканчивал свой труд, я радостно приветствовал как симптом повсеместно пробудившейся тождественной потребности, и, ознакомившись с нею ближе, я к ней отнесся с чувством искреннего почтения. Переубедить меня ей, правда, не удалось. Но все желания мои сходятся на том, чтобы мне удалось написать для немцев такую книгу, какую для французов написал Ренан.
Гейлбронн, январь 1864 г.
Автор.
Введение
§1. Идея жизнеописания Иисуса
Выражение «жизнь Иисуса» и труды с таким или подобным заголовком встречаются уже в древнейшие времена; однако то, что мы теперь разумеем под жизнью Иисуса, представляется совершенно новым понятием.
Церковь протестантская и церковь католическая создали лишь два учения о личности и деяниях или миссии Христа: первая разъясняла, кто был Христос, совершивший то, что было нужно для восстановления падшего человечества, причем она подчеркивала, что Христос был вочеловечившийся сын Божий; а вторая подробно выясняла, что он сделал для нас и продолжает делать в качестве богочеловека. Эти деяния Иисуса, будучи отнесены к прошлому и к пребыванию его на земле в образе человека, конечно, представляют собой один из элементов его «жития», или, если угодно, вся его земная жизнь представляет богочеловеческую тему о спасении рода человеческого, но так представлять себе и понимать его деятельность — значит рассматривать ее под иным углом зрения, чем тот, под которым обычно рассматривается всякая человеческая жизнь в целях биографического рассказа. Однако деятельность и жизнь Иисуса так именно и понимались, пока учение церкви пользовалось безусловным авторитетом; труды о «житии» Иисуса-Спасителя представляли собой лишь компиляцию и пространный пересказ евангельской истории с точки зрения церковного догмата, а совсем не то, что мы теперь понимаем под жизнеописанием или историей Иисуса.
В герое биографии мы большей частью видим человека совершенного и цельного; но лицо, которое, с одной стороны, является человеком, а с другой — существом высшим, сыном богов или сыном Божьим, лицо, рожденное от матери-человека, но зачатое не от человека-отца, такое лицо мы отнесем к области мифа и поэтического творчества и не подумаем всерьез обратить его в объект исторического повествования. Далее, как человек в полном смысле этого слова, герой биографии представляется нам природно-духовным существом, таким «Я», чувственные побуждения которого подчиняются разуму и эгоистические цели которого определяются всеобщим моральным законом, а не предопределены уже заранее благодаря совмещению божеской личности с личностью человеческой; поэтому существенным элементом всякого человеческого жизнеописания являются колебания и ошибки, борьба между чувством и разумом, между индивидуалистическими и всеобщими целями, и если нам известно, что подобный разлад представляет несколько степеней, обусловленных колебанием и борьбой, начиная с необузданного возмущения и кончая едва заметным недовольством, то в полном отсутствии подобной дисгармонии, предполагаемом церковным учением о безгрешности Иисуса, мы усмотрим смерть подлинной человечности.
Далее, всякий индивид, даже и высокоодаренный, представляется нам детищем человечества, зачатым в сокровенных недрах человеческой природы; он определяется характером того тесного круга людей, в котором он родился, он — детище своей семьи, своего народа, своей эпохи; его деятельный ум питается за счет тех образовательных средств, которые ему дает его среда, и определяется той ступенью развития, на которой последняя сама стоит; его цели не только определяются окружающими его условиями, которые влияют на степень их осуществления, но могут даже по существу своему изменяться и развиваться под влиянием практического опыта. Наоборот, Христос, согласно церковному представлению о нём, является сыном Божьим, зачатым от Святого Духа, или воплощенным Словом божественного Творца, и потому он наделен столь безусловным совершенством, что исключает всякую мысль о воздействии семейного и народного духа или поучения со стороны человека-наставника. Более того, даже свои цели или, точнее, свою одну цель, для осуществления которой он ниспослан в мир, привносит он уже в готовом виде с неба; он совершенно независимо от влияний действительности и до конца осуществляет эту извечно предустановленную цель свою, причем даже и в отношении средств также не стеснен законами природы.
Однако подобное стеснение или ограничение само собой подразумевается у нас при всяком обыкновенном жизнеописании. Герой подобной биографии нам всегда представляется конечным существом, силы которого ограничены силами других, окружающих его существ и деятельность которого связывается законами природы. Только с таким взаимодействием конечных сил история и имеет дело; ее основной закон сводится к закону причинности, в силу которого предполагается и устанавливается причина всякого данного явления в универсальной связи естественных сил; вмешательство же сверхъестественного внешнего причинного момента нарушило бы связь процессов и сделало бы невозможной всякую историю.
Церковное представление о Христе во всех отношениях противоречит этому понятию истории вообще и биографии в особенности. Кто пожелает рассматривать церковного Христа под биографическим углом зрения и описать его жизнь в форме биографии, тот неминуемо убедится в том, что форма не соответствует содержанию. Христос церковный не может служить объектом для биографии, а биография не представляется той формой, которая пригодна для описания деяний церковного Христа. Понятие «жизнь Иисуса» является понятием не только современным, но и противоречивым. Оба его элемента — церковное представление о Христе и историко-биографический прагматизм — издавна развивались вне всякой зависимости друг от друга: попытка применения последнего к первому есть дело новейшей эпохи, а именно 18-го столетия, и в этом деле явственно сказалось то внутреннее противоречие, которое присуще всякой переходной эпохе. Мы хотели сохранить церковного Христа, но в то же время мы могли усвоить его себе не иначе, как в форме настоящей человеческой жизни, и таким образом оба элемента, насильственно совмещенные в церковном понятии о личности Христа, — божественный и человеческий элементы — при всякой попытке создать историческое описание его жизни неизбежно обособляются друг от друга, как предмет от способа изложения, или как форма от содержания.
В этом отношении понятие «жития», или биографии, Иисуса представляется понятием роковым. Оно заключает в себе, как в зародыше, весь процесс развития новейшей теологии, и отрицательный результат этого развития сказывается в противоречии его обеих сторон. Идея жизни Иисуса есть та ловушка, в которой суждено было оказаться и погибнуть теологии нашей эпохи. Кто приступал серьезно к биографическому повествованию о Христе, тому приходилось отрешаться от церковного представления Христа, а кто пытался сохранить это представление, тому приходилось отказываться от мысли о биографическом повествовании о нём. Но последнее было уже невозможно. Если народы древнего мира считали лозунгом, достойным человека, — «Не чуждаться всего человечного», то лозунгом новейшей эпохи стало правило — «Чуждаться всего, что не человечно и не естественно». В эту новейшую эпоху Христос сохранял свое значение лишь при условии, что он был существом, о котором можно повествовать биографически; этим и объясняются попытки описать жизнь его таким же образом и в такой же мере прагматически[21], как и жизнь прочих выдающихся людей.
Какой опасности подвергался при таком изображении его объект, церковный Христос, этого сначала не понимал никто. Все полагали, что речь идет здесь лишь о некоторых несущественных уступках; все утешали себя той мыслью, что, в худшем случае, крушение Христа ортодоксальной теологии нисколько не коснется новозаветного Христа; всех успокаивало представление, будто Христос новозаветный, надлежащим образом понимаемый, есть Христос естественный и человечный. А если нет, если он тождествен с Христом церковным, хотя бы и не по существу, а по сверхчеловечности своей натуры и деятельности, — что тогда? Ведь Новый завет есть тот единственный источник, из которого мы черпаем сколько-нибудь определенные сведения об Иисусе, а если здесь Иисус изображается таким, что понять его биографически нельзя, и если тем не менее он должен быть понимаем биографически, если он должен стать человеком для людей, тогда остается лишь одно — пересмотреть новозаветное изображение его, взяв тот масштаб, который применяется вообще ко всякой человеческой биографии. Но если догматическое описание необходимо превращалось в прагматическое описание, тогда и прагматическое описание необходимо становилось описанием критическим. Когда критика сделает свое дело и правдивость евангельских показаний будет проверена, только тогда можно будет говорить и об истинно прагматическом повествовании, и оно будет поневоле схематичным, если евангельский материал в свете критики окажется недостоверным.
I. Обзор трудов, описывающих жизнь Иисуса
§2. Гесс
Различные опыты по описанию жизни Иисуса за последнее столетие сводятся к попытке примирить и совместить противоречивые элементы этого понятия; но так как это не удавалось сделать, то в конце концов установилось мнение, что подобное согласование невозможно и что необходима критика источников. Здесь не место шаг за шагом прослеживать этот процесс развития, который, как упомянуто выше, фактически сводился к разъединению и обособлению неоднородных элементов, но мы должны отметить его главные этапы по соответствующим крупнейшим сочинениям и выяснить смысл предпринятой мною прежней — критической[22] и настоящей — критико-прагматической биографии Иисуса.
Одной из самых ранних удачных попыток рассмотреть евангельскую историю с новой биографической точки зрения представляется «Житие Иисуса», написанное цюрихским гражданином И.Г. Гессом и пользовавшееся общим вниманием и одобрением в течение продолжительного времени. Книга эта появилась в 1768 году и с того времени вплоть до начала настоящего столетия переиздавалась много раз, став настольной книгой наших отцов. Гесс еще продолжает искренне верить, что путем небольших изменений церковного воззрения возможно примирить и согласовать историю Иисуса, заключающуюся в евангелиях, с требованиями биографического прагматизма. В своей книге он всё ещё стоит на точке зрения церковного супранатурализма, божественный элемент в евангельской истории признаётся им вполне; в пришествии Иисуса на Землю, как и в его вознесении на небо, автор видит сверхъестественные акты; существо Иисуса ему представляется сверхчеловеческим, а чудеса его ни малейшего сомнения не вызывают. Гесс заявляет в предисловии к своей книге, что он написал историю Христа не только в целях религиозного назидания и «антикварной интерпретации», но что намеревался разработать ее прагматически, считая ее повестью в высокой степени поучительной и занимательной; тем не менее он полагал, что Христа можно и должно изображать человеком без ущерба для божеского естества и что на его историю можно и должно смотреть как на сцепление событий, которые объясняются естественными и моральными причинами. По мнению Гесса, такой взгляд на Христа не исключается и чудесами, им содеянными: при них приходится считаться не только со сверхъестественными причинами, их породившими, но также с моральными причинами, послужившими для них основой; их значение заключается не только в том, что они необычайны и непостижимы, но также и в том, что они были деяниями благими и приличествующими божеству, были актами человеколюбия и благотворения.
Дух времени, взрастившего у нас зачатки нашей художественной литературы, сказался также и в том, что книга Гесса отмечает наряду с божественным моральным достоинством также и красоту евангельской истории, ее воздействие на эстетическое чувство. Гесс видит несомненные исторические факты в тех чудесах, которыми ознаменовались периоды детства и общественного служения Иисуса, однако по поводу рождения Иисуса от безгрешной чистой девы он замечает, что столь чудесное пришествие сына Божия на Землю наиболее соответствует идее вочеловечения Иисуса, хотя оно и не является строго доказанным историческим фактом, а по поводу явления ангелов вифлеемским пастухам замечает, что здравомыслящий и не лишенный вкуса человек, читая евангельскую повесть, найдет это возвещение пастухам о рождении Мессии весьма уместным и полным невыразимой прелести.
Критическое отношение к источникам евангельских рассказов даже и с точки зрения верующего человека необходимо потому, что относительно жизни Иисуса у нас имеются четыре сообщения, в которых о ней повествуется отчасти единогласно, хотя нередко в ином порядке и с указанием иных обстоятельств, отчасти же различно, причем сообщения одного евангелия иногда не согласуются с сообщениями другого. В подобных случаях Гесс всемерно соблюдает консерватизм; в повествовании о детстве Иисуса он мирно совмещает резко расходящиеся сообщения Матфея и Луки, но отличает слугу кесаря в Капернауме, о котором повествует Иоанн, от военачальника капернаумского, о котором говорит Матфей; равным образом Гесс отличает и вечерю накануне Пасхи, на которой Иисус совершал омовение ног, от пасхальной вечери, на которой он установил таинство евхаристии, но в то же время Гесс не решается предположить два разных акта очищения храма, хотя Иоанн относит это деяние к первому пребыванию Иисуса в Иерусалиме, а прочие евангелисты — к последнему (и, по их словам, единственному). В этом случае Гесс откровенно заявляет, что апостол Иоанн ошибся и что прав апостол Матфей (ибо Гесс еще ничуть не сомневается в том, что евангелия действительно составлены соответствующими апостолами).
Хотя Гесс и верует в те чудеса, которыми ознаменована жизнь Иисуса, однако же местами обнаруживается, что и его вера уже источена рационализмом. Звезду волхвов он предпочитает назвать, как он выразился, более неопределенным словом «метеор»; такое слово он, видимо, избрал лишь с той целью, чтобы читатель признал правдоподобным и понятным такое явление, как указующее путь движение звезды, остановившейся над соответствующим жилищем, хотя чудесное явление, о котором повествует евангелие, Гесс, таким образом, низводит до уровня естественных явлений низшего порядка. В особенности учение о дьяволе и бесах является тем пунктом, в котором даже и супранатурализм Гесса не в силах был устоять против натиска просвещения. В истории искушения Иисуса (в тюбингенском издании 1779 года) он сначала просто говорит об искусителе и совратителе и не поясняет подробнее, что это за личность и откуда она взялась, и только при втором искушении он прямо называет его сатаной. Но так как Гесс приписывает искусителю намерение дознаться, действительно ли Иисус есть сын Божий, как о том было заявлено при его крещении (но, по учению самой Библии, сагана этого не мог не знать доподлинно, и, стало быть, усомниться в этом мог только противник-человек, например, кто-нибудь из фарисеев), поэтому мы видим, как в данном случае сам Гесс непроизвольно сходит на путь естественнонаучного толкования.
Этой тенденции он всецело поддается в связи с евангельским рассказом об одержимых бесом. Здесь он предупреждает, что не берется выяснить причину бесноватости и поэтому сосредоточится внимательнее на описании последствий этой причины. Вопрос о том, следует ли в данном случае предполагать естественную причину или влияние демонов, ему не представляется важным, так как от разрешения этого вопроса не изменяется эффект чуда и евангелистов нельзя винить за то, что будучи историками, а не натуралистами, они изобразили данное явление в духе господствовавших народных представлений. Поэтому Гесс говорит о бесноватых как о людях, болезнь которых народ приписывал влиянию злых духов. Относительно болезни Марии Магдалины, из которой, согласно евангелию, вышло семь бесов, Гесс замечает, что этот случай для него неясен: возможно, Мария Магдалина страдала многими болезнями такого рода, которые народ приписывал влиянию различных злых духов. Само собою разумеется, что допущение воздействия злых духов на человеческую жизнь несовместимо с мыслью о связи естественных причин и действий, из которой исходит прагматическая историография и биография. Но современники Гесса, у которых только еще зарождалось сомнение, нисколько не задумывались над вопросом, не приведет ли оппозиция и борьба против сатаны и его царства к крушению и гибели существеннейших атрибутов новозаветного церковного Иисуса. Столь же неудобно говорить в биографии о таком герое, самосознание которого проникнуто элементами внемирового небесного бытия; поэтому Гесс сохраняет в своих парафразах все соответствующие изречения Иисуса, которые приведены в Евангелии от Иоанна, но там, где он говорит сам от себя, он сильно подчеркивает другой момент — последующее возвышение Иисуса для подкрепления проявленных им на земле добродетелей, и в этом отношении Гесс оказывается чуть ли не последователем социнианской ереси[23], как бы в подтверждение того, что по этому вопросу назревало уже новое течение мысли, которое при дальнейшем своем развитии грозило вовлечь жизнь Иисуса в сферу рационального рассмотрения.
§3. Гердер
В этом процессе развития особенно выделяются труды Гердера «О спасителе человечества, по свидетельству трех Евангелий» (1796) и «О Сыне Божьем, спасителе мира, по свидетельству Евангелия от Иоанна» (1797). Не безрезультатны были вылазки против Библии и христианского учения со стороны и так называемых «Вольфенбюттельских фрагментов»[24], не бесследно прошли также и соответствующие рассуждения Лессинга, возведшие весь спор до уровня принципиальных общих вопросов. Такому уму, как Гердер, было нетрудно понять, что при старой точке зрения невозможно было отстоять ни правду евангельской истории, ни высокое значение Иисуса. Но для того чтобы самому действительно установить новую точку зрения, собственные изыскания Гердера в области затронутых вопросов были слишком поверхностны, а в его душе склонность к созерцанию слишком перевешивала потребность в строгом анализе; он вполне довольствовался сумерками полузнания, чреватого теми зачатками грядущего знания, которые пришлось отбирать и выращивать потомству.
Уже и Гесс находил, что учение Иисуса лишь отчасти нуждается в чудесах для своего обоснования, ибо всё то, что может познать разум, например обязательность добродетели и ее благие последствия, в самом себе заключает свое оправдание, тогда как сообщения о сверхъестественных деяниях Бога, направленных к нашему спасению, нуждаются в не менее сверхъестественных свидетельствах. Гердер считал существенно важным элементом учения и жизни Иисуса лишь элемент разумности и нравственности, он видел в Иисусе богочеловека, поскольку он был человеком в современном и прекрасном смысле этого слова, его деяния и страдания были спасительными, поскольку он пожертвовал собственной жизнью, желая насадить и утвердить гуманность в человечестве. Для Гердера «благою вестью» в евангелиях представлялось только то, что в учении, характере и деятельности Иисуса клонилось ко благу человечества; чудеса, переполняющие историю Иисуса, по мнению Гердера, были необходимы для той эпохи и для иудейской массы, столь падкой до всего чудесного, ибо служили средством для укрепления авторитета и влияния Иисуса и поддерживали бодрость в нём самом, и в этом смысле чудеса принадлежат истории, но свою цель чудеса вполне достигли, и нас они уже не интересуют, тем более что мы не можем и проверить их, а потому теперь и бесполезно ссылаться на евангельские чудеса как на доказательства истинности христианской религии. Как бы достоверны ни были чудеса, говорит Гердер вслед за Лессингом, для нас они являются лишь объектами повествования; вводить их в наши философские размышления, толковать в духе наших взглядов, изъяснять на основе данных физики — всё это бесполезный труд, тем более что мы расходимся с той эпохой даже и в самом понимании чуда. Нам теперь приходится искусственно воссоздавать в себе образ мысли чуждого народа, современников Иисуса, среди которых он намеревался учредить высшее царство чистой просвещенности именно путем искоренения предрассудков. Их можно извинить, если, погрязнув в трясине иудейских предрассудков, они требовали подобных внешних подпорок для своей веры в Иисуса; нас же, людей, имеющих возможность взглянуть на дело Иисуса с более высокой точки зрения, которой мы обязаны ему же, извинить нельзя, если кроме моральных результатов христианского учения мы станем требовать еще других доказательств его божественности. Ужели нужно, спрашивает Гердер, чтобы и ныне, как 2000 лет тому назад, с неба сошел огонь, дабы мы узрели ясное солнце? Ужели и теперь, как в ту эпоху, нужно отменять законы природы, чтобы мы убедились во внутренней необходимости, истинности и красоте морального царства Христова? Возблагодарим Бога, что это царство уже пришло, и вместо чудес будем лучше изучать его внутреннюю природу, а если и она сама в себе не доказательна для нас, то ни исполнившиеся прорицания древних пророков, ни содеянные чудеса не будут для нас убедительны и доказательны.
Если мы, однако, спросим, как рассуждал Гердер об отдельных евангельских чудесах, то мы не найдем у него более или менее определенного ответа на этот вопрос, и только в редких случаях удается угадать его подлинное мнение о чудесах. По поводу беседы Иисуса с бесноватыми, особенно же с тем из них, бесы которого просили позволения войти в стадо свиней, Гердер замечает, что Иисус, желая образумить глупца, говорил понятным ему языком. Преображение Иисуса он признаёт видением, которое имели его ученики, взволнованные и расстроенные ввиду приближающегося кризиса. Чудо, ознаменовавшее крещение Иисуса, Гердер считает внешним явлением природы; он полагает, что в ярком снопе света, прорезавшем тучи, и в отдаленном раскате грома Иисус и Иоанн Креститель усмотрели Божье соизволение на задуманное ими дело.
Если в указанных выше случаях Гердер пытается дать естественное объяснение чудес, то в других случаях он, видимо, старается объяснить их символически. Иисус, говорит он, творил чудеса; чуждый слабостей своей эпохи, он всё же снисходил и приноравливался к этим слабостям, но он творил великодушные чудеса: помогал больным, заблуждающимся и умалишенным, так что все эти зримые благодеяния могли быть отражениями его характера и его возвышенных и неизменных целей. В таком именно свете, по тонкому наблюдению Гердера, обрисованы чудеса Иисуса у апостола Иоанна: у него они изображены не в качестве самодовлеющих актов, а как символы того длящегося чуда, силой которого Спаситель мира еще и ныне покоряет род человеческий. Так, например, чудо, содеянное в Кане Галилейской, по мнению Гердера, есть символ той мощи, которой Иисус превосходил Иоанна Крестителя: взаимоотношению всеочищающей воды и веселящего вина соответствует взаимоотношение дарований и задач обоих пророков. Далее, о воскрешении Лазаря Иоанн, по мнению Гердера, рассказывает подробно не потому, что это чудо имело важное значение, а потому, что это чудо, имевшее решающее значение для судьбы Иисуса, наглядно подтверждало истину того взгляда, что Христос есть воскресение и жизнь, и являлось прообразом собственного воскресения Иисуса. Отсюда явствует, что человеку, который видит в чудесах Иисуса, рассказанных Иоанном, символические намеки и олицетворения, достаточно и легкого толчка, чтобы вполне отвергнуть весь исторический элемент четвертого евангелия и, в частности, признать его повествование о чудесах умно задуманной поэмой. Но подобного толчка Гердер не дает, да и не может дать, во-первых, потому, что его еще стесняет представление об апостольском происхождении Евангелия от Иоанна, и, во-вторых, потому, что естественное изъяснение чудес представляется ему менее рискованным исходом.
Так именно отнесся он к наиважнейшему чуду евангельской истории — к воскресению из мертвых Иисуса. На вопрос Реймаруса: почему же Иисус после воскресения своего не явился так же и врагам своим? — Гердер отвечает: «Потому что Иисус не хотел, чтобы его вторично схватили, связали, подвергли истязаниям и распятию». В этом ответе проглядывает такой взгляд на воскресшего, который резко отличается от взгляда церкви и евангелистов. Правда, Гердер не думает, чтобы в акте воскресения Иисуса принимали участие люди, но он придает весьма большое значение тому обстоятельству, что у распятого были пригвождены лишь руки, а не ноги также (что, по его мнению, вполне доказано), и что тело воскресшего было по-прежнему материально и нуждалось в пище, а потому и не могло, подобно призраку, пройти через замкнутые двери. Если таким образом воскресение Иисуса из чудесного акта всемогущества превращается в случайное и естественное событие, то Гердер, в свою очередь, напоминает, что в физико-моральном царстве Божьем ничего не совершается без Божьего всемогущества, а потому и предположение о мнимой смерти Иисуса нисколько не мешает считать правдивым само повествование, и верующий человек может смело возразить: разве не всё равно, каким образом Бог воскресил его? Достаточно того, что Иисус вернулся и явился своим присным, и всё повествование об этом событии вполне правдиво и не содержит ни малейшего следа обмана или лжи. Но в таком случае мы должны спросить: что представляется историей в этом рассказе о воскресении Иисуса? Очевидно, что Гердеру историей представляется не то, что евангелистам, и существенная часть данного повествовательного материала в этом случае принесена в жертву интересам исторического прагматизма, который не мирится с чудесами, нарушающими связь естественных причин.
§4. Паулус
Если в глубоком и всеобъемлющем уме Гердера заключались зародыши двух разных воззрений на чудесный элемент в жизни Иисуса, а воззрение естественнонаучное гармонически сочеталось у него с воззрением символически-мифологическим, то, по условиям развития образованности, существовавшим в данную эпоху, дальнейшую эволюцию проделал лишь зародыш более грубого характера. В конце минувшего и начале настоящего (XIX) столетия появилось много сочинений, в которых чудеса объяснялись естественнонаучными соображениями. Классическим произведением этого рода является известный труд д-ра Паулуса «Комментарий к евангелиям», и позднее составленная по этой книге «Жизнь Иисуса».
Паулус, как и Гердер, существенно важной чертой Иисуса признаёт нравственное величие, истинную гуманность и деятельность, направленную к насаждению ее среди людей. По поводу чуда, совершенного на свадьбе в Кане Галилейской, Паулус замечает, что проявленный здесь Иисусом мягкий и приветливый нрав производит более глубокое и цельное впечатление, чем изумление по поводу мнимого сверхчеловеческого преодоления сил внешней природы. Уже и Гердер отвергал чудо, как нечто большее, чем непредвиденный результат направленного промыслом стечения случайных обстоятельств, и в частности, он оспаривал доказательную силу чудес для истины христианской веры. Но Паулус еще определеннее выражает те же принципы философии Канта и «Богословско-политического трактата» Спинозы. Признание того, что историк не должен принимать на веру событий, которые нельзя объяснить внутренними или внешними причинами на основании законов исторической связи вещей; что сильно заблуждается тот, кто усматривает Божье могущество, премудрость и благость в нарушении естественного хода вещей, а не в закономерности и правильности его; что даже самое неизъяснимое нарушение естественного хода вещей не может ни подкрепить, ни опровергнуть духовную истину, и даже самое необычное исцеление не может, в частности, доказать истину религиозного учения, — таковы те принципы, принятием и применением которых «Комментарий» Паулуса значительно превосходит как современные ему, так и позднейшие труды того же рода.
Но как исследователь, усвоивший себе такую точку зрения, отнесется к евангелиям, которые, как принято до сих пор думать, написаны были с противоположной точки зрения и которые преисполнены сверхъестественного и чудесного элемента, в чём и усматривают они непреложное доказательство высокого призвания Иисуса и истины его учения? Нельзя на этом основании отвергать их как сочинения неисторические и сказочные, ибо их авторы, согласно традиционному, даже и рационалистами разделяемому мнению, были близки к описываемым ими событиям, как по времени, так и по своему положению. Ибо повествование Евангелия от Матфея, по мнению Паулуса, составлено на основании таких сведений, которые были собраны в Галилее через десять, двенадцать лет после кончины Иисуса. Лука, посетивший вместе с апостолом Павлом Иерусалим и Кесарию, имел возможность увидеть лично мать Иисуса и узнать от нее подробности о детстве Иисуса, которые он сообщает в начале своего евангелия; а Евангелия от Иоанна написано если не самим апостолом, то одним из его учеников на основании рассказов или записей самого учителя. И если такой взгляд на происхождение евангелий справедлив, то справедливо также и мнение о рассказах, ими сообщаемых; с другой стороны, если справедливо мнение критики о невозможности чудес, то недопустимо также всё чудесное, сообщаемое в этих повествованиях. Как разрешить это противоречие?
Паулус прежде всего замечает, что во многих сообщениях евангелистов, повествующих о чудесах, непредубежденный исследователь ничего чудесного не находит; а относительно наиболее невероятных чудес, по его мнению, следует полагать, что таковые внесены в текст рассказов экзегетами, то есть толкователями Священного Писания. Виноваты ли евангелисты, если их заявление о том, что Иисус ходил по-над морем, то есть по возвышенному берегу моря, было истолковано в том смысле, будто Иисус ходил по самой поверхности моря? Конечно, им следовало выражаться точнее, но истина не в том, что совершилось нарушение естественного порядка вещей, а в том, что составители евангелий выражались недостаточно точно. Так же и в рассказе о насыщении 4000 человек евангелисты ни единым словом не поясняют того факта, что столь большое число людей удалось насытить теми немногими хлебами и рыбами, которые имелись в распоряжении Иисуса; по традиции мы предполагаем, что съестные припасы количественно возрастали под руками Иисуса, но подобную догадку мы построили сами, и с таким же правом другой мог бы предположить, что, под влиянием личного примера Иисуса, остальные, более состоятельные участники собрания, обратили свои личные запасы в общее достояние и таким образом удалось насытить всю собравшуюся толпу. Что именно такое естественное изъяснение данного события наиболее правомерно, это, по мнению Паулуса, явствует из того, что евангелисты ни единым словом не отмечают изумления, которого не могло не возбудить в толпе такое происшествие, как чудесное возрастание количества съестных припасов. Вообще историк, по мнению Паулуса, может предполагать или мысленно добавлять лишь то, что было опущено авторами источников как нечто само собою разумеющееся, а таковым признаётся всё естественное, и вмешательство сверхъестественной причины автор счел бы своим долгом обязательно отметить. Но в такой истории, как евангельская, которая имеет темой своей необычное, чудесное, даже и в отдельных эпизодах, иллюстрирующих тему, необходимо предполагать сверхъестественную причину, и изумление очевидцев в такой мере разумеется само собою, что повествователь может и не упоминать о нём специально в каждом случае.
Однако же сам Паулус не решается применить такое объяснение ко всем евангельским рассказам о чудесах, напротив, он во многих случаях допускает, что евангелисты намеревались рассказать о чуде, и что сами участвующие лица тоже видели чудо там, где историк такового не усматривает, предполагая лишь естественное событие. Поэтому нельзя отрицать того, что евангелисты говорят об умалишенных и нервных больных, или «бесноватых», но это — их личное суждение, которое необходимо отличать всегда от факта и которое для нас необязательно. Повествуя об излечении подобных больных, они высказывают также свое суждение о причине их заболевания, а потому и говорят об исхождении «злых духов» (бесов), но мы должны объяснять себе исцеление таких больных по слову Иисуса психологически, исходя из представлений тогдашнего народа иудейского, который верил, что «злой дух» бессилен перед пророками и тем более перед Мессией. Равным образом и все другие исцеления, совершенные Иисусом, по мнению Паулуса, могут быть поняты как естественные факты, если отбросить суждение, которое евангелисты примешивают к своим повествованиям. То, что Иисус не всегда, исцелял больных единым лишь мощным словом повеления, подтверждают сами же евангелисты, признаваясь в том, что Иисус на исцеления тратил труд и время. Если его укоряли также и такими исцелениями, при которых не приходилось уносить одры и тем нарушать постановления о субботнем покое, то, вероятно, производились они прикосновением руки или путем оперативным. Слюна и тесто, которыми Иисус неоднократно пользовался при исцелениях, представляются вполне естественными, хотя и несовершенными средствами. На естественный характер излечения указывает также и то (Марком отмеченное) обстоятельство, что некоторые исцеления (а, может быть, и все другие, о которых евангелисты не упоминают специально) совершались постепенно, мало-помалу. Но едва ли можно допустить, чтобы во всех подобных случаях очевидцы и лица, повествовавшие с их слов, совершенно упустили из виду главное — фактически действующие средства; однако если в истории капернаумского военачальника они умолчали об отсылке учеников к больному и таким образом в чудесное исцеление издалека превратили естественное излечение при помощи отряженных помощников, тогда уместны всякие подозрения и предположения даже и в духе Реймаруса.
Однако сам Паулус неоднократно, но неосновательно заявляет, что такое истолкование чудес внушено ему интересами апологетики. Он говорит, что попытка рассмотреть евангельские повествования о чудесах с точки зрения естественного сцепления причин и следствий отнюдь не означает стремления отвергать их; напротив, такая попытка имеет целью выяснить их правдоподобие и помешать мыслящему человеку из-за второстепенного усомниться в главном. Например, если такой человек прочтет, что к Марии явился ангел по имени Гавриил и возвестил ей, что она родит Мессию, то личность ангела его может смутить, и он, пожалуй, отвергнет весь рассказ, как сказку. Но он не поступит так опрометчиво, если благоразумный толкователь посоветует ему отличать в евангельских рассказах факты от суждений. В данном случае он отвергнет сообщение о том, что явившийся к Марии ангел был Гавриил, как личное мнение Марии, но признаёт сам факт чьего-то прихода и благовещения и таким образом удержит суть дела, которая, по мнению Паулуса, заключается в том, что кто-то явился к Марии, а явился ли к ней именно ангел Гавриил, это обстоятельство второстепенное. Суть дела в том, что на Фаворе или Гермоне Иисус явился ученикам своим осиянный славой и беседовал с двумя незнакомцами, а обстоятельством второстепенным представляется вопрос, было ли то Богом содеянное преображение или случайный эффект утренних лучей солнца и были ли собеседниками Иисуса умершие угодники Божьи Моисей и Илия или два неизвестных последователя Иисуса и т.д. Однако, с точки зрения евангелистов, то, чем дорожит Паулус в подобных рассказах, как раз представляется делом столь второстепенным и ничтожным, что ради одного этого они не стали бы и повествовать; отвергая то, что Паулус называет их суждением, мы отвергаем также и утверждаемый ими факт, и, изменяя данную форму рассказа, мы превращаем его в повествование о происшествиях, не имевших места.
Правда, Паулус отлично умеет использовать в интересах исторического прагматизма именно то, что им принимается и сохраняется как факт, например, в рассказе о благовещении. Разумеется, он не может согласиться с евангельским рассказом о зачатии от Святого Духа, однако же и тут предлагает признать факт и отвергнуть суждение повествователя и других участников события. Отрицательный момент заключается, по его мнению, в том, что Иосиф не был отцом Иисуса, а положительный — в том, что Мария остается существом девственным и невинным. Что матерью она стала благодаря бесплотной Божьей силе, это представляется суждением самой Марии и евангелистов, которого нельзя принять безусловно. Но что же в таком случае можно принять? Тут-то и появляется очень кстати тот неведомый посетитель, которого Мария приняла за ангела Гавриила: то был, по мнению Паулуса, доверенный человек, которого умная жена священника, Елизавета, прислала к своей простоватой родственнице из рода Давидова, дабы он сыграл роль ангела и Святого Духа одновременно и ее сыну Иоанну, который в качестве отпрыска колена Левитова не мог сам стать Мессией, сотворил Мессию, к которому он мог бы потом примкнуть в качестве Предтечи. Но это толкование — плохая рекомендация методу Паулуса; ибо тот, кто, следуя его указаниям, ухватился бы за факт, попал бы пальцем в небо, да и, вообще, из всех его объяснений чудесного получается нечто очень малоценное.
Переходя затем от этого начального пункта к заключительному моменту в жизни Иисуса, мы вовсе не хотели бы свалить на Гердера вину за то, что фантастические измышления всех этих Паулусов, Вентурини, Бреннеков представляют собой логическое развитие тех общих указаний, которые были даны им мимоходом. Ессеи[25] в белом одеянии, в которых Паулус преобразил ангелов, охранявших гроб воскресшего, могли бы даже навести на мысль о некоторой интриге, разыгранной при этом происшествии; однако Паулус, как и Гердер, утверждает, что воскресение Иисуса произошло без предумышленного человеческого содействия, вследствие простого стечения некоторых естественных причин, направляемых Промыслом (подробности этого объяснения мы здесь опускаем). Смерть Иисуса, по мнению Паулуса, была лишь мнимой смертью, поэтому и тело его после пробуждения осталось прежним телом: Иисус нуждался в пище и в уходе ввиду перенесенных им истязаний, от которых он впоследствии, через несколько недель, действительно скончался.
В том описании жизни Иисуса, которое составил Паулус, мы находим полное противоречие между формой и содержанием, между материалом и его исторической разработкой. Паулус в интересах исторического прагматизма отвергает всё сверхъестественное, содержащееся в источниках, и утверждает, что евангельская история в том виде, как она в них изложена, не поддается исторической переработке; однако же он признаёт их историческими источниками и сознается, что не разрешил своей задачи. Если евангелия действительно исторические документы, не следует исключать чудесное из жизнеописаний Иисуса, а если чудесное не мирится с историей, тогда евангелия нельзя признавать историческими источниками.
§5. Шлейермахер
Никто — ни Гердер, ни Паулус — яснее и отчетливее Шлейермахера не понимал невозможности чудес и нерушимости естественной связи вещей, но с другой стороны, даже Гердер не подчеркивал божественного начала в Христе с такой энергией и определенностью, как Шлейермахер. По мнению Шлейермахера, Христос был человеком, в котором сознание Бога, определявшее всё его мышление и поведение, может почитаться настоящим бытием Бога, и который, будучи историческим индивидом, являлся прообразом, а будучи прообразом, являлся историческим лицом.
В своем «Вероучении» Шлейермахер, как известно, в целях создания учения о личности Христа представил эбионитический и докетический элементы[26] как противоположные еретические крайности, уподобляя их двум утесам, среди которых, не касаясь ни одной из них, нам приходится лавировать с нашими представлениями. Из этого же принципа он исходил и в своих лекциях о жизни Иисуса.[27] По его мнению, в Христе следует видеть начало сверхъестественное и божественное, но не в качестве особого естества, отличного от природы человеческой, а наподобие того, как мы представляем себе Дух Божий действующим в людях верующих, — в качестве внутреннего мотива, который с абсолютной энергией приводит в движение всё существо Христа. Отрицать этот божественный элемент в Христе значило бы рассуждать в духе эбионитов. Но божественный элемент проявлялся и действовал в нём наподобие и по закону естественного развития и человеческой деятельности, и отрицать это естественное и человеческое начало в Христе значило бы рассуждать в духе докетиков.
Из этих двух утверждений первое сводится к предположению той веры, которая заложена в основу церковного учения и евангельской истории, а второе — есть требование научности и, в частности, того условия, вне которого немыслима и биография Иисуса. Что оба предположения друг с другом совместимы, что относительно Христа вера и научность друг другу не противоречат — такое убеждение порождается не наукой, а верой. Шлейермахер этого не скрывает и говорит, что, изучая жизнь Иисуса по евангельским рассказам, следует всегда считаться с этим предположением и не доверять им безусловно, а допускать, что некоторые из рассказов могут и не подтвердиться. Если в жизни Иисуса отыщутся моменты, в которых незаметно действие внутреннего божественного импульса, тогда необходимо оставить веру и примкнуть к воззрениям эбионитов, а если в ней откроются моменты, свидетельствующие об истинно-божественных свойствах Иисуса и нарушении законов естественно-человеческой деятельности, тогда условие научности невыполнимо и мысль об историческом анализе и изображении жизни Иисуса приходится оставить.
Решимся ли мы на что-нибудь одно или признаем справедливым предположение Шлейермахера о возможности такой обработки жизни Иисуса, которая одновременно удовлетворяла бы и веру и науку, — это зависит от того, лежат ли два начала, совмещения которых требует Шлейермахер, в основе евангельских рассказов о жизни Иисуса. Одно из них, которое мы назвали предположением веры, мы находим в новозаветных книгах, хотя и в измененной форме. Божественное начало действует в Христе как нравственное побуждение и отчасти как более высокий род знания и сверхъестественная сила, которая на своем пути преодолевает все препятствия. То, что Шлейермахер именует эбионитическим воззрением на личность Христа, в новозаветных книгах почти не встречается. В действительности составители евангелий, вопреки Шлейермахеру, отнюдь не полагали, что божественное начало в Христе действует наподобие и по закону деятельности человека и природы. В понятии тех чудес, которыми они избыточно уснащали историю Христа, содержится прямое нарушение естественных законов. Таким образом, перед Шлейермахером, как перед всяким другим биографом Иисуса, опять-таки встает проблема: как отнестись к тем чудесам, о которых повествуется в евангелиях.
Совершенно устранить из евангельской истории элемент чудесного Шлейермахер не намеревается, признавая, что им слишком глубоко пронизано всё повествование и что соответствующие попытки Паулуса были слишком искусственны. Но зато ему приходится придавать крайне эластичный характер самому понятию естественного, чтобы иметь возможность, с одной стороны, принимать на веру всё то, о чём в этом смысле повествуется в евангелиях о Христе, и, с другой стороны, придать этим рассказам правдоподобный и естественный вид. Поэтому он заявляет, что чудесное всеведение, которое евангелия приписывают Иисусу, — это не чудесная прозорливость, а лишь тот максимум человеческого знания, который покоится на непосредственном и ничем не затемненном восприятии первых впечатлений. Но с подобным взглядом лишь отчасти согласуется беседа Иисуса с самарянкой и вовсе не согласуется видение Нафанаила под смоковницей, которое поэтому Шлейермахер, как и Паулус, считает случайным естественным видением. Приписываемые Иисусу действительные чудеса большей частью состоят в исцелениях, и в этой связи у Шлейермахера готова особая, намеренно растяжимая формула, чтобы иметь возможность все эти случаи подвести под действие законов природы, не слишком явно греша против евангельского повествования пристегиванием медицинских средств, чем некогда столь злоупотреблял Паулус. Он говорит, что при исцелении больных божественное начало Христа действовало словом, которое естественно влияло на дух слышащего, а посредством духа столь же естественно — и на его организм. Но точно указать пределы подобного воздействия духа (стимулируемого божественным словом Христа) на тело невозможно; поэтому и исцеления, содеянные Христом, с одной стороны, сверхъестественны и могут называться чудесами, поскольку их не могли бы осуществить лица, в которых божественное начало не составляет внутреннего и единственного импульса поведения, как в Христе; а с другой стороны, они естественны, поскольку способ проявления этого сверхъестественного начала определялся естественными законами природы. По словам Шлейермахера, нетрудно объяснить все чудеса, которые подходят под его формулу, и наоборот. В данном случае мы убеждаемся, что усвоенное Шлейермахером понятие естественного, при всей своей эластичности, не может охватить собой всех чудес, о которых повествуется в евангелиях: даже при крайней растяжимости означенного понятия трудно объяснить, например, внезапное исцеление прокаженного или слепорожденного одним воздействием духа на тело больного. Шлейермахеру для подтверждения своих предположений приходится или подгонять все чудеса, хотя бы формальным образом, под слишком широкое понятие естественного, или отвергнуть чудеса совсем, и так как первое ему удается сделать лишь отчасти, все остальные чудеса ему приходится отбросить.
К числу чудес, не подводимых под его формулу, принадлежат все воскрешения из мертвых, совершенные Иисусом, так как в этих случаях отсутствует тот дух, к которому Иисус мог бы обратиться со своим разбуждающим словом. Правда, сам Шлейермахер видит в воскрешенных, даже в Лазаре, людей мнимоумерших, но это его не выводит из затруднения, поскольку их бессознательное состояние тоже исключает возможность предположить духовное воздействие на них Иисуса; в этих случаях Шлейермахеру опять-таки приходится объяснять чудо обычными естественнонаучными соображениями и говорить, что Иисусу удавалось, не в пример прочим людям, подмечать и возвещать в мнимоумерших лицах сохранившуюся в них искру жизни. Еще труднее объяснить чудесное воздействие Иисуса на бездушную природу; так, относительно рассказа о насыщении толпы и превращении воды в вино Шлейермахеру пришлось ограничиться критикой соответствующих повествований, не дающих будто бы достаточно ясного представления о сообщаемых происшествиях; равным образом ему пришлось, под тем же предлогом, уклониться от объяснения чудесного хождения по морю и проклятия смоковницы. Что же касается чудес, объектом которых был сам Иисус, то взгляд Шлейермахера на крещение и преображение Иисуса совершенно сходится со взглядом Паулуса.
Однако Шлейермахер, наделенный тонким эстетическим вкусом и критическим чутьем и относившийся весьма свободно к евангельским источникам, не мог взглянуть глазами Паулуса на чудеса, случившиеся в отроческий период жизни Иисуса, не мог, подобно Паулусу, исказить в соответствующей повести явно поэтический элемент прозой прагматизма и гармонически слить воедино резко отличные рассказы Матфея и Луки. Чем крепче он придерживался Евангелия от Иоанна, как повествования очевидца, тем свободнее мог он относиться к трем первым евангелиям, считая их позднейшей переделкой старинных сказаний, отчасти уже утративших свой исторический характер; но так как Иоанн умалчивает об отроческом периоде Иисуса, Шлейермахер счел возможным указать на противоречивость сообщений Матфея и Луки и отрицать их исторический характер. Что же касается чудесного рождения Иисуса, его зачатия в отсутствии отца, то из «Вероучения» Шлейермахера уже известно, как вольнодумно он относился к этому догмату веры, так как молчание Иоанна по этому поводу в экзегетическом смысле окрыляло его; но если он считал возможным заявить, что в соответствующих рассказах Матфея и Луки этический элемент преобладает над историческим, то можно спросить, почему он в этом направлении не пошел и далее, ибо, например, рассказ об искушении Иисуса, о котором Иоанн тоже умалчивает, Шлейермахер признаёт наполовину историческим повествованием, находя, что это — притча, рассказанная первоначально Иисусом и впоследствии истолкованная в смысле исторического факта. Позднее он даже прямо объясняет, почему поступил именно так, а не иначе; в своих лекциях о жизни Иисуса он говорит: «Признавать всё мифом, то есть поэтическим произведением христиан, нельзя, потому что в Новом завете мифов не содержится (но это именно и требуется доказать!); мифический элемент характеризует лишь доисторическую эпоху» (но что же надо считать доисторической эпохой?). Итак, мы видим, что аргументы Шлейермахера против мифического понимания евангелий не слишком состоятельны; в конце концов, они доказывают только то, как чужда и несвойственна была Шлейермахеру такая точка зрения в истолковании Писания или, выражаясь положительно, как глубоко он врос в почву рационализма, лишь от догматики которого успел избавиться.
Это весьма отчетливо сказалось и в отношении Шлейермахера к рассказу о воскресении Иисуса. Здесь он всецело солидарен с естественным объяснением Паулуса. По его словам, Иисус не умирал совсем: силой божественного произволения, то есть случайно и помимо человеческого вмешательства, он снова ожил, а затем, благодаря случайности, ему удалось уйти из могильного склепа, так как люди, не знавшие, что в склепе находился Иисус, отвалили камень. То, что Магдалина приняла его за садовника, по Шлейермахеру, объясняется тем, что Иисус, выйдя из склепа нагим, облекся в одежду садовника; затем, если в евангелии говорится, что Иисус проник в комнату учеников, несмотря на замкнутую дверь, то, по словам Шлейермахера, «мы, разумеется, и сами уже догадываемся, что дверь была отперта». Тот факт, что Иисус после своего воскресения встречался со своими учениками редко и тайком, доказывает, по мнению Шлейермахера, не то, что он перестал жить естественно телесной жизнью, а только то, что он умышленно встречался с ними редко, чтобы избавить их от ответственности. Такая нормально восстановленная жизнь Иисуса могла потом закончиться естественной смертью, и Шлейермахер полагает, что необходимость сверхъестественного расставания Иисуса с землей ничем не может быть доказана, однако он не отрицает и того, что сверхъестественная кончина (вознесение на небо) была весьма целесообразна, ибо могла раз и навсегда успокоить учеников, которые в противном случае еще долго искали бы его на земле. Такой несостоятельной догадкой завершается составленная Шлейермахером биография Иисуса! Очевидно, что и она не разрешила поставленной задачи — удовлетворить веру и науку в равной мере.
Что действующим началом в Христе было начало божественное, которым будто бы определялись все его речи и деяния, это — предположение новозаветных писателей, а не наше, не людей, стоящих всецело на научной точке зрения и признающих Иисуса человеком в полнейшем смысле этого слова.
Что божественное начало в Христе всегда выражалось только в формах человечных и согласно законам естественной энергии, это — наше собственное предположение, а не предположение новозаветных писателей, если оценивать их объективно.
Поэтому несправедливо приписывать им наши, а нам — их предположения, и совершенно невозможно таким приемом примирить современную науку с верой.
§6. Газе
Ученики Шлейермахера доселе не собрались издать его лекций о жизни Иисуса (в отличие от остальных лекций): они так мало соответствовали консервативному направлению, всё более господствующему в среде учеников Шлейермахера, так слабо противились вторжению мифических воззрений на евангельскую историю, казались столь непрочными устоями всей теологии Шлейермахера, что решено было не выпускать их в свет. К тому же лекции эти успели сделать свое дело, так как многочисленные слушатели Шлейермахера, проникшиеся взглядами своего учителя, распространили их в своих сочинениях. Почти все последующие осмысления евангельской истории вплоть до настоящего времени напоминают «Жизнь Иисуса» Шлейермахера; он и в этой области признан был оракулом, роль которого вполне соответствовала двусмысленности или двойственности характера этого заправского Локсия.[28]
С большим самодовольством Газе утверждает, что выпущенное им в 1829 году «Пособие» является опытом чисто научного описания «Жизни Иисуса»; ему он противопоставляет мою книгу («Жизнь Иисуса»), которая появилась шесть лет спустя (1835) и в которой он видит одностороннее проведение критической линии и, следовательно, нечто ошибочное или, по меньшей мере, излишнее. В действительности же ненаучный характер его работы как раз и побудил меня выступить с моим критическим опытом, а позднейшие издания его «Пособия» только яснее показали, что даже изящно возведенное биографическое сооружение весьма непрочно, если оно построено на старом, не убранном критикой мусоре.
У Газе, как у Шлейермахера, все колебания и противоречия в описании жизни Иисуса происходят частью от двусмысленного понимания чудесного, частью же от взгляда на Евангелие Иоанна как на сообщение апостола-очевидца. В сущности, Газе, подобно Шлейермахеру, относился к чуду рационалистически, и первые три евангелия, как в большей или меньшей степени производные сами по себе свидетельства, не помешали бы ему взглянуть рационалистически и на евангельскую историю; но так как к Евангелию от Иоанна его влечет эстетико-сантиментальный интерес, а в этом евангелии взгляд на чудеса значительно возвышеннее, чем в первых трех, то в книгу Газе прокралось противоречие, которое привело к ряду необоснованных положений, чего не признаёт и не осознаёт сам автор. В этом якобы достовернейшем евангелии содержатся самые рельефные повествования о чудесах, поэтому автор вынужден до известной степени допускать чудеса, но так как недопустимы чудеса иррациональные, нарушающие связи природы, приходится усомниться в авторитете и достоверности самого евангелиста Иоанна, когда он повествует о подобных чудесах.
«Быть может, — говорит Газе (и этим „быть может“ он как бы хочет предостеречь нас, что у нас может закружиться голова, если мы последуем за ним на занятую им шаткую позицию), — быть может, все исцеления, совершенные Иисусом, ограничивались лишь той областью болезней, в которой вообще обнаруживается хотя бы отчасти и в малой степени воздействие воли на тело»[29].
Следовательно, в данном случае Газе говорит точь-в-точь как Шлейермахер, которому он подражает также в том, что воскрешения из мертвых, не подходящие под эту формулу, он превращает в обнаружения мнимой смерти. Кроме того, он пристегивает сюда и животный магнетизм, который «в качестве силы, таинственно порождаемой живой здоровой природой и воздействующей на хилую природу», имеет, по его мнению, большое сходство с силой, обнаружившейся в Иисусе. Хотя этот дар Газе прямо именует даром или талантом, свойственным Иисусу, однако он чувствует, что этим умаляет личный авторитет и престиж Иисуса, ибо физическая целебная сила, родственная силе магнетизма, не свидетельствует ни о высшем достоинстве личности Иисуса, ни об истине его учения, подобно необычайной телесной силе или остроте внешних чувств. Поэтому Газе предпочитает заявить, что чудесный дар Иисуса состоит «в отчетливом господстве духа над природой, которое первоначально было предоставлено человеку в форме господства над землей и, в противовес неестественности болезней и смерти, восстановилось до своих былых пределов в святой безгрешности Иисуса, так что в этом случае наблюдается не уклонение от естественных законов, а внесение первоначальной гармонии и истины в нарушенный порядок вселенной». Такое положение, разумеется, весьма удобно, ибо дает возможность «подвести под это понятие не только чудесные исцеления, совершенные Иисусом, но и все акты насилия над природой, и рассматривать их по аналогии с ускоренными естественными процессами». Однако такая точка зрения неоортодоксов-мистиков Газе не удовлетворяет, так как он не может забыть того, что предоставленное человеку господство над природой обусловливается изучением и пониманием ее законов, тогда как мнимо чудесным деяниям Иисуса присущ элемент волшебства, от которого сам Иисус неоднократно отрекался. Поэтому, если, с одной стороны, недостаточно даже усиленного воздействия воли на тело, и если, с другой стороны, предположение о втором Адаме как универсальном властителе природы не надежно, то остается лишь признать, что в Иисусе заключаются неведомые силы, и в частности сила внезапно исцеляющая, которая имеет много аналогий. Следовательно, Газе после долгих колебаний и блужданий приходит к некоторому дару «икс», который не имеет никакой связи с религиозной миссией Иисуса и представляется столь же случайным, сколь и загадочным, и, сверх того, подобно вышеупомянутой формуле Шлейермахера, не объясняет даже тех чудес Иисуса, о которых повествует Иоанн.
Поэтому уже в самом начале Иоаннова евангелия, в истории превращения воды в вино на свадьбе в Кане, никакие «неведомые силы» не могут вывести Газе из затруднений, и ему приходится заимствовать у Шлейермахера его увертки и ссылаться на недостаточную ясность рассказа и в довершение всего сделать счастливое открытие, что «присутствие Иоанна среди учеников в данном случае ничем не засвидетельствовано». Здесь некоторой новостью представляется лишь то, что автор, которого мы признали очевидцем, в данном случае признаётся таковым лишь когда его «присутствие» специально «засвидетельствовано». Однако если Иоанн случайно не присутствовал на свадьбе в Кане Галилейской и, надо полагать, несколько дней спустя снова присоединился к спутникам Иисуса, то он тогда же мог узнать о том, как совершилось пропущенное им угощение вином, и даже «под влиянием позднейших чувств и взглядов не могло, в его глазах, превратиться в неслыханное чудо то, о чём ему было сообщено как о простой свадебной забаве». Но кроме этого чудесного рассказа, записанного одним Иоанном, у него, как и у трех первых евангелистов, мы находим еще рассказы о насыщении толпы и о хождении по морю. Этими рассказами Иоанн ставит в большое затруднение биографа, отрицающего безусловное чудо, ибо заставляет его поверить Иоанну, как очевидцу, в том, в чём не поверил бы другим повествователям, рассказывающим с чужих слов или по слухам. Но где доказательство тому, что в данном случае он был очевидцем? Правда, у Марка и Луки перед рассказом о насыщении толпы упоминается, что апостолы, то есть все ранее разосланные двенадцать учеников Иисуса, вернулись из своей отлучки. Но разве мечтатель Иоанн не мог где-нибудь замешкаться и пристать снова к Иисусу в Капернауме или позднее и, узнав об упомянутых чудесных происшествиях, случившихся в его отсутствие, включить их впоследствии в свое евангелие и рассказать о них в той форме, какую им сообщила молва? Мы видим, что для определенного рода теологов Иоанн — настоящий клад, но он частенько злоупотребляет рассказами о чудесах, и тогда приходится его игнорировать и придумывать для него алиби (отсутствие), чтобы он не «стеснял» и его рассказам можно было верить лишь когда это желательно.
Но Иоанн не только рассказывает много такого, что не угодно нашему «чисто научному» биографу, признающему в нём очевидца; он часто не рассказывает о том, что он мог видеть собственными глазами будучи апостолом, и своим молчанием возбуждает вполне законное недоумение. Если автор четвертого евангелия (Иоанн) собственными глазами видел процесс изгнания бесов, о котором так много и подробно повествуют первые три евангелиста, заслуживающие в этом случае несомненного доверия, и если (что тоже вероятно) соотечественники Иисуса усматривали в этом деянии непреложное доказательство того, что Иисус — Пророк или Мессия, то было большой натяжкой заявлять, что Иоанн об этом важном чуде умолчал, считаясь с утонченным вкусом своих читателей, получивших греческое образование.[30] Натяжкой было и то предположение, что о душевной борьбе, которую испытал Иисус в Гефсиманском саду и о которой не мог не знать Иоанн, член тесного кружка апостолов, Иоанн умолчал лишь потому, что после первосвященнической молитвы (изложенной в главе 17) молитва скорби и малодушия, произнесенная Иисусом в Гефсиманском саду, «нарушила бы стилистическую цельность его труда»; ведь это значило бы признать Иоанна каким-то беллетристом, который произвольно пишет одно и опускает другое.
Газе, вообще, весьма осторожно относится к речам Иисуса, передаваемым Иоанном; он считает их вольным пересказом и воссозданием того, что из речей Иисуса запало в сердце апостолу и что он бессознательно смешал по истечении полустолетия с собственными мыслями, и чем более эти речи являются прямым развитием понятия Логоса (а таковым они исключительно и представляются), тем более сомнительной становится их «историческая ценность».[31] В частности, это говорится по поводу изречений Иисуса о его пресуществовании, которые «научный» биограф не решается использовать.[32] Но тогда, естественно, возникает вопрос: если изречения Иисуса, приведенные в четвертом евангелии, недостоверны, то имеем ли мы там дело с идеями Иисуса (если уж не с подлинными его словами) или с идеями самого евангелиста? А если достоверны лишь те немногие события, очевидцем которых был Иоанн и которые он не разукрасил позднее чудесами, придуманными им самим или другими, то в чём же заключается особенная благонадежность этого евангелия? И если Газе уверяет, что истина апостольского свидетельства не опровергается тем обстоятельством, что сам апостол считал евангельский рассказ о детстве Иисуса поэтической легендой, в которой следы исторического элемента удается открыть лишь с большой натяжкой, ибо свидетельство становится апостольским лишь со времени крещения Иоанна,[33] то мы вынуждены спросить: как в свете такого свидетельства может повыситься кредит евангелий, если три первые евангелия не составлены апостолами, а апостола, написавшего четвертое евангелие, можно лишь в ограниченной мере признать благонадежным свидетелем?[34]
У самого Газе двусмысленность и противоречивость его точки зрения особенно рельефно сказывается в конце жизнеописания Иисуса, в повествовании о его воскресении и вознесении. Сначала Газе пытается усомниться в достоверности смерти Иисуса, так как считает достоверным признаком смерти лишь начальную стадию гниения или разложение какого-нибудь важного для жизни органа, но последнее у Иисуса не наблюдалось, а первое опровергается указанием в Деяниях апостолов (2:27, 31). Поэтому, когда Газе полагает, что он не сходит с почвы правоверия, утверждая, что «органический принцип телесности Иисуса не дошел еще в своем разложении до стадии настоящего гниения»[35], он лишь впадает в самообман. По смыслу евангельских рассказов, как и по современному популярному представлению, душа Иисуса отделилась от его тела и не могла бы снова вернуться в него не через чудо, по мнению же Газе, в нём прекратились только внешние жизненные функции, которые впоследствии снова оживились под влиянием сохранявшейся в нём искры жизни. Далее, относительно причины такого восстановления жизни мы замечаем тот же самообман. Газе говорит: «Можно легко поверить, что смерть как насильственное разрушение, первоначально не была присуща природе бессмертного существа и что она является позднее как последствие греховности, а потому того, кто от грехов свободен, она не поражает, и это противоестество смерти»[36]. Но мы уже знаем, что с подобными высокопарными изречениями Газе не приходится серьезно считаться. Его истинное мнение, по-видимому, выражено в следующих словах: «Естественно предположить, что чудесная сила исцеления, которой обладал Иисус, мощно проявила себя также и в нём самом»[37]. Но поскольку Газе эту целебную силу в другом месте квалифицировал как дар или талант, то, разумеется, и проявление этого таланта предполагает полную жизненность одаренного им лица, и мы не можем себе ясно представить талант самовоскрешения, поэтому слова Газе склонны понимать в том смысле, что мощь жизненной энергии в Иисусе, избыток которой в продолжении земной его деятельности целебно изливался на других людей, с распятием его на кресте проявилась в форме сопротивления собственному разложению. Но наш «чисто научный» биограф довольствуется даже меньшим. Вместе с Шлейермахером и противореча всему, ранее им сказанному, он заявляет: «Так как Иисус не имитировал сам мнимую смерть, а, наоборот, вполне серьезно готовился умереть, и так как смерть его не могла быть предотвращена человеческими мерами, то воскресение его в любом случае остается очевидным делом Промысла, как бы оно ни произошло»[38]. Решив сомневаться, он вполне мог бы сказать «случайность» вместо «Промысла», ибо если бы стражники во исполнение полученного ими приказа перебили голени Иисуса, как другим двум распятым, тогда немыслимо было бы и воскресение в смысле Газе. Из противоречащих друг другу знамений, которые упоминаются в евангельских рассказах о явлении воскресшего, Газе, подобно Шлейермахеру, отвергает те, которые указывают на сверхъестественность и призрачность явившегося, считая их субъективным продуктом страха, который объял учеников перед лицом воскресшего покойника, или пытается объяснить их, как и факт неопознания Иисуса Марией Магдалиной и учениками в Эммаусе, «отсутствием характерных черт лица»; с другой стороны, он признаёт вполне объективными и историческими те из них, которые отмечают, что тело воскресшего было осязаемо и нуждалось в пище и, следовательно, было вполне естественным человеческим телом.
По поводу последнего момента в жизни Иисуса, его вознесения на небо, Газе еще раз заявляет, что ему представляется «довольно вероятным, что Иисус покинул нашу земную планету каким-нибудь необычайным образом». Но если он не признаёт необходимость воочию зримого вознесения и в вознесении на небо усматривает лишь мифический перифраз идеи о возвращении Иисуса к Отцу его, то, в конце концов, он, видимо, представляет и воскресшего всеобщей участи всех земнородных, так как жить, много лет скрываясь, не соответствует характеру Иисуса, и так как в истории нет указаний на такую жизнь, поэтому и надо полагать, что Иисус, вероятно, вскоре после своего воскресения скончался. Но это противоречит другому и притом вполне справедливому замечанию Газе, что «в Иисусе хилом и бесприютном апостолы не могли бы признать существо, смертью смерть поправшее». Впрочем, такая придирчивость в отношении к их собственному мнению не нравится теологам означенного сорта, которые в конечном счете стараются нас успокоить замечанием, что и «евангельская история изобилует мистериями». Однако в действительности евангельская история нам в данном случае заявляет прямо и отчетливо, что воскресший не помирал вторично, а зримо или незримо был вознесен на небеса к своему Отцу. Таинственность или, вернее, запрещение додумывать до конца приводит лишь к созданию половинчатой теологии, которая не может верить в вознесение на небо и в то же время не желает допустить естественной, простой кончины Иисуса.
§7. Моя критическая обработка жизни Иисуса
Отмеченные нами три последние обработки жизни Иисуса — пространный труд Паулуса, «Пособие» Газе и лекции Шлейермахера — были главными и наиболее выдающимися трудами в этой области, когда я тридцать лет тому назад впервые обратился к этому предмету. Ни один из этих трудов не удовлетворил меня, и мне казалось, что никто из этих авторов своей цели не достиг: Паулус вследствие того, что слишком последовательно развивал свой однобокий принцип, а остальные двое вследствие того, что были слишком уступчивы и непоследовательны, хотя на некоторые вещи и глядели правильно. Но главной и общей причиной неудачи, постигшей всех троих, я признал их взгляд на источник евангельской истории. Борьба между сверхъестественным элементом, о котором повествуется в евангелиях, и элементом естественным, которого требует историческая обработка, как единственно пригодного и ценного материала, не могла окончиться, пока все евангелия, или хотя [бы] одно из них, признавались историческими источниками в настоящем смысле этого слова. Что они — не исторические документы, это доказывалось уже тем, что в них говорится о явлениях сверхъестественных, а удалением сверхъестественного элемента из евангельских повествований или попыткой представить сверхъестественное как естественное, задавались ведь все предыдущие опыты разработки жизни Иисуса.
Итак, дело тогда заключалось в том, чтобы путем последовательного рассмотрения евангельских рассказов детально показать, что тщетны все попытки устранить из них посредством объяснений сверхъестественное или затушевать то, что противоречит естественным законам, и что поэтому евангелия не могут считаться в строгом смысле историческими повествованиями. И таковыми они не могут считаться не только потому, что в них содержится сверхъестественный элемент, но и потому, что они друг другу противоречат, не соответствуют установленным фактам истории, и в историческом смысле неправдоподобны. Наконец, необходимо было показать и то, что в тех случаях, когда на сцену выступает что-либо сверхъестественное, гораздо легче уразуметь способы образования неисторичного повествования, чем совершения какого-либо неестественного деяния.
Действуя таким образом, мы выиграли многое в том смысле, что сразу избавлялись от тягостной необходимости совмещать несовместимое, считать и представлять неисторическое историческим и невероятное находить правдоподобным. Но, с другой стороны, мы, видимо, теряли много ценного. Вместо истинного Христа, которого мы, как казалось, обрели в евангелиях, мы, теперь обретали в них лишь относительно позднее представление о Христе; вместо исторических фактов жизни Иисуса мы, как оказывалось, черпали из евангельских рассказов только варианты и осадки мессианских идей той эпохи, которые лишь до некоторой степени конкретизировались воспоминаниями о его личности, учении и судьбах. Точно так же часть речей Иисуса, притом таких, которые всего полнее характеризовали его личные достоинства и приведены в Евангелии от Иоанна, оказывалась продуктом позднейшего времени и позднейшего идейного развития. Так, образ евангельского Христа, доселе казавшийся таким рельефным и определенным, хотя, быть может, и не полным, видимо, стал превращаться в какую-то сумбурную туманную картину.
Несомненно то, что отныне уже нельзя было и думать о составлении картины личности и жизни Иисуса из отдельных евангельских рассказов, как это делалось прежде, когда весь труд биографа сводился лишь к вопросу о том, в каком порядке разместить отдельные элементы, как совместить рассказ одного евангелиста с рассказом другого и, в частности, как примирить Иоанна с тремя его предшественниками. Отныне ни одна евангельская повесть уже не могла, в своем теперешнем виде, считаться историческим рассказом, каждую из них приходилось подвергать критическому испытанию, чтобы затем отделить в ней чуждые примеси от чистого, исторически достоверного ядра. Впечатление от этой операции и ее результатов получилось такое же, какое получается от всякой серьезной критики: казалось, что мы обеднели и даже совершенно обнищали, ибо приходилось поступаться многими, хотя и мнимыми, сокровищами. Если уместно будет сравнить ничтожное с великим, здесь, в более ограниченной сфере познания, происходит то же, что наблюдалось в более обширной сфере в эпоху Кантовой критики. Какой богатой мнила себя старая Вольфова метафизика и как беспощадно вскрыла всё ничтожество этого инвентаря априорных представлений «Критика чистого разума»! Но метафизика не пожелала признать себя банкротом и продолжала хозяйничать при помощи своих воображаемых сокровищ, пока ее несостоятельность не стала очевидной для всех и каждого. Кант указал узкую тропу, которая приводила философию к закономерному приобретению вполне надежных представлений; этой тропой пошли его сторонники, и они чувствовали себя удовлетворенными, пока не сходили с указанного им пути. Неудивительно, что результаты нашей критики евангелий тоже не понравились большинству теологов, что они не пожелали расставаться со своим воображаемым богатством и уверяли, будто наша критика ничего серьезного и ценного не дала. Во всём, что было с этой точки зрения написано о жизни Иисуса после нас, приходится усматривать работу арьергарда, и признавать, что дело двинуто вперед лишь теми, кто продолжал идти вышеозначенной узкой тропинкой критики, добиваясь честно приобретенных сокровищ.
§8. Реакция и примирение. Неандер, Эбрард, Вейсе, Эвальд. Новейшие опыты: Кейм, Ренан
Специально с целью опровержения моей критической обработки жизни Иисуса, Неандер написал свою «Жизнь Иисуса Христа». Уже добавка слова «Христа» очень характерна для этой книги. К чисто человеческому личному имени было добавлено наименование, обозначающее сан и титул данного лица, и предполагалось создание ортодоксального противовеса той рационалистической тенденции в обработке жизни Иисуса, которая сказалась в избранном мною наименовании и приводила к результатам отрицательного характера.
Написанная Неандером «Жизнь Иисуса Христа» снабжена тремя эпиграфами, заимствованными у Афанасия, Паскаля и Платона: автор призвал на помощь всех добрых героев теологии и философии, увидев свое затруднительное положение. Не хватает лишь еще такого эпиграфа, который характеризовал бы дух самой книги и который, по нашему мнению, автору следовало заимствовать из Библии, а именно из Евангелия от Марка (9:24): «Верую, Господи! помоги моему неверию». В лице Неандера критика встретила сопротивление, энергия которого была внутренне ослаблена вследствие некоторого тайного согласия с критикой; его можно уподобить крепости, в которой половина гарнизона перешла на сторону осадившего ее противника. Направление Неандера, в общем, правоверное; он видит в Христе посредника между Богом и человечеством и в противовес критике рассудочной говорит о критике душевной; однако в нём заметно философское образование, хотя оно и не свободно от той фантастичности, которая присуща натурфилософии и романтизму[39]. С другой стороны, в обширных историко-церковных работах ему нередко приходилось поневоле заниматься исторической критикой, и искренняя жажда правды, хотя и не свободная от самообмана и благочестивой партийности, удерживала его от крючкотворской манеры других авторов, которые, не желая ни в чём уступить противнику, внешним образом цепляются даже и за то, во что они ничуть не верят внутренне. Такая книга, как написанная Неандером «Жизнь Иисуса Христа», может вызвать сочувствие, да и сам автор сознается в предисловии, что он чувствует, что книга отмечена печатью эпохи кризиса и изоляции, страданий и невзгод, в которой она создавалась.
В своей беспомощности Неандер, где только можно, ссылается на «великого богослова», то есть Шлейермахера; но мы уже достаточно наглядно показали, как ненадежен этот костыль и как легко он может искалечить руку, которая на него обопрется, в деле исследования жизни Иисуса. Теолог, обладающий чувствительной натурой и платонически-романтической образованностью Неандера, не может не предпочитать Евангелие от Иоанна всем прочим евангелиям, и так как в этом отношении он находит себе единомышленника в лице «великого богослова», сторонника неумолимо строгой критики, то он считает себя застрахованным от скептицизма слишком «крайней» критики. Всех евангелистов Неандер считает Богом вдохновенными писателями, но полагает, что эта вдохновенность не парализовала в них человеческого развития и сказалась лишь на религиозном, а не на историческом содержании их повествований, как будто религиозный элемент в этом случае может быть отделен от элемента исторического. Таким образом, получается нечто вроде эклектического метода, тенденция которого клонится к тому, чтобы убрать с дороги наикрупнейшие «соблазны», на которые наталкивается в евангельской истории современный мыслитель, чтобы тем легче было отстоять всё прочее, как исторически достоверное, против атак мифической интерпретации. Автор пытается примирить современный образ мысли с чудесами Иисуса, указывая на отличие обыкновенного естественного процесса от более «высокого» процесса, вполне соответствующего чудесам, и заявляя, что, несомненно, в будущем будут открыты новые законы природы, которыми и можно будет объяснить чудесное. В чудесном превращении воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской он видит «потенцирование» (возведение) воды на степень «виноподобной» силы, по аналогии с образованием минеральных вод; а в связи с чудесным насыщением толпы Неандер снисходительно говорит о попытках естественного объяснения этого чуда, так что читатель готов заподозрить его в тайном сочувствии к такому объяснению. Эта замаскированная склонность к естественному объяснению чудес сказывается и в том, что Неандер, питающий особое пристрастие к Иоанну, частенько проявляет симпатии к Марку. Обычно Марку ставится в заслугу его «наглядность», но, в сущности, Марк нравится лишь тем, что указанием на материальные средства и последовательный ход развития чудес он в своей повести о них создает лазейку для любителей естественного объяснения чудес.
Благодаря такой неуверенности автора, для критики не составляет большого труда окончательно расшатать его позицию: он сам впускает в свою крепость противника, который наконец завладевает ею совершенно. В самом деле, если сам автор признаёт возможным, что факт рождения Иисуса в Вифлееме Лука неправильно объясняет ссылкой на перепись народа, то кто же поручится нам за то, что Иисус действительно родился в Вифлееме? А если в рассказе о вознесении на небо суть дела, по словам автора, состоит лишь в том, что Христос вступил в новую, высшую неземную форму бытия не путем смерти, то откуда же мы это знаем, если мы отнеслись с недоверием к рассказу, который утверждает, что этот переход совершился именно путем вознесения?
В этом смысле гораздо правильнее поступают те богословы, которые, отвергнув колебание и половинчатость, прямо и открыто возвращаются к безоговорочному признанию чудес. Одно из двух: или мы признаем чудо, или отвергаем; если мы признаем чудо, то не следует устанавливать какую-то дифференциальную градацию чудес и принимать такие чудеса, которые аналогичны естественным процессам и явлениям, отвергая те, в которых сказывается волшебство, ибо всякое чудо есть волшебство, то есть акт непосредственного вмешательства некоторой высшей причины в связанный ряд конечных причин[40], и его сходство с естественным процессом может быть лишь сходством случайным и внешним. Разумеется, в тех случаях, когда такое сходство существует, когда говорится об исцелении больного, которое нам представляется лишь высшим проявлением естественного воздействия духа на патологические ощущения и состояния тела, мы можем предаваться самообману и воображать, что верим в чудо, хотя в действительности мы только сами создали себе фантастическую, то есть смутную и неопределенную картину естественного явления. Но там, где эта аналогия отсутствует, как, например, в сказаниях о чудесном размножении хлебов, о превращении воды в вино (и после того как придуманная Ольсгаузеном и опровергнутая мною категория «ускоренных» естественных процессов стала казаться богословам неприемлемой гипотезой), там уже труднее убедить, что в чудеса такого рода можно верить, не греша против истины. Если какой-нибудь Гефререр, по поводу исцеления расслабленного у купальни у Овечьих Ворот или заочного исцеления сына царедворца (Ин. 5:2–9; 4; 46–54), заявлял, что в этих актах он усматривает простое чудо, то это всякий примет за вызов, брошенный по адресу тех критиков-философов, которые пытались доказать невозможность чуда, или по адресу тех собутыльников, в кругу которых он ораторствовал; о степени серьезности такого заявления можно судить по тому, что прочие чудеса он не стеснялся свести на нет приемами Паулуса, то есть естественным толкованием. И если Мейер в своем «Комментарии к евангелиям» оспаривает все объяснения чудес и признаёт их подлинными, мы в этом выводе усматриваем вырождение в безличное «умолчание» похвального стремления экзегета принимать вещи лишь такими, какими их изображают комментируемые авторы.
В сочинениях Эбрарда, специально направленных против моей критической обработки жизни Иисуса, мы находим прямо-таки наглые выпады реставрированной ортодоксии. В них уже не делается никаких уступок и не допускается ни малейшего «смягчения» идеи чуда; здесь евангелистам строго воспрещается противоречить друг другу и заблуждаться в чём бы то ни было; критика всегда неправа, ни одно из ее основоположений не действительно, и, вообще, автор старается перекричать критику, когда ему не удается опровергнуть ее. Эбрард упрекает меня в фривольности за то, что я нахожу, что у Иоанна прощальная речь Иисуса (по-моему, неисторическая) слишком растянута; затем он усматривает богохульство в том, что я обращаюсь с некоторыми укоризненными вопросами (заметьте!) не к подлинному Иисусу, и даже не к Иисусу евангелистов, а к Иисусу тех теологов, которые ошибочно сочетают Иоанна с тремя первыми евангелистами и вслед за первосвященнической молитвой приводят Гефсиманское моление о чаше, и, следовательно, обращаюсь к воображаемому Иисусу, чтобы показать, что он есть Иисус воображаемый. Мое и других честных критиков замечание о том, что у рыбы, ухватившейся за крючок удочки, едва ли мог быть в пасти статир (золотая монета), как повествует Матфей (17; 24–27), он опровергает замечанием, что рыба могла вытолкнуть монету из желудка в пасть в тот момент, когда Петр открывал у нее пасть. Такого рода объяснения едва ли и сам автор считал серьезными, он их высказывает с такой миной, словно желает сказать: «Я и сам отлично сознаю, что объяснения мои никуда не годятся, но с вас и этого довольно, мы же, члены консисторий, будем угощать вас подобными объяснениями до тех пор, пока церковь будет раздавать должности и хлеб, и будет нам поручать испытание кандидатов богословия». Таким крючкотворством метакритика Эбрарда сильно оскорбляет чувство правды благомыслящих людей даже среди верующих теологов, и если какой-нибудь Блек после появления «научной» критики Эбрарда выражает надежду, что при своем образе мыслей и даровании тот скоро создаст нечто превосходное на пользу церкви Господней и науки богословия, то это служит лишь доказательством того, как сильно задевал сначала даже умеренные элементы сам предмет критики. Какие именно услуги оказал Эбрард богословской науке, об этом научная летопись умалчивает, а каковы услуги, оказанные им церкви Господней, об этом наверняка еще долго будет говорить евангелическая церковь Пфальца.[41]
Несколько иную позицию в отношении моей критической обработки жизни Иисуса занял Вейсе. Одним из первых он подверг мою книгу более или менее разумной критике, затем он и сам выступил с собственной обработкой евангельской истории, в которой разделяет мой взгляд на неисторический характер Евангелия от Иоанна и на несовместимость его с прочими евангелиями и подкрепляет выдвинутые мною основания несколькими собственными соображениями. Скоро у нас будет речь о том, как он попытался выйти из затруднения, созданного его симпатией к некоторым частям четвертого евангелия, отделяя в нём апостольский элемент от неапостольского. Его пристрастие к Марку, которого в то время Вильке в своем добросовестном и остроумном, но неубедительном труде пытался выставить в образе «первичного» евангелиста, вероятно, как и у Неандера, стояло в связи с мнимо-естественным изображением некоторых исцелений, о которых повествует этот евангелист. В этом отношении Вейсе, подобно Газе, признавал в Иисусе присутствие естественной, неоднократно проявляемой целительной силы, поэтому он полагал, что и позднейшие сходные замечания евангелистов о том, что Иисус исцелил «множество» больных, справедливы, но более подробные рассказы их о некоторых отдельных чудесных случаях исцеления представляются уже вымыслом, не отвечающим исторической правде. Источником такого неисторического элемента в евангельских рассказах о чудесах я в большинстве случаях признавал мессианские чаяния тогдашней эпохи, опиравшиеся на ветхозаветные события и изречения, а в некоторых случаях, например по поводу проклятия смоковницы, я признавал таким источником неправильное истолкование образной речи Иисуса. Эту последнюю догадку Вейсе с явным преувеличением распространил на все евангельские рассказы о чудесах; по его мнению, ядром этих рассказов везде являются притчи Иисуса, которые по недомыслию пересказчиков превратились во внешние чудотворения. Главнейшее чудо евангельской истории и пробный камень различных воззрений на жизнь Иисуса и, можно сказать, на всё христианское учение — чудо воскресения Иисуса из мертвых — Вейсе объясняет так же, как и я: он видит в нём не настоящее воскресение распятого, чудесное или естественное, а лишь «видение» апостолов; но, чтобы это видение не представлялось бредом или иллюзией, он уверяет, что оно порождено было духом отошедшего Господа, или самим Богом, непосредственно в душе апостолов (так поясняет автор на тот случай, если кому-либо заявление о духе отошедшего Господа вздумается понять в смысле призрака или привидения). В данном случае мы видим ту же половинчатость, то же перечеркивание правильных критических идей дилетантскими идиосинкразиями, вследствие чего теологическое мировоззрение Вейсе вообще и его обработка евангельской истории в частности получают значение лишь курьеза.
То же приходится сказать о написанной Эвальдом «Истории Христа», как то было уже показано мною в другом месте.[42] Его взгляды на личность Иисуса и чудесные исцеления, о которых повествует евангельская история, напоминает собой отчасти взгляды Шлейермахера, отчасти взгляды Паулуса. Остальные чудеса он трактует мифически, хотя и не признаётся в этом прямо; относительно воскресения Иисуса в подробном и высокопарном рассуждении Эвальда мы не находим ровно ничего сверх того, что в соответствующей главе моей «Жизни Иисуса» было уже высказано — хотя и менее назидательным и умилительным тоном, но зато и менее запутанно. Набор звонких слов и фраз, столь характерный для манеры Эвальда, когда он излагает известные предметы, имеет симптоматическое значение для той конечной стадии развития, которую переживает ныне теология: ей уже приходится скрывать от себя самой неотвратимый крах под аффектированной дымкой пылкого и безмерного фразерства, но яркий свет ясного и точного мышления скоро рассеет эту мглу и обнаружит всю скудость результатов этой критики.
Впрочем, за последние годы можно отметить уже несколько опытов, более удачных и отрадных. К ним относятся, во-первых, небольшая, но содержательная книга Кейма о человеческом развитии Иисуса Христа и, во-вторых, недавно появившаяся известная книга француза Э. Ренана «Жизнь Иисуса». Эти две книги очень непохожи друг на друга: в одной мы находим лишь схематический набросок, или эскиз, а в другой — детально разработанную яркую и пеструю картину; одна написана во вкусе немца-богослова, а другая во вкусе светского француза. Однако между ними есть много общих черт, и даже их несходство заставляет сравнить и сопоставить их между собой. Черта, общая обеим книгам и составляющая их характерную особенность, сводится к тому, что оба автора стараются серьезно исследовать человеческое развитие Иисуса и последовательно изучить его с историко-психологической точки зрения. Кейм совершенно справедливо заявляет, что на подобное изучение личности и жизни Иисуса наталкивает весь ход развития современной образованности, что и общественное сознание с доверием относится теперь лишь к такой истории, силы которой оно усматривает в самом себе и в общих задатках человеческой натуры. Но спорным приходится признать другое заявление того же автора — будто такой взгляд уже теперь усвоен всею теологией более или менее сознательно. Для нас сомнительным является и то, вполне ли взгляд этот усвоен и проведен даже самим Кеймом.
Правда, он высказывает мысль, которая в этом отношении убедительна и представляется тем более ценной, что ее редко высказывают за пределами собственно критической школы, — мысль о том, что не может быть речи ни о человеческом уразумении личности Иисуса, ни об исследовании внутреннего развития в его личной жизни, пока мы будем видеть в четвертом евангелии исторический источник и будем ставить его выше трех первых евангелий или хотя бы на одну доску с ними. Такая точка зрения дает Кейму огромное преимущество перед ординарными исследователями жизни Иисуса и даже Ренаном; последний, правда, заявляет по поводу бесед Христа, сообщаемых Иоанном, что не удастся написать осмысленную биографию Иисуса тому, кто будет руководиться этими беседами, однако сам Ренан считает рассказы этого евангелия более достоверными, чем рассказы всех прочих евангелистов. В этом отношении немецкий богослов, не зря сидевший у ног Баура, имеет много преимуществ перед французом, который, видимо, знаком лишь с теми немецкими исследованиями по данному вопросу, которые появились во французском переводе. Однако же и он хватает через край, когда говорит об апостольском происхождении и целостном характере первого евангелия и воображает, что на основании этого евангелия и его состава можно воспроизвести историю внутреннего развития Иисуса.
Преимущество приходится признать за французом по другому пункту. Немецкий автор укоряет Ренана тем, что в его изображении Иисус является всегда одним из многих, хотя и первенствующим лицом, но не единственным, в руках которого лежит судьба всего человечества. При этом Кейм отказывается видеть в индивидуальности Христа органический продукт человечества, ибо Христос, по его мнению, превосходит не только массу человечества, но и величайших героев, и должен представляться существом, сидящим одесную Бога живого, Отца своего. Уже в этом напыщенном способе выражения мыслей сказывается тот глубокий «пекторальный» тон[43], которым Кейм преднамеренно трактует вопросы в своей книге: он сознательно и добровольно исповедует христианско-богословскую иллюзию и воображает, что этим удовлетворяются требования научности. Но действительный человек никогда не является «единственным»; напротив, каждый человек, даже если он занимает первенствующее место, принадлежит к единому и общему классу существ, и ни один человек в своем классе не занимает столь высокого места, чтобы не зависеть, так или иначе, от других существ. Мы согласимся считать Иисуса существом «единственным» и в то же время «человеком» только в том случае, если в действительной истории нам укажут на подобного единственного человека или объяснят, почему лишь в области религии появляется такой единственный. Тут человек, желающий остаться в пределах искренно-человеческого, уйдет не далее того француза-мирянина, который находил, что истинная религия человечества началась с Иисуса в том же смысле, в каком философия — с Сократа, а наука — с Аристотеля, то есть что отдельные попытки создать религию, философию, науку делались и ранее перечисленных великих основоположников, и очень крупные успехи в соответствующих областях были сделаны и, вероятно, еще будут сделаны после них, — и это не затрагивает их выдающегося положения.
Ошибочность мысли, будто об Иисусе-человеке можно говорить как о единственном существе, превосходящем всё «фактическое» человечество, открылась бы еще нагляднее, если бы Кейм собрался детально разработать жизнь Иисуса. Однако и в схематическом наброске его ошибка обнаруживается с достаточной ясностью. Хотя нас радует светлый взгляд и тонкий вкус, с которым Кейм рисует перед нами картину постепенного нарождения и развития идей и взглядов Иисуса, отмечая зависимость их от взглядов современной ему среды и от собственных наблюдений и опыта и представляя подвиг жизни Иисуса результатом пережитой им внутренней борьбы, однако мы изумляемся и недоумеваем, когда Кейм заявляет, что Иисус признал себя Мессией «быть может, под влиянием чудес, ознаменовавших его детство», или когда Кейм, допуская психологическое объяснение чудесных исцелений, произведенных Иисусом, относительно других, «менее часто упоминаемых, чистых чудес природы» заявляет, что их трудно объяснить, что наука еще не сказала о них решающего слова. Я знаю, что свидетельство, которое требуют от науки, можно будет истолковать в том смысле, что наука в этой области бессильна. Но если мы примем за действительные факты такие чудеса, как размножение хлебов, превращение воды в вино, хождение по морю, то этим поколеблем все устои естествознания. И если Иисус не только предчувствовал свои страдания и смерть, но также был «уверен» в своем воскресении из мертвых, и если даже такое предвидение не было чем-то сверхъестественным, как полагает Кейм, то мы, в свою очередь, полагаем, что подобное предвидение воскресения, как происшествия сверхъестественного, было сверхъестественно, как и предвидение всякой, не поддающейся учету случайности не есть предвидение натуральное. Как смотрит на воскресение Иисуса сам Кейм, этого он нам не поведал. Но так как он не признаёт видений, на которые ссылается Ренан, и так как всё сверхъестественное в жизни Иисуса он также отвергает, то, вероятно, он считает воскресение его простым пробуждением мнимоумершего. В таком случае он — почитатель христологии Шлейермахера, хотя и стремился к исторической концепции личности Иисуса. Впрочем, от обаяния Шлейермахера избавится лишь тот, кто перестанет думать, что историческое может быть прообразным, что сверхъестественное может быть естественным, что индивид может быть действительным человеком и в то же время превосходить всё действительное человечество.
II. Евангелия как источники для жизнеописания Иисуса
А. Внешние свидетельства о происхождении и древности евангелий
§9. Общие предварительные замечания
Выше было указано и на целом ряде предшествующих опытов наглядно подтверждено, что невозможно исторически осветить жизнь Иисуса, пока евангелия будут признаваться историческими источниками в строгом смысле слова. Но, быть может, их всё же надо признавать за таковые? Разве церковное предание, слагавшееся в течение полутора тысяч лет, или древнейшие, до времен апостольских восходящие свидетельства не говорят за то, что евангелия были написаны либо внушающими доверие очевидцами жизни Иисуса, либо их учениками и сподвижниками? Правда, такого рода предположение не доказательно, ибо и очевидец не создает настоящего исторического повествования, если не задается исторической целью или если предвзятость взглядов и предрассудки заставляют его видеть вещи не такими, каковы они в действительности; однако мы пока оставим в стороне подобные соображения и попытаемся критически рассмотреть наличные свидетельства о происхождении и древности наших евангелий.
Здесь нам прежде всего придется условиться относительно того, что следует понимать под «свидетельством», устанавливающим принадлежность данного произведения данному автору.
В этом отношении мы обычно обращаем внимание на собственное свидетельство произведения и приписываем его тому автору, имя которого указано в заглавии. Но так мы поступаем не всегда; лишь только мы наталкиваемся на какое-либо обстоятельство, которое заставляет нас усомниться в принадлежности сочинения данному автору, мы вспоминаем, что нередко труды выходят в свет под псевдонимом и что анонимные сочинения часто приписываются лицам, которые их не писали; поэтому мы начинаем доискиваться новых свидетельств. Если книга помечена именем еще живого автора, то доказательством ее принадлежности ему мы признаем то обстоятельство, что он не возбуждает спора, ибо мы думаем, что если бы книга не ему принадлежала, то он стал бы протестовать, а если бы он присвоил себе чужой труд, то против этого стали бы протестовать другие. Но если в данном случае предположить, что обе стороны знают о появлении данной книги, то дело еще более осложняется, когда автор уже умер. Если после смерти автора выходит книга, помеченная его именем, но не ему принадлежащая, то он уже не может протестовать, а будут ли протестовать другие — это зависит от случайности. Сама книга по содержанию своему может соответствовать в большей или меньшей степени тому, что нам известно о данном авторе, и, следовательно, ее подлинность, по внутренним причинам, становится более или менее вероятной; но вполне бесспорное свидетельство мы имели бы лишь в том случае, если бы, за невозможностью воспроизвести подлинную рукопись, нашлись в письмах или иных записях умершего определенные указания на принадлежность ему данного труда или если бы кто-либо из близких знакомых автора заявил, что ему известно, что данное сочинение покойным автором действительно написано; однако и в этом случае следовало бы предполагать, что подлинность таких записей вполне установлена, что данное автором знакомое лицо есть, несомненно, благонадежный человек и никоим образом не заинтересовано в представлении ложного свидетельства по делу.
Если к нам по традиции дошло какое-нибудь древнее сочинение, помеченное определенным именем, то сущность дела от этого не меняется. Подлинность такого сочинения будет удостоверена лишь тогда, когда в подлинных записках самого автора или его современников (притом таких, которые действительно могли иметь требуемые сведения) прямо заявлено, что книга действительно написана данным лицом. Так, например, Цицерон неоднократно перечисляет свои труды в письмах, а в «Бруте»[44] упоминает о «Записках» Цезаря, так Вергилий, Гораций и Овидий в своих позднейших стихотворениях упоминают о более ранних; так Плиний Младший в письме к другу своему Тациту разъясняет один пункт, которого последний предполагал коснуться в истории, над которой он тогда работал, а в другом письме тот же Плиний перечисляет отдельные труды своего дяди Плиния Старшего и сообщает также план и содержание этих трудов. Последнее необходимо, и сам пересказ труда должен быть достаточно точным, чтобы считаться доказательством его подлинности, ибо оригинал труда, о котором говорит автор или кто-либо из его знакомых, может затеряться и быть подменен другим трудом. Только в том случае, если близкий автору современник приведет цитату из сочинений другого лица, о котором идет речь, как это сделал, например, вышеупомянутый Плиний с одной эпиграммой Марциала, свидетельство приобретает ту степень благонадежности, какая, вообще, мыслима в подобных обстоятельствах.[45] Нельзя считать надежным свидетельством заявление какого-нибудь современного или позднейшего писателя о том, что данный автор написал книгу под таким-то заглавием и такого-то содержания, если он не приведет цитату, которую можно было бы найти в указанном сочинении. Еще менее надежно такое свидетельство, когда какой-нибудь писатель выражается словами другого автора и при этом не оговаривает, заимствовал ли он их у другого лица, и у кого именно, ибо в подобном случае мыслима двоякая возможность: во-первых, что не данный писатель заимствовал выражения из книги другого писателя, а оба заимствовали их из какого-нибудь общего источника, и, во-вторых, что данные выражения представляют собой фразы, общеупотребительные в данном кругу и в данную эпоху, и что оба автора воспользовались ими независимо от какого-либо письменного источника.
Отсюда явствует, что по существу дела внешнее свидетельство редко бывает настолько благонадежным, чтобы не нуждаться в подкреплении со стороны внутренних свидетельств, почерпнутых из соответствия данного труда той эпохе, тем условиям и той среде, в которых жил предполагаемый автор, и чтобы в случае серьезной противоречивости подобных внутренних оснований внешнее свидетельство достаточно удостоверяло подлинность сочинения. Можно было бы привести массу убедительных примеров тому, как даже самые авторитетные внешние подтверждения впоследствии оказывались ложными, но не помешали усомниться в принадлежности предполагаемым авторам тех сочинений, которые им приписывались на основании подобных свидетельств; однако я приведу один пример из моей собственной практики. В пасхальную ярмарку 1591 года появилось немецкое рифмованное стихотворение под заглавием «О житии, странствиях и прочем великого святого Христофеля — сочинение высокоученого господина Никодима Фришлина». Автор этой поэмы за несколько месяцев перед тем умер вследствие несчастного случая. Его противник Крузиус в своем «Дневнике», посвященном полемике с Фришлиным, назвал эту поэму «карканьем вороны», а не «лебединой песнью» и высказал это мнение ранее смерти автора, то есть на основании появившегося объявления о предстоящем выходе поэмы, а не по её прочтении. Но в том же «Дневнике», сохранившемся в рукописном виде, не нашлось позднейшей приписки его автора о том, что по прочтении поэмы он усомнился в принадлежности ее Фришлину. Можно допустить, что непримиримому и злопамятному Крузиусу хотелось, чтобы его смертельного врага, хотя бы и несправедливо, считали автором этой злостной сатиры, однако же и брат Фришлина, пытавшийся реабилитировать память его в особой монографии, против этого не возразил ни слова. Таким образом, до самого последнего времени поэма о великом Христофеле считалась посмертным сочинением Фришлина, и в руководствах по истории немецкой литературы она упоминается среди трудов Фришлина. Мне довелось писать биографию злополучного поэта и я был крайне удивлен, что сам Фришлин ничего не упоминает об этом сочинении даже в тех многочисленных письмах, которые им были написаны во время его заточения в тюрьме; однако я не решался на этом основании усомниться в принадлежности означенной поэмы Фришлину, так как поэма, в общем, соответствовала его характеру. Но два года тому назад один гессенский пастор нашел в дармштадтском архиве ряд документов, которые с бесспорной очевидностью показывают, что автором поэмы в действительности был некий ганау-изенбургский пастор, по имени Шенвальд, и что сам Фришлин только издал ее и, может быть, отчасти переделал.[46]
Подобные примеры приводились также и другими авторами. Так, спустя несколько дней после казни Карла I, короля английского, появился листок под заглавием «Образ Короля», якобы меморандум, который король, по слухам, написал в свою защиту во время заточения. Публика отнеслась к листку с доверием и большим сочувствием, он скоро выдержал около 50 изданий и немало способствовал тому, чтобы за казненным королем в народе установился почетный титул мученика. Однако уже в 1649 году великий поэт Мильтон усомнился в аутентичности этой роялистской подделки, относительно которой ныне уже твердо установлено, что автором ее является один из эксетерских епископов; но еще в конце минувшего столетия деиста Толанда соотечественники ожесточенно укоряли за то, что в составленной им биографии Мильтона он признал основательным скептический его взгляд на вышеупомянутое заявление. Правда, он сделал при этом оговорку, которая задевала не только роялизм, но и правоверие англичан, но потому-то мы и выбрали этот пример из множества других.
Толанд по поводу этого подлога замечает:
«Начав серьезно размышлять о том, как всё это могло произойти в нашем обществе в эпоху высокой учености и образованности, когда обе партии так зорко наблюдали за действиями противника, я перестал удивляться и тому, что многие произведения, неправильно приписываемые Христу, апостолам и иным великим людям, появлялись в эпоху первоначального христианства, когда так было важно, чтобы этим произведениям поверили, когда обман был общим явлением, не возбуждавшим ни в ком протеста, когда и взаимное общение людей было не так развито, как теперь, и когда вся земля окутана была мглою суеверия. Наоборот, я начинаю думать, что и до сих пор не обнаружена еще подложность многих книг вследствие отдаленности эпохи, смерти заинтересованных лиц и гибели памятников, которые могли бы обнаружить истину; необходимо помнить также и то, что слабейшие партии подвергались большей опасности, когда им удавалось раскрыть хотя бы и вполне очевидные козни своих противников, и что господствующая партия неизменно сжигала и иным способом истребляла книги, которые ей не нравились».
Да, совершенно справедливо и основательно заключение деиста Толанда о том, что если такие подлоги были мыслимы в столь просвещенную и критическую эпоху, как то время, то подобные явления были еще более возможны в столь темную и некритическую эпоху, как эпоха нарождения христианства. Именно ближайшие столетия до и после Рождества Христова представляют собой настоящую эпоху расцвета подлогов и именно древнейшие христиане, притом не только люди необразованные, но и ученые отцы церкви, отличались наибольшим легковерием, в деле признания явно подтасованных письмен.[47] Так, например, автор внесенного в наш канон Послания Иуды (ст. 14) ссылается на одно пророчество Еноха, седьмого (после Адама) патриарха, которое мы находим в апокрифической книге Еноха; следовательно, он был уверен, подобно Тертуллиану и другим отцам церкви, что в этом произведении, которое относится к последнему веку до Р.X. и представляет собой плохое подражание Книге Даниила, заключается подлинное пророчество отца Мафусаила и прадеда Ноя. Во II веке до Р.X. некий александрийский еврей, Аристовул, желая отрекомендовать иудаизм миру греков устами их собственных авторитетов, собрал мнимые стихи древнейших греческих поэтов или составил таковые сам, и ими доказывал, будто греки высказывались не только за монотеизм, но даже определенно за иудаистские догматы. Теперь нам представляется едва понятной та дерзость, с которой этот иудей уверял, будто Орфей уже воспевал Авраама, Моисея и десять заповедей, а Гомер славословил завершение миротворения в седьмой день и освящение субботы. Однако еврей Аристовул отлично понимал людей: с полным доверием отнеслись к нему не только его соплеменники, тщеславию которых он польстил, но даже ученые отцы христианской церкви, которые, подобно Клименту Александрийскому и Евсевию, с полным доверием стали ссылаться на сочиненные им цитаты.
То же самое следует сказать о «прорицаниях Сивиллы», сборнике оракульских изречений, в которых отцы церкви усматривали подлинные изречения языческих пророчиц, современниц Троянской войны, царя Тарквиния Древнего и других и которые имели хождение со II века до Р.X. вплоть до III века после Р.X. под общим наименованием «Пророческие книги Сивиллы». Эта Сивилла не только говорит о райском змие и построении Вавилонской башни, но и подробно предрекает житие и чудеса Иисуса, его исцеления больных и воскрешения усопших, насыщение 5000 человек и хождение по морю, истязания посредством тернового венца и поения уксусом и желчью, его крестную кончину и воскресение на третий день после смерти. Мало того, Сивилла в начальных буквах ряда стихов дает полное наименование и титул Христа, — и всё это не возбуждало в отцах церкви ни малейших сомнений относительно автора прорицаний. Когда Цельс начал говорить о подложности изречений Сивиллы, Ориген потребовал предъявления неподложных текстов, а Лактанций в ответ на упреки о подлогах христиан сослался на Варрона и Цицерона, которые умерли еще до Р.X., говорят о сивиллах Эритрейских и т.п. (но, разумеется, ничего не знают о пророчествах относительно Христа, о которых именно и шла речь).
Так как в деле измышления сивиллиных прорицаний кроме евреев участвовали также христиане, то в споре с первыми последние скоро увидели себя вынужденными подделать греческий перевод Ветхого завета, дабы заручиться доказательными цитатами против евреев. Путем всевозможных вставок и приписок им удалось внести Крест Христов в Псалмы, повесть о сошествии Христа в ад — в книгу Иеремии, и когда евреи стали возражать, что в их текстах цитируемых мест не имеется и что христиане, вероятно, сами выдумали их, отцы церкви с большой наглостью или наивностью стали обвинять евреев в том, что они обманным образом выбросили эти места из своих текстов Библии. Разумеется, для древних христиан представлялось весьма важным, чтобы пророчество Михея о рождении Мессии в Вифлееме было отнесено к Иисусу, а чтобы заставить римлян поверить этому, Юстин сослался на перепись, которую их первый наместник в Иудее, Квирин, велел произвести. Однако Квирин вообще не был наместником в Иудее, он управлял лишь Сирией, и хотя он велел произвести перепись в Иудее, но она произведена была лишь девятью годами позднее того времени, когда, по свидетельству евангелий и Юстина, родился Иисус.[48] Следовательно, сам по себе Квирин не мог оставить никаких списков, в которые был бы внесен сын Марии, а если таковые списки имелись, то о них, вероятно, следовало бы сказать то же, что и о «Деяниях Пилата», на которые Юстин ссылается в связи с подробностями распятия Христа. Об этих «Деяниях Пилата», которые ныне в переработанном виде мы читаем в Евангелии Никодима, мы знаем, что они написаны одним христианином, который из наших евангелий извлек сущность рассказов об осуждении, казни и воскресении Иисуса, разукрасил эти рассказы всевозможными легендами и облек их в форму доклада, будто бы составленного Пилатом для императора Тиберия, чтобы выступить с этим сочинением, как с документом бесспорным и убедительным, против врагов христианства.[49]
Весьма ярким примером легкости, с которой в те времена выдавалось и признавалось за достоверное решительно всё, что только служило целям христианской пропаганды, может служить «Послание Христа к царю Эдесскому Авгару», которое Евсевий извлек будто бы из Эдесского архива и сообщает нам в собственном переводе с сирийского оригинала.[50] Авгар, мелкий властитель по ту сторону Евфрата, по словам Евсевия, захворал неизлечимой болезнью. Когда он услыхал о чудесных исцелениях, произведенных Иисусом в Иерусалиме, он отправил туда скорохода-вестника Ананию с письмом, в котором заявляет Иисусу, что ввиду совершенных им деяний считает его Богом или Сыном Божиим и просит вылечить его и, если пожелает, поселиться у него, чтобы спастись от гонений со стороны иудеев. Тогда Иисус будто бы ответил царю следующим письмом:
«Благо тебе, поелику ты уверовал в меня, не видев меня, ибо писано обо мне, что видящие меня не уверуют в меня, дабы могли уверовать и спастись невидевшие меня. Что же касается твоего приглашения прийти к тебе, то я прежде должен исполнить здесь всё то, ради чего я прислан был сюда, а когда всё это будет исполнено, тогда я возвращусь к пославшему меня. Когда же я воссяду одесную пославшего меня, я пришлю к тебе одного из учеников моих, дабы он исцелил тебя и даровал жизнь и блаженство тебе и близким твоим».
Мы знаем, что христианство стало укореняться в Эдессе лишь во II веке, и потому нам нетрудно понять, почему это событие, наперекор истории, отодвинуто было назад, ко временам Иисуса, но сам Евсевий ничуть не усомнился в подлинности этого документа, столь очевидно и при том столь плохо подделанного (в нём Христос ссылается на Евангелие от Иоанна (9, 39, 20, 29), хотя оно было написано гораздо позднее); и этот-то Евсевий, отец истории христианской церкви, является одним из главных авторитетов, на показаниях которых утверждается уверенность наша в подлинности евангелий.
§10. Древнейшие свидетельства относительно трех первых евангелий
Если от этих общих предварительных замечаний, которые были необходимы, мы перейдем к древнейшим свидетельствам, удостоверяющим наличие и подлинность наших евангелий, то можно признать фактом, прочно установленным, что в конце II века после Р.X. церковь признавала те же четыре евангелия, которыми мы пользуемся теперь, и что трое выдающихся учителей церкви — Ириней в Галлии, Климент в Александрии и Тертуллиан в Карфагене — неоднократно цитируют их в качестве книг, написанных теми апостолами и учениками апостольскими, именами которых они помечены. Правда, в обращении имелись также многие другие евангелия, например, евангелия Евреев, Египтян, Петра, Варфоломея, Фомы, Матфея, а также Евангелие 12 апостолов, которыми пользовались не только еретики, но иногда и ортодоксальные учители церкви, однако за самыми благонадежными основами христианской веры считались, как тогда, так и впоследствии, вышеупомянутые четыре евангелия.[51]
На вопрос: почему же именно эти четыре евангелия пользовались предпочтением? — Ириней дает нам следующий ответ: Евангелие — столп церкви, церковь же распространена по всему миру, а мир имеет четыре стороны света, поэтому приличествует иметь четыре евангелия. Далее: Евангелие есть жизненное дуновение (дыхание), Богом дарованное для людей, а так как на земле существуют четыре главных ветра, поэтому и мы имеем четыре евангелия. Или: сотворившее мир Слово покоится на херувимах, а херувимы обладают четырьмя ликами, поэтому и нам Слово даровало четырехликое евангелие. Эту курьезную аргументацию, впрочем, не следует понимать в том смысле, что упомянутые обстоятельства будто бы служили основанием, в силу которого Ириней признавал именно данное, а не иное число евангелий, напротив, именно эти четыре евангелия успели в те времена приобрести наибольший кредит в кругу представителей вселенской церкви, стремившихся к вероисповедному единению, и это положение вещей Ириней пытался лишь формулировать и объяснить в духе века своего; но этим рассуждением он в то же время ясно показал, что чужд он духу нашей эпохи, духу разумной критики.
Однако и помимо этого обстоятельства нас не может удовлетворить свидетельство, автор которого жил по меньшей мере целым столетием позже предполагаемых составителей вышеуказанных евангелий, поэтому приходится искать еще более древние документы, свидетельствующие о происхождении евангелий. При этом необходимо не только отделить три первые евангелия от четвертого, но и рассмотреть каждое из них отдельно.
Прежде всего относительно Евангелия от Матфея следует заметить, что Евсевий воспроизводит следующее свидетельство Папия, который в первой половине II века был епископом Гиерапольским во Фригии и ревностно собирал изустные сказания церковных старейшин об апостолах:
«Матфей записал по-еврейски изречения Господа, а прочие толковали (переводили) их, кто как умел.»
Что Матфей написал евангелие по-еврейски, то есть на тогдашнем арамейском народном языке, это подтверждают и позднейшие учители церкви, поясняя, что это он сделал в интересах палестинских христиан; а Евсевий добавляет, что Матфей это сделал тогда, когда собирался уходить от евреев к другим народам, чтобы своей личной проповедью заменить им Писание.[52] Но Иероним замечает, что никому не известно, кем это еврейское евангелие Матфея впоследствии было переведено на греческий язык. Следовательно, под сочинением, которое Папий приписывает Матфею, все разумели оригинал ныне известного нам Матфеева евангелия и считали, что это есть греческий перевод, неведомо кем изготовленный. Странным представляется здесь то, что Папий в цитированной фразе, которая, вероятно, легла в основу всех остальных свидетельств, упоминает лишь об «изречениях», записанных Матфеем, поэтому его поймал на слове Шлейермахер, который под еврейским произведением Матфея стал разуметь не Евангелие от Матфея, а какой-то сборник изречений. Но Шлейермахер слишком увлекается, уверяя, что «истолкование», которое, по словам Папия, производили все, кто как умел, надо разуметь не в смысле перевода, а в смысле «объяснения» изречений Иисуса, которое сопровождалось указанием на обстоятельства, подавшие к ним повод. Если человек, пишущий по-гречески, говорит о «толковании» еврейской записи, то это только может означать «перевод». Точно так же не представлялось нужным пояснять изречения какими-либо рассказами, если об изречениях, записанных Матфеем, Папий говорил только в том смысле, что не в рассказах, а в изречениях Господних он видел главную суть дела. А что он именно это и хотел сказать, явствует из его же свидетельства о Марке (приведенного Евсевием раньше); в этом свидетельстве, упомянув о «речах и деяниях» Христа, записанных этим толкователем (переводчиком) Петра, он вслед за тем называет их собранием «изречений» Господа. Папий удостоверяет только, что апостол Матфей написал еврейское евангелие, и ничего не говорит о том, что известное нам греческое Евангелие от Матфея есть перевод еврейского евангелия: его заявление о том, что это (еврейское) евангелие всякий переводил (толковал), кто как умел, по-видимому, имеет тот смысл, что эти переводы вообще значительно отличались друг от друга и более походили на переделку, чем на перевод. Если поэтому Иероним заявляет, что никому не известно, кто перевел еврейское Евангелие от Матфея на греческий язык, то он имел бы полное основание пойти далее и признаться, что вообще никто не знает, представляет ли наше современное Евангелие от Матфея перевод с еврейского, тем более что характер его слога заставляет думать, что оригинал составлен был автором — греком. Правда, сам Иероним сначала, видимо, полагал, что он отыскал еврейский оригинал Матфея в форме так называемого «Еврейского евангелия назореев», которое также и другими принималось за первоначальное Матфеево евангелие, но так как он впоследствии перевел его на греческий язык, чего он не стал бы делать, если бы наше Евангелие от Матфея уже представляло собой подробный перевод, то надо полагать, что он убедился в противном; к тому же и места, которые приводятся им и другими отцами церкви из упомянутого еврейского евангелия, значительно отличаются от соответствующих мест нашего Евангелия от Матфея или даже совсем чужды ему. Но именно из этих мест, отмеченных печатью позднейшего преувеличения, нетрудно заключить и то, что переведенное Иеронимом еврейское евангелие не только не есть первоначальное Матфеево евангелие, но даже представляет собой его более позднюю переделку, чем нынешнее Евангелие от Матфея, если только справедливо предание о связи, существующей между обоими евангелиями.
Это обстоятельство нам дает возможность правильно взглянуть на упомянутое евангелие. Мы видим, что некий прототип, составленный, по свидетельству Папия, апостолом, существовал в нескольких различных переделках или вариантах, в виде еврейского евангелия, нашего нынешнего Евангелия от Матфея и некоторых других, о которых сказано будет ниже. Такая переделка традиционно унаследованного и с течением времени возраставшего евангельского материала производилась постоянно, так что и так называемое Евангелие Евреев в различные времена и в различных сочетаниях появляется в различном виде, да и наше Евангелие от Матфея сохраняет явственные следы повторных редакционных изменений. Однако мы не можем продолжать наше изыскание, пока не рассмотрим древнейших свидетельств, удостоверяющих происхождение остальных двух евангелий той же группы.
Относительно Евангелия от Марка свидетелем выставляется тот же самый Папий, которому мы обязаны свидетельством относительно Матфеева евангелия. Именно со слов пресвитера Иоанна, одного из учеников Господа (видимо, второстепенных), он замечает:
«Марк, бывший толковник (переводчик) Петра, записал, насколько помнил, точно, хотя и не в порядке, всё, что говорил и делал Христос, ибо он не сам слышал и сопровождал Господа, а слышал и сопровождал он, как сказано, Петра, который проповедовал, применяясь к обстоятельствам, и не намеревался в порядке пересказывать все беседы Господа, так что и Марка нельзя винить, если он записал некоторые вещи так, как запомнил; он заботился лишь о том, чтобы ничего не забыть и не исказить из того, что слыхал»[53].
Это существенное замечание Папия позднейшие учители церкви истолковывали столь противоречивым образом, что уже из этого факта можно убедиться, как неопределенны были их сведения по этому делу. Именно, по мнению Иринея, Марк записал свои воспоминания лишь после смерти обоих апостолов, Петра и Павла; напротив, Климент Александрийский полагает, что он написал свое евангелие еще в то время, когда Петр проповедовал в Риме, и по желанию слушателей Петра, и что Петр, узнав об этом, не воспротивился, но и не содействовал этому делу; наконец, Евсевий заявляет, что Петр, узнав об этом, порадовался усердию людей и благословил прочитывать этот труд в общинах.[55]. При этом Евсевий ссылается на тот же самый труд Климента, из которого он позднее приводит выше цитированное замечание о том, что Петр к этому делу совершенно не причастен. Но его современникам хотелось, чтобы евангелие облечено было апостольским авторитетом, и потому нецелесообразным признано было заявление о том, что евангелие было написано после смерти апостола, когда автору уже нельзя было проверить свой труд лично; а если оно было написано при жизни апостола, то непонятно, почему последний так равнодушно отнесся к нему и не благословил прочитывать его в общинах. В этом случае мы, очевидно, имеем дело с такими известиями, которые с течением времени исправлялись по желанию, а потому нам остается лишь руководствоваться показанием Папия, которое необходимо рассмотреть теперь подробнее.
Он говорит, что Марк записал речи и деяния Господа по воспоминаниям и проповедям Петра, но записал их «не в порядке». Теперь мы спросим: как понимать эти последние слова? Если Папий хотел сказать, что Марк записывал свои воспоминания не в должном порядке, то что он разумел под «должным» порядком? Полагают, что он имел в виду порядок Евангелия от Иоанна, который действительно отличается от порядка Марка и других синоптических евангелистов. Но Евангелие от Иоанна, как мы увидим ниже, не было известно Папию, и оно едва ли было бы признано им за образец порядка для прочих евангелий. С другой стороны, ему, как мы знаем, было известно еврейское Матфеево евангелие и его греческие варианты, однако план Евангелия от Марка далеко не в такой мере отличается от плана нашего греческого Евангелия от Матфея, чтобы из-за этого Папий стал его считать неупорядоченным. Вообще же, надо полагать, что, объясняя непланомерность Марка его зависимостью от проповедей Петра, который повествовал об Иисусе лишь по случайным поводам, он отрицает не только планомерность, но также и исторический порядок в его повествовании. Но последний отсутствует в нашем Евангелии от Марка в той же мере, как и в прочих евангелиях, а потому приходится предполагать, что Папий, судя по его замечанию, имел перед глазами не нынешнее Евангелие от Марка, а какое-то иное сочинение. Также и другими сторонами своими наше Евангелие от Марка не указывает на связь автора с Петром, личность которого выступает в этом евангелии ничуть не более, если не менее, чем в Евангелии от Матфея; оно указывает на то, что использовано было именно Матфеево евангелие, а этого не стал бы делать тот, кто имел возможность черпать материал из проповедей Петра непосредственно. Но так как Папий дает нам такую характеристику Евангелия от Марка, которая не подходит к нашему Евангелию от Марка, и так как он выводит его характер из такого отношения, которым нельзя объяснить характер Евангелия от Марка, то свидетельство его относительно нашего второго евангелия ничего нам не проясняет.
Относительно Евангелия от Луки у нас не имеется столь древних свидетельств внешнего характера, зато в его предисловии (1:1–4) мы находим любопытное самоудостоверение; автор здесь говорит следующее:
«Как уже многие начали составлять повествования о совершенно известных между нами событиях, как передали нам то бывшие с самого начала очевидцами и служителями Слова, то рассудилось и мне, по тщательном исследовании всего сначала, по порядку описать тебе, достопочтенный Феофил, чтобы ты узнал твердое основание того учения, в котором был наставлен».
Из этого предисловия мы узнаем, во-первых, что в то время, когда писал свой труд автор нашего третьего евангелия, уже существовала обширная евангельская литература, к которой он относился критически. Во-вторых, отличая тех многочисленных лиц, которые составляли евангельские повести, от непосредственных очевидцев и служителей Слова Божия, сказания которых перерабатывались первыми, он, видимо, не знает такого евангелия, которое было бы непосредственно написано каким-нибудь апостолом. В-третьих, так как средством превзойти своих предшественников он считает не какой-либо особый источник, вроде поучения апостола, а лишь то, что он успел доподлинно и всесторонне разузнать, то, очевидно, он не является спутником кого-либо из апостолов, за какового автор третьего евангелия принимался уже с давних времен.
Ириней вслед за вышеприведенной цитатой относительно Марка говорит следующее:
«Так же и Лука, товарищ Павла, записал в особую книгу благовестие (евангелие), возвещенное Павлом».
Здесь, как и по поводу свидетельства Папия о Марке, невольно начинаешь думать, что речь идет о некотором ином труде, ибо не подлежит сомнению, что то «евангелие», которое возвещал Павел, отличалось от нынешнего третьего или всякого иного евангелия, так как содержание апостольских и вообще всех древнехристианских благовестий заключалось не в подробной биографии Иисуса, а в кратком аргументировании его звания Мессии на основании всех ветхозаветных пророчеств и его воскресения из мертвых, каковая аргументация, вероятно, при случае дополнялась рассуждениями о примиряющей силе его смерти, рассказами об учреждении таинства причащения (евхаристии) и воспоминаниями по поводу какого-либо достопримечательного поучения Иисуса. С другой стороны, сам Павел едва ли мог украсить свои поучения какими-либо историческими воспоминаниями, так как он сам обратился в христианскую веру сравнительно поздно и едва ли знал подробности жизни Иисуса, да и не придавал этому важного значения; поэтому многие, по свидетельству Иеронима, предусмотрительно предполагали, что Лука заимствовал Евангелие не у одного лишь Павла, который лично не соприсутствовал Иисусу, но и у других апостолов. Так же и здесь, как в отношении Марка, мы встречаемся с успокоительным предположением, что Павел одобряет евангелие своего «товарища». Когда он заявлял (Рим. 2:16;2 Тим. 2:8) «по благовествованию моему», то эти слова относили безоговорочно к Евангелию от Луки, хотя в словах этих не замечается указания на какой-либо писанный труд и их можно понимать в смысле изустного благовестия апостола.
Если поэтому близость третьего евангелия к Павлу, как и близость второго евангелия к Петру, оказывается, по-видимому, проблематичной, то в действительности у нас получится иной результат, если догадки свои мы будем строить не только на показаниях Отцов церкви, но и на самом труде. Как известно, третье евангелие представляет лишь первую часть большого целого, вторую половину которого образует история апостолов (Деяния апостолов), и в этой второй части автор не только выступает иногда спутником Павла (о чём речь будет ниже), но и высказывает особый интерес к личности этого апостола и к тому направлению в древнехристианской церкви, которое он представлял. Следы того же направления мы найдем и в самом евангелии, когда речь пойдет о его внутреннем характере; поэтому та связь, которую предполагает церковная традиция между третьим евангелистом и Павлом, представляется более правдоподобной, чем личная связь между вторым евангелистом и Петром.
§11. Позднейшие свидетельства относительно трех первых евангелий
Если мы станем отыскивать еще и другие следы трех первых евангелий в древнейшей эпохе христианской церкви, то кроме вышеприведенной фразы апостола Павла найдем и в других новозаветных книгах слова, в которых многие усматривали до сих пор намеки на наши евангелия. Однако поразительное сходство того, что говорится, с одной стороны, в Первом послании к коринфянам (11:23–25) и, с другой стороны, в Евангелии от Луки (22:19) об учреждении евхаристии, следует объяснять не тем, что апостол будто бы воспользовался евангелием, а, наоборот, тем, что евангелист заимствовал свой рассказ из известного ему послания апостола. Напротив, в Послании к Евреям (5:7), несомненно, подразумевается та сцена (душевная борьба, испытанная Иисусом в Гефсиманском саду), о которой повествуется во всех синоптических евангелиях, но о ней там говорится в столь общих выражениях, что нельзя решить, черпал ли автор этого послания, неведомо когда составленного, из наших евангелий или же из имевших хождение евангельских сказаний. Не сомневаюсь я и в том, что во втором послании Петра (1:17) речь идет о преображении Иисуса на горе Фаворе, причем упоминание о гласе небесном, выраженное в тех же словах, как и в Евангелии от Матфея, указывает на то, что, по-видимому, был использован именно этот источник или тот источник, которым пользовался Матфей; однако Второе послание Петра является одной из самых новых книг нашего канона, так что свидетельство это едва ли раньше конца II века по Р.X.
После книг нашего новозаветного канона мы приходим к так называемым мужам апостольским, группе предполагаемых учеников апостолов, однако подлинность их трудов крайне сомнительна, а время их составления очень предположительно, поэтому они не могут служить надежной точкой опоры в вопросе о происхождении наших евангелий. Достоверно то, что в этих сочинениях — в предполагаемых посланиях Варнавы, Климента Римского, Игнатия и Поликарпа, а также в «Пастыре» Гермы — встречаются намеки, отчасти и ссылки на изречения и рассказы, которые имеются в трех первых евангелиях. Намеками я называю такие сходства между евангелиями и упомянутыми трудами, когда не говорится, что данная фраза есть изречение Христа или написано там-то, однако употреблены тождественные или сходные слова или упомянуты вещи, о которых говорится в известных нам евангелиях. Если, например, предполагаемый Игнатий в послании к римлянам пишет (гл. б): «…благолепнее умереть от Христа, чем властвовать над всей землей, ибо какая польза человека, если он обретет весь мир, но душу свою погубит»; или если Варнава в числе прочих увещаний, отчасти напоминающих собой послания Павла, отчасти же не имеющих параллели в Новом завете, выдвигает следующее: «Всякому просящему у тебя подавай» (гл. 19), то не трудно убедиться, что Игнатий руководился изречением Христа, которое приведено у Матфея (16:26), а Варнава изречением, которое приведено у Луки (6:30) и Матфея (5:42). Однако невозможно по таким отдельным сходным фразам решить, взяты ли они из наших евангелий или иных письменных источников или же почерпнуты из устных преданий. Вопроса не разрешают и прямые ссылки на изречения Христа. Когда Поликарп в своем послании к филиппийцам (гл. 7) говорит: «Молите всевидящего Бога, да не введет он нас во искушение по слову Господа, сказавшего, что дух силен, но плоть немощна», то нетрудно заметить в этих словах сходство с увещеванием Христа, высказанным в саду Гефсиманском (Мф. 26:41), а также с соответствующими словами молитвы «Отче наш» (Мф. 6:13). Однако невозможно решить, брал ли автор эти изречения из того источника, который дошел и до нас. Можно предполагать наличие письменных источников вообще, когда Варнава говорит: «Много есть званных, но мало избранных, — и добавляет — как сказано в писании» (гл. 4), или когда автор второго послания Климента, приведя одно замечание Исаии, процитированное в послании к Галатам, продолжает (гл. 2): «…а в другой книге сказано: пришел я не ради праведников, а ради грешников». Но в первом случае под «писанием», несомненно, подразумевается апокрифическая книга Ездры, а в последнем случае положение из евангельского сочинения (Священного писания) в сочетании с цитатой из ветхозаветной книги указывает на позднее происхождение послания; впрочем, мы и здесь не знаем, взяты ли означенные слова из письменных источников, вроде наших евангелий, например Евангелия от Матфея (20:16; 22:14; 9:13).
Недоумение ничуть не разрешается и в том случае, когда мы замечаем, что изречения Христа, приводимые апостольскими мужами, отличаются от изречений наших евангелий. Не говорим уже о втором послании Климента, который во второй половине II века приводит такие изречения Иисуса, которые неизвестны нашим каноническим евангелиям и, вероятно, имеются в апокрифическом евангелии Египтян. Однако первое послание Климента, составленное, по-видимому, в начале II века, приводит в одном увещании о милосердии и смирении (гл. 13) такие слова «Господа Иисуса», которые он говорил, поучая справедливости и долготерпения:
«Будьте милостивы, дабы вас помиловали; прощайте, дабы вам прощали; как поступаете вы, так и с вами будут поступать; как вы подаете, так и вам будут подавать; как вы судите, так и вас будут судить; как вы милостивы к другим, так и к вам будут милостивы; какой мерой вы меряете, такой и вам отмеряют».
Здесь имеется несомненное сходство с Евангелием от Матфея (7:1): «He судите, да не судимы будете» и т.д. Но остальное рассуждение так сильно отступает от него, что оно не могло быть взято ни у нашего Матфея, ни у Луки, который в сходном положении (6:37) тоже раздвигает рамки Матфеева текста, но по-другому. Поэтому не подлежит сомнению, что и в данном случае имелось какое-то иное евангелие и в иной редакции и что автор послания Климента (а также, вероятно, и Поликарпа, гл. 2) черпал из этого неизвестного нам источника. Из евангельских фактов в этих посланиях встречаются лишь немногие детали, за исключением посланий, приписываемых Игнатию и появившихся не ранее середины II века; поэтому неудивительно, что здесь мы находим, кроме общеизвестных сказаний об Иисусе, как Сыне Божием и сыне Давидовом, родившемся от Девы, о страданиях и примиряющей смерти, о его воскресении и вознесении на небо, также появление звезды при его рождении (Еф. 19), обоснование его крещения целью «исполнения всей правды» (Смирн. 1), о воскресении ветхозаветных праведников при воскресении Христа (Магн. 9), о пире с учениками после воскресения (там же, 3), из коих три первых рассказа напоминают Матфея (2:2; 3:15; 27:52), а последний — Луку (24:43) и Деяния апостолов (10:41).
На более или менее твердую почву выводит нас Юстин Мученик, подлинность важнейших трудов которого не возбуждает никаких сомнений, так как расцвет писательской деятельности его относится ко времени правления Антонина Пия (138–161 г. по Р.X.). У него мы находим ссылки на те письменные источники, из которых он черпал сообщаемые им речи и этюды жизни Иисуса (таких ссылок мы не находим у мужей апостольских). Однако он не говорит, что источником ему служили наши евангелия. Свои источники он обыкновенно именует «достопамятностями апостольскими», как бы в подражание Ксенофонту, написавшему «Достопамятности (меморабилии) Сократа»; то, что эти «достопамятности» называются евангелиями, он замечает в одном месте,[55] но это замечание, по-видимому, вставлено (приписано) позднее; а если он говорит об одном евангелии (опять-таки в подражание Ксенофонту), то некоторые полагали, что он пользовался только одним источником, а другие утверждали, что его единое евангелие означает сборник евангелий. Об этих «достопамятностях» он, в частности, говорит, что они составлены апостолами Иисуса и их спутниками, что согласуется и с церковным представлением о происхождении наших евангелий, но он не говорит, откуда он это знает, и не просто ли его личное предположение, что «достопамятности» об Иисусе могли быть написаны только близкими ему лицами.
Что касается повествовательного элемента рассказов, использованных Юстином, то, в противоположность прежним потомкам, мы уже можем довольно ясно отличить в них тот самый исторический остов, который содержится в наших евангелиях: родословие от Давида и даже от Адама, благовещение ангельское и сверхъестественное зачатие, перепись, поклонение волхвов и бегство в Египет, затем Иоанн Креститель в роли Предтечи, крещение и искушение Иисуса, избрание учеников и отсылка их на проповедь, чудеса и проповедь Иисуса, сближение с мытарем и борьба против фарисеев, наконец, возвещение о смерти, въезд в Иерусалим, очищение храма, учреждение евхаристии, взятие под стражу и распятие, воскресение и вознесение Иисуса. Но, сверх того, Юстин повествует о многом из того, чего нет в наших евангелиях. По его словам, Иисус родился в пещере у Вифлеема, помогал затем отцу своему в его плотничьих работах; далее Юстин рассказывает, что при крещении в Иордане возгорелся огонь и голос с неба (как в Пс. 2:7) сказал: «Ты Сын Мой; Я ныне родил Тебя». В противоположность нашим евангелиям, он сообщает, что после распятия Иисуса все ученики его отпали и отреклись от него, подобно тому как и послание Варнавы (гл. 5) сообщает, что перед призванием своим ученики Иисуса были величайшими грешниками. Многие из таких отступлений можно признать за собственные измышления Юстина, и нет никакой надобности предполагать наличие особых источников. Например, прочитав у Марка (6:3), что жители Назарета вопрошали: «Не плотник ли Он?», а по словам Матфея (13:55): «Не плотников ли Он сын?», Юстин, вероятно, сам пришел к тому заключению, что сын помогал отцу своему в его ремесленных работах. Далее, если Юстин именует Квириния наместником в Иудее, тогда как у Луки он правильно именуется наместником сирийским, то это — недосмотр, который, вероятно, объясняется тем обстоятельством, что Квиринию все приписывали производство переписи (ценза) в Иудее. Далее он, видимо, истолковал по-своему также и замечание Матфея о том, что волхвы явились с Востока, заявляя со своей стороны, что волхвы пришли из Аравии. Но так как это замечание о волхвах аравийских у него встречается до десяти раз, а замечание о том, что Иоанн Креститель восседал у Иордана, по меньшей мере три раза, то приходится допустить, что он пользовался каким-то особенным источником, и это предположение тем более правдоподобно, что он говорит вполне определенно также о пещере вифлеемской и об огне иорданском. Но Епифаний сообщает, что в Евангелии Евреев, которое употреблялось у эбионитов, тоже упоминается о великом огне, осветившем место крещения Иисуса, и тоже говорится, что небесный глас, после слов «Сей есть Сын Мой, в Котором Мое благоволение», имеющихся в наших евангелиях, сказал еще: «Я ныне родил Тебя», — слова, приводимые Юстином. Поэтому необходимо предположить, что евангелие, из которого он черпал свои сведения, было вариантом Евангелия Евреев.
О наших евангелиях напоминают не столько рассказы, сколько те речи Иисуса, которые приводит Юстин по своим «Достопамятностям апостолов». Правда, дословное сходство встречается лишь в редких случаях, но отклонения эти таковы, каковы они бывают у человека, который цитирует по памяти или невнимательно выписывает из книги. О наличии источника, отличного от наших евангелий, можно с некоторой вероятностью говорить лишь в случае, если такие отступления у самого Юстина повторяются в разных местах в неизменном виде или если подобные отличные цитаты встречаются также у других писателей. Таким образом, само по себе не важно то обстоятельство, что Юстин известные слова Нагорной проповеди (Лк. 6:36): «Итак, будьте милосерды, как и Отец ваш милосерд» цитирует со вставкой слова «благ» (будьте благи и милосерды и т.д.). Но так как это у него встречается в разных местах дважды, необходимо предположить, что в имевшемся перед ним источнике это место так именно и читается. Точно так же, если изречение Иисуса: «Никто не ведает сына, токмо отец, ни отца, токмо сын» и т.д. приводится у Юстина с двояким отступлением: во-первых, познание отца сыном предшествует познанию сына отцом, и во-вторых, познание отнесено ко времени прошедшему, то это может показаться вольной цитатой из Евангелия от Матфея (11:27) и от Луки (10:22). Но когда мы замечаем, что то же изречение и с такими же отступлениями встречается в «Гомилиях» Климента, мы невольно начинаем предполагать наличие особого источника.[56] Нередко Юстин соединяет речи, разбросанные в наших евангелиях по разным отделам; изречение, которое он приписывает Иисусу: «в чём я изловлю вас, в том и осужу вас», не встречается в наших евангелиях и не может быть принято за простое резюме речей Иисуса, приведенных у Матфея (24:37) и Луки (12:35; 17:26) и потому, вероятно, взято из какого-нибудь иного, неведомого нам источника.
Если мы еще ближе всмотримся в отношение цитат Юстина к отдельным нашим евангелиям (за исключением четвертого), то увидим, что они более всего согласуются с Евангелием от Матфея. Изречения Иисуса, цитируемые Юстином, по форме своей ближе всего к изречениям, приводимым у Матфея, и даже такие речи и события, о которых из всех наших евангелистов повествует только Матфей, тоже приводятся у Юстина. Но иногда замечается также сходство с Лукой. Что это евангелие в своих главных частях уже существовало во времена Юстина, явствует уже из того, что гностик Маркион, противник Юстина Мученика, пользовался евангелием, в котором ортодоксальные учители церкви признавали искаженное Евангелие от Луки.[57] Юстин, в свою очередь, повествует о бездетной Елизавете, о переписи, о выступлении Иисуса на служение на 30-м году жизни, об отсылке на проповедь 70 учеников, о том, что им была дарована власть без вреда для себя наступать на змей и скорпионов, о каплях пота, орошавшего лицо Иисуса в Гефсиманском саду, об отсылке плененного Иисуса от Пилата к Ироду — словом, повествует о таких вещах, о которых упоминает один только Лука, и отчасти даже в тех же выражениях, какие мы находим у Луки. При этом он пытается согласовать обоих евангелистов по таким пунктам, по которым они между собой расходятся. Например, со слов Луки он сообщает, что ангел Гавриил предрек Марии ее беременность, и затем со слов Матфея, ничего не сообщающего об этом предсказании, повествует о том, как Иосиф усомнился в своей обрученной невесте и только в сновидении был наставлен на путь истины. Далее он повествует со слов Луки, что Иосиф случайно отлучился от своего родного города Назарета в Вифлеем ввиду предстоящей переписи, а затем говорит, что, возвращаясь из Египта, Иосиф задумал поселиться в Вифлееме; это непонятно с точки зрения Луки, ибо после переписи Иосифу нечего было делать в Вифлееме, но вполне понятно с точки зрения Матфея, по словам которого Иосиф был старожилом Вифлеема. Что у Юстина с Марком замечается меньше сходства, это можно объяснить тем, что Евангелие от Марка лишь в малой степени оригинально; однако влияние этого евангелия сказалось в том, что сыновей Заведеевых Юстин называет «сынами громовыми» (воанергес), каковая кличка упоминается лишь у Марка (3:17).
Если теперь мы спросим: как объяснить такое расположение евангельского материала у Юстина и к какому заключению можно прийти отсюда относительно наших евангелий, то надо признать, что предположение о том, будто Юстин пользовался только нашими евангелиями, но цитировал их свободно, дополняя их собственными измышлениями или обращавшимися в народе легендами, столь же мало выясняет дело, как и противоположная догадка, будто он совсем не знал наших евангелий и пользовался евангелием, которое лишь отчасти сходствовало с ними. Что он пользовался многими евангелиями, это видно из того, что в его изложении заметно старание примирить и согласовать противоречия; а что он пользовался двумя евангелиями, из которых одно было тождественно с нашим Евангелием от Матфея, а другое — с Евангелием от Луки, в этом нас убеждает простое их сопоставление; однако мы уже заметили, что кроме этих двух евангелий он, очевидно, пользовался еще одним или несколькими другими евангелиями. Стало быть, мы видим, что к середине II века евангельский материал был разработан уже в нескольких несходных редакциях, которые отчасти соответствуют нашим нынешним евангелиям, отчасти же представляют отступления, и в которых (как, например, в рассказе о вифлеемской пещере и огне иорданском) сказывался угасающий пыл евангельской легендарной поэзии.
Нечто подобное следует сказать и об евангельских цитатах «Гомилий» Климента, сочинения, написанного в духе эбионитов одним или двумя десятилетиями позднее главных трудов Юстина. Они тоже имеют больше сходства с Евангелием от Матфея, чем с Евангелиями от Луки и от Марка, и в то же время некоторыми оригинальными чертами своими указывают на наличие какого-то другого, нам неведомого источника, который был, по-видимому, использован также и Юстином. Несколько различных евангелий, в том числе и наши Евангелия от Матфея и от Луки, были известны также и язычнику-философу Цельсу, который писал во второй половине II века против христиан и указывал на разные отступления и разногласия в евангельском повествовании (например, по вопросу о воскресении) как на доказательства того, что христианское учение ложно. Он, между прочим, замечает, что многие христиане позволяют себе по 3, 4 и по многу раз изменять первоначальный текст евангелия, если им понадобятся аргументы для опровержения противника, — и это замечание нельзя не признать справедливым, если отбросить в нём элемент явной злобы и раздражения, ибо такими вариантами или переделками единой основы представляются три первых евангелия, и мы впоследствии увидим, во имя каких апологетических и догматических целей производились эти переделки.
Относительно того порядка, в котором писались наши евангелия, Климент Александрийский в соответствии с традицией древнейших церковных настоятелей сообщает, что евангелия, содержащие родословия (стало быть, наши Евангелия от Матфея и от Луки), написаны были ранее других, и мы увидим ниже, что это сообщение вполне подтверждается внутренним характером евангелий. По словам Оригена[58], сначала было написано Евангелие от Матфея, потом (вопреки заявлению Климента) Евангелие от Марка и, наконец, от Луки; но мы не знаем, не оказал ли влияние на это заявление принятый в каноне порядок следования евангелий, который покоится на церковно-иерархическом взаимоотношении обоих апостолов, Петра и Павла. Но оба автора согласны друг с другом и с исторической правдой в том, что Евангелие от Иоанна было написано позднее всех других евангелий.
Итак, из всего изложенного относительно трех первых евангелий мы приходим к следующему выводу: даже если мы признаем справедливым свидетельство Папия относительно Матфея и Марка как авторов евангелий (хотя правдоподобность этого свидетельства сомнительна), то всё же ни наше нынешнее первое евангелие не есть труд апостола Матфея, ни второе евангелие не есть труд Марка, помощника апостолов, о которых говорит Папий. Мы не знаем, как относилось наше Евангелие от Матфея к подлинному апостольскому труду, какими добавлениями последний обогатился и каким переделкам он подвергался. Относительно Евангелия от Марка мы не знаем даже и того, имеет ли оно какую-либо связь с тем трудом Марка, о котором говорит Папий. Об авторе Евангелия от Луки мы знаем по его же собственному предисловию, что он писал довольно поздно и, будучи писателем второстепенным, обрабатывал лишь старые источники, этому не противоречат (как мы увидим ниже) те места в Деяниях апостолов, в которых, видимо, говорит спутник Павла. Более благонадежные указания на то, что наши три первые евангелия существовали в своем нынешнем виде, мы находим лишь в середине II века, то есть не менее ста лет после того времени, когда случились события, о которых они повествуют, и, разумеется, никто не станет утверждать, что этот промежуток времени был слишком короток, чтобы во все части евангельской истории мог проникнуть неисторический элемент.
§12. Свидетельства о евангелии от Иоанна
С вышеизложенным заключением начинают соглашаться все богословы, допускающие критику в теологии. Но зато все продолжают твердо стоять на том, что четвертое евангелие есть труд апостола-очевидца и надежная опора для истории первоначального христианства. По-видимому, эта твердая уверенность покоится по преимуществу на основаниях внутреннего характера, ибо что касается внешних свидетельств, то в этом отношении положение четвертого евангелия гораздо хуже, чем положение первых трех. Папий о Матфее говорит, по крайней мере, то, что он написал еврейское евангелие, хотя и не объясняет, как к этому евангелию относится наше греческое евангелие, но об евангелии, которое написал апостол Иоанн, Папий, насколько мы знаем, не говорит ни слова. Правда, мнение Папия нам известно только со слов Евсевия, но так как Евсевий собирал для своей «Церковной истории» вообще всякие древнейшие свидетельства относительно новозаветных книг и так как он выставляет Папия свидетелем относительно первого послания Иоанна, умолчание его о свидетельстве Папия относительно Евангелия от Иоанна равносильно умолчанию самого Папия, а это — факт, тем более значительный, что Папий, по собственному его заявлению, ревностно искал указаний относительно Иоанна в сказаниях и что он, будучи малоазийским епископом и приятелем Поликарпа, ученика Иоаннова, мог бы иметь подробные известия об апостоле, который прожил много лет в Эфесе.
Но мы заставим Папия свидетельствовать о Евангелии от Иоанна, хотя бы невольно и косвенно. Говорят, что в упомянутом свидетельстве Папия относительно первого Иоаннова послания заключается также свидетельство относительно Евангелия от Иоанна, так как послание, видимо, принадлежит тому же автору, который написал евангелие. Свидетельство относительно послания покоится на сообщенном у Евсевия известии[59], что Папий извлекал цитаты из упомянутого послания, как и из первого послания Петра. Если бы это можно было понимать в том смысле, что цитаты, имеющиеся в первом послании Иоанна, приводились Папием в качестве изречений апостола Иоанна, тогда это было бы действительно равносильно свидетельству относительно послания. Но если о том, что Папий знал и признавал первое Иоанново послание, Евсевий заключал на том основании, что некоторые выражения или мысли в сочинении Папия сходны с выражениями и мыслями первого Иоаннова послания, то подобное заключение было бы столь же ошибочно, как и аналогичные умозаключения современных теологов. Однако если мы и примем заявление Евсевия в строгом смысле и предположим, что Папий действительно цитировал первое Иоанново послание как сочинение, принадлежащее апостолу Иоанну, то всё же еще нужно доказать, что и послание и евангелие составлены одним и тем же автором. Правда, их роднит сходство слога и тона и некоторых руководящих мыслей; но в то же время между ними замечается также значительное несходство, а способ развития идей и стиль послания указывают на то, что его автор обладал менее сильным умом, чем автор евангелия.
Нам говорят еще, что в постскриптуме к четвертому евангелию (21:24) имеется доказательство его апостольского происхождения, притом более убедительное, чем свидетельство Папия и первого Иоаннова послания. Если автор, или авторы, этой приписки заявляют: «сей ученик (то есть означенный выше любимец Иисуса) и свидетельствует о сем, и написал сие», и если они знают, что «истинно свидетельство его», то (говорят нам) выражаться так могут только люди, которые лично знали апостола и сами были известны Эфесской общине, где это евангелие появилось впервые, например, Аристион и Иоанн Пресвитер. Следовательно (говорят нам), в данной приписке мы имеем своего рода удостоверение, которое может убедить даже самого придирчивого скептика-историка. Да, это в самом деле было бы доказательно, если бы мы знали, что авторы приписки — личные знакомые апостола, и если бы у нас не было причины сомневаться в этой оговорке. Но они себя не назвали, и, по-видимому, приписка сделана самим же автором евангелия или автором последней добавочной главы, и Целлер, несомненно, прав, говоря, что это свидетельство, кем бы оно ни написано, ничуть не доказательно: если оно написано евангелистом, то оно не доказательно, как свидетельство о самом себе, а если оно написано другим лицом, то оно является сомнительным заверением неведомого интерполятора.
Каково должно быть подобное свидетельство, чтобы иметь силу доказательства, это мы можем видеть из аналогичной приписки, имеющейся в труде Юлия Цезаря. Во вступлении к восьмой книге «Галльская война» автор говорит: «Нашего Цезаря комментарий о его деяниях в Галлии я дополнил», и затем замечает, что он и ему подобные люди восторгаются этим трудом более, чем простая публика, ибо знают не только то, как труд этот превосходен, но также и то, как легко и скоро Цезарь его написал. Здесь то же лицо, дополнившее книгу Цезаря и бывшее свидетелем его деяний, не назвало себя; но лицо это обращается в своей приписке к Бальбу, одному из близких друзей Цезаря. Его открытое заявление о комментарии «нашего» Цезаря, его определенное заявление: «мы знаем, как скоро и легко он написал свой комментарий» — всё это очень выгодно отличается от таинственных и сумбурных заявлений продолжателя Иоаннова евангелия. И если рукопись, согласно сообщению Светония[60], удостоверяет, что автором приписки в труде Цезаря является А. Гирций, который был верным другом Цезаря при его жизни, а после его смерти, через год, пал в битве при Мутине в звании полководца легионов республики, то уже одного такого заявления достаточно, чтобы уверить нас, что Цезарь является автором первых семи книг Записок о Галльской войне, но своим контрастом они же наглядно нам показывают, как неубедительна приписка к Иоаннову евангелию (21:24), будто бы удостоверяющая, что Иоанн действительно является его автором.
Каково значение другого новозаветного свидетельства, выдвигаемого в пользу Евангелия от Иоанна, было сказано уже выше. Как по поводу синоптического рассказа о преображении на горе Фавор, так и по поводу указаний о кончине Петра, имеющихся в приписке к Евангелию от Иоанна (21:19), многие цитируют второе послание Петра, предполагаемый автор которого говорит (1:14), что он знает, что он «скоро должен будет оставить храмину» свою, как о том ему открыл Господь Иисус Христос. Я не отрицаю, что в этом месте был принят во внимание рассказ Евангелия от Иоанна, но и без того известно, что в конце II века (а второе послание Петра не могло появиться раньше) уже существовало и церковью признавалось четвертое евангелие. Многие указывали также на то, что некоторые места в Евангелии от Марка так поразительно сходны с соответствующими местами в Евангелии от Иоанна, что необходимо допустить, что автор первого воспользовался трудом второго; но исследователи всё же соглашались, что можно объяснить это сходство также и обратным предположением об использовании Евангелия от Марка автором четвертого евангелия (впрочем, об этом еще будет у нас сказано ниже).
Что же касается трудов мужей апостольских, то говорить приходится собственно лишь о трудах Игнатия[61]. В его посланиях встречаются такие места, которые считались заимствованными из четвертого евангелия. Например, тело Христа именуется у него хлебом небесным и хлебом жизни, кровь его — божественным напитком, сам Христос именуется вратами, ведущими к Отцу, а о Святом Духе говорится, что он знает, откуда и куда он идет и карает всё сокровенное. Однако подобные выражения можно объяснить особенностями церковного слога данной эпохи; с другой стороны, послания Игнатия составлены были в средине II века, а если бы Евангелие от Иоанна церковь признавала трудом апостольским уже в конце I века, его влияние на труды II века было бы гораздо сильнее и сказывалось бы оно в чём-то более серьезном, чем в выше отмеченном поверхностном сходстве выражений.
То же приходится сказать и о Юстине Мученике, который, несомненно, чаще пользовался тремя первыми евангелиями, чем Евангелием от Иоанна (если только он им пользовался вообще). У него обнаружено свыше 30 сходных с Евангелием от Иоанна мест, но рассмотрение их приводит к следующему выводу: круг идей Юстина был близок к идеям четвертого евангелия, поэтому он гораздо чаще должен был бы ссылаться на это евангелие, если бы оно ему было известно и считалось трудом апостольским. Юстин знаком с учением о Логосе, и под Логосом он разумеет (подобно Иоанну) существо, посредствующее между Богом и тварью его; но это существо он только между прочим именует Логосом и безразлично отождествляет его то с величием и премудростью Божией, то с ангелом — вестником и вождем ангелов. Вместе с тем Юстин, хотя и считает Логос существом, своеобразно и исключительно рожденным от Бога, но именует его «первородным», или единородным, или просто служителем Божьим. Поэтому если у Юстина понятие Логоса является менее определенным и возвышенным, чем в четвертом евангелии, то, с другой стороны, представление об исхождении или истечении Логоса из Отца, столь характерное для Юстина, могло быть им заимствовано не из этого евангелия, а из другого источника, а именно из современной ему философии, которая определялась тогда идеями Филона. Далее у Юстина (как у Иоанна) Логос является божественным началом в Христе, но зато у Юстина учение о Логосе еще не так резко отделяется от учения о Святом Духе, как у Иоанна, и, наконец, у Юстина еще не встречается столь характерное для четвертого евангелия слово Параклит (утешитель)[62], коим означается Святой Дух, который был ниспослан Иисусом своим ученикам.
Затем, если мы рассмотрим те места, на основании которых обыкновенно заключают о знакомстве Юстина с Евангелием от Иоанна, то для объяснения сходства, не имеющего характера очевидной случайности, в большинстве случаев достаточно весьма естественного предположения о том, что обе стороны черпали из одного источника, а именно из александрийской религиозной философии[63] и из иудео-христианской типологии (учения о прообразах). Действительно существенное значение имеет лишь одно место в первой Апологии Юстина, где говорится следующее:
«ибо Христос сказал: если вы не родитесь вновь, то не войдете в царствие небесное; но очевидно для всех, что вернуться в чрево радительницы невозможно».
Здесь, по-видимому, нельзя отрицать сходство с соответствующим местом той беседы Иисуса с Никодимом, о которой повествует Евангелие от Иоанна (3:3): «если кто не родится свыше, не может увидеть Царствия Божия». Первая часть этой фразы приводится также в «Гомилиях» Климента следующим образом:
«Если вы не родитесь вновь при помощи воды жизни во имя Отца, и Сына, и Святого Духа, то не войдете в царствие небесное».
Однако в обоих случаях бросаются в глаза некоторые отступления: например, вместо Иоанновых слов «если кто не родится свыше» у Юстина и у Климента сказано «если вы не родитесь вновь» (что не одно и то же); затем вместо «царствия божия» у них сказано «царствие небесное»; вместо слов «если кто не родится» у них сказано «если вы не родитесь», а вместо слов «не можете увидеть» у них сказано «вы не войдете». Последние три формы выражения, особенно же заключительная, столь сильно отличающаяся от выражения Иоанна, встречаются в Евангелии от Матфея (18:3), где Иисус по поводу вопроса учеников о том, кто будет первым (наибольшим) в царствии небесном, поставил перед ними ребенка и сказал:
«Истинно говорю вам (а у Иоанна: „истинно, истинно говорю тебе“), если не обратитесь и не будете как дети, не войдете в Царство Небесное».
Очевидно, в данном случае мы имеем перед собой одно и то же изречение, выраженное в разных формах: необходимое для человека обновление у Матфея превратилось в младенческую невинность, у Юстина — в перерождение, у Климента — в новокрещение, а у Иоанна — в возрождение при помощи наития Святого Духа свыше. Что духовное рождение противопоставлялось рождению телесному, это вполне естественно; и действительно, в «Гомилиях» Климента мы находим перед цитированным изречением, а у Юстина — вслед за ним, в форме апостольской речи, рассуждение о взаимоотношении духа и тела, и между прочим замечание о невозможности вернуться в чрево матери. Если это рассуждение, как надо полагать, первоначально содержалось в Евангелии Евреев, тогда и сходство цитаты Юстина с цитатой четвертого евангелия становится понятным и нет ни малейшей надобности предполагать непосредственное заимствование первым у последнего: оба в равной мере черпали из одного источника.
Убедительное доказательство раннего появления четвертого евангелия многие усматривали также и в недавно найденном документе «Философумена Оригенис»[64], на основании которого заключали, что четвертое евангелие будто бы было известно даже древнейшим гностикам. Действительно, в этом сочинении цитируются из какого-то офитического труда[65], несомненно, Иоанном приведенные изречения (например, 1:3; 3:5). Но нам совершенно неизвестно, когда именно составлен был этот труд. Если же в этом сочинении о гностике Василиде говорится: «Сие, говорит он, есть то, что говорится и в евангелиях: он был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир» (Ин. 1:9), то, значит, Василид около 125 г. по Р.X. уже знал и признавал Иоанново евангелие. Но формула цитаты — «говорит он», или «он говорит», употребленная в книге, не разрешает недоразумения: она здесь употребляется даже тогда, когда речь идет не об одном лице, а о многих. Например, изложение системы гностиков-валентинианцев Псевдо-Ориген начинает со следующих слов: «Валентин же, и Гераклеон, и Птолемей, и вся их школа говорят» — и вслед за тем он безразлично ставит: «говорит он», и «говорят они», так что становится очевидным, что словом «он» Псевдо-Ориген обозначает лишь того автора из означенной школы, сочинение которого он в данном случае цитирует, а кто этот автор — основатель ли он школы или последователь и ученик ее — этого он нам не объясняет. Правда, некоторые говорят, что и другие факты подтверждают знакомство Валентина с Евангелием от Иоанна и что, следовательно, евангелие это существовало уже в середине II века. Например, Тертуллиан утверждает, что Валентин, по-видимому, пользуется совершенным орудием (Заветом). Но разве Тертуллиан принадлежит к числу безусловно точных исследователей и разве о нём можно сказать, что он точнее Псевдо-Оригена отличает основателей школы от простых последователей ее? Напротив, всякий знаток его трудов усомнится в этом, а если он сам заявляет, что ему только кажется, будто Валентин пользовался полным экземпляром Завета, то и мы хорошо сделаем, пропустив это мимо ушей. Ведь он и о Маркионе утверждает (хотя и нерешительно), что тот отвергал Евангелие от Иоанна и, стало быть, знал его; но трудно допустить, чтобы этот гностик стал пользоваться Евангелием от Луки, которое приходилось ему так сильно сокращать, чтобы оно стало соответствовать его целям, — если бы под руками у него имелось Евангелие от Иоанна, которое гораздо более гармонирует с его антииудейским дуализмом. Что же касается Валентина, то говорят, будто его знакомство с четвертым евангелием подтверждается не только внешними свидетельствами, но также и тем фактом, что своих главных эонов[66] он наделил именами (например, Логос, Единородный, Жизнь, Милосердие, Истина и т.д.), которые заимствованы из Иоаннова пролога. Если это так, то очень странно, что Ириней, перечисляя новозаветные цитаты, на которых валентинианцы утверждают свое учение об эонах, упоминает о цитатах, взятых из синоптических евангелий и трудов Павла, и ни единым словом не упоминает об Евангелии от Иоанна, и что цитаты из Иоаннова труда встречаются лишь в прибавлении, взятом из труда Птолемея. Что этот позднейший валентинианец знаком был с более новым евангелием, как трудом апостольским, это мы знаем из его Послания к Флоре, а другой представитель той же школы, Гераклеон, написал первый Комментарий о нём; но оба автора писали едва ли раньше 70-х годов II века.
То же следует сказать о монтанистах[67], которые почерпнули свою идею «Параклита» из Иоаннова евангелия и, следовательно, могут будто бы удостоверить раннее появление этого труда. Но если подробнее рассмотреть отчет Евсевия о древнейших спорах церкви с этой сектой[68], то мы увидим, что монтанисты не знали вовсе слова «параклит» (они говорили просто «дух») и не ссылались на четвертое евангелие. Поэтому возможно, что и эта секта, как и секта валентинианцев, возникла независимо от Евангелия от Иоанна и ранее его, и что она лишь ухватилась за него и стала пользоваться им, когда оно появилось на свете в разгар гностико-монтанистского движения.
§13. Признание и отрицание евангелия от Иоанна
В позднейшую эпоху развития гностицизма и монтанизма Евангелие от Иоанна, видимо, уже было известно и признано. В недавно найденном заключении «Гомилий» Климента эпизод о слепорожденном (Ин. гл. 9) уже бесспорно принят во внимание, как, возможно, и одно место из Евангелия от Иоанна (10:3). Об одном замечании Аполлинария, епископа Гиерапольского (около 170 г.), предполагающем наличие четвертого евангелия, нам придется говорить ниже; также и в другом замечании Аполлинария, где говорится о Христе следующее: «Святой, уязвленный в бок, излил из себя два средства искупления: воду и кровь, то есть логос и дух», — заключается намек на два места (Ин. 5:6; 19:34). Современные ему апологеты, Татиан и Афинагор, тоже, по-видимому, опираются на четвертое евангелие, а Феофил Антиохийский (около 180 г.) уже формально цитирует его: «Посему поучают нас Священное Писание и Богом вдохновленные мужи, из коих Иоанн говорит: в начале было Слово и т.д.». Однако Феофил не поясняет, откуда ему известно, что евангелие, начальные слова которого он приводит, написано апостолом Иоанном. Удивительно и то, что даже Ириней не говорит нам этого, хотя он в молодости знавал Поликарпа и слышал его рассказы о знакомстве с Иоанном и о том, что последний сообщал ему об Иисусе. Хотя Ириней и говорит, что Иоанн написал евангелие, проживая в Эфесе, но он не поясняет, слыхал ли он про это от Поликарпа, а по поводу истолкования Иоаннова Апокалипсиса он ссылается на людей, лично встречавшихся с самим Иоанном. Говорят, что если бы Ириней не от Поликарпа узнал об евангелии, написанном апостолом Иоанном, то он не признавал бы Евангелием от Иоанна то сочинение, которое впоследствии ему попадалось на глаза под этим наименованием, а если наше четвертое евангелие он признавал трудом апостола Иоанна, то, стало быть, он это знал со слов Поликарпа. Но вникнем подробнее в характер тех отношений, о которых сообщает нам сам Ириней. Он встречался с Поликарпом в Азии, будучи еще весьма молодым человеком, и даже в преклонном возрасте живо еще помнил его облик и обстановку его жизни: то место, на котором он сидел, когда вел беседу, его проповеди, обращенные к народу; помнил всё то, что он рассказывал относительно своего сожительства с Иоанном и другими лицами, лично видевшими Господа, относительно их речей и сообщений об Иисусе. Впоследствии Ириней, как известно, переселился с Востока на Запад, и это случилось, вероятно, очень рано, так как Поликарп проживал в Смирне еще в 164 году, а Ириней уверяет, что видел его, лишь будучи молодым человеком. Следовательно, даже в том случае, если бы Евангелие от Иоанна попало в его руки в последние годы жизни Поликарпа, всё же представляется сомнительным, имел ли он время и возможность, проживая в Лионе, беседовать о нём с мужем апостольским, проживавшим в Смирне; а если оно попало в его руки лишь после смерти Поликарпа, то хотя он и не помнил, чтобы Поликарп ему говорил в молодости о Евангелии от Иоанна, однако же он мог бы признать его апостольским евангелием, если оно ему понравилось.
Итак, признание Евангелия от Иоанна Иринеем не доказательно для нас по той причине, что он не ссылается относительно его на свидетельство таких лиц, которые, подобно Поликарпу, лично знали Иоанна. Но если бы он и сослался на них, то следует ли отсюда, что его мнение для нас должно быть убедительным? Разве мы считаем себя обязанными признавать за истинно апостольское предание всё то, относительно чего Ириней ссылается на свидетельство людей, знавших апостолов лично? Он говорит в одном месте:
«Старцы, видевшие Иоанна, ученика Господня, помнят, что он им сообщил, как Господь учил о тех временах, говоря: придет время, когда станет произрастать такая виноградная лоза, у которой будут 10 тысяч ростков, на каждом ростке 10 тысяч веток, на каждой ветке 10 тысяч сучков, на каждом сучке 10 тысяч гроздей, у каждой грозди 10 тысяч ягод, а из каждой ягоды можно будет выжать по 25 метретов (мер) вина. И когда кто-нибудь из праведников возьмет в руки одну гроздь, то другая гроздь скажет: я — лучше, возьми меня и воздай Славу Господу. Равным образом будет произрастать пшеница, у которой каждое зерно даст 10 тыс. колосьев, каждый колос 10 тыс. зерен, и каждое зерно даст 10 фунтов чистой белой муки; то же будет и с другими плодами, семенами и травами. Об этом письменно свидетельствует также Папий, древний учитель Церкви, который сам слыхал речи Иоанна и лично знал Поликарпа и написал пять книг (под заглавием „Изъяснение изречений Господних“)».
Если бы относительно происхождения Евангелия от Иоанна у нас имелось такое свидетельство Иринея, которое ссылалось бы, как вышеприведенное, на вполне определенных личных знакомых апостола, то не доверять такому свидетельству мог бы только злостный скептик; тем не менее никто не верит даже и такому, вполне определенному свидетельству о райском винограде — великане, о котором будто бы говорил Иисус. Не поверил и Евсевий, который за этот и подобные рассказы Папия, назвал его человеком скудоумным.[69] Этому рассказу мы не верим потому, что знаем, что Иисуса не распяли бы на кресте иудеи, если бы учение его сплошь состояло из подобных увлекательных и в духе раввинизма придуманных сказок. Затем не верим мы ему и потому, что не можем приписать подобные неумные вещи Иоанну, автору Апокалипсиса (не говоря уж о евангелии); словом, мы не верим ему по чисто историческим основаниям. Наоборот, Евсевий не поверил этому рассказу по такому же чисто догматическому основанию, по которому поверил ему Ириней: учение о тысячелетнем царстве Христа на земле, отразившееся на этом рассказе, одному претило, а другому нравилось. Следовательно, мы видим, что догматические основания у древних учителей церкви являлись решающим моментом: когда рассказ или книга по своему содержанию и духу им нравились, тогда они недостаточные внешние свидетельства признавали убедительными, а если нет, то даже вполне доказательные свидетельства они считали недостаточными. То обстоятельство, что поздно появившееся Евангелие от Иоанна так скоро и единодушно было одобрено и признано, обусловливалось фактом, что в догматическом отношении оно угодило всем партиям: каждой оно давало что-нибудь такое, что ее удовлетворяло и в то же время не претило другим.
Тем не менее евангелие это вызвало некоторые нарекания. В конце II века против сочинений Иоанна восстала одна партия в составе малоазийской церкви, членов которой за отрицание евангелия Логоса остроумный Епифаний, «творец еретиков», окрестил насмешливой кличкой «алогов» (не признающих логос и — безумных). Эту партию возмущала та поддержка, которую находила монтанистская система пророчеств в изречениях Иисуса о параклите в четвертом евангелии, а также и в видениях Апокалипсиса. Все возражения этой партии, основанные на догматических соображениях, принято было считать недельными и ничтожными. Однако ею было выдвинуто немало совершенно основательных историко-критических аргументов. Члены этой партии утверждали, что евангелие, именуемое Иоанновым, лжет, поскольку оно не согласуется с другими евангелиями; ибо, заявив вначале, что слово стало плотью и обитало в этом виде среди нас, евангелие тотчас начинает рассказывать о том, что в Канне Галилейской праздновалась свадьба и, добавляем от себя, забыло, стало быть, упомянуть о тех событиях отроческой жизни Иисуса, о которых повествуют Матфей и Лука. Также заметили они и то, что связный рассказ Иоанна о крещении Иисуса и последующем прибытии его в Галилею не оставляет места для тех сорока дней искушения, которые по рассказу трех первых евангелистов относятся именно к этому времени, и что, по словам этого евангелия, Иисус успел отпраздновать в период проповедничества два пасхальных праздника, а по сообщению других евангелистов — лишь один. Это отступление сторонники Иоаннова евангелия истолковывали в смысле дополнения; по их словам, Иоанн, дотоле довольствовавшийся изустным благовестием, увидев Евангелия от Матфея, от Марка и от Луки, признал достоверность их повествований, но находил их недостаточными в том отношении, что в них сообщается лишь история последнего года служения Иисуса, начиная с пленения Иоанна Крестителя; поэтому Иоанн в своем труде опустил весь этот год и стал досказывать события предшествующего времени. Но впоследствии мы увидим, что отмеченное противоречение нельзя устранить таким объяснением, не соответствующим обстоятельствам дела.
Правда, партия «алогов», сама же ослабила свои возражения против Евангелия от Иоанна тем, что вследствие догматических предрассудков стала отвергать не только Евангелие, но и Апокалипсис (Откровение) Иоанна. Дело в том, что обе эти книги по духу и форме относятся друг к другу так, что уже одному из учеников Оригена удалось блистательно обнаружить их полную неоднородность, а новейшая критика пришла к неопровержимому заключению, что если апостол Иоанн является автором евангелия, то он не мог быть автором Апокалипсиса, и наоборот. Предположить, что обе книги написаны одним и тем же автором, значит полагать, что, скажем, Лессинг написал «Мессиаду», а Клопшток — «Натана Мудрого».[70] С религиозной точки зрения обе книги занимают те крайние и противоположные полюса, какие только могут занимать новозаветные писатели. Апокалипсис является наиболее иудаистской книгой Нового завета, а в евангелии иудаизма почти вовсе не заметно. Правда, Матфею, как и автору Апокалипсиса, Иерусалим представляется священным городом (Мф. 4:5; 27:53; Апок. 11:2); но Матфей мирится с тем, что город вместе с храмом будет разрушен и место строптивых иудеев займут язычники, а по Апокалипсису — храм будет пощажен, разрушена будет лишь десятая часть города, а население его в большинстве своем обратится в христиан (гл. 11). Поэтому если автор Откровения более иудействует, чем Матфей, то автор Евангелия от Иоанна, наоборот, чужд иудейству еще более, чем Павел: последний только старается доказать, что язычники могут войти в царствие небесное, а первый считает это несомненным. Симпатия, которую апостол язычников всё ещё питал по отношению к родственному народу, в четвертом евангелии превратилась в полное отчуждение.[71] Трудно представить себе более решительную противоположность, чем та, которая существует между автором Апокалипсиса, который видит в Иерусалиме центр тысячелетнего царства Христова, и автором евангелия, в котором Иисус отвергает значение Иерусалима и горы Гаризим и высказывается за поклонение Богу в духе и истине. Там язычество является антихристианским началом, а здесь иудейство представляется настоящим очагом безверия.
Кроме несходства точек зрения, в обеих книгах замечается еще несходство настроения и тона. Кто называл Иоанна апостолом любви, тот, очевидно, имел в виду лишь Иоанново евангелие и первое послание, ибо, прочтя Апокалипсис, он должен был бы назвать его апостолом гнева и мщения. Правда, в евангелии тоже сказывается суровый дух, требующий искоренения безбожных элементов; однако евангелист любовно и охотно повествует о спасающей, объединяющей и умиротворяющей деятельности Христа и его духа; напротив, автор Апокалипсиса всего охотнее и любовнее повествует о страшном суде Божьем над безбрежным миром. Иудаизм Апокалипсиса проявляется еще и в том, что в ходе истории его автор видит ряд внешних, свыше ниспосланных катастроф, тогда как евангелие уже успело подняться до идеи постепенного, изнутри совершающего развития Царства Божия. Обилие видений и ангелов, фантастичность и раввинизм в Откровении, так резко контрастирующие с простотой и мистическим сентиментализмом евангелия, пожалуй, можно было бы объяснить различием жанров, которые автору приходилось разрабатывать в том и другом случае; однако трудно допустить, чтобы человек, признавший соответствующим себе апокалипсический жанр, мог столь же свободно и успешно разработать жанр евангелический, диаметрально противоположный первому. Наконец, человек, который на склоне лет (ибо апостолу в момент составления Апокалипсиса было, вероятно, не менее 60 лет от роду) писал на том неуклюжем и неправильном еврейско-греческом жаргоне, которым написан Апокалипсис, не мог бы в зрелом возрасте писать на том плавном и чистом греческом языке, которым написано евангелие.
Что две столь несродные книги не могли быть написаны одним и тем же автором, это основное положение новейшая новозаветная критика, представляемая Шлейермахером и его учениками, неуклонно отстаивала до тех пор, пока предполагала, что могут появиться лица, которые станут оспаривать ее второстепенное положение о том, что Иоанн был автором евангелия. Так именно и поступили сторонники Тюбингенской школы, которые признали, что апостол был автором Апокалипсиса и потому не мог быть автором евангелия. С тех пор теологи стали сомневаться также и в истинности первого, основного положения и попытались выйти из затруднения, утверждая, что или переход от Апокалипсиса к евангелию есть прогресс вполне мыслимый в одном и том же индивиде, или юношеский пыл, сдержанно сказавшийся в евангелии, впоследствии еще раз проявил себя в Апокалипсисе. Но это второе предположение о том, что Апокалипсис написан после евангелия, немыслимо психологически и столь же неправдоподобно, как и первое предположение; а если и допустить это или — или, то всё же придется признать справедливость догадки тюбингенцев, что вероятнее всего апостол Иоанн был автором Апокалипсиса, а не Евангелия.
Как известно, Откровение Иоанна является одной из тех книг новозаветного канона, время написания которых может быть точно определено на основании содержащихся в них указаний. В Апокалипсисе говорится о семи царях, представленных в образе семи голов «зверя», и сказано, что пятеро царей уже пали, шестой существует ныне, а седьмой еще придет и пребудет недолго, после чего один из семерых снова придет уже восьмым по счету (17:9–11). Очевидно, под павшими пятью разумеются римские императоры от Августа до Нерона; последний, в то время уже умерший, представляет собой главу, смертельно раненную, рана которой, однако, снова исцелела (13:3), ибо в то время еще сомневались в действительности его смерти, а христиане верили в чудесное его воскресение и ожидали, что он вернется в роли антихриста с Востока.[72] Шестым ко времени написания книг, еще живым царем мог быть только Гальба, который царствовал от июня 68 года до января 69 года по Р.X. В это время апостол Иоанн мог еще быть в живых, тогда как из других учеников Иисуса, судя по указаниям евангелий, едва ли кто-либо еще был жив, и уж, наверно, не в силах был написать такую книгу, как четвертое евангелие.
Затем, ввиду тех индивидуальных черт, которыми апостола Иоанна наделяют остальные книги Нового завета и древнейшие церковные легенды, весьма правдоподобной представляется догадка, что Иоанном написано не евангелие, а Откровение. То, что он вместе с братом (или от их имени мать их) домогались занять первейшие места в Царстве Мессии (Мф. 20:20–22), можно объяснить их иудейской мирянской точкой зрения, от которой впоследствии отказался апостол ввиду кончины Иисуса. Но если вспомнить о предложении обоих братьев (детей Зеведеевых) низвести с небес огонь на самарянское селение, не пожелавшее принять Иисуса (Лк. 9:54), то данная им кличка «Сынов грома», Воанергес (Мк. 3:17), по-видимому, указывает на то, что рвение и горячность составляли характерную черту обоих братьев, которую мы вновь встречаем в авторе Апокалипсиса, повествующем об огненных озерах с кипящей серой и преисполненных язв чашах. Что же касается самого Иоанна, то он отличался крайней нетерпимостью, которую проявил, например, в своем протесте против человека, изгонявшего бесов именем Иисуса и не пожелавшего примкнуть к сообществу учеников Иисусовых (Мк. 9:38; Лк. 9:49); и если верить Евсевию, который слыхал от Поликарпа, что Иоанн относился с фанатической нетерпимостью к еретику Керинфу,[73] то, стало быть, выше отмеченная черта характера сохранялась в нём до глубокой старости. Из Послания Павла к галатам (2:9) мы знаем, что Иоанн вместе с Петром (Кифой) и Иаковом, братом Господним, принадлежал к триумвирату, членов которого Павел, в противоположность апостолу язычников отстаивавший точку зрения иудаизма («обрезанных»), не без ехидства именует «столпами», и что Иоанн оставил в покое Павла лишь ввиду его личной твердости и под давлением внешних обстоятельств. Поэтому неудивительно, что при таком характере Иоанн, как видно из вступления к Апокалипсису (2:6, 14), в лице ненавистных ему николаитов и сторонников учения Валаама[76] преследовал и гнал сторонников учения Павла, которого он, очевидно, причисляет также к лжецам, именующим себя апостолами (Апок. 2:2), и который успел создать самостоятельные христианские общины в Малой Азии. Между апостолом-«столпом», отстаивавшим иудаизм в послании к галатам, и апостолом-евангелистом, который в мире язычников видел главную арену для распространения христианства, лежит огромная пропасть, и эту пропасть могла заполнить лишь многолетняя эволюционная борьба, от которой, однако, не осталось в евангелии ни малейшего следа.
Признать в апостоле Иоанне автора четвертого евангелия нам мешает также сохранившаяся малоазийская история. Во второй половине II века возник спор между христианскими общинами Малой Азии и римской, на стороне которой к этому времени было большинство и восточных общин, о том, когда следует праздновать день пасхальной евхаристии. В этом споре общины Малой Азии, ссылаясь на пример апостола Иоанна, высказывались за «правило», которому противоречит так называемое Иоанново евангелие. Христиане Малой Азии обычно праздновали Пасху в тот день, в который иудеи вкушали своего пасхального агнца, то есть вечером 14 нисана, полагая, что в этот день сам Христос учредил евхаристию, как говорится в синоптических евангелиях. Напротив, настоятели общины римской утверждали, что этот день для христиан необязателен и что пасхальную евхаристию следует праздновать не в этот день, могущий прийтись на любой день седьмицы, а в ближайший за ним воскресный день, в память «воскресения» Христа. Спор этот впервые обсуждался в 160 году, когда Поликарп, епископ Смирнский, приехал в Рим и встретился там с епископом Аникитой. При этом Поликарп отстаивал малоазийский обычай празднования Пасхи в день еврейской пасхи (14 нисана) и ссылался на тот факт, что он именно в этот день праздновал пасху «вместе с Иоанном, учеником Господним, и прочими апостолами, сожителями его».[75] Но по свидетельству четвертого евангелия, Иисус перед своей смертью вовсе не вкушал Пасхи, а последнюю вечерю он вместе с учениками своими устроил днем раньше, 13 нисана, и об учреждении евхаристии тогда ничего не говорил. Следовательно, автор этого евангелия не имел причины настаивать на праздновании пасхальной евхаристии в такой день, в который, по его же словам, Иисус не вкушал уже вечери, а страдал и умер. Наоборот, «правило» апостола Иоанна, о котором свидетельствует Поликарп, соответствует тому, что сообщается в первых трех евангелиях. Сообщение четвертого евангелия объясняется стремлением обособить христианство от иудейства вообще и христианскую Пасху от еврейской в частности; поэтому в евангелии говорится, что Иисус еврейской пасхи не вкушал и в этот день подвергся сам закланию, в качестве истинно-пасхального агнца, положив конец чисто символической иудейской пасхе. Нам неизвестно, ссылался ли римский епископ на четвертое евангелие в своем споре с Поликарпом; но десять, пятнадцать лет позднее, когда спор снова возгорелся в Лаодикии, мы узнаем, что это евангелие (быть может, в этот промежуток времени и составленное) стало уже играть заметную роль в упомянутом споре. Аполлинарий, епископ Гиерепольский, говорит о лицах, соблюдающих день 14 нисана, или о так называемых квартодецимитах[76], что они ссылаются в свое оправдание на Матфея, но, по его мнению, это значит утверждать, что евангелисты друг другу противоречат.[77] Очевидно, что Аполлинарий исходил из текста четвертого евангелия, которое относит последнюю вечерю Иисуса к 13 нисана, а смерть его к 14 нисана, и что подобно многим нынешним теологам он истолковывал рассказ Матфея в смысле Иоаннова евангелия.
Итак, принимая за исходный пункт всё то, что нам известно об апостоле Иоанне, мы приходим к отрицанию четвертого евангелия, и обратно, исходя из четвертого евангелия, мы приходим к отрицанию апостола Иоанна. Сам Иоанн родился в Палестине еще в такое время, когда там существовало Иудейское государство; он прожил там до зрелых лет и, стало быть, не мог не знать своей родины и ее учреждений. Однако же оказывается, что апостол в этом отношении был плохо осведомлен. Не говоря уже о пунктах спорных, например, апостол говорит о Вифании (Вифаворе) прииорданской (1:28), о которой нам ничего не известно; дает фантастическое описание купальни Вифезды (5:2), неправильно объясняет наименование Силоама (9:7); говорит о кедровом потоке, вместо потока Кедрон (18:1), о котором упоминается еще лишь в греческом, то есть александрийском, переводе; достаточно упомянуть о первосвященнике «на тот год» (Ин. 11:51; 18:13). Вопреки всем кривотолкам и уверткам, из этих слов евангелиста можно заключить лишь то, что, по его убеждению, должность первосвященника замещалась ежегодно (по словам евангелия, в тот период первосвященниками были Анна и Каиафа). Но апостол-палестинец должен был бы знать и помнить, что Каиафа исполнял должность первосвященника в течение многих лет. Правда, евангелист обнаруживает близкое знакомство с Ветхим заветом, но это не доказывает ни того, что сам он уроженец Палестины, ни того, что он христианин из иудеев: поскольку евреи составляли главное ядро христианских общин и Ветхий завет имел важное значение для дела созидания новый веры, то и нееврей (подобно Юстину Мученику) мог сознавать необходимость приобретения подобных знаний. С другой стороны, едва ли можно предполагать, чтобы апостол был так хорошо знаком с александрийской и, в частности, филоновой умозрительной философией. Не говоря уже о том, что он, по словам трех первых евангелий, был человеком низкого происхождения, галилейским рыбаком (лишь по весьма сомнительному уверению четвертого евангелия, он был знаком с первосвященниками), он, по свидетельству посланий Павла и Деяний апостолов, был совершенно непричастен к такой учености и мог приобресть ее лишь позднее, вероятно, после переселения своего в Малую Азию. Но в Малой Азии он в 68 году написал Апокалипсис, в котором совсем не заметно ни того духа, которым веет от евангелия, ни следов александрийской учености. Невероятно также и то, чтобы впоследствии, на склоне лет своих, он пожелал и смог усвоить себе совершенно новый и отличный образ мысли и развить его так своеобразно и гармонично, как это сделал автор евангелия.
Итак, разбор внешних свидетельств относительно трех первых евангелий приводит нас к тому результату, что в начале II века встречаются не следы самих евангелий в их современном виде, а следы того материала, который в них переработан, и что основа этого материала заимствована из той страны, в которой совершались повествуемые в них события. Но относительно четвертого евангелия мы приходим к выводу, что оно появилось лишь во второй половине II века и, по-видимому, возникло в иной, чуждой стране и под влиянием той философии, с которой не был знаком первоначальный кружок Иисуса. И если в первом случае можно допустить, что в промежуток времени, обнимающий несколько поколений и протекший с момента повествуемых событий до их описания в евангелиях, в них вкралось много легендарных и, вообще, неисторических элементов, то во втором случае уже совершенно очевидны примеси философской конструкции и сознательного сочинительства.
Б. Внутреннее существо и взаимоотношение евангелий
§14. Различные гипотезы о соотношении трех первых евангелий: Лессинг, Эйхгорн, Гуг, Грисбах, Гизелер, Шлейермахер.
Если теперь мы обратимся от внешних свидетельств к внутреннему существу наших четырех евангелий (поскольку об этом еще не было у нас речи) и к их взаимоотношению, то и в этом случае придется три первых евангелия соединить в одну группу и противопоставить их четвертому евангелию. Это четвертое евангелие стоит совсем особняком, оно согласуется с прочими евангелиями только по главнейшим пунктам евангельской истории, а по пересказу речей и способу выражения почти всегда отступает от них. Наоборот, группа первых трех евангелий, за немногими лишь исключениями, касающимися как распределения и подбора материалов, так и способа выражения, почти совершенно однородна и потому весьма пригодна для синхронистического сопоставления фактов, для общего обзора, или синопсиса (отсюда и название синоптических евангелий)[78].
Своеобразное, в литературе уже более не встречающееся взаимоотношение трех первых евангелий дало первый толчок к более глубокому их исследованию, но последнее, конечно, не могло дать удовлетворительных результатов, пока не было исследовано их отношение к четвертому евангелию. Относительно трех первых евангелий возникал вопрос: почему три разных автора повествуют единогласно, а нередко даже и с буквальной точностью одно и то же, и тем не менее по некоторым пунктам так резко отступают друг от друга. Тому, кто исходил из предположения о боговдохновенности библейских книг, нетрудно было объяснить это взаимное их сходство и единогласие. Ведь настоящим автором всех евангелий, вообще, был Святой Дух, а евангелисты только писали под его диктовку! Однако странным могло казаться то обстоятельство, что при таких условиях эти диктанты оказались не вполне тождественными и что Святой Дух словно не одно и то же диктовал евангелистам. Это недоумение пытались объяснить предположением, что евангелия приспособлялись к индивидуальным особенностям евангелистов и потребностям читателей, для которых отдельные евангелия писались. Такого рода догадка могла действительно объяснить, почему один евангелист умалчивает о том, что сообщает другой, или почему о данном предмете один повествует подробнее, а другой — короче. Но если в таких рассказах одно и то же событие обставляется различными подробностями или относится евангелистами к различным моментам жизни Иисуса, если одна и та же речь Иисуса различно истолковывается или передается, то в таких случаях только что-нибудь одно может быть правдой, и совершенно непонятно, как мог Святой Дух внушить тому или иному из вдохновленных им авторов что-либо ложное. Обе стороны были бы правы только в том случае, если бы каждая из них повествовала о чём-либо другом, например, если бы Иисус был отвергнут жителями Назарета дважды, в начале и в конце своего служения; если бы торговцы были им изгнаны из храма дважды, при первом и при последнем посещении Иерусалима, и если бы каждый отдельный евангелист рассказывал лишь об одном из этих случаев, о котором умолчал другой. Но поскольку никому не хотелось уличить Святой Дух во лжи или даже в простом недосмотре и так как приходилось буквально понимать всё сказанное в евангелии и вследствие этого предполагать два разных события там, где два рассказа об одном и том же событии расходились между собой, хотя бы только в мелочах, то евангельская история, изобилующая подобными несходными рассказами, приобрела такой характер, который ее отличает от всякой иной истории. Но если кто-либо не мог допустить, чтобы в Капернауме два военачальника имели в разное время двух больных слуг, которых исцелило слово Иисуса, сказанное издалека; чтобы две дочери настоятелей синагоги умерли и были воскрешены Иисусом и чтобы в обоих случаях прохожая кровоточивая женщина исцелялась от прикосновения к нему, тогда, стало быть, приходилось признавать, что евангелисты ошибались или лгали, хотя бы и по второстепенным пунктам, и что они стояли на одной ступени с прочими писателями, простыми смертными.
Чтобы с этой точки зрения выяснить взаимоотношение евангелий и истолковать их сходство и отличие, их однородность и своеобразие, Лессинг написал трактат «Новая гипотеза о евангелистах как просто исторических писателях в обычном (человеческом) смысле» (1778). Это небольшое (в два печатных листа) рассуждение содержало чрезвычайно плодотворные зародыши всех последующих исследований по данному предмету. Здесь Лессинг констатирует, что основой всех евангелий является письменный сборник известий об учении и жизни Иисуса, составившийся на базе изустных рассказов апостолов и иных очевидцев; что этот сборник появился в среде древнехристианских иудеев Палестины, или так называемых назореев; что он затем по желанию обладателей или переписчиков неоднократно изменялся, увеличивался и сокращался и, наконец, в целях распространения в более широком кругу читателей был вольно переведен с местного палестинского наречия на греческий язык; так как рассказы, содержащиеся в этом сборнике, записаны были со слов апостолов, сборник этот получил название «Евангелия апостолов», а так как он предназначался преимущественно для прочтения в кругу назореев, или евреев, он назывался евангелием назорейским, или еврейским, о чём упоминается и у древнейших отцов церкви; наконец, по имени своего редактора-грека он получил наименование Евангелия от Матфея, ибо, по мнению Лессинга, Матфей только составил греческое извлечение из написанного по-еврейски назорейского евангелия, а не сам написал еврейское евангелие, которое, как ошибочно полагает Папий, впоследствии переводилось на греческий язык всяким желающим. В качестве такого краткого извлечения труд Матфея, вероятно, не удовлетворял многих, а потому впоследствии появились другие варианты еврейского основного сборника, например наше Евангелие от Луки, автор которого несколько изменил подбор и хронологию рассказов, сообщаемых Матфеем, и написал свою книгу на более правильном греческом языке, между тем как Марк, по-видимому, пользовался при составлении своего труда менее полным экземпляром еврейского евангелия.
Иоанн, по мнению Лессинга, также знал и использовал как этот основной сборник, так и евангелия, извлеченные из него, и, в частности, те три первые евангелия, которые имеются у нас; тем не менее его евангелие не может быть причислено к их группе, а представляет собой совершенно обособленный тип. Иоанна не удовлетворяли наличные евангелия и то представление о Христе, которое ими создавалось, поэтому он старался не дополнять их новым материалом (его евангелие не производит впечатления простого сборника добавочных рассказов), а облагородить, возвысить личность Христа, представить его метафизически в роли посредника между Богом и людьми, а не в образе лишь величайшего пророка, или Сына Божия в смысле иудейских представлений о Мессии. И только благодаря такому метафизическому представлению о Христе христианство не выродилось с течением времени в простую иудейскую секту; только Иоанново евангелие и сообщило христианской религии прочность и содержательность. Таким образом, Евангелие от Матфея противостоит Евангелию от Иоанна, как плоть духу, а если на стороне «плоти» стоят еще два других евангелия и «плотское» евангелие вследствие этого является трехликим и если церковь из целой массы однородных евангелий признала только эти три евангелия (Матфея, Марка, Луки), то это обстоятельство, по мнению Лессинга, объясняется тем, что Евангелия от Марка и от Луки во многих отношениях как бы заполняют собой ту пропасть, которая существует между Евангелиями от Матфея и от Иоанна, и что Марк был учеником Петра, а Лука — учеником Павла. Этим же соображением объясняется и тот порядок, в котором располагаются четыре евангелия в каноне, ибо ничем не доказано мнение, что они возникли в этой именно хронологической последовательности.
Если Лессинг обратил внимание в большей мере на происхождение и родственную близость первых трех евангелий, чем на своеобразие четвертого евангелия, то благодаря Эйхгорну на авансцену критического анализа выдвинулся вопрос о том, как следует объяснить взаимоотношение этих трех евангелий.[79] При этом приходилось разрешать, как было сказано, два вопроса: о сходстве евангелий и об их различии. По мнению Эйхгорна, единомыслие трех историков-евангелистов в выражениях и сущности повествований и в последовательности развития мыслей и событий, которое мы находим в наших трех евангелиях, можно объяснить только использованием определенных письменных документов. В этом отношении можно предположить два случая: либо один евангелист заимствовал у другого, либо все евангелисты вместе черпали из одного источника. Согласно Эйхгорну, первый случай неприемлем потому, что он нам объясняет лишь единогласие, а не разногласие евангелистов. Если Марк приноровлялся к Матфею, а Лука к Марку или к обоим евангелистам, то почему преемник опускал многое из того, что рассказал предшественник, почему он многое изображал и истолковывал иначе, почему он изменял, без всякой видимой причины, даже простые выражения? Наоборот, предположение о том, что все три евангелиста черпали из одного общего источника, удовлетворительно объясняет обе стороны их взаимоотношения. Их единогласие объясняется использованием одного и того же «первоначального» евангелия; но они им пользовались не прямо и непосредственно, а каждый перерабатывал его по-своему, поэтому они и стали отклоняться друг от друга. Эйхгорн пытался воссоздать это «первоначальное» евангелие, вычеркивая всё то, в чём три евангелия расходились между собой, и оставляя лишь то, что в них было общего и одинакового; таким образом у него получился «первичный» грубый эскиз в виде краткого руководящего конспекта, который был составлен, по мнению Эйхгорна, при содействии апостолов на арамейском языке, служил пособием для первых распространителей вероучения, дополнялся впоследствии разными лицами и наконец был переведен на греческий язык. Если предположить, что из таких обработок одна служила для одного евангелиста, а другая — для другого, то станет понятным, почему у одного есть то, чего нет у другого или имеется в ином виде; ясно, что всё недостающее отсутствовало также и в использованном ими прототипе евангелия или имелось там в другом виде; понятным станут также и отличия греческих выражений при общем сходстве повествований, если предположить наличие несходных греческих переводов. Наоборот, если двое или трое евангелистов сходятся на случайно подобранных словах, то это объясняется предположением, что и «первоначальное» евангелие имелось в греческом переводе и что переводчик сверял свой перевод с наличными вариантами его.
Отсюда видно, что с каждым новым примером и с каждой вновь подмеченной стороной этого сложного взаимоотношения евангелий возникала потребность в новой вспомогательной гипотезе, и вся теория становилась всё более и более сложной и искусственной и начинала резко противоречить тем несложным отношениям эпохи и среды, в которых евангелия возникли. По этому поводу уже Шлейермахер заметил, что он считает гипотезу о «первоначальном» евангелии неприемлемой, ибо не может себе представить наших благодушных евангелистов сидящими перед наваленными четырьмя, пятью или шестью разноязычными свитками и книгами, сверяющими их методически и выписывающими из них нужное; такое представление скорее подходит к современной немецкой книжной фабрике XIX столетия, чем к начальной эпохе христианства. Гердер также заявлял, что ему не нравится гипотеза Эйхгорна, так как она наводит на прозаическую мысль о какой-то апостольской канцелярии, и потому он более склоняется на сторону предположений Лессинга. Правда, всё то, что к ним добавил от себя сам Гердер для их исправления и дальнейшего развития, было слишком поверхностно и необоснованно, чтобы считаться ценным вкладом; однако его мысль о том, что изустная евангельская проповедь послужила источником для письменных евангелий и что Марк и Лука предшествовали Матфею, впоследствии нашла себе сторонников и продолжателей.
В теории евангелия-прототипа имелись, главным образом, две слабые стороны, которые и послужили скоро мишенью для нападок. Одна из них состояла в том, что в представшей перед Эйхгорном дилемме — либо евангелисты заимствовали друг у друга, либо все вместе черпали из некоторого общего источника, — он без обиняков отверг первое предположение. Но почему немыслимо предположение, что один евангелист пользовался трудом другого? — спрашивает Гуг. Не потому ли, что в евангелиях встречаются многочисленные и значительные расхождения? Но разве Ливий не уклоняется нередко от Полибия, трудом которого, по его собственному признанию, он часто пользовался? Почему писатель, имеющий перед собой труды другого автора, непременно должен всё буквально списывать с него? Если благодаря дальнейшим расспросам и новым источником или вследствие несходства точек зрения какое-нибудь дело представлялось ему в ином свете, чем его предшественнику, то разве он не вправе был уклониться от его изложения, хотя бы он и руководствовался им? Итак, ничто нам не мешает предполагать, что один евангелист пользовался трудом другого, и дело заключается лишь в том, чтобы подробнее изучить своеобразный план и ту специальную цель, которую преследовал каждый из авторов, и указать причину, которая заставила евангелистов отклоняться друг от друга. По мнению Гута, вся суть взаимоотношения евангелистов сводится лишь к исправлению и дополнению трудов предшествующих авторов, к учетверению гарантии правдивости повествований. Марк благодаря сообщениям апостола Петра переработал книгу Матфея, упорядочив ее хронологию и добавив некоторые подробности; Лука, будучи человеком знающим и образованным, пересмотрел и исправил груды своих двух предшественников; наконец, Иоанн, ознакомившись с трудами всех своих предшественников, окончательно дополнил и заключил их повествования. Но всякое исправление предполагает недосмотры и ошибки предшественников, да и простое дополнение трудов их может бросить на них неблаговидную тень. Если автор четвертого евангелия прав, уверяя, что Иисус до своего последнего посещения Иерусалима уже бывал там много раз для проповеди и служения, то, стало быть, автор первого евангелия, ничего не ведающий об этих прежних посещениях Иерусалима Иисусом, не мог быть ни спутником Иисуса, ни апостолом Матфеем, поэтому второе евангелие тоже не могло быть написано со слов апостола Петра, ибо последний должен был бы указать автору его на выше отмеченную ошибку первого евангелия и понудить его к исправлению ее. А если четвертый евангелист, Иоанн, умалчивает о многом из того, что рассказано у его предшественников, то почему мы знаем, что этим он выражает им свое согласие? Ведь это умолчание не исключало отрицания, и о согласии можно говорить лишь при известной точке зрения, предполагающей во взаимоотношениях евангелистов исключительно лишь единодушие.
Такую апологетическую точку зрения, такую веру в церковное предание Гуг проявляет уже в том, что по вопросу о порядке, в котором отдельные евангелисты использовали и исправляли один другого, он, не обинуясь, высказывается за признаваемый каноном, хотя уже Лессинг проницательно указал, что эта последовательность, вероятно, обусловливалась не одной только хронологией. В этом отношении об Евангелии от Марка уже до Гуга высказано было мнение, которое он оспаривал без достаточного основания и которое, по-видимому, лучше освещало дело. Если имеем два евангелия, которые при большом взаимном сходстве всё же сохраняют много черт различия в том смысле, что в каждом из них целые разделы написаны самостоятельно, а в сходных разделах рассказ ведется в ином порядке, и если затем появляется еще другое, новое евангелие, которое по содержанию почти совсем не оригинально, в котором из 16 глав наберется оригинального содержания разве только на полглавы и которое по плану своему тоже сходствует либо с одним, либо с другим евангелием, но по способу выражения напоминает оба, то невольно возникает подозрение, что такое евангелие явилось после двух других евангелий, составлено по ним, как по готовым, налицо имеющимся источникам. Такое мнение было высказано Грисбахом, и оно, благодаря наглядности метода освещения взаимоотношения евангелий, казалось столь убедительным, что и до последнего времени являлось наиболее популярным среди теологов.
Дилемма, из которой исходили разные исследователи, состояла в том, что авторы трех первых евангелий либо списывали друг у друга, либо использовали один общий источник (притом источник письменный, как полагали все). Наконец, очередь дошла и до предполагаемого «общего» источника, в существовании которого многие авторы стали сомневаться. Они говорили, что первоначальное возвещение евангелия было изустное. То, что и известия о жизни Иисуса долго распространялись устно, — не только правдоподобно, если принимать во внимание уровень образованности и житейские условия апостолов, но даже может быть доказано документально, ибо в посланиях апостола Павла мы, во всяком случае, не находим никаких указаний на существование писаных евангелий в его время. С другой стороны, весьма вероятно и то, что это устное предание, то есть способ, которым евангелисты сообщали важнейшие сведения о жизни Иисуса, в скором времени определилось в смысле подбора, расположения и даже сообщения материала. Это и есть устное первичное евангелие, которое Гизелер стал противопоставлять писаному первичному евангелию Эйхгорна и на основании которого он надеялся не хуже Эйхгорна объяснить неполное сходство трех первых евангелий, а отклонения или отличия в них он надеялся объяснить, во всяком случае, лучше тех, кто уверяли, что евангелисты списывали друг у друга. Гизелер представлял себе первых провозвестников евангелия наподобие греческих рапсодов, в устах которых песни Гомера не только воспроизводились, но и развивались и преобразовывались. Такая аналогия весьма понравилась представителям эпохи, которая старалась глубже проникнуть в дух античной жизни и реально постигнуть происхождение поэзии и религии. Сведенная к устному преданию, евангельская история представлялась живым организмом, который мог расти, делиться на ветви и отростки, и всем казалось, что этот взгляд давал возможность свободнее относиться к историческому содержанию евангелий.
Однако этот новый путь не приводил к решению ближайшей задачи проблемы взаимоотношения евангелий. Предположением об исключительно устном общем источнике удавалось объяснить факт частых отклонений и несходства евангелий, но не удавалось объяснить их совпадения и тождество. Почему они не только обнаруживают сходство общего плана и в подборе материалов, но нередко совпадают друг с другом даже и в деталях, так что о двух явно разновременных событиях все евангелисты повествуют в одинаковой последовательности и связи? Почему в евангелиях наблюдается не только сходство выражений, но даже сходное употребление крайне редких греческих слов? Ведь первые провозвестники евангелия не могли обращать внимание на обработку формы, что приходилось делать греческим рапсодам, которые декламировали ритмические песни Гомера; в лучшем случае они старались, вероятно, точно пересказать, например, изречения Иисуса, но суть дела видели в самом содержании своих рассказов, а предполагать, что они стереотипизировали свои беседы, мы не имеем никакого основания. Чего же лучше! Наш третий евангелист сам заявляет в своем предисловии, что в его время существовало уже несколько евангельских трудов, и на его собственном евангелии явственно видны следы того, что он пользовался не одними только устными сказаниями, но также и имеющимися писаными образцами.
Правда, у нас нет указаний на то, что именно двумя нашими первыми евангелиями пользовался третий евангелист и что, вообще, под первыми евангельскими записями следует разуметь ныне существующие книги, обнимающие все эпизоды жизни Иисуса, а именно на этой почве сделана была новая попытка объяснить взаимоотношение трех первых евангелий. По адресу Эйхгорна Шлейермахер замечает: если мы спросим себя, какое начало евангельской литературы вероятнее — единый ли связный и тощий рассказ о всей жизни Иисуса (вроде «первоначального» евангелия Эйхгорна) или собрание нескольких пространных записей об отдельных ее эпизодах? — то скорее всего мы должны предположить последнее. По мнению Шлейермахера, первоначальным стимулом к написанию истории христианства следует предполагать не собственное свободное желание апостолов и первых их учеников, обремененных и всецело поглощенных своей практической работой, а желание других лиц, которые уверовали в Иисуса, не зная его лично, и которым хотелось знать подробности его жизни. Такое желание, по-видимому, удовлетворялось на общественных собраниях христиан только случайным образом и в недостаточной степени, когда кто-либо из наставников цитировал какое-нибудь достопамятное изречение Христа и считал необходимым иллюстрировать его историческим фактом, который подал повод к изречению. Но более подробные сведения лица любознательные могли получить лишь путем специальных расспросов и личного частного общения со сведущими людьми. Таким образом, становились известными многие детали, которые затем передавались далее, в большинстве случаев опять-таки устно, но кое-что, вероятно, вскоре стали записывать сами рассказчики и лица вопрошавшие, в особенности те, которые не всегда имели возможность беседовать с ними и желали поделиться с другими полученными сведениями. Так стали записываться отдельные деяния и речи Иисуса, потом эти записи стали размножаться, особенно тогда, когда многие из первоначальных спутников («последователей») Христа стали разбредаться вследствие гонений и когда первое поколение христиан начало вымирать. При этом авторы и владельцы записей, вероятно, скоро начали их дополнять и превратились в собирателей рукописей, причем одни, вероятно, собирали только повествования о чудесах, другие — изречения, а третьи интересовались главным образом последними событиями жизни Христа или его воскресением; наконец, были, вероятно, и такие, которые без всякой специальной цели собирали всё, что удавалось получить. Однако элементы, из которых составлялись подобные коллекции или сборники, были разнородны по своему происхождению и значению: одни приобретались из первых рук, другие — из вторых и третьих рук, а многие получались из совершенно темных источников и в искаженном виде вследствие неточности воспоминаний, ограниченности кругозора и пристрастия к чудесному. Такими сводами отрывочных рассказов, записанных в послеапостольское время, Шлейермахер считает и наши три первые евангелия, не исключая Евангелия от Марка, относительно которого он положительно, хотя и не без колебаний, отвергает мнение Грисбаха.
Однако отчего же эти три собирателя рукописей, независимо друг от друга подбиравшие себе материал из обширного запаса рассказов и воспоминаний, в большинстве случаев с замечательным единодушием останавливались на одних и тех же эпизодах? На такой вопрос Шлейермахер нам отвечает весьма неудовлетворительной догадкой, что каждая подобная книга, вероятно, должна была считаться с некоторым предельным размером, удобным для многократной переписки, и что известные эпизоды, вероятно, считались наиболее важными и ценными для целей евангельской проповеди. Но Иисус, как повествуют наши евангелисты, излечил множество слепых, хромых и прокаженных и изгнал множество бесов; так отчего же из всего этого множества отдельных эпизодов и рассказов наши три первые евангелиста за немногими и, быть может, кажущимися исключениями, подробнее повествуют только об одной и той же дюжине фактов и столь же единодушно довольствуются суммарным упоминанием о всех прочих чудесах, среди которых многие, как видно из Евангелия от Иоанна, могли считаться, несомненно, доказательными, если допустить, что евангелисты производили подбор рассказов независимо друг от друга? Тот же самый вопрос можно поднять и относительно речей Иисуса; и наконец, точка зрения Шлейермахера не объясняет также сходства общего плана повествований в трех первых евангелиях.
Недостатки, присущие каждому из изложенных воззрений, можно отчасти устранить путем комбинации последних. Можно, например, ко всем этим гипотезам присоединить так называемую гипотезу традиции, то есть предположение о том, что устное сказание служило первоначальным или вспомогательным источником. Но самый важный результат всех этих попыток объяснить происхождение и взаимоотношение трех первых евангелий заключается, несомненно, в том, что благодаря им написание всех евангелий незаметно оказалось актом одновременным и столь маловажным, что уже нельзя было предполагать, что их написали апостолы или хотя бы помощники апостолов. Уже Эйхгорн низвел до минимума участие Матфея в составлении первого евангелия и участие Марка и Луки в написании второго и третьего евангелий, хотя еще и не решался отрицать их участие совершенно; а Шлейермахер прямо заявляет, что наименования: Евангелия от Матфея, от Марка, от Луки он употребляет лишь по традиции и условно, независимо от того, принимали ли эти лица какое-либо участие в составлении евангелий, помеченных их именем.
§15. Евангелие от Иоанна: Бретшнейдер, Шлейермахер
В то время как по отношению к трем первым евангелиям критический скептицизм невозбранно действовал вовсю, аутентичность и апостольское происхождение четвертого евангелия еще не возбуждали никаких сомнений. И если по отношению к первым трем евангелиям допускалась полная свобода критики вследствие того, что сохранялась еще уверенность в исторической достоверности четвертого евангелия, то под конец и достоверность трех первых евангелий стала подвергаться отрицанию лишь ради того, чтобы в интересах четвертого евангелия использовать то противоречие, которое всё более и более выяснялось между ним и первыми тремя евангелиями. Если первое и четвертое евангелия противоречили друг другу в равном притязании на апостольское происхождение и если их сообщения о личности и жизни Иисуса были несовместимы между собой, то возможным представлялось и то, что четвертое евангелие, как и первое, должно поступиться своим притязанием, и, наоборот, если четвертое евангелие не могло притязать на апостольское происхождение, то с большим основанием могло на это притязать первое евангелие.
Такую именно позицию заняла консервативная теология после той опустошительной вылазки, которую вслед за менее научно обоснованными атаками предшественников сделал Бретшнейдер в своих «Пробабилиях», подвергнув критике подлинность и аутентичность Иоаннова евангелия. Исходным и опорным пунктом Бретшнейдеру служила историческая достоверность трех первых евангелий. Он находил, что не только отдельные рассказы, но и все основные представления четвертого евангелия о личности и деятельности Иисуса несовместимы со взглядами и сообщениями, имеющимися в трех первых евангелиях; поэтому он заключал, что четвертое евангелие не является достоверным историческим документом, а потому не может считаться и трудом апостола Иоанна. Предположим, говорит Бретшнейдер, что Евангелие от Иоанна по какой-нибудь случайности не было известно в течение протекших XVIII веков и было бы вдруг найдено теперь на Востоке; тогда, наверно, каждый признался бы, что Иисус, изображенный в этом евангелии, совсем не похож на того Иисуса, который изображен в Евангелиях от Матфея, от Марка и от Луки, и что немыслимо признать оба эти изображения правильными. Что этого различия мы не замечаем или не сознаем теперь, это можно объяснить не столько определенностью нашего суждения или твердостью убеждения, сколько укоренившимся в нас представлением о непреложной правде четвертого евангелия.
Коренное различие между Иисусом Иоаннова евангелия и Иисусом синоптических евангелий, по мнению Бретшнейдера, сказывается прежде всего в его речах. В первых трех евангелиях Иисус изображается истинно народным наставником, который борется против ложных учений, противореча истинному благочестию и морали его соотечественников, в особенности против фарисейского духа внешней условности, и который настаивает на чистоте помыслов, стремлении к богоподобию и всеобщем человеколюбии и излагает свое учение в столь ясной и естественной и вместе с тем искренней и разнообразной форме, что оно понятно, привлекательно и убедительно для всех слоев населения. Этот народный учитель-практик в четвертом евангелии обращается в изощренного метафизика, который в беседах своих говорит не столько о благочестии и добродетели, сколько о высоком значении своей собственной личности, а эта личность изображается не в соответствии с национальной идеей Мессии, а в духе александрийского учения о Логосе, которое изложено евангелистом в прологе. В то же время речи Иисуса здесь так непонятны и двусмысленны, а поучения так холодны, искусственны и монотонны и тон их так суров, как будто он вознамерился не привлекать к себе людей, а отталкивать их от себя. Из этих двух несовместимых изображений Иисуса, по мнению Бретшнейдера, первое выделяется внутренней правдой и соответствием условиям своего времени, а второе, отличающееся противоположными качествами, представляется не чем иным, как вымыслом. Но кроме речей Иисуса, возбуждающих сомнения, Бретшнейдер отмечает еще в том же четвертом евангелии странный характер отзыва об иудеях, неправильное указание многих местностей и т.п. и приходит к заключению, что автор этого (четвертого) евангелия не был ни апостолом и очевидцем, ни даже уроженцем Палестины и евреем, а был философски образованным христианином из язычников. Бретшнейдер полагает, что это евангелие написано в средине II века, так как в нём имеются намеки на позднейшие возражения и разногласия, что появилось оно в Александрии, так как по духу своему оно родственно александрийскому гностицизму, и что задача его заключалась в том, чтобы отстоять христианское учение против иудейских возражений и популяризовать его в среде греческого населения.
Если такое решительное отрицание подлинности и аутентичности четвертого евангелия вызвало большой переполох среди большинства теологов, но не произвело глубокого и длительного впечатления на них, то этому не следует удивляться, так как привязанность к церковному преданию весьма широко распространена и упряма, а сочувствие к критике и анализу — явление весьма редкое. С другой стороны, сам Бретшнейдер заявлял позже, что цель его «Пробабилий» достигнута и сомнения его разрешены после того, как произошел обмен мнениями по поводу его книги; и такое заявление автора тоже понятно, ибо его теологическая точка зрения вообще не отличалась глубиной, и сам он отнюдь не собирался принять на себя все последствия своей критики Иоаннова евангелия. А если даже и такой человек, как Шлейермахер, заявлял, что к критике Бретшнейдера он отнесся равнодушно, так как подобные рассуждения хотя и не излишни, но не имеют существенного значения и лично его мало интересуют, то это лишь свидетельствует о том, как предубежден был даже этот проницательный критик по данному пункту и как субъективна была его собственная критика вообще. Подобно тому как Откровение Иоанна он, наперекор авторитетным свидетельствам, признавал подложным, ибо по содержанию и форме оно противоречило его собственному духу, так и относительно Иоаннова евангелия он с легким сердцем заявлял, что выдвинутые против него сомнения и подозрения несущественны, ибо он сам симпатизировал этому труду. Христос Евангелия от Иоанна, сознающий в себе Бога-Отца и отождествляющий себя с ним, говорящий и действующий не от своего лица, а от имени Бога-Отца, — такой Христос вполне соответствовал религиозному идеалу Шлейермахера, тому сознанию божества, которое в свободном проявлении себя равносильно бытию Бога в человеке. Следовательно, Иоанново евангелие являлось тем орудием, посредством которого Шлейермахер соединял современное благочестие с христианством, и чем нужнее ему это соединение, тем менее он мог мириться с такими возражениями, в которых отвергалось это евангелие в качестве источника истинного познания Христа.
Интересно, что это некритическое и несправедливое отношение Шлейермахера к источникам истории Иисуса дополняется у него таким же отношением к источникам истории Сократа. В одном из позднейших примечаний, в которых Шлейермахер вообще старается смягчить или оправдать напыщенность своих речей о религии, он, видимо, раздраженный нападками Бретшнейдера против его любимого евангелия, договорился до такого замечания:
«Нам уже самим приходится понять и объяснить (если отвергать четвертое евангелие), как мог создать новую религию и церковь иудейский раввин человеколюбивого образа мыслей, приверженец сократической морали и одаренный способностью творить чудеса или то, что принималось некогда за чудо, и умением говорить остроумные загадки и притчи (ибо ведь ничего иного, кроме разве еще извинительной наивности, за ним не признаётся), как мог совершить такое огромное дело человек, который, будучи таким, каким он обрисован, не подал бы и глотка воды Моисею и Магомету».[80]
В этом выпаде, направленном против синоптического Христа, нас прежде всего неприятно поражает романтический аристократизм, которому противно всё простое, самобытное, неприправленное элементом взвинченности и мнимой «скорби» или «иронии». Но затем мы тотчас вспоминаем, как Шлейермахер с точно таким же аристократическим высокомерием ставил Ксенофонтова Сократа ниже Платоновского Сократа. В своем известном трактате «О значении Сократа как философа» он замечает:
«Если Сократ занимался лишь говорением на такие темы, о которых упоминает Ксенофонт в своих „Воспоминаниях“, хотя бы речи эти и отличались блестящей и изящной формой, тогда нам трудно понять, отчего за много лет ему не удалось обезлюдить посещаемые им рынки и лавки, сады и гимназии, распугивая своим появлением народ, — отчего его беседами так долго восторгались люди вроде Алкивиада и Крития, Платона и Евклида, отчего он вообще успел сделаться творцом и прототипом аттической философии».
При таких условиях приходится считать большою деликатностью со стороны Шлейермахера уже и то, что он не удивился, отчего и побережье моря галилейского и синагоги в городах не «обезлюдели» вследствие пребывания в них синоптического Иисуса. Но со слов критиков, обладающих большим историческим тактом, мы знаем, что в основу исторического понимания Сократа необходимо положить ту характеристику, которую представил Ксенофонт, а из Платоновской характеристики следует брать, притом с большой оглядкой, только немногие добавления. Поэтому мы успокаиваемся также и насчет благополучного разрешения данного евангельского вопроса.
Так относился к Иоаннову евангелию не один лишь Шлейермахер. Мистический идеализм Евангелия от Иоанна более, чем исторический реализм трех первых евангелий, нравился значительному числу его современников, и не только тем, которые воспитались на его вероучении и усвоили себе его Христа, но также и всему тому поколению, которое выросло на романтизме и фихтеанско-шеллинговой философии. Автор «Пробабилий» пожелал плыть против этого течения, и это погубило его книгу. По своему образованию и образу мыслей Бретшнейдер принадлежал старому кантианско-рационалистическому направлению, ему нравились практически моральный дух и ясная простая форма трех первых евангелий в такой же мере, в какой ему претили спекулятивная напыщенность и мистическая туманность четвертого евангелия. Обнаружив свою симпатию, он прослыл ретроградом в глазах приверженцев Шлейермахера; обнаружив свою антипатию, он прослыл человеком, не понимающим глубокомыслия четвертого евангелия. Для всех, кто, подобно Люке, Газе, Неандеру и другим, поддавался обаянию ума Шлейермахера, апостольское происхождение Иоаннова евангелия осталось основой богословия, а «Пробабилии» — мертворожденным произведением. Сначала лишь де Ветте воздерживался от решительного его осуждения, но под конец и он поступился своим критическим сознанием в угоду тому идейному течению, которому он, в сущности, вполне симпатизировал.
§16. Дальнейшие суждения о трех первых евангелиях и их отношении к четвертому евангелию: Шульц, Зифферт, Шнекенбургер; моя критическая обработка жизни Иисуса
После такой безрезультатной интермедии положение Евангелия от Иоанна, по-видимому, еще более окрепло, а изыскания о первых трех евангелиях продолжались менее скованно, и, наконец, по отношению к одному евангелию, которое, подобно четвертому, помечено именем апостола, мало-помалу обнаружилась особенно заметная неприязнь. Шлейермахер, увлеченный анализом предмета изысканий, в своем трактате о Луке нашел, что в отношении повествования и плана Лука заслуживает предпочтения перед Матфеем. Другому свободомыслящему теологу так не понравилась идея прощения грехов, которую Матфей, в отличие от прочих евангелистов, вкладывает в формулу учреждения евхаристии, что он даже усомнился в аутентичности Евангелия от Матфея, изложив эти сомнения в особом приложении к своему трактату о Тайной вечере.[81] Некоторые из позднейших критиков пошли еще дальше по этому пути,[82] и было время, когда казалось, что первый из евангелистов станет последним, что Евангелие от Матфея по непосредственности и достоверности уступает не только Иоаннову евангелию, но даже и евангелиям апостольских помощников Марка и Луки.
Критики приводили целый ряд соображений с тою целью, чтобы показать, что автор этого евангелия не мог быть очевидцем и спутником Иисуса, при этом они указывали, например, на недостаточную наглядность и отсутствие подробностей в его повествовании. Уже Шлейермахер в своих лекциях «Введение в Новый завет» сделал по этому поводу интересное замечание; он говорил:
«В 9-й главе Матфеева евангелия повествуется о том, как Иисус призвал Матфея в число апостолов и последний пошел за ним, то есть присоединился к постоянным спутникам Иисуса. Можно было ожидать, что если евангелист-повествователь был именно этим „призванным“ апостолом, то мог бы измениться его способ повествования с того момента, как он стал очевидцем всего того что случалось с Иисусом, его рассказ должен был бы стать живее, нагляднее, подробнее. Но ничего подобного в действительности не замечается: его способ изображения остается по-прежнему суммарным, его хронологические и топографические указания по-прежнему неопределенными. Что такова манера не очевидца, а человека, который рассказы свои черпает из потоков традиционных сказаний, это было ясно даже и помимо сравнения Матфеева евангелия с другими, но если критики рассчитывали усилить доказательность своих возражений ссылкой на то, что прочие евангелисты повествуют гораздо подробнее и нагляднее, то возникал другой вопрос: была ли эта наглядность очевидца, а не человека, который старается свободным измышлением подробностей „освежить“ суммарно формулированный традиционный рассказ?»
Как на доказательство неапостольского происхождения первого евангелия указывали также и на свойственное ему изобилие длинных бесед: Иисус в нём говорит за один присест всё то, что он, очевидно, высказывал в разное время и по разным поводам, о чём свидетельствуют некоторые места в Евангелиях от Луки и от Марка. То, что Нагорная проповедь (Мф. гл. 5–7), напутственное слово апостолам (гл. 10), большая антифарисейская речь (гл. 23) содержат в себе элементы, которые не были первоначально высказаны в данной связи и которые редактором-евангелистом отнесены сюда ввиду их родственного содержания и формы, что также и семь притчей (гл. 13), по-видимому, были им соединены вместе как таковые, а не были рассказаны Иисусом сразу, как говорит евангелист, — всё это нетрудно заметить и теперь уже никем не оспаривается. Но ссылка на Марка и Луку, которые будто бы лучше пересказали часть речей и сообщили более правдоподобный повод к ним, нисколько не убедительна, так как можно доказать, что именно Марк часто приводит без всякого порядка изречения, которые у Матфея, по крайней мере, искусно соединены вместе, и что Лука нередко самочинно измышлял поводы к тем речам Иисуса, которые он заимствовал из длинных пересказов Матфея. Если Матфей подвергся нареканиям за обилие речей, то почему же критики не обратили внимания на длинные речи Иисуса, которые приводятся у Иоанна и возбуждают еще больше сомнений? Соединять многие разновременно сказанные речи в одну менее преступно и более свойственную очевидцу, слышавшему их собственными ушами, чем приписывать Иисусу такие речи, которые предполагают наличие позднейшей философии (как то было доказано Бретшнейдером относительно четвертого евангелия), или так смешивать предполагаемые речи с собственными размышлениями евангелиста, что читатель недоумевает, кто именно и что именно сказал в данном случае.
Затем автора первого евангелия упрекают за то, что он удвоил число действующих лиц и происшествий. Например, он говорит о двух слепых, прокаженных, бесноватых, тогда как Марк и Лука говорят лишь об одном, или говорит о двух случаях чудесного насыщения толпы, когда Лука и Иоанн упоминают лишь об одном подобном случае. Факт этот можно объяснить предположением, что автор первого евангелия находил в двух лежавших перед ним источниках один и тот же эпизод, рассказанный по-разному и при отличной обстановке, вследствие чего он каждый из рассказов принимал за особое событие и в таком виде включал его в свое евангелие. Так ошибаться, разумеется, мог только человек, который самолично не видал сообщаемых им фактов, но это еще не дает нам права утверждать, что очевидцем или человеком, рассказывавшим со слов очевидца, является такой человек, который, подобно Луке и Иоанну, был осторожнее и не делал такого рода явных ошибок.
Далее, четвертого евангелиста, как и первого, можно упрекнуть за то что в свое историческое повествование он включал отрывки из пророчеств, которых он, видимо, не понимал. Матфей (21:7) рассказывает, что Иисус въезжал в Иерусалим на двух ослах (ослице и осленке), а это показывает, что он неправильно понял слова пророка Захарии (9:9). Точно таким непониманием слов псалма 21 (19) объясняется и тот факт, что Иоанн (19:23–24), в отличие от прочих евангелистов, рассказывает о дележе одежд Иисуса и о метании жребия о хитоне его, как о двух отдельных актах.
Наконец, против Евангелия от Матфея возражали, что его автору ничего не известно о таких событиях, о которых должен был бы знать апостол; например, избрание 70 учеников, видимое для всех вознесение Иисуса на небо, некоторые его праздничные путешествия, воскрешение Лазаря. Но о двух первых фактах ничего не ведает и Иоанново евангелие, а если оно (и только оно одно) сообщает о двух остальных фактах, то встает вопрос: не сообщает ли оно о том, чего вовсе не было, то есть о фактах неисторических, и не объясняются ли подобные сообщения четвертого евангелия его своеобразной тенденцией и отдаленностью момента его написания от момента сообщаемых событий.
С этой точки зрения необходимо беспристрастное и непредубежденное отношение ко всем четырем евангелиям вообще; необходимо отрешиться от предвзятого взгляда на одни евангелия, например Евангелие от Иоанна, как на евангелия, безусловно, подлинные и апостольские, и подвергнуть одинаковой критике и сравнительному рассмотрению все евангелия вообще и каждое в отдельности и затем уже решать, которое из евангелий можно признать трудом апостольским или возникшим при апостолах. О таком критическом просмотре я говорил уже в моей рецензии по поводу вышеозначенного трактата о Евангелии от Матфея; его же я пытался осуществить и сам в своем труде о жизни Иисуса, а относительно всех четырех евангелий я пришел к отрицательному результату: я нашел, что все их рассказы, вообще, являются не сообщениями очевидцев, а записями лиц, которые стояли уже вдали от сообщаемых фактов и кроме подлинных заметок и отрывков речей собирали также легендарные сказания и весь этот материал приукрасили отчасти даже собственными вымыслами.
При этом я должен заметить, что, вопреки Бауру и его подражателям, моя тактика отнюдь не состояла в том, чтобы побивать синоптиков Иоанном, а Иоанна — синоптиками и таким образом совершенно поколебать всякую веру в евангельскую историю. Напротив, именно я и подготовил ту самую почву, на которой впоследствии утвердился Баур, и подготовил ее тем, что в отличие от выше перечисленных критиков старался показать, что в Евангелии от Матфея заключается наиболее надежное историческое содержание, что Евангелие от Иоанна наименее благонадежно в историческом смысле, что в нём процесс идейной переработки евангельского исторического материала зашел наиболее далеко и что в нём отразилось наивысшее развитие понятия чудесного и представлений о Христе. И если Баур справедливо не удовлетворяется общим замечанием о большей или меньшей степени достоверности и требует указания тех качественных признаков, которыми отдельные евангелисты отличаются друг от друга, то я, подобно некоторым моим предшественникам, уже в разных местах моей «Жизни Иисуса» обращал внимание на пророческий прагматизм Матфея и историзирующий прагматизм Луки, на склонность первого сводить традиционные изречения Иисуса в крупные комплексы речей и на склонность второго снабжать отдельные изречения искусственными мотивами и поводами, на преувеличения и аффектированную живость Марка и т.д., и, в частности, я показал, что Евангелие от Иоанна, с одной стороны, является кульминационной точкой развития евангельской мифологии, а с другой стороны — вполне своеобразным и отличным от других евангелий произведением. На такой метод рассмотрения евангелий меня наводил анализ речей Иисуса, приведенных у Иоанна. В то время как три первые евангелия довольствовались простым распределением и приведением в порядок традиционно унаследованных речей и только иногда немного изменяли или пополняли их самостоятельно, речи Иисуса, приведенные в четвертом евангелии, мне показались самовольными произведениями евангелиста, в основе которых в лучшем случае лежали руководящие идеи подлинных речей Иисуса, переработанные в духе александрийской философии. Чем-то искусственным представлялись мне также своеобразный прагматизм в повествовании четвертого евангелия, постоянное непонимание речей Иисуса со стороны иудеев и его учеников, повторность и неизменная безрезультатность покушений на жизнь Иисуса; образ Никодима представлялся мне образом вымышленным, а взаимоотношения между Петром и Иоанном нарочито приукрашенными в пользу последнего; сцену с самарянкой у колодца Иаковлева я прямо признал поэтическим вымыслом и указал, что элемент чудесного, характеризующий собой рассказ о воскрешении Лазаря, свидетельствует о том, что евангелие не принадлежит к разряду исторических произведений. Лишь в двух случаях я не решился проводить различение между синоптическим и Иоанновым описаниями событий: во-первых, при определении дня смерти Иисуса — поскольку очень вероятно, что оба данных неисторичны; во-вторых, по вопросу о том, единожды или несколько раз побывал Иисус за время своего проповедничества в Иерусалиме, — в настоящее время я, как и Баур, принимаю точку зрения трех первых евангелий, но это произошло лишь после того, как мне удалось более убедительным образом, чем это делал он, устранить важнейший, на мой взгляд, довод в пользу точки зрения четвертого евангелия, о чём пойдет речь в надлежащем месте. Я охотно признаю, что по всем этим пунктам Баур пришел к более определенным результатам, что его исследование[83] является необходимым добавлением и в некоторых случаях даже коррективом к моему труду. Однако не подлежит сомнению и то, что он продолжал то дело, которое было начато мною, и не брался за такое дело, которого не начинал и я. Если он упрекнул меня за то, что я представил критику евангельской истории, не дав критики евангелий, то я с таким же правом мог бы упрекнуть его за то, что он представил критику евангелий, не дав критики евангельской истории. По крайней мере, те общие замечания, которыми он в этом отношении ограничился, совершенно неудовлетворительны и недостаточны, а потому его труды по критике евангелий выдвинули новую задачу — подвергнуть более обстоятельной критике также и евангельскую историю.
§17. Попытки выделить в четвертом евангелии подлинную и неподлинную составные части: Вейсе, Швейцер, Ренан
Чрезвычайное доверие, которым пользовалось доселе четвертое евангелие, сильно поколебалось после сравнительного анализа четырех евангелий, который я предпринял в моей критической обработке жизни Иисуса. Здесь я выявил их противоречия и недостаточность всех прежних попыток к их примирению, здесь же я взвесил степень их достоверности по всем отдельным моментам евангельской истории и в результате получил вывод весьма неблагоприятный для четвертого евангелия. После этого уже нельзя было по-прежнему признавать его непререкаемым авторитетом, нельзя было противопоставлять Иоанна остальным трем евангелистам и считать его очевидцем, опровергающим других повествователей. Апологетам Иоанна уже не удавалось восстановить прежнее доверие к нему, они даже и сами стали терять к нему доверие, что можно ясно видеть на примере Люке: в третьем издании своего Комментария к Евангелию от Иоанна он уже пошел на значительные уступки, особенно по вопросу о речах Иисуса, приведенных в этом евангелии, и тем пытался (но тщетно) отстоять всё остальное, в конце концов он признал, что в четвертом евангелии встречается гораздо больше неясностей и противоречий, чем в остальных.
Но тем не менее решительно отбросить его, как того требовала критика, никто не пожелал: в нём содержалось нечто такое, что привлекало всех, в пользу чего (как выражались некоторые) свидетельствует внутренний голос Святого Духа и ради чего все были склонны по-прежнему признавать в нём вдохновенное Богом апостольское произведение. Итак, если в одном и том же произведении содержалось приятное и противное, неприемлемое и необходимое, то оставалось попытаться обособить эти составные части друг от друга и одну из них приписать апостолу-очевидцу, а другую — позднейшему автору, не пользующемуся обязательным для нас авторитетом. Правда, по традиции Евангелие от Иоанна всё ещё считалось цельным однородным произведением в обоих лагерях — как у сторонников, так и у противников гипотезы о его апостольском происхождении; однако такого же мнения прежде были и о трех первых евангелиях, а затем относительно Евангелий от Марка и от Луки стал преобладать тот взгляд, что они составлены из разнородных элементов и своим нынешним составом обязаны переработке. Следовательно, вполне естественно и то, что мнение о первичной цельности Евангелия от Иоанна тоже стало казаться предрассудком, который ни для кого не будет обязателен, если его опровергнет основательное исследование.
Вейсе говорит: «Вопрос не в том, подлинно ли Евангелие от Иоанна, а в том, что в нём подлинно». И на этот вопрос он отвечает так: подлинно в нём то, что по характеру воззрений и их изложения родственно первому посланию Иоанна, которое, по удостоверению внешних свидетельств, является аутентичным произведением апостола Иоанна. Вейсе находит, что в смысле стиля дидактическая или умозрительная часть евангелия состоит с посланием в таком родстве, которое можно объяснить лишь тождеством авторов, а не подражанием. Отсутствие такого же родства стилей с повествовательной частью обнаруживается само собой, поскольку в послании вообще нет никакого повествования, то есть нет основания для сравнения, но зато по характеру воззрений и способу мышления между посланием и повествовательной частью евангелия замечается столь резкое противоречие, что тождество авторов становится весьма проблематичным. В послании, равно как и в прологе и более длинных беседах Христа в евангелии, совершенно отсутствует та чувственно-супранатуралистическая вера в чудеса, которая сказывается, к сожалению, в повествованиях евангелия. Послание преисполнено духовного идеального представления о Христе и о внедренной в нём силе духа, и в частности (по мнению Вейсе), рассказ о воскресении Христа, имеющийся в послании и в прощальных собеседованиях, приведенных в евангелии, в такой же мере одухотворен, в какой тот же рассказ в 20-й главе евангелия материалистичен.
Здесь нам открывается чисто субъективный мотив этой сортирующей критики. Чтобы казаться объективным, критик ссылается на Послание Иоанна, подлинность которого столь же проблематична, как и подлинность евангелия, а когда стиль в качестве критерия оказался недействительным, критик хватается за догматическое мировоззрение, хотя при этом он мог игнорировать послание и остановиться на той противоположности, которая в этом отношении, видимо, существует между речами и рассказами евангелия. Из этих явно разнородных составных частей критику не понравилась повествовательная часть, отчасти вследствие того, что она противоречит синоптическому, в общем, вполне историческому рассказу, но, главным образом, вследствие того, что она заключает в себе ярко супранатуралистическое представление о чудесах. Равным образом из бесед ему не нравятся диалоги, потому что, вследствие невероятных недоразумений, они представляются часто нелепыми и неотделимы от рассказов о чудесах, в связи с которыми они и возникают. С другой стороны, ему понравился весь дидактический материал евангелия, представленный в форме собственных размышлений евангелиста и пространных речей Христа; поэтому он предполагает, что дидактическая часть написана апостолом, а повествовательная и диалогическая части — другим, более поздним автором. Нас лично характер этой последней части тоже заставляет сомневаться в том, что ее автор был очевидцем, но мы недоумеваем, отчего наш критик отделяет от этих составных частей евангелия другие и приписывает их апостолу. Дидактическая часть евангелия ему нравится потому, что в ней содержится чисто идеальное, дидактическое понятие о воплощении божественного Логоса в лице Иисуса Назорея, свободное от мифических придатков синоптических евангелий и от супранатуралистической веры в чудеса.
Но подобное учение о вочеловечении божественного Логоса, того творческого Слова, которое вначале «было у Бога, и Слово было Бог» (Ин. 1:1), которое в период вочеловечения не утратило воспоминания о своем довременном пребывании у Бога и готовилось опять вернуться к нему, — разве такое учение не есть очевидный супранатурализм, относительно которого все и всякие, даже и нелепые, рассказы о чудесах представляются лишь естественным следствием? Нет! — возражает Вейсе: ибо вочеловечение, по учению апостола Иоанна, не есть чудесное воплощение божественной личности, ранее сосуществовавшей Богу-Отцу: оно есть совершенное воплощение живого личного образа божества, который даже по ветхозаветному учению необходимо отличать от личного «Я» божества, обособляя его в качестве второго лица, — внедрение в душе и духе единичного человека, личность которого поэтому и отражает величие и прелесть этого образа. Стало быть, дидактическое содержание Иоаннова евангелия в своем объективно чистом виде тоже не нравится дилетанту, оно нравится ему лишь в прожеванном им самим виде, в качестве такой вещи, которая непонятна ни самому ему, ни читателям его. Стало быть, если бы Вейсе был более дельным экзегетом,[84] то есть не стал бы произвольно перекраивать по собственному вкусу объективно данные вещи, и если бы он, сверх того, был более дельным философом, то есть в философской области стоял бы на собственных ногах и не опирался на религиозный костыль, как в данном случае он опирается на мнимоапостольский труд, то он отверг бы и повествовательное, и дидактическое содержание Евангелия от Иоанна и предоставил бы его всецело и безусловно его критической судьбе; но он этого не делает по чисто субъективным причинам. Что же касается подробностей мнения Вейсе, то, по его словам, апостол Иоанн на склоне своих лет стал записывать собственные размышления о своем Учителе, образ которого начинал уже ускользать из его памяти, а также и те речи его, которые еще сохранялись у него в памяти и которые он записывал в связи с собственными взглядами и своей манерой изложения. Затем после смерти апостола (по мнению Вейсе) кто-то из его учеников неумело переработал в евангельскую повесть оставленные им записи согласно собственным воспоминаниям о его изустных беседах и по иным евангельским сказаниям, ибо наших синоптических евангелий этот член обособленного кружка Иоанновых учеников еще не знал. Но такое воззрение уже не новость: Аммон, Реттиг и другие тоже отличали апостола Иоанна как автора записей, легших в основание евангелия, от их редактора-издателя. Что именно в составе нынешнего евангелия принадлежит тому и другому из обоих авторов, это Вейсе определил уже в 1838 году в своей «Евангельской истории», но этот опыт он впоследствии сам отверг, как слишком скороспелый и научно не обоснованный. Тогда же он обещал выпустить другой, более тщательно исполненный трактат, но в свет не появился даже краткий обзор, который должен был дать ему возможность восстановить из переработки евангелиста-повествователя в полном и буквально точном виде подлинную запись Иоанна. Причину этой неудачи Вейсе видел не в нелепости своей идеи, а в произволе предполагаемого редактора-евангелиста, который будто бы не только вставлял собственные добавления в текст апостольской оригинальной рукописи, но также переставлял и переделывал в ней отдельные фразы и, наконец, в собственные вставки вписывал то, что помнил из проповедей апостола и находил в отдельных замечаниях последнего. Но тут невольно хочется спросить критика: на основании каких же признаков он будет отличать апостольский оригинальный текст от посторонних вставок, если, по его же собственному замечанию, текст этот сильно изменен и если также и во вставках содержатся отрывки записей апостола? Но подобного вопроса сам Вейсе себе не задавал и даже попытался практически исполнить обещанную им сортировку.
По его словам, в записи апостола Иоанна содержались не только речи Иисуса, но и собственные рассуждения Иоанна; соответственно, Вейсе находит в первых главах евангелия следы означенных рассуждений апостола, а в последующих — текст речей Иисуса. Из рассуждений апостола, по Вейсе, составился пролог. Но хотя мы все недоумеваем, как мог простой галилейский рыбарь и главный иудаист среди апостолов написать такой пролог, в котором излагается учение александрийских философов о Логосе и сказывается философское свободомыслие вообще, Вейсе самодовольно утверждает, что именно это умозрительное рассуждение, изложенное в первых пяти стихах, действительно принадлежит апостолу, ибо оно согласуется с его собственной философией. Но в стихах 6–8-х пролога речь уже идет об Иоанне Крестителе и в очевидной связи с последующим повествованием о нём в евангелии; а так как это повествование, согласно Вейсе, не могло быть составлено апостолом и бывшим учеником Крестителя, то и указанные стихи пролога не могли быть написаны апостолом и должны быть сопричислены к категории вставок евангелиста-редактора. Далее стихи 9–14, содержащие в себе также философское умозрение, по мнению Вейсе, тоже написаны апостолом, а стих 15, упоминающий о Крестителе, опять написан интерполятором; затем стих 16, где явно говорит уже сам очевидец, снова приписывается апостолу, но стих 17, упоминающий о Моисее, не гармонирует с чисто умозрительным характером пролога (за исключением сообщения о Крестителе) и потому тоже приписывается редактору, тогда как автором последнего 18-го стиха снова признаётся апостол. Таким образом, весь пролог Иоанна — это цельное, строго логическое, внутренне согласованное и единой мыслью связанное рассуждение Вейсе рассекает по меньшей мере на семь частей, из коих каждая по очереди приписывается то одному, то другому автору, уже этого результата достаточно, чтобы не согласиться с его исходной посылкой.
Затем, при дальнейшем анализе, Вейсе тоже выделяет повествования и диалоги из цепи рассуждений и более пространных речей, считая их добавлением или припиской редактора. При этом относительно первых он навязывает читателю мысль, будто речи и рассуждения с ними не вяжутся, хотя, наоборот, важнейшие речи (например, в главах 5-й, 6-й, 9-й) как раз и представляются лишь экспозицией предпосланных рассказов, играющих роль темы. Относительно диалогов Вейсе уверяет, что их вполне можно выбросить, хотя и не объясняет, почему это нужно и можно сделать. При этом он сам же заявляет, что немыслимо восстановить оригинальный текст апостола путем простого выбрасывания вставок, так как редактор, вообще, много себе позволявший, мог совершенно изменить апостольскую запись, однако и это не мешает предполагать, что оригинальная запись апостола когда-то фактически существовала. Так автор сам же компрометирует то дело, несостоятельность которого он сознает, и всё же не решается отказаться от него.
Ввиду столь неудачных попыток «выделения», по-видимому, не оставалось ничего иного, как отвергнуть совсем или отчасти апостольское происхождение Иоаннова евангелия; однако же мотивы этого разделения слишком глубоко коренились еще в настроении современников, и нас не должно удивлять то, что многие полагали, что стоит только приняться за дело как следует, чтобы эта операция осуществилась успешно. По словам Швейцера, метод Вейсе, состоящий в том, чтобы считать произведением апостола все речи, а рассказы и беседы признавать чужим произведением позднейшего происхождения, не приводит к намеченной цели, потому что речи в большинстве случаев неразрывно связаны с предшествующими беседами, а последние — с рассказами. Но и ему казалось, что евангелие отмечено печатью двойственной работы и ума и заключает в себе высший и низший элементы; определенная часть Евангелия от Иоанна ему также претила своим чудесным элементом и внешним, поверхностным пониманием вещей, которому не соответствует идеальный дух остальных частей евангелия. Стало быть, у Швейцера апостольский текст тоже обособляется от неапостольского и пространные речи, как носители идеального духа, отличаются от интерполяций. Но в противоположность Вейсе он не исключает из «апостольской» части ни всех рассказов, ни всех диалогов; напротив, он находит, что диалоги не вызывают никаких сомнений в этом отношении, а в некоторых рассказах, например об омовении ног, о миропомазании, о страстях Иисуса, он находит даже признаки очевидной достоверности; впрочем, рассказы о чудесах он тоже не колеблется приписать апостолу.
Швейцер открыл, что чудеса, о которых повествует четвертое евангелие, распадаются на два различных класса: не говоря о мнимых чудесах, которых нельзя считать настоящими, одна группа чудес, при всей своей таинственности и непонятности, допускает мысль о вмешательстве физической или психической силы. Например, в том, что Иисус увидел Нафанаила под смоковницей, Швейцер не находит ничего сверхъестественного; то, что он отгадал образ жизни самарянки, по мнению Швейцера, тоже можно объяснить знанием человеческого характера вообще и осведомленностью относительно ее образа жизни в частности; больной, пришедший к купальне Вифезда, мог быть паралитиком «бесноватым», которого Иоанн не называет настоящим именем ради своих греческих читателей, а относительно «одержимых бесом» даже и критика допускает возможность психического исцеления; наконец, возможно также естественное исцеление слепорожденных. Что же касается рассказов евангелия о том, что Иисус превратил воду в вино, приумножил запас хлебов, излечил больного, находившегося в Капернауме, при помощи единого слова, сказанного в Кане, и ходил по водам озера Галилейского, то Швейцер признаёт, что в таких «магических», противоестественных чудесах уже немыслимо участие естественных сил, однако вместо того чтобы сказать, что эти чудеса невероятны, он заявляет, что «конципиент»[85] речей Иисуса не мог о них повествовать в четвертом евангелии.
При более детальном анализе критик, к удивлению своему, обнаруживает, что все правдоподобные чудеса совершались почему-то в Иерусалиме и Иудее, а чудеса невероятные — в Галилее. Это открытие, по-видимому, придает объективный характер его субъективной критике. Получается, что первичная апостольская запись ограничивалась лишь описанием внегалилейской деятельности Иисуса, поэтому автор совершенно умалчивает о том, что делал Иисус во время своего пребывания в Галилее, куда он являлся трижды по случаю праздников, и продолжает рассказ с того момента, когда Иисус снова уходил из Галилеи. При этом критик задает себе вопрос: не был ли автор евангелия иудеем, если он придавал важное значение деятельности Иисуса в Иудее, и не потому ли автор-иудей представляется нам (по свидетельству евангелия) человеком более образованным, чем тот простой рыбак из Галилеи, коим был апостол Иоанн? На этот вопрос критик не дает безусловно отрицательного ответа; он полагает, что в роли автора-евангелиста всё же мыслим и сын Зеведеев, а если автором оказался бы и кто-либо из иудейских приверженцев Иисуса, то ведь и он мог быть очевидцем. По мнению Швейцера, оригинал записи был автором привезен, вероятно, из восточной области, а после его смерти кто-то из малопосвященных учеников его пожелал сблизить иудеев с самарянами и запись в имевшемся виде дополнил галилейскими сказаниями и рассказами, обращавшимися в западной части Палестины.
Но среди галилейских вставок, произведенных, по мнению Швейцера, каким-то малообразованным редактором, встречается также речь, сказанная Иисусом в Капернаумской синагоге (глава 6), содержащая рассуждения о хлебе жизни, о вкушении тела и крови сына человеческого, и характером своим напоминающая мистицизм Иоанна. С другой стороны, среди иудейских рассказов, которые, согласно Швейцеру, достоверно принадлежат апостолу, мы находим рассказ о чудесном воскрешении Лазаря, то есть о чуде, которое столь же необъяснимо с точки зрения естественных, физических или психических сил, как и любое из «волшебных» Швейцером отвергаемых и приписываемых редактору чудес. Поэтому полностью произвольно утверждение критика о том, что эта речь была сказана в храме Иерусалимском в дополнение к тем беседам, которые приведены в 5-й главе, и что воскрешение Лазаря было естественным пробуждением мнимоумершего, которое совпало с непоколебимой верой Иисуса в то, что его моление будет услышано на небесах. Но если и такие необъяснимые, «магические» чудеса галилейского происхождения, как воскрешение Лазаря или хождение Иисуса по водам Галилейского моря, представляются Швейцеру естественными и понятными, то спрашивается: в чём же заключается преимущество внегалилейских «чудесных» рассказов, изложенных в Евангелии от Иоанна и признаваемых правдоподобными и апостольскими, перед рассказами галилейскими? Это преимущество, по-видимому, обусловливается тем, что сам критик истолковывает их рационалистически, чудеса сверхъестественные и непознаваемые он подменяет естественными явлениями: самовольно вычеркивает, как неосновательное предположение евангелиста, заключение о том, что больной, явившийся к купальне Вифезда, пролежал 38 лет без движения, затем самовольно же предполагает, что смерть Лазаря была мнимой смертью, что болезнь слепорожденного могла быть излечена усилиями хорошего и знающего врача. При таком образе действий совершенно излишне ссылаться на таинственные целебные силы, которые в параллель к разрушительным болезнетворным силам, иногда после многовекового затишья при неведомых условиях вдруг начинают проявлять себя, излишне также сопоставлять чудотворную силу Иисуса с мощью чумы и венерической болезни, как излишне уверение Швейцера о том, что свой опыт «выделения» он производит не вследствие «чудобоязни»[86], то есть боязни того, что представляется настоящим чудом и не может быть объяснено психологическими или иными естественными силами (хотя бы и в духе теологов). Но, поступая так, как поступает Швейцер, можно объяснить любое из чудес, а потому и с его собственной, чисто субъективной точки зрения представляется излишним производить «выделение» ради некоторой части Иоанновых чудесных повествований (относительно другой части евангелия он, вероятно, скоро перестал бы сомневаться).
Да и к чему было проделывать всю эту операцию, если в конце концов сам критик нашел в иерусалимской, то есть по его же собственному предположению, апостольской части евангелия рассказ, который является противоположностью того идеального и духовного элемента, который ему видится в апостольском труде даже в эпизоде воскресения Иисуса; мы говорим о рассказе (20:19–29), в котором повествуется о том, как воскресший Иисус показывал ученикам свои руки и бок, велел Фоме неверующему вложить персты свои в язвы его, и, следовательно, вопреки желанию Швейцера, представляется воскресшим материально. По этому поводу Швейцер наивно замечает: «Если бы этот рассказ не входил в отдел повествований Иоанна, то он нам сразу прояснил бы много непонятного». Поэтому он пытается взять под сомнение связь этого рассказа с предшествующим изложением, но всё-таки не решается признать его за вставку, и так как это противоречит его предположению о чисто духовном и идеальном характере апостольского труда и, стало быть, мотиву «выделения», сам собою рушится и его метод разрешения загадки, связанной с Евангелием от Иоанна.
То, что в последнее время даже такой тонкий ум, как Ренан, собирался произвести новый опыт «выделения» и тем увеличить число неудачных опытов того же рода, можно объяснить лишь тем, что он не знал ни о тех опытах, которые произведены были уже в Германии, ни об их плачевном результате. Если бы он знал о них, он, вероятно, подумал бы, что не может ошибаться тот, кто выскажет гипотезу, противоположную гипотезе Вейсе. В самом деле, в то время как Вейсе приписывал апостолу все рассуждения и пространные речи Христа в четвертом евангелии и отвергал рассказы, признавая их позднейшими приписками, Ренан, наоборот, шокируется «абстрактно-метафизическими лекциями», как называет он речи Иисуса, приведенные у Иоанна, и признаёт достопримечательными все рассказы евангелия, поэтому он и склоняется (хотя и нерешительно) к предположению, что эти речи были записаны не сыном Зеведеевым, но весь исторический план и целый ряд рассказов евангелия прямо или косвенно составлены апостолом. Но если можно вообще говорить о степенях немыслимого, то подлинность речей Христа в Евангелии от Иоанна еще более немыслима, чем подлинность Иоаннова исторического повествования, ибо каждая нормально устроенная и способная к историческому размышлению голова, познакомившись с этими речами, придет к заключению об относительно позднем происхождении четвертого евангелия. Но Ренан, подобно своим немецким предшественникам, становится на точку зрения делимости евангелия и этим заранее подрывает собственную гипотезу. Повествовательная часть четвертого евангелия представляется ему приемлемой лишь потому, что он сам игнорирует в ней все рассказы о чудесах. Правда, умолчать о воскрешении Лазаря он не может, но так как он не признаёт чудес, то он превращает этот эпизод в мистификацию. За это немецкая критика назвала его вторым Вентурини; и в самом деле, нельзя не удивляться тому, что даже этот эпизод не убедил его в несостоятельности его исходного предположения.
§18. Исследование Баура о евангелии от Иоанна, продолжение и критика этого исследования
Разделения и оговорки не приводили к желаемому результату: критика не поступалась своими требованиями, а Евангелие от Иоанна продолжало притязать на апостольское происхождение; целостный и совершенно своеобразный характер евангелия подстрекал капитулировать либо доказывать, что оно не имеет исторического значения, что оно мыслимо и постижимо как произведение послеапостольских времен и немыслимо, непостижимо как произведение апостольское. Неувядаемую славу покойного д-ра Баура[87] именно и составляет то, что он принял вызов и повел критическую борьбу с беспримерной энергией. Некоторые части своего вооружения он заимствовал у своих предшественников, но другие — придумал и создал сам, и этим оружием он действовал столь искусно и настойчиво, что борьба окончилась победой критики, что и признал трибунал, — правда, не теологов, а науки.
Перед Бретшнейдером Баур имел то преимущество, что к своему объекту он отнесся не просто отрицательно. Как мы уже видели, Бауру Евангелие от Иоанна претило не только исторически, но и догматически, его спекулятивная направленность и мистицизм были совершенно чужды трезвому уму Баура. Но в то же время Баур чувствовал естественное тяготение к философскому глубокомыслию и гностицизму Иоаннова евангелия; он старался доказать, что это евангелие нельзя считать историческим источником, и в то же время он пытался показать его идеальное содержание и художественное совершенство; отрицатель-критик с такой же любовью относился к четвертому евангелию, с какой относится к нему любой из правовернейших апологетов. Правда, в этом отношении он иногда заходил слишком далеко: мысли евангелиста он облекал в форму современной спекуляции и, стало быть, идеализировал их (и этим он грешил часто, развивая догматическое содержание новозаветных и патристических сочинений[88] или трудов деятелей Реформации). Этим промахом умели пользоваться его противники; однако мощь его аргументации в деле изобличения неисторического характера евангелия от этого не умалялась.
Я лично в своей критической обработке жизни Иисуса шел к четвертому евангелию от трех первых евангелий и пытался понять его с точки зрения последних и по аналогии с ними; Баур же подходил к четвертому евангелию непосредственно и старался понять его в его своеобразии и отличии от всех остальных. Мое основное мнение относительно неисторического характера евангелия сводилось к положению о мифе, под коим я разумел мнимоисторическое оформление древнехристианских идей, осуществляемое в стихийном поэтизирующем сказании; эту формулу, установленную мною преимущественно относительно неисторических элементов трех первых евангелий, мне пришлось расширить для некоторых рассказов четвертого евангелия в том смысле, что под мифом я стал впоследствии подразумевать также свободное и сознательное поэтическое творчество. От такого представления, непроизвольно созданного мною под конец работы, Баур стал исходить при анализе четвертого евангелия, которое ему априори представлялось наскоро набросанной религиозной поэмой. Основная идея этой поэмы, по мнению Баура, состояла в том, чтобы провозглашенное Иисусом божественное начало света и жизни противопоставить иудейскому безверию как принципу тьмы и борьбу этих двух принципов наглядно представить в виде исторического, прогрессивно развивающегося процесса. Из той же основной идеи Баур стал также выводить все отклонения четвертого евангелия от прочих евангелий в части состава, подбора и отделки евангельского материала. Но если эта точка зрения давала критику бесспорное преимущество в смысле глубокого проникновения в четвертое евангелие, то она же мешала ему иногда анализировать три первые евангелия в том отношении, что побуждала его преувеличивать цельность, планомерность и сознательность этих по преимуществу наивных, нагроможденных композиций.
Третий момент, которым Баур превосходил своих предшественников в деле понимания четвертого евангелия, заключался в том, что он определенно указал те отношения эпохи и развития, продуктом которых оно является. То было время, когда всё общество находилось в сильном волнении из-за распространения гностицизма и монтанизма, с одной стороны, и усилий церкви перебороть эти два крайних течения, с другой стороны, и когда эта смута разгоралась под влиянием попытки приложить понятие Логоса к личности Христа в области догматической и под влиянием споров относительно празднования Пасхи — в области церковной. Баур показал, что четвертое евангелие стояло в непосредственной связи со всеми этими тенденциями и вопросами того времени, но в этом водовороте всех противоположностей эпохи не окрасилось в определенный цвет той или иной противоположности данного времени и места, и в этой центральной и умеренной, но отнюдь не бесхарактерной и неопределенной позиции, примирявшей все противоположности в некотором высшем единстве, заключается причина того быстрого и всеобщего сочувствия, которое оно приобрело уже при самом появлении своем среди различных партий.
Наконец, Баур показал, как автор четвертого евангелия по собственному внутреннему убеждению уразумел истинный дух христианства и самого Христа гораздо лучше прежних евангелистов, опутанных предрассудками иудаизма; как он в духе своей эпохи с полной добросовестностью подменил евангельскую историю и приписал Иисусу такие речи, которые соответствовали его собственной развитой христианской точке зрения; как он, осознав и уразумев внутреннюю красоту Христа, счел себя призванным возвестить о ней всему миру и выдавал себя намеком за приближенного и любимого ученика Иисуса. Этим указанием завершились изыскания Баура, представляющие грандиозный образец глубокой и плодотворной критики и произведшие несомненно сильное и истинно поэтическое впечатление на всякого, кто в состоянии оценить такого рода критику.
Весьма ценным добавлением к исследованию Баура о четвертом евангелии является исследование Кестлина о псевдонимной литературе древнехристианской церкви.[89] Кестлин, который раньше выступил с трактатом об Иоанновом понятии вероучения, заявляет, что задачей четвертого евангелия является возрождение евангельской истории в духе развивающейся эпохи и что, решая эту задачу, евангелист имел в виду осветить лишь всё первичное и самобытное; при этом ему приходилось делать извлечения из обширной сокровищницы изустных сказаний об Иисусе и целого архива письменных евангелий как иудаистского, так и паулинистского направления[90]; все эти евангелия значительно отличались друг от друга и не были включены в канон. С другой стороны, сам автор-евангелист, убежденный в истинности и божественности христианского учения, воспитался на идеях александрийских и гностических кружков и, в частности, признавал, что в идее Логоса завершилось высшее представление о христианстве. Вокруг него всюду кипела борьба старого с новым, иудаизма с христианством язычников, буквы с духом. Он видел, что прочнейшей опорой приверженцев старины были старые евангелия, поэтому он захотел противостоять им на их собственной почве и, написав новое евангелие, заставить прошлое свидетельствовать в интересах духа и прогресса. Тут ему приходилось из пестрой массы материалов, использованных прежними евангелиями, извлечь всё существенно важное, из тела их повествований извлечь их дух — устранять чисто моральный элемент, как элемент эзотерический; приходилось совлекать с личности Иисуса не только всё иудейское, но и всё пошлое и низменное, свойственное человеку, и выставлять на первый план присущий ему элемент бесконечного и божественного, подчеркивая, что и страдания, и смерть он принял добровольно. Евангелист полагал, что на такое преобразование его уполномочил Святой Дух, помощь которого, по словам старых евангелий, Иисус обетовал своим последователям. По его мнению, этот Святой Дух соприсутствует всякому, любящему Иисуса и соблюдающему его заповедь (14:23), и такой человек должен не только напоминать верующим о том, что говорит Иисус (14:26), но и прославлять его в них и доводить их до конечной истины и правильного понимания того, что было непонятно при жизни Иисуса (16:13; 14:25). Обладая даром Святого Духа, евангелист счел себя уполномоченным и обязанным преподать истинное, хотя и несогласное с преданием, представление об Иисусе, его учении и деятельности. Дух внушил ему, что божественный Логос (Слово) воплотился в Иисусе, а потому историческое повествование прежних евангелий не могло быть истинным, на Иисуса надлежало взглянуть иначе, а именно так, как того требовала идея Логоса, побуждающая пересмотреть и переработать весь прежний евангельский материал. При этом неминуемо было некоторое противоречие. Дух сообщил ученикам дар высшего разумения в будущем, то есть всем будущим верующим. Но с точки зрения такого высшего разумения евангелист написал свое евангелие в настоящем и заставлял говорить самого Христа; следовательно, то, что Святой Дух должен был дать верующим впоследствии, уже предвечно содержалось в Христе, а потому и между речами Христа и рассуждениями евангелиста нет никакой разницы и провести между ними грань не только трудно, но и невозможно.
Что даже такая сильная аргументация, как рассуждение Баура и его учеников, не убедила тех, кто в силу внешних или внутренних причин хотел утверждать подлинность и действительность Иоаннова евангелия, это разумеется само собой, но разумеется и то, что возражения людей такого сорта не могли иметь научного значения. Они пытались подорвать все доказательства, на которых Баур утверждал свое мнение, они старались использовать все недомолвки и пробелы, которые замечались в его умозаключениях, чтобы предотвратить столь роковые для них выводы его. Даже тот аргумент, которым Баур опровергал предположение об Иоанне как авторе четвертого евангелия и который он утверждал на основании отношения апостола Иоанна к вопросу о Пасхе, породил целую литературу. Притом и широта размаха, которой отличается аргументация Баура, была хорошим предлогом для тех, кто искал выхода. Если на основании обширной критической комбинации он приходил к какому-нибудь выводу, невзирая на отдельные места и замечания, которые шли с ним вразрез, это, в худшем случае, не нравилось; а если он неважные возражения не только игнорировал, но и пытался обойти и замолчать, тогда все критики-пигмеи начинали вопить против ошибок критика-великана, хотя при тех огромных величинах, которыми он оперировал, такого рода мелочи не имели ни малейшего значения.
Конечно, они подняли огромный шум из-за того, что Баур представил автора евангелия в образе «фальсификатора» и уличал его в «литературном подлоге», хотя и признавал, что в результате этого «подлога» получилось одно из величайших сокровищ христианской церкви.
«Если Иоанново евангелие не подлинно, подложно, — восклицал один из самых пылких „ревнителей“[91], тогда наша любовь к нему должна превратиться в ненависть, тогда это евангелие уже не может быть ни тем духовным благовестием, каким оно было для Климента Александрийского, ни тем целостным, нежным, истинным и главным евангелием, каким оно было для Лютера; оно превращается в скучную и вредоносную „стряпню“ какого-то смутьяна и обманщика».
Разумеется, такие вопли были очень неразумны, ибо «скучным», бестолковым и т.д. может быть всякое сочинение независимо от того, кто его автор; кто грозится признать «скучным» такое сочинение, которое не является трудом «известного» автора, тот признаётся в том, что и «известный» труд ему представлялся «скучным», но он о том умалчивал из почтения к предполагаемому «известному» автору. От подобных почитателей, которые таковыми являются лишь до тех пор, пока книга помечена именем «известного» автора, и почтение которых не только пропадает, но даже превращается в «ненависть», лишь только книга перестает быть произведением «известного» автора, Иоанново евангелие должно открещиваться и предпочесть их тем, которые сумеют оценить его независимо от имени автора.
Традиционный вопрос: можно ли признавать фальсификатором и обманщиком, то есть скверным человеком, автора такой серьезной, возвышенной и подлинно благочестивой книги? дополняется и исправляется другим, аналогичным вопросом — мыслимо ли, чтобы человек, который, подобно автору четвертого евангелия, сумел создать величайшее произведение своей эпохи, не надевая на себя чужой личины, действительно унизился до «подлога» в целях контрабандной пропаганды своих идей? Что в первом вопросе представляется обманом, фальшью по отношению к апостолу, то во втором вопросе превращается в самоотречение и самоунижение, которое автор налагает на себя без всякой видимой нужды. В смысле такого самоотречения, притом вполне похвального и не бесцельного, понимались все и всякие литературные «подлоги» в давнюю эпоху. Неопифагорейцы[92] последнего века до Р.X., как доказано теперь, подтасовали около 60 сочинений как самого основоположника своей школы, так и древнейших учителей своих, дабы под их фирмой распространить новейшие философские теории, а биограф Пифагора, принадлежащий к школе неопифагорейцев, даже прямо восхваляет авторов за то, что, отрекаясь от личной своей славы и известности, они приписали свои труды учредителю их школы. Один христианин II века написал легенду о Павле и Фекле; его уличили в измышлении, но он заявил, что сделал это из любви к Павлу, и церковь не только продолжала пользоваться его сочинением, но даже установила на основании его особый праздник в честь упомянутой святой[93]. Так относилась к подобным деятелям тогдашняя и в большей или меньшей степени также и позднейшая античная эпоха, поэтому мы видим, что многие и притом весьма почтенные труды их истинными авторами приписаны различным знаменитостям. В наше время только закоренелые «староверы» еще считают Книгу Даниила или Книгу премудрости Соломона за подлинные произведения тех лиц, именем которых они помечены, и тем не менее это нисколько не умаляет того почтения, которое мы питаем к укрывшимся под псевдонимом авторам этих серьезных и содержательных произведений. Наконец, в то время, в эпоху взбудораженной фантазии, когда одновременно падало язычество, преобразовывался иудаизм и нарождалось христианство, историческое самосознание почти совсем утратилось в обществе, захваченном волной религиозного движения. Тогда за правду принималось всё, что было назидательно, за старину — всё то, что было вразумительно, за произведение апостолов — всё то, что признавалось «приличным» для апостола, и люди не только не считали преступлением по отношению к апостолу или даже к самому Христу, но даже признавали должным и правильным деянием, если всё заведомо лучшее приписывалось их изустному или письменному авторству.[94] Если поэтому и автор четвертого евангелия полагал, что в нём обитает истинный дух Христа, то он нисколько не стеснялся заявить, что в том же духе говорил и сам Христос; а если он предполагал, что для роли истолкователя того же духа всего пригоднее апостол, которому Господь, по свидетельству Апокалипсиса, открыл все тайны будущего и признал его своим приближенным и любимым учеником, то автор-евангелист решил, что вправе отождествить себя с этим апостолом по духу и выдать свое евангелие за труд этого апостола.
§19. Ретроспективный взгляд на три первые евангелия. Евангелие от Матфея
Если мы с этой точки зрения оглянемся еще раз на три первые евангелия, игнорируя пока четвертое, то перед нами встанет следующий основной вопрос: имеем ли мы право смотреть на эти три евангелия под тем же самым углом зрения, под которым мы взглянули на четвертое евангелие? Баур, как известно, заявлял, что если мы имеем основание хотя бы одно евангелие признавать не просто историческим отчетом, а также и тенденциозным произведением, то с этой точки зрения критика может рассматривать также и все прочие евангелия.
Но мнение о том, что евангелия написаны не для того лишь, чтобы рассказать историю, но и для того, чтобы путем повествования доказать ту или иную мысль и распространить известные идеи, и что такая цель евангелий определяла собой также самый характер повествований, и что поэтому все евангелия вообще являются тенденциозными произведениями, — это мнение столь же старо, как и приложение к означенным произведениям норм высшей критики. Понятно было и то, что эта цель, сводившаяся к доказательству того, что Иисус есть Мессия, могла сказаться в различных евангелиях неодинаковым образом и изменять собой повествование постольку, поскольку сама идея Мессии допускала различное толкование. Но тот, кто утверждает, подобно так называемому Саксонскому Анониму, что в произведениях евангелистов нет ни единого слова, написанного неумышленно и безотчетно, тот, в сущности, лишь окарикатуривает мнение Баура. Но тут встает новый вопрос: не искал ли и сам Баур тенденциозных намерений в таких отступлениях и уклонениях евангелий, которые произошли лишь вследствие простой небрежности, личного произвола и случайности, и не пытался ли он действовать наперекор своему предшественнику, который слишком снисходительно отнесся к четвертому евангелию, исходя от первых трех евангелий, тогда как он, составив себе мнение о всех евангелиях на основании четвертого евангелия, стал слишком преувеличивать тенденциозность и планомерность первых трех евангелий.[95]
В Деяниях апостолов, как известно, трижды повествуется об обращении Павла в христианство: в первый раз автором Деяний (9:1–22), а во второй и третий раз — по различным поводам — самим апостолом Павлом (22:1–21; 26:4–23). Все эти рассказы значительно отличаются друг от друга. Например, по одному рассказу, при появлении небесного сияния пал ниц на землю только Павел, а спутники его продолжали стоять на ногах, а по другому — ниц пали все; по одному рассказу спутники слышали голос, но не видели лика говорящего, а по другому — они видели сияние, но не слышали голоса; во втором рассказе упоминается об «исступлении», нашедшем на Павла в храме Иерусалимском, а в третьем — имеется замечательное добавление к словам явившегося Христа. Если бы все эти три рассказа об одном и том же происшествии мы прочли в трех разных сочинениях, то можно держать пари, что не только «Саксонский Аноним», но и сам Баур стал бы объяснять указанные отступления несходством точек зрения и намерений авторов; но будучи соединены в одном произведении, они нам показывают, как небрежно относился к делу своему автор, который не потрудился даже просмотреть ранее написанное, когда приступал к повторному повествованию о данном эпизоде.
Однако мы вполне согласны с Бауром, когда он восстает против таких критиков, которые старейшими евангелиями считают Евангелия от Марка и от Луки: нам тоже всегда казалось, что первичным и наиболее достоверным является Евангелие от Матфея.
В частности, относительно речей Иисуса, при всём недоумении, ими возбуждаемом, приходится признать, что в первом евангелии они представлены в более чистом виде, чем в других евангелиях, хотя и тут они приправлены позднейшими приписками и изменениями. С другой стороны, в этом евангелии гораздо проще изложена и чисто фактическая сторона истории. Правда, в Матфеевом евангелии встречаются рассказы специфические, достоверность которых весьма проблематична, как, например, рассказ о хождении Петра по морю, о статире, найденном во рту рыбы, о сновидении жены Пилата, о воскресении угодников в момент смерти Иисуса, о страже, поставленной у его гроба. Но всё это такого рода эпизоды, которые могли быть опущены позднейшими евангелистами по каким-либо особым соображениям и которые поэтому не могут служить доказательством более позднего происхождения Матфеева евангелия. Эпизоды, общие ему с другими евангелиями, в нём повествуются обыкновенно проще и в такой форме, что рассказы двух других евангелистов представляются уже переделкой или пополнением его рассказов, и стоит только сравнить между собой рассказы евангелистов об искушении, преображении и чудесах Иисуса, чтобы признать справедливость высказанного нами замечания.
К числу признаков, свидетельствующих о «первичности» первого евангелия, принадлежит то, что оно еще сохраняет явственно иудейско-национальную печать, которая, естественно, всё более и более стиралась позднее, с дальнейшим развитием и распространением христианства. Его автор еще считает Иерусалим «святым градом», а храм Иерусалимский «священным» местом, тогда как прочие города и храмы именуются просто или определяются другими эпитетами. Никто точнее Матфея не указывает нам, как относился Иисус к Моисееву закону, к иудейским обрядам и сектам, и то, что Марк уже считает нужным пояснять, Матфей еще предполагает вещью общеизвестной. В деяниях и судьбах Иисуса он видит исполнение ветхозаветных пророчеств, и в совпадении тех и других он усматривает главное доказательство того, что христиане справедливо отождествляют своего Иисуса с обетованным Мессией. Даже и сам Иисус в изображении Матфея сохраняет тесную связь с иудейством. Ни в каком другом евангелии он не именуется так часто Сыном Давидовым, как в Евангелии от Матфея; нигде родословие, свидетельствующее о происхождении Иисуса от Давида и Авраама, не выдвигается в такой высокой мере на первый план, как у Матфея; нигде Иисус так сильно не подчеркивает то, что он пришел не для нарушения, а для исполнения Закона, как у Матфея.
Но несмотря на эти признаки высокой самобытности, автор первого евангелия всё же является автором вторичным. Как речи, так и все факты, приведенные в его евангелии, по-видимому, почерпнуты из более древних записей. Что и его евангелие о некоторых эпизодах повествует дважды (например, о чудесном насыщении, о требовании знамения, об упреке по поводу изгнания бесов при помощи Вельзевула), можно объяснить предположением, что подобные рассказы автор почерпнул из нескольких источников, в которых данные эпизоды рассказаны были с некоторыми отступлениями, а потому он принимал их за различные эпизоды,[96] а это, разумеется, свидетельствует о том, что он был очень некритическим историком.
Однако эпизоды, которые приводятся в первом евангелии и почерпнуты, по нашему мнению, из различных источников, не всегда являются дублетами, но иногда даже противоречат друг другу. В напутственном слове, сказанном при первом отправлении 12 апостолов, Иисус им запрещает обращаться к язычникам и самарянам; в Нагорной проповеди он наказывает ученикам не метать святое перед собаками и бисер перед свиньями (7:6) и обещает явиться вторично, прежде чем они успеют обойти все города израильские (10:5, 23). Наоборот, в других местах того же евангелия он грозится наказать иудеев за их неверие призванием язычников в места их жительства (8:11; 21:43); заявляет, что придет вторично тогда, когда евангелие успеет обойти все народы Вселенной (24:14), и наказывает апостолам принимать в свою общину путем простого крещения представителей всех народов (28:19). Такое же противоречие находим мы и в других рассказах — о капернаумском сотнике (8:5–10), о женщине-хананеянке (15:21–28). Здесь Иисус в одном случае дарует помощь язычнику беспрекословно, а в другом — долго отказывается помочь язычнице и наконец снисходит к ее просьбе в виде исключения. Это противоречие некоторые критики пытались объяснить предположением, что убеждения Иисуса прогрессивно развивались.[97] Возможно, что это так и было в самом деле, но у Матфея этого не видно, иначе рассказ о сотнике он поместил бы вслед за рассказом о женщине-хананеянке, а Иисус, предвестив призвание язычников, не стал бы запрещать своим 12 апостолам идти к язычникам. В данном случае мы явственно различаем следы двух последовательных эпох и стадий развития в древнем христианстве: изречения и рассказы одной категории были записаны в ту эпоху, когда в общине нового Мессии всё ещё противились привлечению язычников, но изречения и рассказы другой категории записаны были позднее, когда идея и деятельность Павла уже начали оказывать влияние и «просвещение» язычников признавалось делом, соответствующим планам и намерениям Иисуса.
При этом мы можем проследить и за тем, как образовывались древние евангелия. Из всевозможных кратких и неполных записей составлялись более обширные евангельские сборники, однако же и их не считали еще произведениями вполне законченными и время от времени старались их дополнять новыми вставками и приписками. Но это не всегда были рассказы, повествующие о подлинных речах или деяниях Иисуса и сохранявшиеся лишь в изустном предании или в письменном труде, для автора евангелия случайно неизвестном; напротив, если с течением времени нарождалось мнение или течение, казавшееся неотразимым следствием христианского начала, тогда являлось предположение, что, наверно, уже ранее сам Христос говорил и сделал что-либо в том же духе, и вслед за тем составлялись новые изречения и рассказы об Иисусе, которые сначала возвещались в устной проповеди, а потом заносились в евангелия. При каждом новом шаге теологического самосознания, справедливо считает Швеглер, производились дополнительные исправления и в евангелиях, всё устарелое и сомнительное исключалось и заменялось совершенным, а иногда включались даже лозунги новейшей эпохи. Таким образом, мы видим, что церковь постоянно создавала новые евангельские рассказы и изречения, пока эта реформа евангелий не завершилась исключительной санкцией наших синоптических евангелий и окончательным конституированием кафолической (вселенской) церкви.
Что последняя переработка Матфеева евангелия совершилась в сравнительно позднюю эпоху, в этом мы убеждаемся из так называемого наказа о крещении (28:19), в котором полная формула крещения во имя Отца, Сына и Святого Духа уже напоминает собой позднейшую формулу церковного ритуала, тогда как в Деяниях апостолов указано крестить просто лишь во имя Иисуса. Такого рода частные поправки, вероятно, вносились после появления двух других синоптических евангелий по преимуществу в Матфеево евангелие, которое чаще всего употреблялось в церквах. Так, например, в истории о богатом юноше (19:16–22) формула возражения Иисуса, приведенная у Марка (10:18) и Луки (18:19) и гласящая так: «Что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог», без сомнения есть формула первоначальная; а в формуле, указанной Матфеем: «Что ты вопрошаешь меня о благом? единый только благ», уже заметно позднейшее изменение, совершенное с учетом гностического толкования данного места и более возвышенного представления о Христе, которому не соответствовало отклонение Иисусом предиката «благий».[98]
Почему это евангелие, составленное, видимо, по сказаниям христианских общин Галилеи, позднее многократно переделанное и приуроченное к прогрессивным взглядам церкви, было приписано именно Матфею, это легко было бы объяснить, если бы он был, по крайней мере, автором «первичного» евангелия-прототипа. Но этой уверенности не дает нам замечание Папия; а невозможность объяснения вне этого предположения еще не доказывает справедливости последнего. В самом евангелии нигде не упоминается о Матфее как авторе его. Правда, здесь (и только здесь) после перечня апостолов находим примечание о том, что Матфей, которого другие евангелисты называют Левий, был раньше мытарем (9:9). Однако сам Матфей нигде не выдвигается вперед; напротив, в этом евангелии, даже более, чем в других, на первом плане фигурирует первоапостол Петр. Тем не менее Матфей, по словам Отцов церкви, являлся одним из главных провозвестников евангелия среди иудеев, и так как бывший мытарь, вероятно, признавался всеми за человека, наиболее пригодного для писания, то именем его и было названо евангелие, хотя он в составлении его фактически участия не принимал.
§20. Евангелие от Луки
У Евангелия от Луки с Евангелием от Матфея общей является лишь часть содержания, а остальная часть в нём совершенно самобытна. Подобно Матфееву евангелию, хотя и с некоторым отличием в расположении, подборе рассказов и слоге, оно повествует об общественном служении Иисуса, о его крещении до отбытия в Галилею, а затем о событиях, имевших место в Иерусалиме со времени его прибытия туда. История отрочества Иисуса изложена в Евангелии от Луки совсем иначе, чем в Матфеевом евангелии; весьма подробно и своеобразно рассказан в нём также путь Иисуса из Галилеи в Иерусалим, и, наконец, некоторые особенности замечаются в повествовании Луки о страстях и воскресении Иисуса.
В той части, которая у обоих евангелистов изложена сходным образом, Лука нередко выражается с буквальной точностью словами Матфея, так что, уступая первенство Матфею, приходится предполагать, что Лука использовал Матфея или Матфеевы источники или, наконец, Матфея вкупе с его источниками, ибо среди многих евангельских списков, которые Лука имел перед собою, по словам его предисловия, могли быть кроме Матфеева евангелия также и те записи, которыми пользовался сам Матфей. Что это было так, об этом свидетельствуют не только некоторые добавления, но также и опущения, произведенные Лукой. Если Нагорную проповедь, изложенную в его евангелии, он взял у Матфея, то очень трудно объяснить, отчего он «нищих духом» превратил в просто нищих, а «алчущих правды» — в просто алчущих. Еще труднее объяснить, почему грозную речь Иисуса о народе, избивающем пророков (11:49), он приписал «премудрости Божией», если этих загадочных слов, не имеющихся у Матфея (23:34), он не нашел в использованном им источнике. Равным образом Лука, вероятно, не включил бы в свой рассказ о пребывании Иисуса в Назарете слова: «сделай и здесь, в Твоем отечестве, то, что, мы слышали, было в Капернауме» (4:23), слова, не имеющие смысла в данном месте, трактующем о начале деятельности Иисуса, если бы он их не нашел в своем источнике, в котором это происшествие, как и в обоих синоптических евангелиях, было отнесено к позднейшему времени и рассказано иначе.
Другие отступления Луки от текста Матфеева евангелия отчасти можно объяснить своеобразием его писательской манеры. Будучи писателем позднейшего времени и человеком, получившим греческое образование (как видно из его же предисловия), он пожелал придать своему евангелию больше живости, разнообразия и цельности. Уже по одним этим соображениям он, вероятно, решил расчленить или разбить те длинные речи, которые приведены у Матфея, и снабдить некоторые из них особыми введениями, из которых видно, чем именно была вызвана данная речь. В Матфеевом рассказе о рождении Иисуса его, вероятно, смущала тень, которая могла запятнать невинность Марии, в смысле подозрений Иосифа, и потому он предпочел рассказать дело так, чтобы не могло возникнуть на этот счет никаких сомнений. Упоминая о том, что древние пророчества предрекли рождение Иисуса в Вифлееме, он, вероятно, пожелал блеснуть ученостью и по этой же причине упомянул затем о переписи Квириния, о которой говорится также и в Деяниях апостолов (5:37). Всё это проявление писательского произвола, желания «перещеголять» предшественников, противопоставить их трудам свой собственный оригинальный и улучшенный труд, но это не тенденция, не основная мысль и цель, которыми определялось бы всё содержание евангелия.
О Луке, предполагаемом спутнике Павла, некоторые критики говорили, что он старался принизить иудеев вообще и иудеев-апостолов в особенности, чтобы за их счет превознести язычников и языческих апостолов; словом, ему приписывали универсалистскую тенденцию и этим объясняли, например, то обстоятельство, что он не так, как евангелист Матфей, повествует о страданиях Иисуса: Пилата обрисовал человеком более мягким и справедливым, чем его предшественник, чтобы всю ответственность за смерть Иисуса возложить исключительно на иудеев. Однако же Матфей, повествующий об умовении рук Пилатом и о сновидении его жены, очевидно, и не думал винить язычников за смерть Иисуса; с другой стороны, тогда же Матфей упоминает и о том, что сами иудеи восклицали, чтобы кровь Иисуса пала на них и их детей. Стало быть, Матфей так категорично винит иудеев в смерти Иисуса, что у Луки едва ли могло зародиться желание превзойти Матфея в этом отношении. Столь же неосновательно приписывать Луке желание унизить 12 апостолов. Баур утверждает, что из рассказов Луки можно заключить, будто Иисус, воскрешая дочь Иаира, отослал от себя приведенных им с собою трех апостолов (8:54). Но это предположение ничем не подтверждается; то обстоятельство, что при посещении матери своей и братьев он не простер рук своих над учениками, как сказано у Матфея, при сравнении с другим местом (Лк. 8:21; 10:23) оказывается моментом несущественным; наконец, весьма натянутым представляется нам толкование, что притча о сеятелях приведена у Луки (8:4–16) с намерением пристыдить 12 апостолов.
Если рассказ о посещении Иисусом Назарета Матфей (а за ним и Марк) поместил в середине своего евангелия и галилейского служения Иисуса (13:53) и если Лука, наоборот, поместил его в начале, вслед за историей искушения (4:16), то в этом тоже сказывается желание автора объяснить тот факт, что Иисус избрал своим местом пребывания не родной свой город Назарет, а Капернаум, дурным приемом, который ему был там оказан. Видя, как в начале рассказа у Луки подчеркивается мессианское обетование спасения, а под конец в качестве людей, к которым перешло спасение, отвергнутое иудеями, выдвигаются язычник-сотник и язычница-вдова, мы должны предположить, что евангелист умышленно переделал этот рассказ: под родным городом («отечеством») Иисуса он стал разуметь всю страну, под неверием назаретских жителей — неверие всех иудеев вообще и в переселении Иисуса из Назарета в Капернаум стал видеть пролог перенесения мессианской благодати на язычников, и этому прологу он придавал столь важное значение, что решил отнести его к началу деятельности Иисуса в качестве руководящего положения.
Таким образом, мы приходим к универсализму Павла. Предполагать его в Луке нас заставляет сопоставление двух замечательных по сходству мест из евангелия Луки и посланий Павла. Как известно, в цитировании речи Иисуса, учреждавшей евхаристию, Лука (22:19–20) сходится с Павлом (1 Кор. 11:24–25) и расходится с Матфеем и Марком. Это сходство сказалось как в словах: «Сие творите в Мое воспоминание», которых нет у названных двух евангелистов, так и в словах: «сия чаша есть Новый Завет (союз) в Моей крови», вместо которых у этих двух евангелистов стоят слова: «Сие есть Кровь Моя Нового Завета». Это совпадение, как упомянуто выше, объясняется тем, что евангелист был знаком с посланиями Павла. Но что дело не ограничивалось одним знакомством, на это указывает другое совпадение, которое стоит в связи с одним своеобразным рассказом Луки. Только он один из всех евангелистов сообщает, что Иисус кроме 12 апостолов избрал и отослал на проповедь еще 70 учеников, и если в этих 70 учениках не без основания многие видели намек на предполагаемые 70 народностей земного шара, как в 12 апостолах усматривали намек на 12 колен Израиля, то едва ли это — простая случайность; скорее это — доказательство того, что сам Лука считал отсылку 70 учеников прообразом позднейшей языческой миссии. Недаром Иисус, по уверению Луки, в своем напутственном слове ученикам относительно их пребывания в чужих городах и жилищах дает им буквально тот же наказ, какой давал апостол Павел христианам-коринфянам на тот случай, если их будут звать к себе на пиршество язычники («неверные»): есть всё, что последние им будут предлагать (Лк. 10:8; 1 Кор. 10:27).
В связи с этим обстоятельством находится и то, что, по словам Матфея и Марка, Иисус сам избегал Самарии и своим 12 апостолам наказывал избегать самарянских городов и путей языческих, тогда как, по словам Луки, Иисус не только вступал в сношения с самарянами, но даже хвалил их в некоторых речах своих; что центр деятельности Иисуса, по словам Матфея, сосредоточивался на Галилее, а по словам Луки — на Галилее и той части Самарии, по которой пролегал путь в Иерусалим; что к путешествию Иисуса по Самарии у Луки приурочен ряд замечательных и важных дидактических и повествовательных рассказов; Лука, видимо, не удовлетворен был тем, что Иисус большую часть жизни провел в Галилее, и указанием на беспристрастное отношение Иисуса к самарянам, которые приравнивались к язычникам, хотел побороть те предрассудки и предубеждения, которые в его время наблюдались среди иудейских христиан по отношению к язычникам. Эта тенденция Луки сказывается и завершается в Иоанновом евангелии, которое подчеркивает симпатии Иисуса к самарянам в рассказе о самарянской женщине и которое, не скупясь на подробности, делает из одного путешествия в Иерусалим три праздничных путешествия.
С этой точки зрения некоторые опущения и умолчания у Луки приобретают особое значение. Правда, в этом отношении некоторые критики тоже заходили слишком далеко и слишком мало считались со случайностью и писательским произволом, однако, например, едва ли случайно Лука умолчал о том, что Петр, который ранее других признал Мессию в Иисусе, был наименован «блаженным» и краеугольным «камнем» Христовой церкви (Лк. 9:20; ср. Матф. 16:17–18). Едва ли случайно умолчал он также о беседе Иисуса с хананеянкой, в которой говорится, что Иисус послан только ради погибших овец дома израильского, а язычники уподобляются собакам: с таким уподоблением сторонника Павла не могла бы примирить даже та терпимость, которую проявил Иисус в конце цитируемой беседы. Возможно так же и то, что Луку шокировали в притче о сеятелях, приведенной у Матфея (13:28), наименование сеятеля плевел той же кличкой («враг человек»), которой эбиониты окрестили апостола Павла, и наименование людей-плевелов «делающими беззаконие», которое также применялось к последователям Павла (13:41; 7:23). Поэтому он совершенно опустил эту притчу.
Чтобы полнее выяснить отношение третьего евангелиста к имевшемуся в его распоряжении материалу, следует припомнить, что его евангелие представляет только первую часть работы, вторую часть которой составляют Деяния апостолов. Относительно последней основательное исследование Целлера недавно доказало, что она является дополненным и переработанным вариантом сочинения, которое было написано для прославления первичной иерусалимской общины и стоявших во главе ее апостолов, и что этот новый вариант составлен в целях примирения тенденций Павла (павликанство, паулинизм) с христианским иудаизмом. При этом Павел по достоинству своему приравнен первоапостолу Петру, и Павлу приписаны многие черты Петра, а Петру — черты Павла в несоответствующей действительности степени, дабы замести в их взаимоотношениях все следы вражды и неприязни, поэтому весьма правдоподобно предположение о том, что автор так же точно поступил и в первой части своего труда, что он не вовсе отвергал древнейшее иудео-христианское предание об Иисусе, а только изменил его в духе павликиан и пытался «нейтрализовать» его противопоставлением эпизодов, говоривших в пользу Павла. Поэтому Лука, упоминающий о сыне иудейского священника Иоанне и подчеркивающий тот факт, что относительно младенца Иисуса был соблюден закон об обрезании и очищении, не менее, если не более, проникнут иудаизмом, чем Матфей, который повествованием о восточных мудрецах бесспорно предвосхитил грядущую христианизацию язычников. Однако у Луки уже в рассказе о детстве Иисуса (2:32; 34) последний именуется «светом (существующим) к просвещению язычников» и источником страданий для его Матери, то есть Мессией-страстотерпцем. С другой стороны, Лука пытался удовлетворить обе враждующие партии и воздать каждой из них должное, сопоставив дни Ирода, царя иудейского (1:5), к которым приурочивался по традиции момент рождения Иисуса (Мф. 2:1), с эпохой всеобщей переписи, произведенной по повелению всемирного владыки кесаря Августа (2:1), противопоставить иудаистским хвалебным гимнам Марии и Захарии песнопение ангелов («воинства небесного»), которые явились после рождения Иисуса и возвестили всему свету и всем людям вообще мир и Божие благоволение (2:13–14), и доведя родословие Иисуса, составленное в духе иудео-христиан, непосредственно до Адама и самого Бога, Отца всех человеков (3:23–38).
Разбирая с этой точки зрения всё евангелие, нетрудно уяснить себе весь его план и состав, если только мы не слишком будем увлекаться выявлением сокровенных намерений автора. Мнимые противоречия исчезнут, если мы припомним, что своеобразный метод евангелиста в том и состоит, чтобы давать высказаться также и противникам. В противоположность автору четвертого евангелия, он не считал себя способным переработать всю евангельскую традицию; напротив, он довольствовался простой отливкой ее в новую форму путем расчленения на составные части и новой комбинации последних. Посмотрим, например, как он отнесся к Нагорной проповеди Иисуса (глава 6). Выше уже было замечено, что в изложении Матфея она могла показаться ему слишком громоздкой в смысле стилистическом, и он поэтому решил ее разбить на части. Возможно, что она смущала его также и умышленным сближением с Моисеевым законом и указанием на то, что это нагорное законодательство является вторым синайским законодательством. Поэтому он устранил все эти намеки и указания. Нагорную проповедь превратил в «равнинную» проповедь и отнес ее к более раннему периоду, но оставил ее характерное начало и заключение, хотя при этом, видимо, считался не столько с Матфеевым евангелием, сколько с другим, неведомым нам источником. Он опустил заявление Иисуса о том, что он пришел исполнить, а не нарушить закон (Мф. 5:17), а замечание Иисуса о том, что не единая йота (буква) не прейдет из закона, доколе не прейдет небо и земля и не исполнится всё (Мф. 5:18), он изъял из общего контекста Нагорной проповеди (замена слова «закон» выражением «слово Иисуса» была, видимо, произведена Маркионом) и перенес его в особое, крайне пестрое собрание отрывочных, бессвязных изречений и, видимо, умышленно поместил его между двух изречений, трактующих об устарении и совершенствовании закона (6:17). Там же находим и другое изречение, крайне своеобразно измененное. У Матфея (11:12) Иисус говорит: «От дней же Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают его». Это загадочное изречение можно было истолковать в неблагоприятном для Павла смысле; по этой причине, вероятно, Лука и привел его в иной форме (16:16): «С сего времени (после Иоанна Крестителя) Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него» (как в притче о гостях званых говорится, что призываются все люди «с дорог и изгородей», то есть язычники (Лк. 14:23). Вероятно, против законопротивных сторонников Павла было направлено иудео-христианским автором Матфеева евангелия (7:21–23) также и то изречение в Нагорной проповеди, где речь идет о самозваных пророках, которые от имени Господа Иисуса изгоняют бесов и творят чудеса и которые им будут отвергнуты, как люди, «делающие беззаконие». У Луки это изречение сформулировано так (13:23–28): иудеи в оный день станут ссылаться на то, что они ели и пили перед Иисусом и что на их улицах поучал он, но он их отвергнет, как «делателей неправды», и у них будет «плач и скрежет зубов», когда увидят, как другие люди придут от востока, и запада, и севера, и юга, и возлягут в царствии Божием вместе с Авраамом, Исааком и Иаковом, а они будут изгнаны. Этот пример показывает, как искусно Лука умел придать иудео-христианскому изречению, направленному против приверженцев Павла, смысл антииудаистского и для паулинистов благоприятного изречения.[99]
При таком образе действий автору удавалось справиться даже с таким материалом, который черпался им и из более иудаистского источника, чем Евангелие от Матфея. Что именно такой источник имелся в его распоряжении, об этом можно судить уже из того, что было ранее сказано относительно нагорной проповеди о блаженствах. Сулить блаженство и наследование вечной жизни нищим и голодным и проклинать богатых — таково было учение так называемых эбионитов, то есть древней секты ессеев[100], удержавшейся среди христиан-иудаистов, которые, говоря словами Луки (4:6), считали дьявола владыкой сего мира и противопоставляли его Христу, владыке мира будущего, и потому считали, что всякое пользование благами сего дьявольского мира есть самоустранение от благ будущего мира, а нищета и страдание в мире дьявола есть наилучшее средство обрести блаженство в мире Христовом. То же воззрение лежит в основе притчи о богаче и бедном Лазаре (Лк. 16:19–26); но здесь мы в то же время видим, как евангелисту удалось (путем критики ст. 27)[101] даже и эбионитскую идею притчи использовать против иудеев и их недоверия к воскресшему Иисусу. Лука тоже противопоставляет Иисуса дьяволу; последний лишь «отошел от Него до времени» (4:13) и затем завладевает Иудой и намеревается подчинить себе и остальных учеников Иисуса, а в момент пленения Иисуса достигает полного торжества (22:3, 31, 53); но Иисус уже заметил сатану, «спадшего с небес, как молния» (10:18), и одолевает его в лице бесов. Такое противопоставление Иисуса дьяволу тоже отмечено печатью иудаизма, но оно могло также вытекать из собственных убеждений евангелиста, ибо способствовало утверждению взгляда на Иисуса как на существо сверхчеловеческое и мощное. Именно этот момент Лука неоднократно подчеркивает в рассказах о чудесах Иисуса (5:8, 26; 7:16; 8:25, 37). Вообще, его понятие о чудесном гораздо материалистичнее (8:45), а его рассказы о чудесах гораздо ярче и выразительнее, чем у Матфея.
Признав всё вышесказанное справедливым, необходимо также признать и то, что евангелист Лука выступил позднее, чем евангелист Матфей, впрочем, это можно доказать и независимо от сказанного. Если в начале большой речи Иисуса о кончине мира ученики, по словам Матфея (24:3), вопрошали Иисуса: «Скажи нам, когда это будет? и какой признак Твоего пришествия и кончины века?», то они интересовались преимущественно двумя пунктами: разрушением храма Иерусалимского, о котором ранее говорил Иисус, и вторым пришествием Христа в целях завершения настоящего периода в жизни мира, так как оба эти пункта они мыслили в непосредственной взаимной связи. Вместо этого Лука (21:7) формулирует их вопрос так: «Учитель! когда же это будет? и какой признак, когда это (то есть разрушение храма) должно произойти?» При этом пункт о втором пришествии, очевидно, совершенно отпадает, вероятно, потому, что пришествие Христа стоит с кончиной мира в менее тесной связи, чем полагал автор первого евангелия. С этим согласуется и тот прием, посредством которого оба евангелиста в последующей речи Иисуса переходят от изложения одного события к изложению другого. У Матфея (24:29–30) говорится следующее: «И вдруг, после скорби дней тех, солнце померкнет, и луна не даст света своего, и звезды спадут с неба, и силы небесные поколеблются; Тогда явится знамение Сына Человеческого на небе». Матфей, следовательно, полагает, что промежуток времени между обоими событиями будет очень краток. Лука (21:24), наоборот, опускает слово «вдруг» и предвещает устами Иисуса, что «Иерусалим будет попираем язычниками, доколе не окончатся времена язычников». Он, следовательно, видел, что со времени разрушения Иерусалима протекло больше времени, чем насчитывал автор Матфеева евангелия, и, стало быть, он написал свое евангелие значительно позднее (но, во всяком случае, перед восстанием Иудеи, случившимся при Адриане в 135 году, ибо в противном случае о нём упомянуло бы евангелие).
Но если Евангелие от Луки появилось в такое время, когда едва ли был еще в живых кто-либо из сотоварищей Павла и некому уже было писать книги, то спрашивается: почему это евангелие приписывается Луке и почему именно он, евангелист, считается сотоварищем Павла? Повод к такому мнению подала книга Деяния апостолов, ибо во второй части этого труда рассказчик местами выступает в качестве спутника Павла (16:10–17; 20:5–15; 21:1–18; 27:1–28, 37). Но так как тот же спутник Павла сопровождал его до Рима и так как в посланиях Павла, написанных, по-видимому, во время его римского заточения, между прочим упоминается о Луке, преданном помощнике Павла (Кол. 4:14; 2 Тим. 4:10; Флм. 24), то и явилось двоякое предположение, что именно евангелист Лука был спутником Павла и что он же является автором двух трудов: евангелия и Деяний апостолов. Но первое из этих предположений произвольно, во-первых, потому, что подлинность посланий Павла, написанных в темнице, весьма сомнительна, и, во-вторых, потому, что Лука был не единственным спутником Павла. Второе предположение покоится на ложном умозаключении, что если рассказчик в некоторых местах Деяний апостолов сближает себя с апостолом Павлом и говорит «мы», то, стало быть, он и является автором всего труда. Такой вывод несправедлив даже относительно второй части труда, Деяний апостолов. Напротив, если бы говорящий в указанных местах был также автором всего труда, то он, вероятно, всякий раз упоминал бы, куда и откуда он явился; крайне странное внезапное появление и исчезновение слова «мы» можно объяснить лишь тем предположением, что позднейший автор заимствовал некоторые места из мемуаров какого-то, нам неведомого, спутника Павла и целиком включил их в свой рассказ. Что же касается вопроса о месте написания труда, то он, по-видимому, составлен был где-либо за пределами Палестины и в такой среде, которая уже успела выйти из-под ферулы ограниченного кругозора иудео-христиан. Он был написан или в «столице мира» — в Риме, на что указывают и конец Деяний апостолов, и стремление примирить противоположности иудео-христианского и паулистского направлений, или он был написан в Малой Азии, на что указывают и подробное описание миссионерской деятельности Павла в Малой Азии, и преобладание в труде эллинистского духа.
§21. Евангелие от Марка
Одним из самых трудных вопросов новозаветной критики является вопрос о положении Маркова евангелия, — вот почему еще и в самое последнее время вопросом этим занимались многие (в особенности Хильгенфельд и Баур).
По нашему мнению, можно уже и не говорить о том воззрении, согласно которому Евангелие от Марка следует будто бы считать «первичным» евангелием, — это воззрение отпадает само собой благодаря тому, что сторонники его сами сознаются, что известное нам «первичное» Евангелие от Марка уже не сохранило своего первоначального облика, а интерполировано и сокращено в разных частях. Усматривать в этом евангелии «волшебный блеск распускающегося цветка» мы должны предоставить тому духовидцу, который ухитрился усмотреть в достопочтенном Ф. Хр. Бауре современного К.Ф. Бардта, а в отменно логичном Реймарусе — «путаную голову».[102] По нашему мнению, Швеглер вернее попадает в цель, когда называет текст Марка, по сравнению с текстом Матфея, «плоским и бесхарактерно отшлифованным»; справедливо также рассуждает Кестлин, который заявляет, что второе евангелие принадлежит к позднейшей стадии евангельской историографии и относится к первому евангелию так, как во всеобщей литературе к классическим произведениям старого времени относятся позднейшие произведения чисто прозаического характера, которые поэтому и гоняются за «хлесткими» словечками и «картинным» изложением.
Уже Шлейермахер обратил внимание на то, что этот евангелист обнаруживает склонность к аффектированно-бойкому и осязательно-наглядному повествованию: он любит всё преувеличивать в своих описаниях, впадая часто в неестественность, и вносить беспричинные движения души; он любит также изображать большие скопища народа, неведомо зачем и почему сбегающегося; далее он любит представлять всё в таинственном виде, что, по словам Шлейермахера, сказывается, между прочим, в подчеркивании чудесных исцелений Иисуса, сопровождаемых известными манипуляциями и применением чувственно-осязательных средств, и что, безусловно, противоречит предполагаемому стремлению евангелиста к естественному объяснению чудес. В этом стремлении к наглядности при недостатке соответствующих сил и средств и в этой склонности к преувеличению и красивости Шлейермахер видит признаки того, что Марково евангелие подверглось более значительной переработке, чем остальные два синоптических евангелия, и потому готов приписывать ему, хотя бы лишь по форме, близость к апокрифам.
Каждый беспристрастный читатель, несомненно, подтвердит это замечание о Марковом евангелии и, вероятно, кое-что еще добавит из собственных наблюдений. Рефлексия, свойственная писателю позднейшей эпохи, сказывается, например, в стремлении евангелиста мотивировать и пояснять то, что его предшественники просто констатировали как факт, причем Марк сам нередко ошибается, как, например, при попытке объяснить бесплодие смоковницы (11:13–14) или бессвязную речь Петра при преображении Иисуса (9:6). Той же рефлексией позднейшего происхождения представляется и то, что некоторые чудеса, например увядание смоковницы, исцеление слепого из Вифсаиды (8:22–25), он пытается изобразить в виде длительного процесса, хотя чудо, как проявление божественной силы, творящей всё единым властным Словом, мыслимо лишь как акт мгновенный и внезапный, каковыми чудеса изображаются в древнейших повествованиях. А как «трезвенно» и в то же время неудачно Марк пытается исправить некоторые «рискованные» или необдуманные выражения и фразы древнейших евангелистов! Так, у Матфея Иисус наказывает ученикам своим не брать в дорогу ни сумы, ни посоха, ни обуви; но Марк признал возможным сохранить им посох, а вместо «обуви» написал «простую обувь» (6:8–9). У Матфея ученики однажды при переправе через озеро забывают взять с собой хлеба; но Марк, признавая эту опрометчивость их важным упущением, исправляет ее и говорит, что ученики всё же захватили с собой в лодку один (только один!) каравай хлеба (8:14). Наконец, его смутило то обстоятельство, что при троекратном отречении Петра петух успел пропеть только один раз, и потому Марк написал, что петух пропел два раза (14:72).
Из вышесказанного явствует, что Марк является писателем позднейшей эпохи; однако легче доказать, что он знаком был с евангелием Матфея, чем то, что ему был известен труд Луки. Матфей просто и без всяких пояснений констатирует, что фарисеи возмутились тем, что ученики Иисуса не умывали рук при трапезе; а Марк (7:1–4) счел нужным предпослать этому эпизоду пространное пояснительное предисловие относительно обычаев и обрядов иудейских. По этому поводу естественно заметить, что такое сухо-антикварное пояснение прямо свидетельствует о сравнительно позднейшем написании Маркова евангелия. Тому, кто в этом пояснении евангелиста увидит доказательство того, что Евангелие Марка было написано не в Палестине или не для Палестины, мы предложим обратить внимание на такие места в Марковом евангелии, как, например, 9:1, и сравнить их с соответствующими местами в Матфеевом евангелии (16:28). В самом деле, почему у Матфея Иисус говорит: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем»; а у Марка (а также у Луки (9:27) он говорит: «Есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие, пришедшее в силе»? Очевидно, потому что ко времени евангелиста Марка успело вымереть всё поколение современников Иисуса и пришел не сам он, Иисус, а пришло его царствие в виде распространившейся и укрепившейся христианской церкви. Или почему только у Марка (13:37) Иисус, наказывая ученикам бодрствовать, ибо не знают, когда он придет, заканчивает свое увещевание словами: «А что вам говорю, говорю всем: бодрствуйте». Не потому ли, что увещание, обращенное к одним ученикам, могло показаться несвоевременным, так как никто из них не дожил до второго пришествия Христа, и Марк пожелал поддержать престиж этого накала, распространив его на всех позднейших христиан? Наконец, у Матфея (24:20) в большой речи Иисуса о кончине мира мы читаем: «Молитесь, чтобы не случилось бегство ваше (из осажденного Иерусалима) зимою или в субботу»; а у Марка (13:18) последние слова («в субботу») опущены. Это показывает, что в промежуток времени, протекшего от первого до написания второго евангелия, «суббота» уже успела утратить свое значение в христианской церкви.
Что касается отношения Марка к Луке, то отсутствие у Марка почти всех таких рассказов, которые имеются у Луки и не имеются у Матфея, можно было бы объяснить предположением, что Марк имел перед собой лишь Матфея и не знал о тех обильных добавлениях, которые впоследствии появились у Луки, ибо в противном случае он, без сомнения, воспользовался бы ими. Однако кое-что из того, что имеется у Луки и не имеется у Матфея, встречается также и у Марка, и, с другой стороны, он опустил многое из того, что имеется у Матфея, и если у него на то были достаточно веские причины, то, надо полагать, он не без достаточного основания сохранил многое из того, о чём повествует Евангелие от Луки.
Чтобы доискаться до более определенных доказательств, нам прежде всего следует решить вопрос: не встречаются ли такие места, на основании которых взаимоотношения между Марком и Лукой можно было бы объяснить предположением, что первый использовал последнего, ибо при ином, противоположном предположении оно оставалось бы необъяснимым? По поводу рассказа Марка об искушении Иисуса (1:13) многие наверное согласятся, что столь запутанный и непонятный рассказ, вероятно, был спешно заимствован из другого, более подробного, который Марк от себя дополнил странным замечанием о зверях («И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаною, и был со зверями; и Ангелы служили ему»). Это — пример того, как два рассказа относятся друг к другу: в данном случае Марк, очевидно, использовал Матфея, о чём свидетельствует также замечание о том, что «ангелы служили» Иисусу. Подобное взаимоотношение между Марком и Лукой сказывается и в рассказах о воскресении Иисуса. Марк (16:12) говорит: «После сего явился в ином образе двум из них (ученикам) на дороге, когда они шли в селение». В этом замечании нетрудно увидеть сходство с рассказом Луки (24:13) о двух учениках, которые «шли в селение, отстоящее стадий на шестьдесят от Иерусалима, называемое Эммаус»; нетрудно заметить и то, что это краткое, бессодержательное замечание Марка приобретает смысл лишь в той связи, в какой оно стоит у Луки. То же самое следует заметить относительно обетования Иисуса о кончине мира (16:16), которое изложено, как кажется, по соответствующим главам Деяний апостолов (особенно по 2-й, 3-й). Впрочем, эти примеры взяты из такой части Маркова евангелия, подлинность которой оспаривается, и потому не могут считаться доказательными.
С другой стороны, у Марка встречаются выражения, которые почти тождественны соответствующим выражениям Луки или Матфея и Луки одновременно. Марк начинает перечень апостолов такими словами (3:14–17): «И поставил из них двенадцать апостолов, чтобы с Ним были и чтобы посылать их на проповедь, и чтобы они имели власть исцелять от болезней и изгонять бесов; поставил Симона, нарекши ему имя Петр, Иакова Зеведеева и Иоанна, брата Иакова». Но эти винительные падежи поставлены здесь не столько вследствие зависимости от глаголов «поставил, посылать», сколько потому, что в другом источнике, именно в Евангелии от Луки (6:14), все имена апостолов поставлены в винительном падеже. В других случаях фразы Марка составлены из слов, употребленных двумя другими синоптическими евангелистами. Например, у Матфея (3:11) Иоанн Креститель говорит: «Но Идущий за мною сильнее меня; я не достоин понести обувь Его»; у Луки (3:16) он говорит: «Но идет Сильнейший меня, у Которого я недостоин развязать ремень обуви» (тут уже опущены слова: «за мною»); наконец, у Марка (1:7) он говорит: «Идет за мною Сильнейший меня, у Которого я не достоин наклонившись, развязать ремень обуви Его». Итак, мы видим, что Марк заимствовал у Луки слова «идет Сильнейший», у Матфея «за мной»; у Луки вторично — «развязать ремень обуви его» (вместо слов Матфея «понести обувь его»), и что сам от себя Марк добавил, в интересах наглядности и картинности рассказа, слово: «наклонившись». Другой пример: у Матфея (14:12) Ирод называет Иисуса «воскресшим Крестителем» и на этом основании судит о проявленной им чудотворной силе, а о молве и мнении народа совсем не упоминает («В то время Ирод… сказал служащим при нём: это Иоанн Креститель; он воскрес из мертвых, и потому чудеса делаются им»). У Луки (9:7) упоминается о том, что таково же было мнение народа (Ирод недоумевал, ибо «одни говорили, что это Иоанн восстал из мертвых; другие, что Илия явился, а иные, что один из древних пророков воскрес»); при этом сам Ирод говорит: «Иоанна я обезглавил; кто же Этот, о Котором я слышу такое?» Следовательно, никакого собственного определенного мнения о нём Ирод не имел. Наконец, у Марка (6:14–16) Ирод сам от себя заявляет (как у Матфея), что это воскресший из мертвых Креститель, а потому эта (чудотворная) сила и действует в нём, и затем (как у Луки) приводятся различные мнения народа; наконец Ирод вспоминает об обезглавлении Иоанна Крестителя; и затем не вопрошает (как у Луки), а прямо снова заявляет, что это — воскресший Креститель, и это повторение (у Марка, как и у Матфея) является излишним («Царь Ирод… говорил: это Иоанн Креститель воскрес из мертвых и потому чудеса делаются им. Другие говорили: это Илия, а иные говорили: это пророк, или как один из пророков. Ирод же, услышав, сказал: это Иоанн, которого я обезглавил; он воскрес из мертвых»). Марк, вероятно, выразился бы совсем иначе в начале, если бы не заглядывал в Евангелие от Матфея; в середине, если бы не имел перед глазами Евангелие от Луки, и в конце, если бы опять не заглянул в Евангелие от Матфея. Подобную же компиляцию отдельных слов и фраз мы найдем у Марка в рассказе о приводе больных «при наступлении… вечера, когда заходило солнце» (1:32), об исцелении прокаженного (1:40–42) и др. Правда, в повествовании Луки об искушении Иисуса (4:1–13) замечание о том, что искушение продолжалось 40 дней, и последующий рассказ о трех отдельных актах искушения, по мнению критиков, указывают на двоякую зависимость третьего евангелиста от первых двух; однако это предположение не может быть доказано ввиду неясности и недостоверности цитируемого текста.
Наконец, следует отметить у Марка ряд мелких добавлений и вставок, которые имеют целью «расцветить и оживить» рассказ, например, слова «наклонившись» (1:7), «обозрев сидящих вокруг Себя» (3; 34; 10:23), «воззрев на них с гневом» (3:5), «взглянув на него, полюбил» (10:21), «воззрев на небо, вздохнул и сказал» (7:34), «умилосердившись над ним» (1:41), «обняв их» (9:36; 10:16) и т.д. Такого рода вводные слова отсутствуют у двух остальных евангелистов-синоптиков. И если нас спросят: что правдоподобнее — то ли, что и Матфей и Лука, найдя эти слова в соответствующих рассказах Марка, не пожелали их заимствовать у него, или же то, что сам Марк вздумал разукрасить свой рассказ такого рода «блестками», то мы вместе со всеми непредубежденными читателями без всяких колебаний выскажемся за второе из упомянутых предположений.
Итак, если справедливо предположение, что Марк скомпилировал свое евангелие по двум остальным евангелиям, то, спрашивается, для чего же он составил эту книгу? По-видимому, цель его работы состояла прежде всего в том, чтобы написать книгу меньшего объема, чем другие два евангелия. Затем, как указал Гефререр, разногласия между Матфеем и Лукой при одновременном употреблении обоих евангелий в церковном обиходе могли оказаться моментом весьма неудобным, а потому у некоторых христиан могла появиться мысль кратко и связно изложить в новом, третьем сочинении, составленном на основании двух существующих трудов, их существенное содержание. Но если вспомнить, в какой среде церковных прихожан читалось Евангелие от Матфея и в какой — Евангелие от Луки, то станет ясно, что задача Марка могла свестись к тому, чтобы написать евангелие, которое удовлетворило бы обе враждующие партии: христиан из иудеев и христиан из язычников. И хотя в таком случае тенденция второго евангелия, по-видимому, совпадает с тенденцией третьего, то всё-таки при более внимательном рассмотрении мы откроем то отличие, что Марк стремится путем уклонений и опущений достичь того, чего добивается Лука путем добавлений и противоположений. Поэтому и различие целей их сводится к тому, что Лука задавался целью популяризации и пропаганды идей Павла, не задевая предрассудков христиан-иудаистов, а Марк задавался целью просто пропаганды евангелия, не задевая ни одной из существующих партий. Поэтому он избегает всего того, что могло бы возмутить какую-либо из партий или послужить им лозунгом, и тщательно обходить всякие спорные вопросы, волновавшие церковь до середины II века. По этой же причине он, вероятно, опустил и всю историю рождения и детства Иисуса. Родословие Иисуса в высокой степени удовлетворяло христиан-иудаистов старого покроя, но некоторые группы в этом лагере, по свидетельству «Гомилий» Климента, оно сильно «смущало» вследствие их неприязни к Давиду, этому «воителю и бабнику», а для христиан из язычников оно не представляло никакого интереса. История сверхъестественного зачатия Иисуса могла нравиться и христианам из язычников, но она оспаривалась старыми гностиками, Керинфом и Карпократом, и частью христиан-иудаистов. Рассказ о восточных астрологах и о бегстве отрока-Мессии в Египет, страну идолов и волшебников, тоже мог смутить многих. А если Маркион пошел еще дальше и из евангелия вычеркнул весь раздел об Иоанне Крестителе (о крещении и искушении Иисуса), то представляется весьма правдоподобным, что евангелист Марк пожелал избрать золотую середину, опустив рассказ о детстве Иисуса и заявляя перед рассказом о Крестителе (1:1): «Начало Евангелия Иисуса Христа, Сына Божия».
Уже с самого начала Евангелие от Марка представляет собой что-то вроде бухгалтерского баланса, в котором на обеих разноименных страницах вычеркнуты все равновеликие и взаимно противоположные величины, так что опущенной иудаистской черте на одной стороне соответствует опущенная на другой стороне универсалистская черта. Так, ради христиан из язычников Марк опустил заявление Иисуса о его намерении соблюдать закон, наказ Иисуса ученикам не обращаться к язычникам и самарянам, обетование о том, что они будут восседать на 12 скамьях и творить суд над 12 коленами Израиля, благословение и возвышение Петра. Но ради христиан из иудеев Марк опустил в речи Крестителя (Лк. 3:8) резкое замечание о том, что Бог может сотворить детей Аврааму из камней; в притче о виноградарях (Мф. гл. 21) — замечание о том, что иудеи не войдут в Царствие Небесное; опустил весь рассказ о капернаумском сотнике (Мф. гл. 8) из-за содержащихся в нём замечаний об отвержении иудеев и призвании язычников; далее опустил подробный рассказ Луки о странствии Иисуса из-за заключающихся в нём экскурсов в духе паулинистов, например притчи о блудном сыне, о милосердом и благодарном самарянах. Местами видим мы и то, как Марк обменивается ролью с Лукой, что при родстве их целей и намерений было вполне естественно. Лука, который вообще умеет «изворачиваться» в затруднительных положениях при помощи перестановки или изменения текстов, решил вовсе опустить рассказ о хананеянке, поскольку в нём Иисус заявляет, что он ниспослан лишь ради овец дома Израилева, и сравнивает язычников с псами. Но Марк в этом случае решил сохранить рассказ и только опустил в нём вышеозначенные слова Иисуса, а перед замечанием о псах вставил несколько «примиряющих» слов о том, что прежде необходимо накормить детей (то есть дать иудеям возможность спастись при содействии Мессии). По мнению евангелиста, этой привилегией иудеи уже воспользовались в достаточной мере, а потому и нет уже достаточных оснований для отстранения язычников от мессианского спасения.
Со склонностью Марка сокращать всё и избегать всего спорного связано и то, что он или вовсе опускал все длинные речи, например Нагорную проповедь, или сильно сокращал их, как, например, напутственное слово ученикам, речь против фарисеев и о кончине мира, ибо в речах этих, как в Нагорной проповеди, затрагивались многие из тех принципиальных вопросов, которые обсуждались в его время враждующими партиями. В этом сказался также дух позднейшей эпохи, представители которой по отношению к Иисусу интересовались историей, и в частности, историей чудес, гораздо больше, чем учением Христа. То, что в самом начале, когда вообще стал пробуждаться интерес к деталям жизни и деятельности Иисуса, на первый план выдвигались его содержательные речи, это мы видим уже из того факта, что Папий, как было упомянуто выше, называл «изречениями Господа» всякое евангельское повествование. Поэтому Матфей главное внимание в своем рассказе сосредоточил на изречениях Иисуса; такое же соотношение частей соблюдается и у Луки, хотя он и дробил наиболее пространные речи и вообще старался установить равновесие между речами и фактическим материалом. Но у Марка, который сокращал все речи вообще и удлинял рассказы (особенно рассказы о чудесах) различными добавлениями, мы видим, что в его время подобными рассказами интересовались гораздо больше, чем изречениями Иисуса. То, что в новейшем Иоанновом евангелии предпочтение снова отдается изречениям и рассуждениям, можно объяснить появлением новой догматической точки зрения, которую приходилось разъяснять при помощи пространных дидактических речей. Для целей Марка достаточно было кратких изречений и чудес, содеянных Иисусом; поэтому его Иисус производит на народ и учеников, по меньшей мере, столь же сильное впечатление, как Иисус Луки; но чудеса у Марка впечатляют гораздо сильнее, чем у Луки, тем более что чудотворные слова Иисуса Марк в качестве каких-то формул волшебного заклинания приводит на арамейском языке: «тали-фа куми» (5:41); «еффафа» (7:31).[103] С другой стороны, он от себя рассказывает о двух случаях чудесного исцеления, которых не находим у других евангелистов и общая черта которых сводится к тому, что Иисус отводит больных в сторону и в качестве лечебного средства применяет слюну (7:33; 8:23).
Доискиваясь источников, из которых черпались своеобразные черты Евангелия от Марка, следует предположить, что оба последних рассказа об исцелении он заимствовал у Матфея (9:32–33; 12:22), но переделал их сообразно собственным воззрениям на чудо. Затем только у него одного мы находим точное наименование некоторых мест и лиц, например, кличку обоих сыновей Зеведеевых («Сыны Громовы»), имя отца мытаря Леви, имя иерихонского слепца и его отца, имена обоих сыновей «крестоносца» Симона Киренеянина. Наконец, у него одного упоминается в рассказе о пленении Иисуса нагой бегущий юноша. Заимствовал ли он эти сведения из одного или нескольких письменных источников или из устных сказаний, или он сам их сочинил и выдумал, об этом ничего определенного сказать нельзя; возможно, что имело место в одном случае одно, а в другом — другое.
Теперь необходимо осветить взаимоотношение, которое существует между Марковым и Иоанновым евангелиями. По существу, некоторые точки соприкосновения с Иоанновым евангелием имеют также и другие два синоптические евангелия, и это наблюдается не только в рассказах, но и в отдельных изречениях Иисуса. Но некоторые выражения и фразы Марка так поразительно сходны с выражениями Иоанна, что многие усматривали в этом доказательство взаимной их зависимости, а именно зависимости Марка от Иоанна, как думают апологеты. Если принять во внимание всю совокупность сходных мест, то несомненным представляется лишь то, что один евангелист имел перед глазами труд другого, но кто именно и чей именно труд — это можно решить лишь в соответствии с нашими взглядами на происхождение и взаимоотношение обоих евангелий. В рассказе о расслабленном у Марка (гл. 2), как и в рассказе об исцелении больного у купальни Вифезда у Иоанна (гл. 5), мы при несходстве прочих обстоятельств находим тождественное изречение Иисуса: «Встань, возьми постель твою, и ходи». Это изречение встречается лишь в двух упомянутых евангелиях, хотя в одном евангелии говорили «одр», а в другом — «постель»[104], но из одних этих слов не видно, который из рассказов древнее, и надо полагать, что это достопамятное изречение сохранялось как изустное предание. В рассказе о насыщении толпы у Марка (гл. 6), как у Иоанна (гл. 6), — и только у них обоих — говорится о 200 динариях, на которые необходимо было купить хлеба; точно так же в рассказе о вифанском мировозлиянии, только они двое упоминают о 300 динариях, которые можно было бы выручить за миро (Мк. 14:3, 5; Ин. 12:3, 5), причем в последнем эпизоде есть соответствие с точностью до конструкции и слова «пистикес» (чистого) столь необычного, что возник спор толкователей относительно того, означает ли оно «подлинного» или «пригодного для питья»[105]. Относительно первого примера сходства некоторые критики указывали на то, что, по словам Марка, 200 динариев было достаточно для покупки надлежащего количества хлеба, а по словам Иоанна недостаточно, а потому и заключали, что рассказ Иоанна записан был позднее. Но эта догадка опровергается тем обстоятельством, что во втором рассказе Марк не довольствуется суммой в 300 динариев, которая могла быть выручена за миро. Некоторое сходство в рассказе о страстях Иисуса не имеет большого значения, но в рассказе о воскресении Иисуса Марк и Иоанн единогласно заявляют, что Иисус явился раньше всего одной только Марии Магдалине, а не Марии Магдалине и другой Марии одновременно, как повествует Матфей (Мф. 28:1; Мк. 16:9; Ин. 20:11). Если и к этому рассказу мы приложим ту же мерку, какую прилагали выше к рассказу о двух учениках, идущих полем в селение, то может показаться, что краткое замечание Марка есть резюме подробного рассказа Иоанна. Однако в данном случае наблюдается различие: даже краткий рассказ о такой видной личности, как Мария Магдалина, представляет значительный интерес, тогда как происшествие, случившееся с вышеупомянутыми двумя неведомыми учениками (каковыми они являются у Марка), приобретало некоторое значение только в связи с побочными деталями и обстоятельствами, на которые Марк указывает вскользь, но которые остаются непонятными вне подробного рассказа. Впрочем, эти два случая относятся к заключению Маркова евангелия, которое отсутствует в древних рукописях и подлинность которого поэтому сомнительна.
Ввиду всего изложенного нетрудно объяснить, почему этому евангелисту присвоено имя Марка.[106] По словам Деяний апостолов (12:12), он был сыном некоей женщины (Марии), приятельницы Петра, принадлежавшей к Иерусалимской общине христиан; затем он в течение некоторого времени был спутником Павла (Савла) и Варнавы (12:25; 15:37); потом, согласно первому посланию Петра (5:13), состоял при апостоле Петре, вероятно, в Риме, в качестве переводчика, как говорит церковное предание. Как Павел среди евангелистов имел своим представителем Луку, так и представителем Петра был избран евангелист Марк — человек, близкий Петру и Павлу и составивший евангелие в нейтральном духе. Но так как примирение враждебных партий и мирное сочетание имен обоих великих апостолов могло произойти только при условии, что Павлу предпослан Петр, то и в каноне — «петринисту» было дано преимущество перед «паулинистом», и Евангелию от Марка предоставлено второе место, а Евангелию от Луки третье. Предположение о том, что Евангелие от Марка появилось в городе (Риме), где совершилось примирение враждующих партий и сочетание имен обоих апостолов в интересах создания единой кафолической церкви, или что вообще на римском Западе возникло Марково евангелие, — это предположение подтверждается тем, что в греческом тексте этого евангелия встречается такое множество латинизмов, как ни в какой другой из книг Нового завета.
§22. Сравнительная оценка четырех евангелий
Заключая настоящее вступительное изыскание о наших четырех евангелиях вопросом: что каждое из них дало в смысле исторического ознакомления с Иисусом, его личностью, планами и судьбами? — мы должны будем в свете всего вышесказанного первенство признать за Матфеевым евангелием. У нас есть основание предположить, что из всех евангелий оно одно дает нам самое точное представление о том образе Христа, какой существовал в древней христианской церкви.
Мы не утверждаем, что Матфеево евангелие является древнейшей из всех новозаветных книг; во всяком случае, подлинные послания Павла древнее его. Но Павел едва ли знавал Иисуса лично. В своем послании (Гал. 1:17–18) Павел самодовольно повествует, что после своего чудесного обращения и призвания он вовсе не спешил лично познакомиться со старейшими апостолами и только три года спустя «ходил… в Иерусалим видеться с Петром», а ведь только от старейших апостолов он мог получить точные сведения о жизни Иисуса. Отсюда ясно, как мало Павел интересовался такого рода сведениями, сколь малое значение он придавал историческому Христу — Христу старейших апостолов, сравнительно с Христом, «открывшимся» в нём самом, то есть с его собственной идеей Христа. В своих посланиях Павел относительно жизни Иисуса сообщает лишь общеизвестные, традицией сохраненные сведения о крестной смерти и воскресении Иисуса, а также об учреждении евхаристии (I Кор. 11:23; 15:3). Древнее Матфеева евангелия также Откровение (Апокалипсис) Иоанна, но эта книга еще нагляднее показывает нам, как мало древнейшая община христиан интересовалась воспоминаниями о земной жизни Иисуса. Так как в течение своей насильственно прерванной земной жизни Иисус не успел осуществить те национальные надежды и ожидания, от которых окончательно не отрешились даже способнейшие ученики его, то они нетерпеливо ожидали близкого второго пришествия, надеясь на то, что тогда он предстанет уже не в образе ничтожного земного существа, а осиянный Божьей славой и величием и сторицей восполнит все утраты. Поэтому в Апокалипсисе лишь кратко говорится о смерти и воскресении Иисуса как основных положениях христианской веры, тогда как желанное грядущее будущее рассматривается со всей необузданностью пророческой фантазии. Только тогда, когда эти горячие упования и ожидания успели несколько остыть из-за несбывшихся надежд на скорое вторичное пришествие умершего Христа, христиане стали обращать свои взоры назад, отыскивая в прошлом следы величия Иисуса как гарантии исполнения его обетований.
По некоторой счастливой случайности в то самое время, когда христианские писатели стали от настоящего, изображенного в посланиях, и будущего, изображенного в Апокалипсисе, обращаться к прошлому, к изображению жизни Иисуса в евангелиях, — в тех областях, где жил и действовал некогда Иисус, сохранялся и обращался еще обильный запас его приснопамятных бесед и изречений. Правда, эти беседы и изречения отчасти уже успели оторваться от событий, которые давали повод к ним, и расчлениться в своей внутренней связи, отчасти уже успели изменить свой первоначальный облик соответственно позднейшим обстоятельствам и условиям, но тем не менее на них еще была заметна настоящая печать духа Иисуса. Иначе обстояло дело с отдельными событиями его личной жизни: о них в вышеуказанный период евангельской историографии сохранялись еще в памяти лишь самые общие контуры, и именно эти отрывочные и неполные сведения было решено дополнить и изукрасить продуктами воображения тех лиц, которые представляли себе Иисуса, грядущего вторично с небес, всесильным и осиянным славой державцем. Тогда и появилось множество рассказов о дивных чудесах, в которых следует видеть как бы остывшие шлаки, изверженные апокалипсическим вулканом; отсюда и стремление тогдашних писателей отмечать и подчеркивать наиболее блестящие моменты в жизни Иисуса: крещение, преображение и воскресение, — чтобы доказать, что сквозь низменную оболочку его земной жизни уже просвечивало будущее господство того, кто должен был, по общему убеждению, вторично прийти с неба.
Всё это у Матфея изображено с отменной простотой и самобытностью, хотя и простота и самобытность его представляются лишь относительными. Ибо и в его евангелии, как было показано выше, многие черты под влиянием времени и различных новых событий и представлений успели совершенно сгладиться и измениться, и многие достопамятные слова и действия Иисуса были забыты; но в то же время в его евангелие успели, видимо, войти многие черты, рисующие личность Иисуса в ином виде: много новых изречений, которых он не высказывал, новых деяний, которых он не совершал, и новых событий, которые в действительности не имели места. Наконец, в Матфеевом евангелии многие яркие картины и черты успели, видимо, в значительной степени потускнеть и исказиться. Во всяком случае, из истории мы знаем, сколь мощный пласт иудейских предрассудков мешал даже выдающимся ученикам Иисуса воспринять более чистое представление о Мессии; и так как эти предрассудки не исчезли даже после смерти Учителя, то вполне естественно, что они всего сильнее сказались на самом древнем из наших евангелий и что необходимо с образа Христа, рисуемого им, удалить резко иудейские черты, списав их на счет среды, через которую нам приходится воспринимать образ Иисуса в этом евангелии.
Отсюда явствует, что и при относительном первенстве Матфеева евангелия последующие евангелия могли иметь некоторые преимущества перед ним хотя бы по отдельным пунктам. Во-первых, в них могли содержаться такие вещи, которых нет в первом евангелии, — то ли потому, что их не было в преданиях, из которых оно черпало свой материал, и они хранились в других кругах и источниках, то ли потому, что о них случайно или умышленно умолчал редактор первого евангелия. Такого рода добавления дает Лука, и мы не вправе отвергать в качестве неисторического элемента то, что он добавляет от себя, только потому, что об этом не упомянул Матфей; напротив, мы можем и должны видеть в них ценный вклад в сокровищницу сведений об Иисусе — особенно в его речах, приводимых только у Луки. Даже в Деяниях апостолов (20:35) Лука приводит одно дополнительное изречение Иисуса, которое он забыл включить в свое евангелие и которое гласит: «Блаженнее давать, нежели принимать». Об этом изречении можно лишь сказать, что оно вполне достойно Иисуса и отражает его образ мыслей. Возможно, что даже изречения, которые сохранились в апокрифических евангелиях, вполне подлинны; например, изречение «будьте добрыми менялами»[107], которое нередко цитируется отцами церкви. Возможно, а после всего сказанного даже вероятно, что многие изречения и рассказы об Иисусе возникли традиционным путем или были выдуманы нарочно, чтобы подкрепить и обосновать известные представления и тенденции, например, рассказ об избрании 70 учеников или переделанный Лукой рассказ Матфея о воскресении, или рассказ о вознесении на небо, который, по-видимому, неоднократно переделывался даже в тот небольшой промежуток времени, который прошел от составления Евангелия от Луки до написания Деяний апостолов.
Такая же двоякая возможность мыслима в тех случаях, когда изречение или происшествие, о котором сообщает Матфей, отсутствует у прочих евангелистов. Такие случаи сами по себе не опровергают исторического характера повествований первого евангелия, наоборот, — ведь Марку приходилось для краткости опускать многое, а Лука вынужден был по догматическим соображениям о многом умалчивать. Но если догматические соображения выдвигались против рассказов, которые сами нарождались в атмосфере догматических предрассудков, они могли случайно способствовать устранению неисторических черт образа Иисуса. Поэтому Лука и Марк, несомненно, поступали правильно, опуская из напутственного слова Иисуса данный ученикам наказ не обращаться к язычникам и самарянам, так как этот запрет, видимо, попал в рассказ первого евангелиста лишь по настоянию закоснелых иудео-христиан.
Что касается Иоаннова евангелия, то мнение новейшей критики сводится к тому, что оно лишь мнимо обогатило евангельскую историю, ибо всё действительно историческое автор заимствовал из древнейших евангелий, а остальное совершенно самочинно и произвольно выдумал или переделал. С этим мнением нельзя не согласиться, однако встает вопрос: нельзя ли в том, что на Иисуса четвертое евангелие взглянуло иначе, видеть исправление допущенной старинными евангелиями ошибки. Правда, в этом евангелии сказывается такая «духовность» и такое вольномыслие, которые, вероятно, чужды были Иисусу, но разве не бывало случаев, когда мыслитель более поздней эпохи правильнее понимал какую-нибудь поэму или религиозную систему благодаря идеям, которые были чужды и неизвестны самому автору поэмы или основателю религии? Как историческая аналогия, так и фактический материал говорят за то, что первые ученики Иисуса плохо понимали его и что точка зрения ранней церковной общины значительно отставала от его подлинной точки зрения; и если на такой отсталой точке зрения древнейшей общины-церкви стояли старейшие евангелисты, особенно Матфей, то четвертый евангелист, успевший встать благодаря александрийским ученым на более высокую точку зрения, мог, стало быть, приблизиться и к подлинной позиции Иисуса. А если припомним некоторые полярно противоположные изречения Иисуса, например о незыблемости существующего закона, которое приведено у Матфея, и о поклонении Богу в духе и истине, которое приведено у Иоанна, то перед нами встанет далеко еще не решенный вопрос: на какой из этих двух точек зрения действительно стоял исторический Иисус?
При этом следует, однако, остерегаться, чтобы не слишком преувеличивать размер той принципиальной или идейной пропасти, которая отделяет Иоанна от других евангелистов, раз уж мы отрешились от ложного мнения о полной согласованности и солидарности всех четырех евангелистов. Если Баур называет Иоанново евангелие самым «духовным» (идейным) и в то же время «неисторическим», то вышесказанным последнее определение, по существу, не отвергается. Но если первое определение он поясняет замечанием, что это евангелие вводит нас в область «чистой духовности», то с этим мы не можем согласиться. Правда, сам Баур не слишком строго проводит свою мысль, ибо он сам цитирует из евангелия целый ряд вовсе не «духовных» черт. Но он не подводит их под единое общее понятие, и, направляя всё свое рассуждение к одностороннему обнаружению «духовного» элемента в Иоанновом евангелии, он рискует проглядеть его оборотную сторону. Это замечательное евангелие можно вполне понять только если мы признаем, что оно есть самое «духовное» и в то же время самое «чувственное» евангелие. Автор его пытается понять и объяснить чудесное символически и устранить в нём всё фактическое; он пытается объяснить и понять первое и второе пришествия Иисуса как явления, совершающиеся в духе, а воскресение и страшный суд как процесс, постепенно развивающийся уже в настоящем. Но он останавливается на полдороге, снова возвращаясь к «диву», магическому чуду, значение которого им фактически в такой же мере преувеличивается, в какой оно им умалялось духовно. Вторичному духовному пришествию Иисуса в параклите (духе-утешителе) он противопоставляет второе чувственное пришествие его в образе материальной изъязвленной плоти, а внутреннему, уже ныне совершающемуся суду, противополагает грядущий внешний акт правосудия, и мистицизм его в том именно и состоит, что то и другое он делает одновременно, произвольно подменяя одно другим.
Выше было сказано, что этой «духовности» Иоаннова евангелия многие не поняли даже в наше время и, усмотрев в нём мнимую несообразность, стали отделять «духовный» составной элемент от «чувственного», признавая первый апостольским, а второй — неапостольским. Тем самым они лишь доказали, что истинная сущность Иоаннова евангелия ими остается непонятой. Однако за поучительной аналогией ходить недалеко. Александрийские иудеи выпустили в свет «Книгу Премудрости», рассуждения которой о премудрости Бога, устрояющей мир и управляющей им, и о всемогущем слове Его весьма полезно сопоставить с Иоанновым евангелием, чтобы полнее уразуметь его. В этой «Книге Премудрости» сказывается, с одной стороны, чисто «духовная», философская точка зрения, а с другой — крайне фантастическая вера в чудеса, например, рассказ о казнях египетских сдобрен такими удивительными чудесами, о которых не повествует даже «Исход»; подобное противоречие заметно и в трудах Филона. Не свободна от него и философия платоников, да и в настоящее время такое противоречие присуще всякой философии, которая опирается на фантазию и игнорирует критический рассудок. Подобными примерами изобилует история Шеллинговой философии и старогегельянской философской школы.
В указанной особенности Иоаннова евангелия и заключается причина того расположения, которым оно пользуется в наше время. Собственно, евангельский хлеб — эту главную пищу во всей истории и в учении Христа — община верующих издавна извлекала из трех первых евангелий, особенно из Евангелия от Матфея, а добавлениями из четвертого евангелия она пользовалась только как приправой или пряностью. Особое расположение Лютера к Иоаннову евангелию связано с его учением об оправдании верой, с которым при мистическом характере его собственной натуры и образования гармонировало то, что в этом евангелии сильно подчеркивается божественное естество Иисуса. Расположение наших современников к Иоаннову евангелию объясняется иной причиной, а именно тем, что первые три евангелия представляются как бы наивно-классическими произведениями, а четвертое сентиментально-романтическим произведением. Шиллер говорит о наивном поэте, что тот строг и целомудрен, как Диана, дева лесов; черствая худосочная правдивость, с которой он разрабатывает свой сюжет, нередко представляется бесчувственностью; он всецело подчиняется объекту, заслоняя личность произведением своим и избегая сердца, которое его взыскует; но в свете правды и того живого реализма, который он вносит в разработку своего объекта, его произведение, даже при патетическом характере сюжета, создает впечатление чего-то ясного, спокойного и светлого. Это замечание Шиллера вполне подходит к нашим трем первым евангелиям. Далее он характеризует различие между наивным и сентиментальным поэтом следующим образом: первый силен искусством самоограничения, а второй — искусством беспредельной экспансивности, то есть сентиментальный поэт откликается на всякое впечатление, которое на него производит предмет, и на этой отзывчивости покоится то умиление, которым он заражается сам и заражает нас; он соотносит свой объект с какой-нибудь идеей и всегда имеет дело с двумя противоборствующими вещами: с идеей как бесконечным и с действительностью как пределом. Поэтому возбуждаемое им чувство всегда имеет смешанный характер, и произведенное им впечатление всегда волнует и возбуждает. (В этих суждениях прекрасно выражено то впечатление, которое производит Иоанново евангелие, и причина этого впечатления.) Наивный поэт — продолжает Шиллер — это такой поэт, который сам есть природа, а сентиментальный поэт это такой поэт, который взыскует природы.[108] Итак, можно сказать, что нас умиляет спокойствие, ясность и объективность в изложении евангелистов-синоптиков, потому что им не приходилось искать Христа, — они понимали и изображали его таким, каким он представлялся всей христианской общине — церкви; наоборот, патетический размер, субъективная возбужденность и живое чувство в Иоанновом евангелии нас умиляют, потому что автору его пришлось как бы заимствовать у неба свой идеал Христа, облечь его в исторический покров и в таком виде внедрить в представление верующих людей.
По этой-то причине Иоанново евангелие с его образом Христа гораздо симпатичнее для современного поколения, чем синоптические евангелия со своим изображением Христа. Последние писались в условиях спокойной самоуверенности беззаветной веры церковной общины (противоположность между иудаизмом первого евангелия и умеренным паулинизмом третьего мало затрагивает представление о личности и существе Христа), они, естественно, примкнули к ровной и спокойной уверенности древней веры; а Иоанново евангелие с его неустанной борьбой, направленной к тому, чтобы примирить новую идею с традицией и представить субъективно-достоверное как объективно-правдоподобное, должно нравиться такой эпохе, которая уже утратила спокойную и непоколебимую веру и вступила в полосу борьбы и тревоги, которая хочет, но уже не может беззаветно верить. Из-за такого впечатления, производимого Иоанновым евангелием на современный христианский мир, можно было бы назвать его романтическим евангелием, хотя, по существу, оно отнюдь не романтично. Тревога, повышенная впечатлительность, возникающая у современного верующего человека вследствие стремления наряду с новыми воззрениями, которые неизбежно овладевают им, удержать и старую веру, у евангелиста, наоборот, возникали из желания поднять старую традицию на уровень новой идеи и преобразить ее сообразно этой идее. Но тревога, борьба, неясность взглядов, расплывчатость очертаний новосозданного образа наблюдаются и там и тут, поэтому и нынешнего христианина так привлекает и чарует это евангелие. Христос Иоанна, как бы превозмогающий самого себя в своих самоизображениях, есть прямой двойник современного верующего человека, которому тоже приходится превозмогать самого себя, чтобы быть верующим. Чудеса, изображаемые Иоанном, постоянно истолковываются в духовном смысле и в то же время рисуются ярко и подробно, как внешние чудеса, которые, однако, не признаются истинной основой веры; они суть и не суть чудеса; в них должно верить, но веровать можно и помимо них, и такой взгляд тоже вполне соответствует нашему времени, которое преисполнено колебаний и противоречий и не решается доработаться до ясных взглядов и категорических определенных положений в делах религии.
Автор четвертого евангелия — это своего рода Корреджо, мастер изображения полутеней. Его рисунок часто бывает неточен, но блеск красок, переход от света к тени у него весьма эффективны. У евангелистов-синоптиков рисунок набросан значительно точнее и выразительнее, но в меньшей степени впечатляет прелестью оттенков света и воздуха, поэтому они нам кажутся жесткими и холодными, тогда как четвертому евангелисту мы охотно прощаем из-за отмеченных достоинств все прегрешения и ошибки.
Художникам нередко удается достичь больших эффектов при помощи простейших технических средств; то же можно сказать и относительно четвертого евангелия. Я укажу лишь на одну уловку, хотя, быть может, многих смутит сравнение, к которому я прибегаю в интересах ясности. Гёте как-то заметил об «Уленшпигеле», что комический эффект этой книги покоится на том, что все персонажи в ней выражаются фигурально, а сам Уленшпигель принимает их речи за чистую монету.[109] Так и диалоги Иоаннова евангелия производят эффект главным образом потому, что Иисус говорит иносказательно, а все прочие лица воспринимают его речи в прямом смысле. Человек смешон, если в кругу многих лиц он оказывается единственным лицом, чего-либо не понимающим[110], но он кажется великим, если он один понимает то, чего не поняли все остальные[111]. Если в первом случае окружающие лица — люди обыкновенные и если понять данную вещь нетрудно, тогда лицо непонимающее представляется каким-то получеловеком; а если во втором случае непонимающими оказываются люди, образованные и развитые, тогда понявший представляется уже каким-то полубогом. В первом случае, поскольку непонимание представляется делом немыслимым, никакой гротеск не является промахом, а наоборот, только усиливает комический эффект, а во втором случае преувеличение есть промах всякий раз, когда умаляет историческое правдоподобие рассказа и всё высокое низводит до степени нелепости и несообразности.
III. Объяснение понятий к последующему исследованию
§23. Ретроспективный обзор
В первом разделе настоящего введения мы показали, что все прежние попытки исторического описания жизни Иисуса потерпели полное крушение потому, что авторы примыкали непосредственно к евангелиям и предполагали в Иисусе такую личность, а в жизни его действие таких сил, которых не ведает история, или потому, что авторы, отрешаясь от подобных предположений, всё же продолжали считать евангелия историческими документами и вследствие этого вынуждены были истолковывать их противоестественным образом, или, наконец, потому, что авторы, не решаясь встать ни на одну из этих двух точек зрения, теряли твердую научную почву под ногами, делая уступки двум противоположным взглядам и условно признавая исторический характер евангелий. Во втором разделе введения мы рассмотрели внешние, а затем и внутренние свидетельства относительно евангелий как источников для жизнеописания Иисуса и пришли к заключению, что внешние свидетельства не подтверждают предположения о том, что евангелия написаны самими очевидцами или современниками Иисуса, а что в промежуток времени, протекшего от жизни Иисуса до написания евангелий, в них могли проникнуть многие неисторические элементы. Далее мы отметили, что и внутренний характер и взаимоотношение евангелий свидетельствуют о том, что эти книги написаны в сравнительно позднюю эпоху и под различными углами зрения и повествуют о фактических событиях не объективно, а в том виде, как их представляли себе люди того времени.
И если в этих источниках Иисусу приписываются такие вещи, которых не бывает в жизни других людей, и если вследствие того до сих пор не удалось дать исторического описания жизни Иисуса, то мы считаем себя вправе пренебречь авторитетом этих сочинений и отвергнуть фактическую достоверность их рассказов, не пытаясь их истолковать противоестественным образом: на чудеса, о которых повествуют эти сочинения, мы решили смотреть как на простые мифы. Чудеса в евангельских рассказах об Иисусе представляют собой чуждый, с историей не совместимый элемент, и понятие мифа поможет не только устранить из нашего исследования этот досадный привесок, но и создать настоящую историческую биографию Иисуса. Поэтому мы должны еще подробнее раскрыть вышеуказанные два понятия — мифа и чуда.
§24. Понятие чуда
Чудом обыкновенно именуется явление, которое необъяснимо с точки зрения действия и взаимодействия конечных причин; оно представляется эффектом непосредственного вмешательства высшей бесконечной причины, или самого Бога, и имеет целью проявить существо и волю Бога во Вселенной, ввести Божьего посланника в мир, поддерживать и направлять его в жизни и деятельности и аккредитовать перед людьми. Эта деятельность Божества проявляет себя в том, что Божий посланник, призвав помощь Бога, сам осуществляет дарованную ему силу чудотворения, или в том, что ради него Бог нарушает ход естественных процессов и творит какое-нибудь сверхъестественное явление (такими чудесами Бог отметил: зачатие Иисуса, чтобы ввести его в мир, отрочество Иисуса, чтобы возвестить о нём миру, крещение и преображение Иисуса, чтобы его прославить, вознесение Иисуса, чтобы перевести его из места временного жительства в место предвечного пребывания).
Таких явлений, или чудес, не признаёт история, которая следует своим собственным законам; напротив, религиозный, верующий человек их признаёт, правда, лишь в сфере собственной религии, так что христианин верит в чудеса древнейшей истории иудеев и христиан, но считает сказкой и нелепой выдумкой мифологию индусов, египтян и греков; иудей признаёт ветхозаветные чудеса и отвергает чудеса новозаветные и т.д. А если христианская вера начинает требовать, чтобы и наука точно так же относилась к чуду и, отвергая чудеса нехристиан, утверждала и признавала чудеса лишь христианской и в особенности древнехристианской эры, то наука по своему универсальному характеру не может не отвергнуть подобного партикуляристского притязания и должна ответить: «я могу признавать чудо или во всех религиях, или ни в какой». Она не может быть наукой или историей специально христианской, иудейской и так далее, хотя ее отдельные представители и могут быть христианами или иудеями и т.д. Впрочем, фактически это или—или не имеет никакого значения, так как наука не может вообще признавать чудес в религиях, не упраздняя самоё себя в других сферах познания. Если задача историографии состоит не только в простом констатировании событий, но также и в том, чтобы объяснить, как данный факт был порожден другим фактом, то ей пришлось бы отказаться от второй, самой благородной своей задачи, если бы она оставила место чуду, то есть нарушению причинно-генетической связи между фактами.
Историку достаточно сослаться на эти соображения, чтобы объяснить и оправдать свое скептическое отношение к чудесам евангельской истории. Но если он не просто историк, а человек науки вообще, то его метод обработки исторического материала определяется еще и общими идеями, философским взглядом на человечество и мир, или историософией. Историку, вообще, приходится быть философом; но так как философских систем существует много, историк, отвергающий чудеса по философским основаниям, рискует дискредитировать свой метод, если он станет односторонне придерживаться одной системы и отвергать другие.
Однако в данном случае опасность эта устраняется тем обстоятельством, что все существующие философские системы единодушны во взгляде на интересующий нас здесь предмет. Если так называемые догматические системы единогласно признают, что чудо невозможно, то и скептические и критические системы, в свою очередь, находят, что чудо непознаваемо и недоказуемо.[112] При этом само собой разумеется, что из систем первой категории системе материализма чудо представляется просто нелепостью. Однако же и пантеизм не признаёт Бога, управляющего миром и произвольно вмешивающегося свыше в строй Вселенной. В естественных законах природы пантеист усматривает сущность и тождественную ей волю Божества, фактически и непрестанно себя осуществляющую, и заявление о том, что Бог может нарушить естественные законы, пантеист считает равносильным заявление о том, что Бог мог бы нарушить законы собственной сущности. Казалось бы, что чудес не станет отрицать теизм, признающий личного и от мира обособленного Бога. Действительно, наиболее популярные формы этой системы не безусловно отвергают чудеса, но истинно-философская система теизма не мирится с идеей чуда. Признать чудо — значит предположить, что Бог, творящий чудо, иногда, в известные моменты, оказывается не абсолютным, а ограниченным временем существом, тогда как деятельность Бога должно понимать как вечный, непрерывный, единый и себе равный акт, проявляющийся в мире в ряде отдельных и последовательных божественных актов. Так, Лейбниц видел в чуде как бы зародыш, который был заложен Богом во Вселенной при ее сотворении и который без вмешательства с его стороны развивается и проявляется под влиянием естественных причин и сил, когда чудо совершается.[113] При этом отношение Бога к Вселенной (как справедливо отмечали теологи) ограничивается единичными и непосредственными актами воздействия на мир. Еще определеннее высказывался Вольф, который заявлял, что всякий акт чудесного вмешательства Бога в процесс природы есть исправление того, что им сотворено, но как признание несовершенства сотворенного оно дискредитирует премудрость Божества,[114] и не случайно Реймарус этим положением обосновывал свои нападки на библейскую историю и церковное вероучение.
В лагере скептических и критических философов выделяется Юм, который рассмотрел проблему чуда так убедительно и всесторонне, что этот вопрос можно теперь считать исчерпанным. Он говорил: когда нам в силу какого-либо авторитетного свидетельства приходится признать какое-нибудь событие фактом, мы прежде всего задаем себе вопрос о достоверности свидетельства; мы начинаем допытываться, покоится ли оно на показаниях очевидцев или более отдаленных свидетелей, немногих или многих лиц, согласуются ли их показания друг с другом, можно ли признать этих свидетелей людьми благонадежными и правдивыми, был ли сам очевидцем писатель, который о данном событии повествует, и т.д. Предположим, что свидетельство благонадежно и достоверно, — тогда встает вопрос о свойствах и характере события. У римлян существовала поговорка: «В этом деле я не поверю даже Катону». Она означала, что есть вещи, по существу, невероятные, относительно которых даже авторитетное свидетельство теряет доказательную силу. Возьмем пример, который вполне мог бы привести Юм: предположим, что 22-я глава четвертой книги Моисея действительно написана Моисеем или Валаамом; допустим даже, что мы сами присутствовали при том, как Валаам, сойдя со своей ослицы, стал нам рассказывать, что она с ним разговаривала по-человечески; и пусть Валаам будет известен за человека правдивого и честного; но всё это нас никак не убедило бы, и мы ему сказали бы в лицо, что он бредит или что ему это приснилось; быть может, мы даже усомнились бы в его правдивости и назвали бы его лжецом; и мы стали бы про себя решать, что более правдоподобно: что солгал, казалось бы, благонадежный свидетель или что данный факт, противоречащий опыту и ожиданию, имел место. И если событие при всей своей необычайности всё же не выходит из пределов естественного, если, например, Катон нас уверял бы, что Фабий поступил необдуманно, тогда мы, вероятно, стали бы колебаться и не решились высказать свое суждение.[115] Но если событие, в которое мне предлагают верить на основании свидетельства, есть сверхъестественное чудо, тогда я поступлю иначе. Я стану рассуждать так: уже не раз случалось, что свидетельство людей, заслуживающих доверия, людей почтенных, очевидцев и так далее, оказывалось ложным, но не бывало еще никогда таких событий, которые случились бы вопреки законам природы, за исключением данного, нами разбираемого случая. Притом свидетельству мы приписали бы свойства, которые невозможно приписать евангельским рассказам о чудесах, ибо евангелия написаны не очевидцами, а людьми, которые писали с чужих слов и которые тенденциозностью своих произведений обнаружили некритическое отношение к сообщаемым сказаниям. Недостоверность подобных свидетелей проявлялась неоднократно, и их свидетельством нельзя уравновесить пудовую гирю на весах. Впрочем, даже и при доброкачественном свидетельстве историк всё же склонен думать, что рассказ о чудесном событии основан на неверных сообщениях.
В наше время с таким взглядом все считаются настолько, что даже делаются попытки исказить само понятие чуда. Теперь уже говорят, что чудо не есть нечто противоестественное или сверхъестественное, что чудотворная сила Иисуса была естественной силой высшего порядка, что проявленная им целебная сила, хотя и не была присуща другим людям, но всё же мыслима в пределах человеческой природы. Но выше уже было сказано, что подобной формулой нельзя объяснить многих, и притом важнейших чудес, совершенных самим Иисусом и совершившихся над ним, и если только существует ключ к объяснению всех вообще чудес, то такой ключ мы, конечно, предпочтем другому, которым объясняются лишь некоторые чудеса. С другой стороны, чудо, искаженное вышеприведенными объяснениями, уже теряет доказательную силу. Естественное дарование, или талант, как говорят теперь, стоит в случайном отношении к моральному достоинству человека: талант может отсутствовать в хорошем человеке. А если высшую целебную силу Иисуса, как говорят сторонники этого взгляда, надо мыслить по аналогии с силой магнетизма, тогда она уже представляется силой телесной и не может служить основой для суждения об истине учения Христа и высоком достоинстве его личности; напротив, можно даже предполагать, что Иисус, одаренный этой силой, был фантазер или обманщик.
§25. Понятие мифа
В первом издании «Жизни Иисуса» я выдвинул понятие мифа в качестве ключа к пониманию евангельских рассказов о чудесах и иных неисторических моментов. Я говорил: немыслимо признать естественными явлениями природы такие факты, как появление звезды волхвов, преображение Иисуса, чудесное насыщение и т.д. Но столь же немыслимо допустить и то, что такого рода явления действительно имели место; а потому подобные рассказы следует признать чисто поэтическими сочинениями. На вопрос о том, почему и как создались эти поэтические сказания об Иисусе именно в то время, когда стали появляться наши евангелия, я отвечал указанием на тогдашние мессианские надежды. Я говорил: когда сначала некоторые, а потом и многие стали видеть в Иисусе Мессию, они поверили, что он мог исполнить всё то, что надлежало совершить Мессии согласно ветхозаветным пророчествам и прообразам, истолкованным в духе местных национальных представлений. Хотя все знали, что Иисус родился в Назарете, однако всем казалось, что Иисус-Мессия, сын Давидов, должен был родиться в Вифлееме, ибо так предсказал Михей. Хотя предание гласило, что Иисус порицал своих соотечественников за их пристрастие к чудесному, однако всем казалось, что если первый избавитель иудейского народа, Моисей, творил чудеса, то и последний спаситель, Мессия — Иисус, тоже не мог не творить чудеса. Исаия предсказал, что в это время, то есть в эпоху мессианских ожиданий, откроются глаза слепых и станут слышать глухие, что хромые станут скакать как лани, а немые будут свободно говорить, поэтому всем было ясно, какого рода чудеса должен был творить Мессия — Иисус. Вот почему первичная община верующих христиан могла, и даже обязательно должна была, создавать мифические рассказы об Иисусе, бессознательно их измышляя.
При этом я в согласии с представителями старой теологии предполагал, что представления о Мессии, воплощенном Иисусом, христиане почерпнули в тогдашней теологии иудеев. Эта догадка вызвала ряд возражений. Например, Бруно Бауэр утверждал, что понятие Мессии возникло при Иоанне Крестителе и, не успев развиться даже и ко времени написания евангелий, было детально разработано и утвердилось лишь позднее, и именно в среде самих христиан. Фолькмар так далеко не пошел. Он признавал, что иудеи уже до Христа надеялись, что от ига язычников их освободит существо, ниспосланное Богом, и назвали его Мессией, то есть помазанным от Бога и святым державцем Царства Божия. Но Фолькмар отличает от этих дохристианских представлений о Мессии позднейшие раввинистические измышления, которые возникли после возникновения христианства и в противовес ему. Читатель видит, что в данном случае спор идет лишь о степени. Только такие господа как Бруно Бауэр, решались утверждать, что христианам не было известно традиционное понятие Мессии. Однако я не говорил, что понятие Мессии ими было усвоено уже вполне и в детально разработанном виде. Конечно, слишком сильным является утверждение Гефререра, будто при Иисусе в народе обращалось несколько типов Мессии, и что различие идей Мессии определялось тем, как представляли себе его древние пророки или Даниил, которому прообразом Мессии служил Моисей, или второй Адам, и т.д. Верно лишь то, что представление о Мессии слагалось из многих и неоднородных элементов, поэтому оно и допускало разнотипные толкования и сочетания и, вообще, не отличалось строгой определенностью. Михей (5:1) представлял себе Мессию в образе Давида, и это представление легло в основание рассказов первого и третьего евангелий о рождении Иисуса и сказалось в именовании Иисуса «сыном человеческим». В повествовании о предстоящем, втором пришествии Христа во облацех сказалось представление Даниила. В Деяниях апостолов (3:22; 7:37) говорится, что Иисус исполнил обетование Моисея о грядущем пророке, который будет подобен Моисею; но этими словами Деяний не исключается тот прообраз Мессии, о котором говорил и Даниил. У Матфея (11:4–5) и у Луки (7:20–22) Иисус отвечает посланным от Иоанна Крестителя ученикам, что он есть тот, который должен был прийти, и в подтверждение своих слов ссылается на то, что слепые прозревают, хромые ходят и т.д. В этих словах Иисуса евангелисты усмотрели ссылку на пророчество Исаии (35:5) о чудесах, которые будет творить Мессия. Лука (4:25–27) упоминает о благодеяниях, оказанных Илией и Елисеем инородцам, и сопоставляет их с тем, что соотечественники Иисуса не признали в нём Мессию. Но нас не должно удивлять то обстоятельство, что чудеса вышеназванных великих пророков воспроизводились и в истории Иисуса. В цитатах раввинистов, заимствовавших свое представление о подвигах Мессии из ветхозаветных книг,[116] в общем, совершенно правильно отразилось своеобразие национально-иудейских представлений о Мессии. Наконец, сам Фолькмар (в согласии со мной) признаёт, что евангельская повесть о жизни Иисуса, видимо, скопирована с жизнеописаний Давида и Самуила, а также Моисея и двух упомянутых больших пророков. Поэтому весьма невероятно, чтобы такой ветхозаветный образ Мессии был создан христианами, а не иудеями позднейшего периода. Однако же мифический характер евангельских рассказов о Мессии этим моментом нисколько не исключается.
Предположение о том, что значительная часть новозаветных мифов образовалась путем простого перенесения иудаистских представлений о Мессии в историю Иисуса, казалось неприемлемым по той причине, что этим исключалась мысль о собственном творчестве древнейшей общины христиан, роль которой при этом будто бы сводилась к пассивному восприятию и усвоению чужих произведений. Однако нашей догадкой нисколько не умаляется самодеятельность древних христиан. Во-первых, далеко не все евангельские рассказы, представляющиеся мифами, возникли вышеуказанным путем; напротив, христианская община с ее старейшими писателями внесла в них много новых и оригинальных идей и наблюдений, хотя и присматривалась охотно к ветхозаветным прототипам. Во-вторых, новый христианский дух отразился также и на тех мифических рассказах, которые были взяты из ветхозаветных книг. Недаром в книгах Нового завета упоминаются лишь такие чудеса Моисея и пророков, которые отмечены печатью любви и благоволения, и не замечаются такие чудеса, которым был присущ «карательный» характер: ведь и Христос по духу нисколько не походил на Моисея и Илию. Точно так же учение о вере, о прошении грехов, об истинном значении субботы, отразившееся в новозаветных рассказах о чудесных исцелениях, равно и мысль о смерти как о сне, лежащая в основе рассказов о воскрешении из мёртвых, всё это самобытные идеи христиан, которые и сообщали новый возвышенный смысл рассказам, заимствованным из Ветхого завета или из иудейских мессианских упований.
С вышеотмеченной точки зрения, древнехристианская продукция мифических сказаний представляется лишь одним из многих этапов общего процесса нарождения религий. Ведь и прогресс новейшей науки о мифологии выразился в признании той истины, что мифы в своем первоначальном виде суть не произвольные и сознательные продукты поэтического творчества отдельных лиц, а продукт коллективной мысли целого народа или крупной религиозной общины. Правда, кто-нибудь из индивидов первым высказывает тот или иной миф, но общее доверие он встречает лишь постольку, поскольку сам является выразителем общих убеждений. Миф не есть форма, в которой умный человек преподносит придуманную им идею невежественной массе; напротив, облекая данную идею в форму исторического рассказа, он ее сам себе лишь уясняет. «Миф, — говорит Велькер, — зарождался и развивался в духе, как прорастает семя в почве: по форме и содержанию он един, история и правда в нём едино суть».
Но чем чаще и самостоятельнее создавались новые евангельские мифы, тем невероятнее казалось предположение, что авторы подобных рассказов не сознавали вымышленности своих повествований. Можно еще допустить, что евангелист bona fide[117] сообщал о том, что Иисус-Мессия родился в Вифлееме, потому что, по пророчеству Михея, Мессии надлежало родиться в Вифлееме. Но тот евангелист, который сообщал, что в час смерти Иисуса «завеса в храме раздралась надвое» (Мф. 27:51), очевидно сознавал, что такого происшествия он не видал сам и не слыхал о нём от других людей, а просто его придумал. Но это сообщение могло быть слушателями принято за метафору, по аналогии с тем стихом Послания Павла к Евреям (10:19–20), где говорится, что Иисус Христос своей смертью открыл доступ верующим во святилище «через завесу», то есть свою плоть. Поэтому и вышеуказанное сообщение переставало казаться вымыслом. Точно так же, вероятно, и рассказ о призвании четырех учеников для «уловления людей» составлен был лишь с тою целью, чтобы нагляднее противопоставить их прежнюю неблагодарную рыбацкую профессию несравненно более продуктивному уловлению душ человеческих, но, переходя из уст в уста, этот рассказ, естественно, превратился в мифический рассказ о том чудесном улове рыбы, о котором повествует Лука (5:5–7). Так же и рассказы, долженствующие удостоверить воскресение Иисуса, можно признать либо фактической правдой, либо сознательным вымыслом, но при более внимательном анализе ситуаций, эти рассказы приобретают иной вид. По этому поводу иудеи, вероятно, говорили: «Неудивительно, что гроб Иисуса опустел, ибо вы, христиане, выкрали оттуда тело покойника». На это христиане, вероятно, возражали: «Но как могли мы выкрасть его тело, когда вы, иудеи, видимо, стерегли и охраняли его гроб». Мало-помалу это гадательное предположение христиан превратилось потом в твердую уверенность, и появился миф о том, что гроб Иисуса был «припечатан», благо о том упоминается и в пророчестве Даниила, который в своем львином логовище столь же мало пострадал от ярости зверей, как и Христос в гробу от смерти. С другой стороны, иудеи, возможно, говорили: «Да, ваш воскресший Иисус действительно являлся, но он являлся как бесплотный дух или призрак, выходец с того света». На это христиане могли возразить: «Нет, привидением и духом он не был, ибо на нём видны были следы от язв гвоздиных, полученных им при распятии на кресте». Но потом, в дальнейшем пересказе, «видимые» язвы превратились в язвы «осязаемые», и таким образом создался антиисторический миф о телесно возродившемся Христе.
Однако сказанным о бессознательном поэтизировании ничуть не исключается предположение о том, что в деле создания евангельских мифов участвовало также вполне сознательное поэтическое измышление. Например, повествования четвертого евангелия так планомерны и детальны, что в своей неисторической части они прямо могут сойти за продукт сознательного и преднамеренного поэтического вымысла. Описывая встречу и беседу Иисуса с самарянкой у колодца Иаковлева, автор четвертого евангелия, очевидно, столь же сознательно «творил», как творил Гомер, когда описывал беседу Одиссея с Калипсо или Ахилла с его матерью-богиней. Но Гомер при этом вполне верил в правдивость своего же собственного описания, ибо знал, что изображает своих богов и героев с их речами и деяниями именно так, как им приличествовало быть, говорить и действовать и как их представляли себе его соотечественники. Почему же автору четвертого евангелия нельзя было бы думать так же? Ему, быть может, казалось, что Иисус пришел на землю не только ради «овец дома Израилева», но также ради спасения самарян, и потому он решил, что Иисус не только мог, но даже должен был начать то дело, которое продолжали делать впоследствии его апостолы. Точно так же по вопросу о воскрешении Лазаря критикам можно противопоставить следующее соображение: действительно, если не существовало никакого Лазаря, кроме того, о котором упоминается в притче, приведенной в Евангелии от Луки, и если никакого Лазаря Иисус не воскрешал из мертвых, то, стало быть, автор четвертого евангелия не мог не сознавать того, что своим рассказом он морочит христиан. Но мы не знаем, не превратила ли легенда Лазаря фигурального (упомянутого в притче) в Лазаря реального, уже до составления четвертого евангелия; ведь это и теперь еще делается у христиан. С другой стороны, евангелист, может быть, был уверен в том, что Иисус есть воскресение и жизнь и что эти свои свойства, как и свою славу, он должен был, так или иначе, проявить уже в период своей земной жизни. Ему казалось, вероятно, что воскрешение только что умерших, о котором повествуют старые евангелия, не есть достаточная гарантия грядущего, Иисусом обетованного, всеобщего воскрешения мертвых, и что такой гарантией может быть только воскрешение давно умершего, начавшего уже разлагаться трупа. Следовательно, повествуя о таком чудесном воскресении, евангелист лишь убежденно развивал и выражал свой взгляд на Иисуса. Ему, конечно, было хорошо известно, что все детали этого эпизода, как и эпизода с самарянкой, он сам создал в процессе поэтического творчества, но и при этом он мог верить, что говорит правду, ибо его правда состояла не в дипломатически верной передаче фактов, а в полном и всестороннем выражении идеи. Поэтому Христос евангелиста говорит и действует именно так, как сам евангелист представлял себе его речи и деяния. Евангелист писал откровение, аналогичное Откровению апостола Иоанна, но в нём он рисовал не фантастическую картину будущего, а реальную картину прошлого.
Но можно ли назвать мифом не только бессознательную легендарную поэзию, сказавшуюся в трех первых евангелиях, но и сознательное поэтическое творчество, проявившееся в четвертом евангелии? О греческой мифологии мы знаем, что в ней до последнего времени не отмечалось различий, мифом именовались все и всякие неисторические религиозные сказания независимо от их происхождения. Именно так думали все исследователи мифологии, вплоть до Гейне; они не различали мифов по происхождению и полагали, что все мифы вообще, не исключая и древнейших, суть сознательные и предумышленные поэтические произведения отдельных лиц. Но когда мифы стали различать по происхождению, могла явиться мысль о том, что их следует различать также по названию, именуя мифом лишь произведения первичные, бессознательные, как бы естественно-необходимые. Эту мысль стали проводить новейшие исследователи мифологии, и в частности знаток греческих мифов Велькер, на авторитет которого теперь и ссылаются все те, кому не хочется называть мифом такие элементы евангелий, которые представляются продуктом сознательного поэтического творчества. Но если Велькер совершенно прав в своей специальной сфере изысканий, то это еще не значит, что правы также подражающие ему теологи. Человек, исследующий греческую мифологию, оперирует материалом заведомо идеального, а не исторического характера, и потому может устанавливать различия и обозначать их специальными названиями. Но теолог, критически анализирующий евангелия, действует в такой области, где весь материал имеет историческое значение. Если он вздумает выделить некоторую группу фактов и приписать им идеальное значение,[118] по аналогии с греческой мифологией, ему придется обозначить эту группу новым наименованием, и мне кажется, что всего правильнее именовать их мифами, ввиду их внутреннего сродства с греческими мифами. Старая теология продолжала толковать об историческом значении всех вообще евангельских рассказов, а потому и проглядела их неоднородность и несходство. Но в данном случае основной вопрос состоит не в том, сознательно ли или бессознательно измышлен тот или иной рассказ, а в том, представляет ли данный рассказ историческое или поэтическое произведение.
Меня всегда смущало то место в «Критике Иоаннова евангелия» Баура, где он, говоря о чуде, случившемся в Кане, отвергает все попытки его естественного истолкования, но не желает при этом удалить эпизод из текста евангелия, затем вопрошает: «Но, может быть, следует признать факт чуда и объяснить его мифологически?» — и отвечает на свой вопрос: «Такое объяснение исключается всем предыдущим рассуждением». Я сказал себе: если это место прочтет кто-нибудь из верующих теологов, он весьма обрадуется тому, что даже такой критик, как Баур, отвергает «мифологическое» объяснение евангелий и, следовательно, восстает против такого взгляда, на который некогда с такой яростью ополчились все. Однако несколькими строками ниже Баур говорит, что «евангельский рассказ может быть понят лишь на базе основной идеи самого евангелия», и затем оказывается, что Баур называет «произвольным поэтическим сочинением евангелиста» то, что я именую мифом. Поэтому гипотетический читатель-теолог, жестоко разочарованный, отложит книгу Баура в сторону, не будучи убежден, что не следует прояснять рассказ евангелиста ветхозаветными прототипами. Он пожелает знать, является ли рассказ евангелиста историческим и достоверным повествованием или нет. И если его встревожило то обстоятельство, что один критик осмелился сказать: «Эта история неправдива», — то нисколько его не успокоит и то, что вслед за этим другой критик заявит: «Эта история — поэтический вымысел».
Такие рассказы, как рассказ о чуде в Кане Галилейской или воскрешение Лазаря, по мнению Баура, нельзя рассматривать под мифическим углом зрения, потому что предположение о мифе неуместно там, где решительно преобладает рефлексия, а планомерное расположение частей указывает на сознательное воплощение идеи. Об Эвальде он замечает, что тот тоже стоит, хотя и не сознается в этом прямо, на мифической точке зрения, так как полагает, что все важнейшие евангельские рассказы о чудесах — это мысли и картины, из которых приходится извлекать отражающуюся в них идею. Правда, Эвальд не называет мифом ни определенный класс рассказов, ни вообще все библейские повествования, — по его словам, поступает он так не из страха, а потому, что миф присущ язычеству, что «миф» — это иностранное (то есть не самим Эвальдом для евангелий придуманное) слово.[119] Баур, в свою очередь, не изгонял понятие мифа из евангельской истории; напротив, он даже настаивал на приложимости его к основе всей евангельской традиции — к Евангелию от Матфея; но слова «миф» он по возможности избегал и о мифологической точке зрения всегда высказывался как о воззрении, ему чуждом и несимпатичном. Свою собственную точку зрения, в противоположность моей, он называл консервативной, но это едва ли справедливо. Понятие тенденциозности, которым Баур заменяет мое понятие мифа, или положение о том, что историческое изложение утрачивает исторический характер в меру преобладания в нём тенденциозности, тоже ведь является критерием неисторического элемента сочинения. С другой стороны, по отношению к рассказам, в которых не видно тенденциозности и которые отмечены печатью свободно развивавшейся легенды, вполне уместно предположение о мифе. Поэтому принципами Баура нельзя объяснить тот факт, что в евангельской истории он находит даже меньше исторических элементов, чем я.
В настоящей обработке жизни Иисуса я, благодаря исследованиям и указаниям Баура, отвожу предположению о сознательном и преднамеренном поэтическом творчестве гораздо больше места, чем прежде. Но я не счел необходимым изменять терминологию. На вопрос о том, можно ли называть мифом сознательно-поэтическое произведение отдельного лица, я всё ещё готов ответить утвердительно. Да, такое произведение — тоже миф, если только в него уверовал народ и оно успело стать сказанием целого народа или религиозной партии, ибо это свидетельствует о том, что подобные произведения создавались не только под влиянием индивидуального вдохновения, но и в связи с народным помыслом. Всякий неисторический рассказ, независимо от своего происхождения, есть миф, если какая-нибудь религиозная община в нём усматривает элемент своих верований и выражение своих коренных идей и ощущений. А если греческой мифологии пришлось наряду с широким понятием мифа выработать другое, более узкое понятие, исключающее сознательный поэтический вымысел, то критической теологии, в противоположность так называемой ортодоксальной теологии, в свою очередь, приходится все евангелические рассказы, представляющие только идеальное значение, объединять универсальным и широким понятием мифа.
§26. План исследования
Наряду с вышеуказанным своеобразным аппаратом, помогающим истолковать все чудеса мифически, критика евангельской истории, разумеется, должна использовать еще и те средства и орудия, которыми располагает историческая критика вообще и которые по своему универсальному характеру не нуждаются в дальнейшем и детальном описании.
Применяя эти средства в критическом процессе, я в первой своей обработке жизни Иисуса шел аналитическим путем: я направлялся от периферии к центру, от внешней оболочки к содержанию, стараясь сквозь наносные пласты проникнуть к основной породе. Критика моя исходила от разнородных толкований и изъяснений отдельных евангельских рассказов; она старалась путем исключения неприемлемых элементов найти элементы истинные и, выяснив происхождение и развитие того или иного рассказа, указать, в чём заключается историческое ядро последнего. В то время критика не могла поступать иначе. Ей приходилось шаг за шагом отвоевывать себе позиции на освященной территории евангельской истории, ей приходилось как бы прокладывать себе дорогу от морского побережья внутрь страны с оружием в руках. Такая работа была и нелегка и кропотлива, но она была и благодарна. С каждым новым шагом она вскрывала какой-нибудь теологический предрассудок, изобличала ложь какого-нибудь догматического умозаключения, исправляла какую-нибудь ошибку экзегета, а всё это отлично обучало и дисциплинировало тех, кто более или менее внимательно следил за ходом критики, и потому моя книга приобрела в глазах всех старых и молодых теологов значение весьма полезного руководства. Но, с другой стороны, этот метод оказался нецелеустремленным. Во-первых, продвигаясь от периферии к центру, от поверхностных пластов к пластам глубоким, моя критика шла не тем путем, которым некогда шло естественное развитие объекта критики. Критика исходила от позднейших фактов, чтобы прийти к тому, что в действительности было фактом первоначальным. Во-вторых, критика, исходившая из отдельных евангельских рассказов и указывавшая в конце каждого изыскания, что в данном рассказе представляется мифическим привеском и что — историческим ядром, давала под конец множество отдельных итоговых сведений, которые не были суммированы в единую картину — в цельную историческую повесть о личности и жизни Иисуса.
Поэтому мне кажется, что в интересах дела теперь необходимо пойти другим, более соответствующим прогрессу науки синтетическим путем. Когда автору первой «Жизни Иисуса» удалось пробиться от внешних рубежей к центральной твердыне исследуемой территории, за ним последовал столь мощный отряд соратников, что теперь конечная победа и захват надежной позиции представляются уже делом совершенно обеспеченным. По крайней мере, теперь уж мы знаем, чем не был Иисус и чего именно он не делал (а он не делал ничего такого, что превышало силы человека и было сверхъестественным). Поэтому мы можем с доверием отнестись лишь к тем повествованиям евангелий, в которых Иисусу приписываются черты естественные и человеческие; мы можем в общем представить себе, чем Иисус был и чего он добивался. Стало быть, теперь мы уже можем исходить из того гипотетического исторического ядра истории Иисуса, которое не удалось обнаружить в нашем первом сочинении. Но далее мы покажем, что реальному, истинному Иисусу удалось пробудить в своих учениках необычайно пылкую и беззаветную веру в его воскресение и тем самым положить начало легендарному неисторическому представлению о нём. Богом вдохновенный сын Давидов у них превратился в Сына Божия, без отца зачатого, а под конец и Сын Божий превратился в воплощенное Творческое Слово. Искусный врач-человеколюб превратился у них в существо, воскрешавшее мертвецов, в неограниченного повелителя природы и ее законов. Умный учитель народа, сердце человеческое прозревающий пророк обратился в существо всеведущее, в alter ego[120] Бога, о котором впоследствии составилось убеждение, что воскресший и отошедший к Господу Иисус от него же исходил и сам предвечно был Богом и что только ради людей и их спасения он временно сошел на землю. Поэтому и критика моя ставит себе целью проследить постепенный ход развития этих представлений об Иисусе, процесс обогащения его биографии идеальными чертами. При этом нам придется отмечать нарождение неисторических элементов и их последовательное напластование и указать, как каждый из этих пластов составлялся из идей и представлений данного момента и данной среды и как весь этот процесс нарастания пластов завершился появлением Иоаннова евангелия, которое представляет собой наивысшую мыслимую ступень в деле одухотворения религии. Такое изложение представляет интерес не только исторический, но также и догматический в том смысле, что может послужить опорой для суждения о характере евангельской истории. Человек, решившийся отвергнуть историческое значение такой «истории», к которой все относятся с доверием, разумеется, обязан не только мотивировать свой взгляд, но также показать конкретно, как создалась подобная неисторическая повесть, — и такого рода объяснения будут даны во второй книге настоящего труда.
Следя за постепенным ходом развития объекта критики, мы могли бы не касаться возражений и противных толкований теологов; словом, мы могли бы совершенно обойти молчанием всё то, из чего мы исходили в нашем прежнем труде, как из главной темы. И мы могли бы поступить так потому, что все возражения и примирительные толкования теологов представляют собой попытку сбить критику с ее настоящего пути и завести ее в такие дебри апологетики, из которых уже трудно будет выбраться на свет Божий. К тому же и апологетических хитросплетений расплодилось неисчислимое множество за последние десятки лет, прошедшие со времени появления моего первого труда. О них можно сказать то же, что о полевых мышах: в сухую осень не успеешь притоптать одно их гнездо, как появляется уже десяток новых. Когда читаешь книгу типа почтенного труда Целлера по истории апостолов, где с изумительным терпением разбирается каждое, даже ничтожное возражение теологов, где отражается каждая необдуманная их вылазка против критики и парируется каждый «боковой» удар коварного противника, то невольно начинаешь думать, что совсем не стоило ученому мужу так много возиться с этим сборищем и ради неблагодарной полемики отклоняться от прямого пути научной критики. Наконец, даже убедительность и доказательность самой книги сильно умаляется от того, что автору приходилось часто прерывать нить рассуждений ради подобных полемических экскурсов, в результате чего даже цель — опровержение противных взглядов — не вполне достигается. С криками теологов о том, что критика для облегчения своей задачи игнорирует их основательную аргументацию, тоже не следует считаться: их бумажные редуты не заслуживают ни атаки, ни серьезного внимания; к тому же и книга эта написана и издана не для теологов, а для образованных и мыслящих людей всех состояний и профессий. Тем не менее я решил — удовольствия ради — не совсем избегать полемики. Впрочем, я позволял себе это лишь в тех случаях, когда рассчитывал достигнуть сколько-нибудь ценных результатов, то есть тогда, когда надеялся одним ударом вывести из строя многих ничтожных оппонентов и когда полезно было показать читателю конкретные примеры того, как нынешняя теология в целях самосохранения прибегает к самым неестественным уловкам и приемам, чтобы решить проблему, которая так легко и безыскусно решается в свете нашей исторической критики.
Книга 1. Исторический очерк жизни Иисуса.
§27. Вступление
Говорят, что признавать чудо в христианстве необходимо, потому что само возникновение христианской веры представляется великим чудом. Предполагают, что наука, не проникнутая верой, будет тщетно искать причины, породившие христианство, во времени, непосредственно ему предшествующем: несоответствие между этими периодами слишком велико, и как в вопросе о возникновении органических существ и человека, так и здесь необходимо допустить непосредственное вмешательство божественной творческой силы.
Правда, если бы нам удалось исторически установить моменты, обусловившие возникновение христианства, с такой полнотой, чтобы все причины и следствия соответствовали друг другу, то этим можно было бы опровергнуть мнение всех тех, кто в возникновении христианства видит чудо, ибо предполагать чудо в этом случае оказалось бы ненужным, а ненужное, бесцельное чудо неприемлемо даже для человека, который верит в чудеса. Но из этого еще не следует, что необходимо признавать чудо, если нам не удастся его обнаружить. Хотя нам пока неизвестны все обстоятельства, которые обусловили появление христианства, однако этим не исключается наличие таких обстоятельств; напротив, мы теперь ясно видим, почему так мало о них знаем.
О том, каков был уровень образования палестинских иудеев в том столетии, которое предшествовало веку Иисуса, мы почти ничего не знаем. Главными источниками по этому вопросу являются книги Нового завета и сочинения Иосифа Флавия. Но книги Нового завета рассказывают исключительно об Иисусе и вере в него и видят в нём явление сверхъестественное и из фактов прошлого непостижимое, а потому в них мы находим лишь отрывочные и случайные, как бы непроизвольно оброненные сведения по интересующему нас вопросу. Иосиф Флавий написал в Риме, после разрушения Иерусалима, два главных сочинения: «Иудейская война» и «Иудейские древности»; он весьма подробно характеризует политические и династические отношения в Иудее в соответствующий период, а по истории образованности сообщает точные сведения о тогдашних трех иудейских сектах; однако о той стороне религиозных взглядов своего народа, которая в данном случае наиболее интересует, о мессианских ожиданиях, он сознательно умалчивает, чтобы не возбуждать политического подозрения у римлян, которые не без основания к этим «ожиданиям» иудеев относились настороженно. По той же причине, вероятно, он совсем не упоминает ни о христианстве, ни об основателе его (ибо то место у Флавия, где идет речь об Иисусе, видимо, не подлинно[121]). Сочинения александрийского еврея Филона написаны сравнительно рано и, быть может, еще при жизни Иисуса, но в них мы находим поучительные сведения лишь относительно образованности египетских евреев, и потому весьма рискованно такого рода сведения распространять на их метрополию. Талмуд, в свою очередь, составлен в Палестине и потому содержит известия относительно эпохи, предшествующей Христу; но заключение Талмуда относится к сравнительно позднему времени, и потому сообщения его весьма неблагонадежны.
В качестве источников для последних двух веков до Р.X. нередко фигурировали также некоторые апокалипсические сочинения, например Четвертая книга Ездры и Книга Еноха. Но в последнее время их древность вызвала некоторые сомнения и их стали теперь относить к I и II веку после Р.X.[122] Наконец, греческие и римские писатели обращали слишком мало внимания на события, происходившие в Палестине, поэтому у них не приходится искать указаний относительно тех обстоятельств, которыми подготовлялось христианство, да и сколько-нибудь точное представление о нём у них составлялось тогда, когда оно уже распространялось за пределами Палестины и почти вполне сложилось в своих основных чертах.
Тем не менее даже эти скудные сведения об иудейском народе в эпоху, предшествующую Иисусу, в связи с имеющимися у нас более подробными данными об общем состоянии образования у народов того времени, с достаточной отчетливостью показывают, что в возникновении христианства нет ничего загадочного, что здесь повторилось то же самое, что замечается в любую из других эпох в истории искусства или науки, религиозной или государственной жизни, когда на сцене появлялся гениальный человек и бросал искру в накопившуюся груду горючего материала.
Я не понимаю, почему приписывать христианству сверхъестественное происхождение лучше, чем показать путем исторических исследований, что христианство есть зрелый плод возвышенных стремлений, которые присущи были всем ветвям великой человеческой семьи. Говоря это, мы хотим сказать, что постичь вполне возникновение христианства невозможно, если мы ограничимся одной Иудеей. Правда, христианство выросло на иудейской почве, но лишь тогда, когда она насытилась извне привнесенными элементами. Наверно, христианство никогда не стало бы общей религией Запада и Востока и впоследствии не стало бы преобладать на Западе, если бы на его возникновение и первоначальное развитие не оказали влияние Восток и Запад и если бы наряду с иудейским духом на него не действовал греко-римский дух.
Иудеи могли породить христианство только тогда, когда под ударами страшного молота истории народ Израиля раздробился и, рассеявшись среди других народов, стал многими каналами сплавлять на родину элементы чужеземной образованности. В частности, христианство было бы немыслимо, если бы ему не предшествовал акт объединения Запада с Востоком, совершенный великим македонцем в Александрии. «Не будь раньше Александра Македонского, не появился бы и Христос» — такая фраза теологу может показаться кощунством, но в ней не увидит ничего преступного человек, который признаёт, что и любой герой выполняет миссию, Богом на него возложенную.
Если, согласно обычному словоупотреблению, мы скажем, что факторами образования новой мировой религии являются иудеи и язычники, то относительно иудеев мы должны оговориться, что и на них, в свою очередь, оказали сильное влияние, во время изгнания и позднее, другие восточные религии, особенно персидская.
Под фактором языческим мы разумеем прежде всего греческую образованность, а затем крепко спаянный организм Римской империи, в состав которой ко времени рождения Иисуса вошли также земли и народ иудеев. Таким образом, перед нами вырисовываются как бы две черты, из коих каждая имеет свое собственное направление и которые всё же должны пересечься в одной точке — месте нахождения новой религии. Выражая в короткой формуле тенденцию этих двух противоположных и взаимно пересекающихся течений, можно сказать, что мир иудейский (иудаизм) во всех стадиях своего развития взыскует Бога, а мир греческий (эллинизм) взыскует человека.
§28. Ход развития иудаизма
Народу иудейскому казалось, что он обрел Бога, когда в противоположность чувственным египетским и палестинским богам и идолам познал единого духовного незримого и несравненного Иегову. И так как он один из всех народов возвысился до того познания, Иегова стал исключительно его Богом, а Израиль — избранной собственностью этого Бога, и между народом и его Богом установились как бы союзнические или договорные отношения, в силу которых народ обязывался совершать сложный и точно установленный культ поклонения и за это получал благословение и мощную защиту от Бога против всех других народов. Но вскоре или, лучше сказать, уже с самого начала обе стороны стали жаловаться друг на друга. Единого истинного Бога познали лишь немногие выдающиеся представители народа, а масса продолжала предаваться многобожию и культу животных и идолов, усвоенному от соседних народов. С другой стороны, защита, которую Иегова обещал Израилю, почти не ощущалась, так как, за немногими лишь исключениями, избранному иудейскому народу жилось не сладко. Священники и пророки единого Бога, конечно, говорили, что это кара Божья, ниспосланная народу за его непослушание, но сам народ, в свою очередь, оправдывал свое нежелание служить такому Богу тем, что не видит от него себе обетованной им исключительной поддержки.
Учредители иудейской церковности сохранили из обрядов соседних народов культ жертвоприношений, и это была мера не только естественная, но и полезная для народа, который очень туго усваивал идею незримого безличного Бога и, разумеется, совсем не понял и не усвоил бы такой культ поклонения ему, в котором не требуется жертв. Однако поклонение невидимому существу, сопровождаемое закланием животных, представлялось крайне противоречивым. Чувственная форма богослужения шла вразрез с идеей сверхчувственного Бога и потому легко могла толкнуть народ опять в сторону понятных ему чувственных богов. С другой стороны, чем более людям мыслящим единый Бог представлялся не только творцом природы, но и духовным существом и моральной силой, тем более они сознавали и то, что истинное богослужение должно состоять не в жертвоприношениях или иных внешних деяниях, а в очищении сердца и благоустроении жизни.
Как известно, такого рода взгляды усвоили себе и насаждали в народе так называемые пророки, особенно те их них, которые появлялись со времени упадка «десятиколенного» израильского царства и до возвращения из вавилонского плена.[123] «Ненавижу, отвергаю праздники ваши, — говорит Яхве устами Амоса, — и не обоняю жертв во время торжественных собраний ваших… Пусть, как вода, течет суд, и правда — как сильный поток!» (5:21, 24). «Ибо, — говорит Яхве у Осии, — Я милости хочу, а не жертвы, и Боговедения более, нежели всесожжений» (6:6). То же проповедовал повсеместно Исаия, а Михей вопрошает (6:6):
«С чем предстать мне пред Господом, преклониться пред Богом небесным? Предстать ли пред Ним со всесожжениями, с тельцами однолетними? Но можно ли угодить Господу тысячами овнов или неисчетными потоками елея?.. О, человек! сказано тебе, что — добро и чего требует от тебя Господь: действовать справедливо, любить дела милосердия и смиренномудренно ходить пред Богом Твоим.»
Наконец, Иеремия идет еще дальше и говорит от лица Яхве народу (7:22): «Ибо отцам вашим Я не говорил и не давал им заповеди в тот день, в который Я вывел их из земли Египетской, о всесожжении и жертве».
Однако никто не думал одухотворение религии доводить до полного упразднения жертвоприношений и ради морального богослужения отвергать обрядность. Даже идеалистически настроенный автор добавлений к пророчествам Исаии, который говорит, что в пост человеку пристойно не вешать голову и не делать покаянных жестов, а творить добро и любить ближнего, — даже он велит соблюдать посты (58:3), и в особенности святить субботу (56:1; 58:13). После пленения народ иудейский считал особенно необходимым исполнять религиозные обряды своих предков, потому что видел в том единственное средство отстоять свою самобытность и самостоятельность против напора могущественных мировых держав, которые мало-помалу создавались за пределами его земли. Поэтому мы видим, что в это время он сразу теряет желание вернуться к языческому идолопоклонству, но одновременно наблюдается не одухотворение религии, а возрастающая строгость в деле соблюдения внешних обрядовых постановлений. В эпоху господства Селевкидов одно время могло показаться, что после Александра Македонского, приобщившего Восток к греческой культуре, обычаи и идеи греков стали прививаться также и евреям в Палестине. Однако религиозная и национальная самобытность народа была настолько сильна, что в эпоху восстания Маккавеев[124] ему удалось отторгнуть от себя чуждые элементы, чтобы затем еще более замкнуться и застыть в тесной сфере самодовлеющей обрядности. Таким образом, позднейший иудаизм заметно регрессировал по сравнению с тем, как его понимали пророки времен изгнания: помышляя о внешнем благолепии богослужения, развивая и осложняя лишь обрядность, иудеи несравненно более удалились от взыскуемого ими Бога, чем пророки, которые усматривали Бога в духе человеческом, а в благочестии и человеколюбии полагали истинное богослужение.
Кроме стремления к одухотворению религии, у пророков наблюдалась еще одна характерная черта. Конечно, подъем Израиля до истинного благочестия они считали существенно необходимым условием наступления лучших времен. Они говорили, что Яхве будет сначала судить и казнить свой народ, очистит его от негодных примесей и отмоет всё нечистое (Ис. 1:25; 4:3; Мал. 3:2), а затем изольет свой дух на обратившихся и покаявшихся, заключит с ними новый завет (союз) и начертает в их сердцах закон (Иер. 31:31; Иез. 11:19; 36:26; Иоил. 3:1), и лишь тогда наступят новые, счастливые времена. Но так как будущее рисовалось в образе «доброго старого времени», благами которого народ пользовался при царе Давиде, то и надежды на возврат былого стали возлагаться на то, что явится новый властитель из рода Давида и характером похожий на Давида и что он не только выведет народ свой из его нынешнего унижения, но и дарует ему такое могущество и благосостояние, какого он не ведал даже во времена Давида. Когда ассирийцы разрушили Израильское царство «десяти колен» и стали угрожать царству Иудейскому, пророк Исаия предсказал (11:1), что скоро сокрушится сила могущественного врага, и тогда воздвигнется некий отпрыск из дома Иессеева, и появится владыка, на котором будет почивать дух Иеговы, и он будет править страной справедливо и властно и утвердит золотой век, и восстановит царство Израильское, и закончит его вековую распрю с Иудеей, и оба царства общими усилиями покорят себе все окружающие народы, и (надо полагать) при этом обратят их в веру в Яхве (Мих. 4:1; Ис. 18:7; 19:17; 60:1). Впоследствии, когда свершался Божий суд над Иудеей и началась эпоха вавилонского пленения, Иеремия (33:1, 14) стал предсказывать, что опустошенная страна снова возродится при потомке Давида и что этот властитель станет править так, как предрекал Исаия. Это прорицание Иезекииль, пророчествовавший в Вавилоне, истолковывал в том смысле, что тогда явится сам Давид, и как добрый пастырь будет править возрожденным и объединенным народом своим.
Вся история народа израильского отмечена борьбой, которую вели пророки и священники с царями; поэтому и мессианские ожидания исходили не от Давида, а от Моисея. Автор Второзакония, живший во времена Осии, устами умирающего законодателя Моисея предсказывает (Втор. 18:15), что Яхве воздвигнет народу своему из его среды пророка, ему подобного, которому и надлежит повиноваться. В этом прорицании хотя и говорится о пророке вообще, но, как видно из Первой книги Маккавейской (4:46) и из Нового завета (например, Ин. 4:19; 6:14; Деян. 3:22), впоследствии в нём стали усматривать указание на особого пророка, подобного Мессии. Ниже будет показано, как этот Моисеем созданный прообраз Мессии отразился на истории Иисуса в евангелиях. Пророк Малахия, живший после вавилонского пленения, свои упования возлагает не на Моисея, давшего закон, а на пророка Илию, Богом вознесенного на небо, и говорит, что еще раз пошлет его на землю до страшного суда своего, и он будет тогда обращать народ к вере истинной (Мал. 3:23; Сир. 48:9–10). В Новом завете это ожидание совмещается с ожиданием Мессии из дома Давида и говорится, что Илия явится предтечей Мессии.
Уже в этих прорицаниях, как и в словах Иезекииля о предстоящем втором пришествии покойного царя Давида, понимаемых буквально, и во многих высказываниях других пророков, например Исаии (11:5–9), личность ожидаемого Мессии наделяется сверхъестественными чертами; но после появления Книги Даниила (7:13–27), написанной в эпоху восстания Маккавеев, образ и идея Мессии, наделенного сверхъестественными свойствами, стали решительно преобладать. Пророку привиделось, что после суда над четырьмя «зверями», олицетворяющими четыре великих мировых царства, в облаках неба появится некто, «как бы Сын человеческий», который, приблизившись к престолу Божьему, получит от Бога власть над всеми народами. Хотя (судя по ст. 27) сам автор в образе «Сына человеческого», вероятно, представлял себе народ израильский, подобно тому как под «зверями» он разумел народы варварские, которые дотоле господствовали на земле, но в этом образе легко было увидеть образ ожидаемого Мессии, хотя Четвертая книга Ездры и Книга Еноха и поколебали прежнее мнение о моменте нарождения мессианских представлений.[125]
Мы не знаем, когда именно ожидаемого «Спасителя» стали называть «Мессией» (по-гречески — Христос), или помазанником. В Ветхом завете это название присваивается исключительно царям или пророкам и священникам (Исх. 28:41; Лев. 4:3; 1 Цар. 10:1; 24:7, 11; 3 Цар. 19:16; Пс. 104:15; Дан. 9:24). Но, разумеется, оно совершенно подходило тому величайшему пророку и царю, которого, по словам Исаии (11:2), Бог наделил дарами духа своего в наивысшей степени. Именно в этом смысле слово «помазанник», или «Мессия», употребляется и в Новом завете, и в Четвертой книге Ездры, и в Книге Еноха.
Очевидно, образ Мессии создавался из весьма неоднородных элементов. Правда, религиозно-нравственный момент в нём присутствовал, в том именно смысле, что моральный подъем народа представлялся условием и целью пришествия Мессии; но преобладающую роль играл в нём политический момент, и массе он рисовался как полное истребление или хотя бы порабощение язычников избранным народом; и чем сверхъестественнее было существо грядущего Спасителя, тем разнузданнее становился фанатизм народа-фантазера. С одной стороны, ожидание Мессии становилось собственно национальной идеей, последней опорой злосчастного и опустившегося народа, а с другой стороны, идея эта была столь двусмысленна, что трудно было решить, послужит ли она народу рычагом для нового подъема или, напротив, окончательно его погубит. Не говоря уже о влиянии на деятельность Иисуса, которая тоже не оказала никаких услуг народу как таковому, мессианская идея за все последние годы существования иудейского царства породила в итоге ряд гибельных для него предприятий, безумных и бесцельных возмущений против римского владычества.
Процесс продолжительного религиозного развития иудейского народа завершился образованием трех религиозных сект,[126] которые во времена Иисуса пользовались большим влиянием и которые возникли или стали определенно обрисовываться в период народного восстания Маккавеев. Не подлежит сомнению, что против навязанного Антиохом эллинизма возмутились лучшие элементы израильского народа, но вполне возможно, что, успешно завершив борьбу, те же элементы мало-помалу стали застывать в безотрадном, мрачном фарисействе. Ведь и мы сами были свидетелями того, как после несомненно здорового народного движения, которому мы обязаны свержением французского ига, народился романтический германизм, который относительно немецкого народа занимал такую же позицию, какую занимало фарисейство относительно евреев. Когда народ отторгает от себя чуждые, навязанные ему элементы в государственном укладе, обычаях, а также в религии, как это было у евреев, и пытается восстановить свою самобытность, он нередко отбрасывает также и хорошие черты чужой народности; он каменеет, застывает в своей односторонности; начинает усиленно подчеркивать и развивать у себя такие формы жизни, которыми он отличается от других народов, и в результате весь народ или, вернее, те, кто еще продолжает держаться этого направления, хотя оно уже сослужило историческую службу, легко впадают в формализм и забывают сущность ради формы. Вместе с тем в подобной партии наблюдается неодолимое упрямство в отстаивании национальных притязаний и нежелание считаться с изменившимися обстоятельствами, и потому партия постоянно призывает к возмущению и восстанию против таких правителей, которые считаются с условиями нового времени. Осуществить национальные притязания секта фарисеев могла бы лишь в том случае, если бы она была способна возродить народ духовно, органически обновить его в моральном и религиозном отношениях. Но именно об этом партия фарисеев никогда не помышляла; наоборот, всей своей деятельностью она внушала массам нелепую мысль, будто всё дело заключается во внешности, будто и Господь поможет евреям через Мессию достичь высокого благосостояния и господства над всеми прочими народами, если они угодят ему точным соблюдением религиозных обрядов.
Против этой партии несговорчивых и ограниченных иудаистов выступила группа просвещенных светских людей, секта саддукеев. Она отвергала те уставы и обряды, которые были выработаны фарисеями в дополнение к Моисееву закону на основе устного предания, и признавала только писаный закон источником религии и религиозных обрядов. В этом отношении саддукеи были протестантками; отрицание фарисейского учения о воздаянии за добродетель и требование, чтобы добро делалось ради самого добра, придавало им стоический характер, а отрицание воскресения мертвых и непризнание ангелов и духов сближало их с эпикурейцами-материалистами. Возможно, означенные философские учения были усвоены образованными евреями в период распространения греческой культуры и моды в Иудее при Селевкидах, однако подобные же идеи высказывались уже в Соломоновом Екклесиасте[127]. Во всяком случае, среди еврейского народа такие взгляды не могли распространиться; они высказывались в высших слоях общества, ибо саддукеи заседали в Синедрионе и нередко занимали даже первосвященнический пост, но в народе не пользовались таким влиянием, как фарисеи. Впрочем, ни саддукеи, с их холодной и аристократической моралью, ни фарисеи, с их лицемерной и расчетливой набожностью, не были способны возродить народ израильский.
Все лучшие религиозные и моральные элементы древнего, Богом избранного народа, по-видимому, сплотились тогда в секту ессеев. Об этой секте реже упоминается в древнейших памятниках христианства, чем о двух вышеуказанных, но это, вероятно, потому, что по духу она была близка христианству. Может показаться странным тот факт, что сам отец церковной историографии за христиан принимал египетскую отрасль ессеев, так называемых терапевтов (врачевателей)[128]; над вопросом же о родстве учения и обрядов этой секты с учением и обрядами древнейших христиан давно уже задумывались многие. У тех и у других мы находим одинаковый общественный идеал, основанный на общности имущества и выборности управителей, находим отрицание клятвы, восхваление бедности и безбрачия, священные омовения и трапезы. Различие сводилось лишь к тому, что у ессеев наблюдалась склонность к аскетизму; например, за общей трапезой они пили только воду и, вообще, воздерживаясь от вина и мяса, питались лишь растительной пищей. Многими чертами своими они, с одной стороны, напоминают Иоанна Крестителя, который, видимо, стоял в таких же отношениях к ессеям, как в средние века пустынники к монашеским орденам, но, с другой стороны, они напоминают Иакова, именуемого праведным, который в описании древнейших историков христианства[129] является настоящим святым ессеев и который, в свою очередь, стоит в связи со старой иудео-христианской сектой эбионитов, ближайшей родственницей ессейской секты.
Ессеи и терапевты составляли группу евреев, которых не удовлетворял традиционный религиозный культ их соплеменников и которые поэтому стали воздерживаться от посещения храмов и жертвоприношений и вообще избегали оскверняющего общения с людьми. Задачей своего союза они считали освобождение души от плотских уз и полагали, что к этой цели ведет воздержание от чувственных наслаждений, строгая орденская дисциплина, которая предоставляла усмотрению индивидов лишь дела человеколюбия и благотворения, наконец, труд и совместное моление. Впрочем, община эта делилась на несколько ветвей, не говоря уже о четырех степенях, которые определялись временем вступления в общину. Иосиф Флавий различает строгих ессеев, отрицавших брак, и ессеев, живших в браке. Филон, в свою очередь, отмечает, что египетские терапевты вели чисто созерцательную жизнь, посвященную науке и благочестивому размышлению, тогда как палестинские ессеи, не нарушая правил орденского общежития, занимались земледелием и мирными ремеслами и, приходя поэтому в соприкосновение с жизнью мирян, могли распространять религиозные начала замкнутого ордена далеко за его пределами.
Каким образом могло возникнуть в среде иудеев столь чуждое их характеру течение? Удаление ессеев от мира можно объяснить невзгодами и бедствиями того времени, а ессейский аскетизм можно сопоставить с иудейским назорейством и воздержанностью позднейших пророков; но целый ряд других черт их мировоззрения и образа жизни указывает на экзотическое, внеиудейское происхождение; сюда относится, например, столь несовместное с иудейской точкой зрения поклонение солнцу, как символу высшего света, дуализм духа и материи, лежавший в основании ессейского аскетизма, взгляд на тело как на темницу души, и вера в ее предсуществование. С другой стороны, орденское устройство ессейских общин, годы испытания, которому подвергались вновь поступавшие члены, подчинение старшинам, обязательство хранить орденские тайны, отрицание кровавых жертвоприношений, воздержание от мяса и вина, запрещение клятвы, взгляд на брак — всё это наводит нас на мысль о современной ессеям школе неопифагорейцев, которая возникла путем сочетания орфическо-пифагорейских традиций с платоновскими и стоическими идеями. Все нами отмеченные черты ессейства мы находим в этой школе либо в виде сказаний об учредителе учения и его союзе, либо в виде действительных особенностей так называемого пифагорейского жития, которое, по словам Иосифа Флавия, совершенно сходно с ессейским бытом. Усвоение евреями этой греческой доктрины объясняется тем, что у египетских иудеев появилась, очевидно, такая же секта под названием общины терапевтов; члены этой секты проживали главным образом в окрестностях города Александрии, где иудаизм мог соприкасаться и сливаться с эллинизмом беспрепятственно, и так как египетские евреи деятельно поддерживали сношения с метрополией, то секта могла легко распространиться в самой Палестине. Однако можно допустить и то, что орфическо-пифагорейское учение стало утверждаться в Палестине уже в период слияния культур при Селевкидах и вследствие соприкосновения с египетскими терапевтами стало затем лишь крепнуть и развиваться дальше.
В последние два века до Р.X. среди александрийских евреев стало распространяться учение, родственное доктрине ессеев; недаром главный представитель этого учения, еврей Филон, является одним из важнейших источников наших сведений об ессейском ордене. Моисеева богослужения эти евреи-философы Александрии не отвергали; они высоко чтили Священное Писание своих соплеменников, особенно книги Моисея, но, подобно ессеям, сумели аллегорически истолковать их в пользу своих еретических воззрений. Их взгляд на божество был очень своеобразен; их смущало то обстоятельство, что Ветхий завет изображает Бога человекоподобным существом, приписывая ему руки, дар слова, аффекты гнева и раскаяния, отдохновение, схождение на землю. Они же представляли себе Бога существом не ограниченным чем-либо конечным, обитающим вне видимого мира и воздействующим на него посредством нисходящих сил небесных или особых гениев. В этом представлении, очевидно, иудейское учение об ангелах слилось с платоновским учением об идеях, точно так же, как в учении о Логосе, или действительном божественном разуме, соединяющем в себе все вышеозначенные посредствующие силы, сочеталось иудейское учение о божественной душе и премудрости с учением стоиков о пронизывающем Вселенную божественном разуме. С другой стороны, их орфическо-платоновское воззрение на тело, как на темницу души, создавало такую систему морали, которая сводилась к умерщвлению плоти и экстатическому (восторженному) созерцанию Бога. Ввиду родства этой морали с моралью ессейской становится понятным, почему и сам Филон так уважительно описывал ессеев и терапевтов.
Теперь посмотрим, как все эти идейные течения, в частности, три господствующие секты, относились к вышеотмеченной задаче иудейского народа. Относительно фарисеев мы пришли к тому отрицательному выводу, что на избранном ими пути невозможно было обрести Бога и создать желаемые отношения между Богом и человеком. Своим основным началом фарисейство признало лишь один из элементов первобытной религии евреев, а именно лишь внешний культ с его обрядами и церемониями, и, восприняв его односторонне, совершенно игнорировал всё то, чем он дополнялся в древнееврейской религии. Религиозный застой, к которому фарисейство привело еврейский народ, мог служить убедительным доказательством того, что эта сторона религии не только не оживит народную жизнь, но своим ростом скорее умертвит ее. Равным образом и мессианские надежды — в той политической и строго иудейской форме, которую им придала секта фарисеев, — тоже оказались гибельными для истинной религиозности и самого народа, ибо в то время и в последующем они разжигали в народе фанатизм и толкали его на яростные бунты. Идею Бога и служения ему, а также идею Мессии следовало формулировать иначе, чтобы они оказались плодотворными для народа и человечества.
О саддукеях наши сведения слишком скудны, чтобы можно было вполне точно определить их участие в решении вышеуказанной проблемы. Они, по-видимому, ясно понимали, почему путь, избранный фарисеями, неправилен и нецелесообразен, но указать свой положительный путь не смогли. Они противопоставляли божественному предопределению свободу человеческой личности, а воздаянию в загробной жизни — самоудовлетворение человеческой добродетели; но, ставя, таким образом, моральный интерес выше религиозного, они неизбежно оказались среди евреев в совершенно изолированном положении.
Ессеи, по словам Филона, славят Бога не закланием жертвенных животных, а тем, что стараются угодить ему своими помыслами. Стало быть, ессеи, оставив ложный путь фарисейства, пошли собственным путем, не сходя с религиозной почвы. Правда, Иосиф Флавий говорит, что ессеи не приносят жертв, потому что считают свои очищения гораздо более действительными; следовательно, члены этой секты противопоставляли обрядам Моисеева закона не одни лишь помыслы, а новые религиозные действия, как то: моления, омовения, бичевания, религиозные трапезы и празднества; но все эти обряды ессеев либо сводились к воздержанию и укрощению чувственных импульсов, либо, как в культе солнца и света, представлялись простыми символами, духовный и моральный смысл которых был гораздо более понятен, чем смысл грубоматериалистических предписаний Моисеева культа. Следовательно, в этом отношении ессеи исполняли заповедь пророков об угождении и служении Богу через очищение сердца и личной жизни и осуществление правды и человеколюбия; но в то же время их богослужение вылилось в совершенно неадекватную форму: во-первых, оно сочеталось с аскетизмом и обрядностью, в которой сказывалась искусственность исходных положений и примесь мистицизма; во-вторых, ессеи замкнулись в тайное сообщество, которое в лице ядра своего считало нужным совершенно удалиться от мира, дабы соблюсти свою чистоту, тогда как истинное благочестие и нравственность, наоборот, должны бы проявиться и укрепиться путем непосредственного общения с миром и внесения в него своих идей и помыслов. Тем не менее замкнутость ессеев непроизвольно привела к ряду важных результатов. Причисляя к существам нечистым и не заслуживающим общения всех тех, кто не принадлежал их союзу, стало быть, всех заурядных иудеев, — ессеи как бы заявляли, что евреи как таковые еще не представляют собой истинного народа Божьего, им еще следует очиститься, чтобы стать таковым. Следовательно, круг Богом избранных людей становился еще у́же, ибо, насколько известно, неевреи в союз ессеев не допускались; но вместе с тем национальной гордости иудеев был нанесен весьма чувствительный удар, который немало способствовал уничтожению еврейского партикуляризма.
§29. Ход развития греко-римской образованности
Что самобытная черта греческого народа, в противоположность религиозности народа иудейского, состояла в развитии истинно человеческого начала, — это положение не требует дальнейших доказательств, это то, что ясно проявилось как в государственном устройстве и обычаях греков, так и в поэзии и изобразительном искусстве этого народа. В сфере религии эта черта обнаруживается в человекоподобии (антропоморфизме) греческих богов. Ни индусы, ни ассирийцы, ни египтяне не представляли своих богов в чисто человеческом образе, и этот факт объясняется не столько недостатком у них вкуса и художественной жилки, сколько тем, что эти народы не мыслили своих богов в образе людей.[130] Наоборот, эллины по-своему переделывали всех своих богов, занесенных извне или унаследованных от предков: первичное естественное значение их греки истолковывали с точки зрения своей человеческой жизни, и боги, прежде символы космических сил, превращались у них в прообразы сил человеческой души и жизни, причем и самый облик богов всё более и более уподоблялся человеческому образу.
Разумеется, благочестие, которое созидает человечные идеалы таких богов, как Аполлон, Афина, Зевс, бесспорно стоит выше, чем благочестие, которое придает своим богам облик зверей и видит в них олицетворение дикой — созидающей или разрушающей — силы природы; но первичная стихийность греческих богов, а также степень образованности той эпохи, в которую слагались религиозные представления греков, произвели то, что их человекоподобные боги олицетворяли собой не только моральную, но и чувственную сторону человека, а потому людей с высокоразвитыми нравственными понятиями должны были смущать преступность Кроноса, прелюбодеяния Зевса, кражи Гермеса и т.д. Вот почему поэты позднейшей эпохи, например Пиндар, старались истолковать в моральном смысле такие «соблазнительные» мифы, а некоторые философы, и прежде всего основатель элейской школы Ксенофан, еще решительнее возмутились против непристойных и, вообще, антропоморфных представлений о богах, которые были созданы Гомером и Гесиодом; Платон, как известно, в силу этих соображений даже вовсе изгнал Гомера[131] из своего идеального государства. Но, помимо нравственной стороны дела, вскоре было осознано, что и множественность богов (многобожие) несовместима с понятием божественного существа, которое является совершенством и универсальной первопричиной и в силу этого не может не быть единым. Поэтому в кругу образованных греков идея единобожия (монотеизм) всё более и более стала вытеснять идею многобожия (политеизм) или заменяла ее представлением об иерархическом подчинении многих богов единому верховному божеству. Таким образом, греки в этой области идей постепенно поднимались к той точке зрения, на которую евреи встали с самого начала[132], но так как греки дошли до представления о едином боге путем философских размышлений, им при соприкосновении с иудейским монотеизмом удалось оказать евреям некоторые услуги в устранении тех антропоморфических черт, которыми было сдобрено иудейское единобожие книгами Ветхого завета.
Наряду с этим греки продолжали развивать свои представления о человеке, о его природе и обязанностях, и в этом отношении ушли далеко от гомеровских идеалов богов и встали на такую точку зрения, которая была невозможна на иудейской почве.
«Еврейский супернатурализм, — говорит Велькер, — никогда не мог бы породить гуманности: чем строже и возвышеннее понимали его, тем неизбежнее приходили к заключению, что авторитет и закон единого Бога-владыки должны сдерживать и подавлять человеческую свободу, — источник силы и готовности на всё доброе и благородное.».
В представлении грека Божество отнюдь не являлось воплощением и олицетворением принудительного закона, поэтому он сам давал себе законы; жизнь грека, в противоположность жизни иудея, не регулировалась на каждом шагу религиозными уставами и регламентами, поэтому он сам должен был изыскивать внутри себя нравственную норму. Что то была задача трудная, что путь к ее решению обставлен многими опасностями и препятствиями, — это мы видим из того, что после периода расцвета у греков наступила порча нравов, а тогдашние софисты стали крайне произвольно искажать и путать все моральные понятия. В человеке они видели, по слову Протагора, меру всех вещей; по их мнению, нет ничего от природы дурного или хорошего, всё создается произвольным человеческим суждением, которое ни для кого не обязательно; и так как сами творцы норм и положений установляли их для собственной выгоды, то каждый человек вправе считать добром и делать то, что ему приятно или полезно. Софисты развивали и распространяли умение диалектически оправдывать такого рода поведение, критически подтачивать традицию в области религии и морали, «слабо обоснованное дело обращать в сильно обоснованное», то есть дело неправое выставлять правым; но, в сущности, софисты формулировали методически лишь то, что все окружающие делали практически.[133]
Известно, как отнесся Сократ к этой нравственной распущенности греков и попыткам софистов представить ее в благообразном виде. В противоположность еврейским пророкам, он не мог сослаться на писаный божественный закон, и это даже было бы бесцельно из-за религиозного скептицизма его соотечественников; поэтому он встал на точку зрения своих противников и, исходя от человека, признал, что в известном смысле человек является мерой всех вещей, но лишь в том случае, если он перестает потворствовать своим капризам и страстям и серьезно старается познать себя и путем правильного размышления установить, что может доставить ему истинное блаженство. Кто свои действия определяет подобным истинным знанием, тот неизменно будет поступать хорошо, и такое поведение всегда будет приносить людям счастье. Такова в кратких чертах сущность морали Сократа, и обосновать ее он сумел, не прибегая к помощи божественной заповеди, хотя по вопросу о природе Бога он совершенно определенно высказывался в смысле вышеуказанного сочетания национального политеизма с разумным монотеизмом. Сократ излагал свое учение не в замкнутом кругу школьных слушателей, а в форме общедоступных публичных собеседований; всё то, чему он учил, он практически осуществлял в своей личной жизни; наконец, он мученически пострадал за свои убеждения и за старания поднять массы, не понявшие его, на высшую ступень духовного и морального развития, — всё это сближает и роднит его с Христом, и сходство это уже давно бросилось в глаза. Действительно, при всём различии, покоящемся на противоположности народного характера и религии греков и евреев, во всём античном дохристианском мире, как и в среде еврейства, мы не встречаем другой личности, более похожей на Христа, чем Сократ.
После Сократа ученик его — Платон более других греков способствовал подготовке христианства, стараясь поднять эллинскую образованность до того уровня, на котором она могла сойтись и слиться с иудейской религией. Истинным в вещах он признавал только идеи, то есть их обобщенные понятия, которые он считал не просто представлениями духа человеческого, а действительными сверхчувственными существами. Высшей идеей Платон признавал идею блага, которая тождественна с божеством. Он, впрочем, все идеи называл богами и тем давал возможность согласовать его философию как с политеизмом его соплеменников, так и с иудейским монотеизмом; его «идеи» соответствовали и низшим богам, или демонам, греков, и ангелам евреев, и в обоих случаях предполагали подчинение верховной идее — единому Богу. Происхождение мира явлений Платон объясняет внедрением разума в неразумное, превращением идей в их противоположность (или материю, как стали говорить позднее, хотя сам Платон ограничивается отрицательным определением, говоря о несущем, неформулируемом и неопределимом). В связи с этим он, говоря языком мистерии, именует человеческое тело узилищем души, в которое она низверглась из первобытного бесплотного состояния чистой идеи, и признаёт задачей философии освобождение души от плотских уз. Отсюда явствует, что философия Платона содержала все исходные положения учения ессеев, а также и гностических умозрений, возникших очень рано в христианской церкви. Но и помимо этого основная точка зрения Платона, считавшего действительно существующим невидимое и признававшего истинной жизнью не земную жизнь, а загробную, имеет столько сходств с христианством, что мы не можем не признать, что в лице Платона греки содействовали подготовке христианства и восприятию человечеством идей Христа. Наконец, Платон, подобно Сократу, считает добродетель единственно верным средством достичь блаженства, но, кроме того, полагает блаженство в самой добродетели, в нормальном состоянии, гармонии и здравости души и тем самым признаёт, что добродетель, вознаграждающая самоё себя, свободна от нечистых побуждений, а также от корыстных расчетов на воздаяние в загробной жизни. Таким образом, в понимании добродетели Платон значительно опередил заурядное христианство, как и подобает настоящему философу; и в этом отношении только самым выдающимся учителям христианской церкви удалось выйти из круга народно-религиозных представлений и встать на точку зрения Платона.
В свою очередь, Аристотель, по существу, верен высокому учению Платона о цели нравственных стремлений человека, но, в соответствии со своей эмпирической тенденцией, он считался также с внешними благами и бедствиями как моментами, могущими способствовать или мешать нравственной деятельности. Далее, стоическая школа, в противовес либерализму основанной Аристотелем перипатетической школы, возвела на степень основного принципа морали самодостаточность добродетели, могущей абсолютно осчастливить человека, и ничтожество всего того, что не имеет отношения к подобной добродетели. По учению стоиков, только добродетель есть добро и благо и только безнравственность есть истинное зло; все остальные вещи, хотя бы и значительно влияющие на жизненные отношения людей, относятся к категории безразличного; здоровье и болезнь, богатство и бедность, даже жизнь и смерть сами по себе не представляются ни добром, ни злом, всё это безразличный, индифферентный материал, которым человек может воспользоваться как для хороших, так и для дурных целей. Здесь ясно проступает сходство стоицизма с позднейшей точкой зрения христианства, столь равнодушно относившегося к внешнему миру. Правда, стоическая философия возводит своего «мудреца» — человека совершенного, лишенного потребностей, богоподобного — на такую высоту, которая, очевидно, не совместима с христианским смирением. Однако эта заносчивость стоицизма значительно смягчается тем, что преимущество означенного «мудреца», по мнению стоиков, состоит лишь в его добровольном преклонении перед мировым законом и всеобщим мировым разумом. Наконец, стоическая философия требовала покорности судьбе как Божьему велению и подчинения собственной воли человека воле Божьей, — и этой проповедью она как бы предвосхищала соответствующие изречения Христа.
Но стоицизм подготовлял рождение христианства и в другом отношении. В древности, когда все нации жили обособленно и еще не успели образоваться крупные мировые государства, партикуляризм был присущ не только мировоззрению иудеев, но и мышлению греков и римлян. Подобно тому как иудеи считали Божьим народом только потомков Авраама, греки считали настоящими полноправными людьми одних эллинов и ставили себя в такое же привилегированное положение относительно варваров, в какое евреи ставили себя относительно языческих народов. Даже такие философы, как Платон и Аристотель, не успели вполне отрешиться от этого национального предрассудка, и только стоики пытались из представления о разумности всех людей умозаключить к равенству и солидарности людей; стоики ранее других мыслителей стали смотреть на людей, как на граждан единого великого государства, в котором все отдельные государства играют такую же роль, как отдельные дома в целом городе; всё человечество им представлялось чем-то вроде стада, руководимого единым общим законом разума; идея космополитизма, один из прекраснейших плодов деятельности Александра Великого, была выработана стоиками, а один из них высказал впервые ту мысль, что все люди — братья, ибо они — дети единого Бога. Что же касается представления о Боге, то стоики, продолжая дело примирения народного многобожия с философским единобожием на почве пантеистического миросозерцания, пришли к мысли, что Зевс есть всеобщий мировой дух, единое первичное существо, а все остальные боги — суть только его части и формы проявления. Они же создали то представление о Логосе, или всеобщем разуме, как творческой силы природы, которое впоследствии сыграло столь важную роль в деле догматического обоснования христианского учения. Наконец, стоики, пытаясь использовать греческую мифологию и сказания о богах в интересе философии природы, стали аллегорически толковать Гомера и Гесиода и тем самым указали александрийским иудеям, а затем и христианам, на тот способ, которым можно в книгах Ветхого, а потом и Нового завета места, «неудобные» по смыслу, перетолковать по желанию в угодном смысле.
Можно подумать, что учение эпикурейцев, которые считали высшим благом удовольствия и отрицали всякое влияние богов на мир и жизнь людей, стоит далеко в стороне от тех идейных течений, которые способствовали выработке христианского учения. Но на самом деле это не так. Прежде всего, в философии часто случается, что крайние и противоположные направления при логически последовательном развитии начинают друг с другом соприкасаться; поэтому и высшее благо эпикурейцев вовсе не так сильно отличается от высшего блага стоиков, как это может показаться с первого взгляда. Эпикуреец понимает под удовольствием, которое он считает высшим благом, не конкретное чувственное наслаждение, а длительное состояние душевного равновесия, которое приобретается нередко ценой отречения от многих мимолетных удовольствий и готовности претерпеть многие временные невзгоды, а такое душевное «равновесие» эпикурейцев имеет много общего с «невозмутимостью» стоиков. Правда, эпикуреец не считает добродетель самоцелью, в ней он усматривает только средство к достижению иной цели блаженства, но это средство ему представляется столь необходимым, достаточным и целесообразным, что он не может представить себе ни добродетели без блаженства, ни блаженства без добродетели. К внешним благам жизни эпикурейцы не относились так равнодушно, как стоики, однако же они учили, что истинные потребности человека весьма несложны и что необходимо ими ограничиваться, а боль и несчастье можно преодолеть рассудительностью и самообладанием. Таким образом, эпикурейцы при пассивном отношении к жизни доходили до той самой точки зрения, до которой доводила стоиков активность, но вместе с тем эпикурейцы как бы дополняли собой стоиков, которые были склонны доводить свою суровость до настоящей черствости и бесчувственности. В противоположность стоикам, которым чужды были сострадание и снисхождение, Эпикур проповедовал милосердие и миролюбие, а эпикурейский тезис о том, что приятнее делать добро, чем принимать добро, совершенно сходен с изречением Иисуса: блаженнее давать, нежели принимать.
Рознь и борьба греческих философских школ, из которых одни обыкновенно отрицали то, что другие утверждали, и опровергали то, что противники считали доказанным, в конце концов поселяла в людях сомнение в возможности познать и обнаружить истину, порождала философский, а также и практический скептицизм и, видимо, еще более удаляла людей от религиозных верований народа, чем сама склонность к философским размышлениям. Но, с другой стороны, крушение последней опоры, которой человеческое сознание искало в философии, увеличивало его восприимчивость к новому мнимобожественному откровению. Широкое развитие суеверий, учреждение тайных мистических орденов и новых культов, имевших целью сблизить человека с божеством, — всё это в эпоху возникновения христианства наблюдалось даже в образованных слоях греко-римского общества и проистекало из того, что и старые религии, и наличные философские системы перестали удовлетворять пытливый ум человека. Известно, что на почве этой неудовлетворенности в III веке до Р.X. возникла так называемая неоплатоновская философия, а в последнее столетие до Р.X. предтечей указанной тенденции явилось учение неопифагорейской школы, которое, как мы упоминали выше, оказало сильное влияние на образование терапевто-ессейской секты среди иудеев. Потребность в новом виде общения с божеством, в установлении новой связи между небом и землей коренилась в духе того времени; она наблюдалась как среди иудеев, так и среди язычников, — и христианское учение представляется одной из многих попыток удовлетворить эту потребность, а его успех объясняется тем, что оно сумело подойти к вопросу гораздо проще и демократичнее, чем искусственно придуманные системы неопифагорейцев и неоплатоников или тайные союзы терапевтов и ессеев.
Если всё то, что сделали греки для подготовки христианства, дополнить тем, что сделал в этом отношении римский народ, то нам придется указать на два главных момента. Первый состоит в том, что римляне создали единое великое мировое государство, которое именно в последний век до Р.X. охватило все главные народы древнего мира. Александр Македонский является в этом отношении предшественником римлян, но созданное им государство не включало в себя земель собственно Запада и недолго просуществовало как целое: оно распалось на отдельные царства, которые почти непрерывно вели между собой кровопролитную борьбу. Идея «всемирного гражданства» (космополитизма), признание в человеке человека, а не грека, иудея и так далее, могли укорениться в большей или меньшей степени только в мировой империи римлян.
Точно так же многочисленные божества отдельных народов и племен должны были сначала соединиться и смешаться в этой великой общине народов, чтобы могло возникнуть представление о верховном и едином божестве и национальные религии слились в единую мировую религию. В тесной связи с этой переменой происходило и одухотворение религий. Единый Бог не мог уже быть чувственно воспринимаемым божеством, и Бога всех народов уже не приходилось чтить теми обрядами, какими отдельные народы привыкли чтить своих богов. С внешней стороны, быстрому развитию и беспрепятственному распространению возникшего однажды христианства помогло то обстоятельство, что римская власть установила между отдельными народами и странами тесную связь, нивелируя их образованность и учреждения и облегчая их взаимоотношения. Обратная, теневая сторона этого единства состояла в том, что стали исчезать то счастье и довольство, которым пользовались отдельные народы, дотоле жившие самостоятельно по собственным законам и обычаям. Теперь, наоборот, их угнетало чуждое ярмо и бремя тяжких притеснений, которые на них обрушивались особенно в период упадка Римской республики, во время гражданских междоусобиц. От этого земная жизнь людей теряла всякую прелесть, и наконец, когда исчезла последняя надежда на сокрушение римского могущества естественным путем, все обратили свои взоры к будущей жизни и стали ждать того чудесного избавления, которое сулила мессианская идея иудеев и которое осуществило одухотворенное учение Христа.
Практический ум римского народа представляет второй момент, содействовавший возникновению христианства. Мы видели, что позднейшие философские школы греков, например стоическая и эпикурейская, по преимуществу разрабатывали учение о морали. Но под руками римлян, которым было чуждо чистое умозрение и систематическое философское размышление вообще, философия приобрела вполне практический и популярный характер. И так как во всякой популярной концепции сглаживаются противоположности различных систем и доктрин, у римлян выработался главным образом тот эклектизм, видным представителем которого все считают Цицерона (хотя его заслуги и культурно-историческое значение в последнее время стали отрицать). Сенека, представитель стоицизма, тоже был несвободен от эклектизма. У обоих мыслителей мы встречаем мысли и изречения о едином Боге и врожденном человеку сознании Бога, о человеке, его божественной природе, ее испорченности и возрождении; и эти мысли, поражающие нас своей чистотой, так живо напоминают (особенно у Сенеки) учение христиан, что даже образовалась легенда о близкой связи Сенеки с апостолом Павлом. На самом деле это сходство подтверждает мысль о том, что в ту эпоху все идейные течения сходились в единой общей точке, в которой вскоре и возникло христианство.
§30. Иоанн Креститель
Теперь, после вступительных размышлений, мы переходим к личности того, кому суждено было изречь роковое слово, разрешавшее загадку многих веков, и тут мы прежде всего наталкиваемся на Иоанна Крестителя, в котором Новый завет видит, с одной стороны, предтечу Иисуса, а с другой — наилучшего из пророков (Мф. 11:9), то есть личность, соединявшую в себе лучшие черты всего еврейства. Выше уже было сказано, что перед христианской эрой все глубокие религиозные и нравственные силы, еще жившие в древнем народе Божьем, видимо, сосредоточились в ордене ессеев, а Иоанн Креститель проявляет столь близкое родство с ессеями и их особенностями, что поневоле приходится рассматривать их вместе и сказать, что ессеи, а затем Иоанн Креститель были посредниками в процессе перехода от иудаизма к христианству.
Иоанн Креститель появляется и действует в пустыне Иудейской (Мф. 3:1), то есть в той местности к западу от Мертвого моря, где ессейских поселений было более всего. Он питается акридами и диким медом (Мф. 3:4), а ессеи тоже довольствовались крайне скудной и простой пищей. Он крестил людей водою[134], и это нам напоминает о тех священных омовениях, которым ессеи придавали очень важное значение. Он носил хитон из верблюжьего волоса и кожаный пояс на чреслах (Мф. 3:4); но мы подозреваем, что христиане, имевшие обыкновение называть Крестителя вторым пророком Илией, решили также облачить его в костюм древнего пророка Илии, описанный в четвертой книге Царств (1:8). Впрочем, одним поколением позднее, в молодые годы иудейского историка Иосифа Флавия, жил некий пустынник Ван, который одевался в древесную кору, питался сырой пищей, днем и ночью купался в холодной воде и вообще напоминал Иоанна Крестителя и ессеев. Правда, рассказ о рождении и отроческих годах жизни Иоанна Крестителя, имеющийся в первых главах Евангелия от Луки, рисует его заурядным иудеем, который дал обычный назорейский обет вести аскетический образ жизни и воздерживаться от вина и крепких напитков. Но крещение, которое он совершал в целях покаяния и обновления, напоминает собой те омовения, о которых Иосиф Флавий сообщает, что ессеи их считали более действенными, чем предписанные законом жертвоприношения; равным образом изречение о том, что Бог, если пожелает, может и из камней сделать детей Аврааму (Мф. 3:9), тоже соответствует воззрениям ессеев, которые считали нечистым даже и еврея, пока он не исполнит обряда очищения, предписанного ессейским орденом.
Содержание проповедей Иоанна, говорившего в присутствии толпы народа, Матфей (3:2), в согласии с двумя остальными евангелистами-синоптиками (Марком и Лукой) формулирует так: «Покайтесь, ибо приблизилось Царствие Небесное». Первую часть этого увещания, по словам Луки (3:10–14), Иоанн развивал подробно, обращаясь к каждому сословию в народе с отдельным наказом соблюдать справедливость и человеколюбие, милосердие и общительность. Главным же объектом обличении Крестителя, а затем и Иисуса, являются, по Матфею (3:7), обе господствующие секты, фарисеи и саддукеи. В их желании креститься суровый проповедник покаяния, видимо, усматривал лукавство — намерение соблюдением внешнего обряда избежать страшного суда Божия, поэтому он заявлял, что цели своей они не достигнут, если нравственными поступками не докажут внутреннего покаяния, и что не поможет им и их происхождение от Авраама, на которое они кичливо ссылались. Поэтому Иоанн требовал от тех, кто у него крестились, чтобы они ему исповедовались в грехах; последующее их погружение в реку являлось символом того, что грехи прощены им Богом и что покаявшиеся обязуются больше не грешить. Впрочем, такое толкование мыслей и намерений Крестителя, вероятно, слишком рационалистично: сам Иоанн Креститель, подобно ордену ессеев, без сомнения приписывал самой воде таинственную силу — очищать человека от всякой скверны и грехов.
С этими данными евангелия, в общем, согласуется то описание деятельности Иоанна Крестителя, которое мы находим у Иосифа Флавия, хотя последний писал свою книгу для римских и греческих читателей и потому характеризует Крестителя иначе, чем евангелист.[135] По словам иудейского историка, Иоанн был добрый человек; он поучал евреев объединяться крещением для того, чтобы делать добро, соблюдать справедливость во взаимоотношениях и угождать Богу, ибо Богу угодно лишь такое омовение, которое совершается не для отпущения отдельных видов греха (как левитские очищения), а для освящения тела после того, как душа уже очищена делами справедливости. Из этого описания также видно, что Иоанн, подобно ессеям, противопоставлял левитским омовениям свое крещение и что, подобно Иисусу, переходил от внешнего к внутреннему, от очищения телесного к очищению помыслов. Быть может, он поэтому и заменил многократные повторные омовения в связи с отдельными случаями внешнего осквернения однократным крещением, знаменующим бесповоротное решение крещаемых изменить свои помыслы (покаяться) раз и навсегда.
Вторая половина формулы, которой Матфей резюмирует проповеди Иоанна, указывает, почему необходимо спешить с покаянием; нужно покаяться (изменить свои помыслы), потому что близится Царствие Небесное. Для тех, кто вовсе не покается, или покается лукаво, как фарисеи, в этом грядущем Царствии Божием уготован страшный суд (Мф. 3:7; Лк. 3:4): они представляют ту солому, которую грядущий Мессия лопатой отделит от пшеницы и сожжет, то бесплодное дерево, которое он срубит и бросит в огонь (Мф. 3:10, 12; Лк. 3:9, 17). Как мы уже видели, некоторые пророки тоже предсказывали, что Яхве сам или через предпосланного ангела своего очистит народ в горниле бедствий (Зах. 13:9; Мал. 3:1–3). Если только достойные сподобятся благ грядущего мессианского века, то недостойные и упорствующие должны быть уничтожены страшным судом Божиим, а лучшие, которые являлись принять крещение (очиститься) водой к Иоанну и свое раскаяние подтвердили благочестивой жизнью, будут впоследствии, когда явится Мессия, крещены Духом Святым (Мф. 3:11; Мк. 1:8; Лк. 3:16). О том, что во времена Мессии Дух Божий изольется на всякую плоть, тоже предсказывали пророки (Иоил. 2:28).
О мессианских ожиданиях, заключающихся во второй части формулы Иоанновых проповедей, Иосиф Флавий не упоминает; но нам известно, что он вообще старался скрыть от римлян эту подозрительную сторону устремлений и представлений своих соплеменников, и потому мы должны читать у него об этом между строк. Флавий говорит, что Иоанн призывал евреев «объединяться крещением», — и этими словами слабо намекает на союз или сообщество; но он же прямо говорит о том, что проповедь Иоанна собирала к нему толпу народа и что Ирод казнил Крестителя из страха перед новшествами и отпадением иудеев, и всё это показывает, что мессианская идея, этот неиссякаемый источник иудейских восстаний, не была чужда и проповеди Крестителя. Это, разумеется, не значит, что он сам видел в ней политическую идею, но его могли понять превратно, как впоследствии неверно были поняты слова Иисуса, а требование нравственного возрождения, как условия ожидаемого от Иеговы национально-политического возрождения, не исключало мысли о последнем.
О том, что ожидаемый Спаситель и Судья придет скоро, Иоанн, вероятно, умозаключал на основании различных знамений или данных того времени. Как и пророкам древности, ему это мог открыть «глагол Божий», хотя та версия, которую мы находим у Луки (3:1 и сл.) вместе с перечнем правителей, видимо, является подражанием вступлению к пророчествам Иеремии. В евангелиях говорится, что под Мессией, ожидавшемся в ближайшем будущем, Креститель разумел именно Иисуса; но это предположение, вполне понятное с христианской точки зрения, исторически ничем не обосновано и даже противоречит фактам, установленным в истории. Если бы Иоанн действительно признал Мессию в Иисусе, то, не прекращая полностью своей проповеднической и крестительной деятельности, которую он мог считать и впредь полезной для подготовки масс, он должен был бы, по крайней мере, указать крещаемым на Иисуса как на того, к кому им следует обращаться за дальнейшим поучением. Вместо этого он, по свидетельству синоптических евангелий, даже посылает из темницы двух учеников своих к Иисусу и наказывает им при этом не примкнуть к нему, а предложить ему вопрос, который уже сам по себе показывает, что Креститель далеко не был уверен в тождестве Мессии с Иисусом: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11:2; Лк. 7:9). По словам четвертого евангелиста, Иоанн своими речами об Иисусе хотя и склоняет некоторых учеников своих примкнуть к Иисусу, но отнюдь не всех, и, наряду с Иисусом, сам продолжает быть главой особой школы (3:23), следы которой мы находим как в синоптических евангелиях, так и в Деяниях апостолов (Мф. 9:14; Мк. 2:18; Лк. 5:33; Деян. 18:23; 19:1). Эта школа Иоанна, по личному почину и наказу учредителя, жила и работала в таких формах, которые во многом отличались от установленных Иисусом для своих приверженцев. Ученики Иоанна, подобно фарисеям, часто постились (Мф. 9:14), а против этого обычая восставал Иисус именно потому, что усматривал в нём фарисейское лукавство и лицемерие (Мф. 6:16), и вообще относил посты к той внешнерелигиозной обрядности, упразднение которой он считал своим призванием. Это различие проступало также и в образе жизни Иоанна Крестителя и Иисуса: первый подвергался нареканиям за то, что не ел, не пил и сторонился людей, то есть был строгим аскетом, тогда как Иисусу ставили в вину то, что он «любит есть и пить вино, друг мытарям и грешникам» (Мф. 11:18–19; Лк. 7:33–34). Нам представляется весьма невероятным, чтобы человек с таким узким кругозором и с такими аскетическими предрассудками, как Иоанн, признавал превосходство над собой того, кто отрешился от всех этих предрассудков, и чтобы он усмотрел в нём того Мессию, пришествие которого предсказывал. Креститель всем своим поведением и образом жизни показал, что он был настоящим правоверным ессеем, хотя мы и не имеем прямых сведений о его связях с этим орденом, а Иисус, усвоивший себе всё лучшее и истинное в ессейских представлениях и стремлениях и отвергший в них всё ограниченное и стеснительное, должен был казаться Крестителю не учителем и высшим существом, а учеником-эпигоном и неудачником.
§31. Иисус. Его происхождение
К описанному выше Иоанну, крестившему людей в низовьях Иордана, по свидетельству всех евангелий, явился Иисус и принял от него крещение. Именно с этого момента и можно начать исторический рассказ о жизни Иисуса, потому что из всей массы сказаний о его детстве и отрочестве, в которых нам придется впоследствии разбираться, можно извлечь лишь два-три исторически установленных факта.
Первый факт — это то, что Иисус родился в Галилее, именно в городе Назарете. Всю жизнь свою он назывался галилеянином и назарянином (Мф. 26:69, 71; Мк. 1:24; 14:67; Лк. 18:37; Ин. 1:46; 7:41; 19:19), и та же кличка остается за ним и после его смерти (Лк. 24:19; Деян. 2:22; 3:6; 4:10; 6:14; 22:8; 26:9) и переходит на его последователей (Деян. 24:5). Правда, Матфей и Лука заявляют, что в Назарете Иисус лишь рос и воспитывался, а родился он в иудейском городе Вифлееме (Мф. 2:1, 23; Лк. 2:4, 39; 4:16). Но тот факт, что родители Иисуса, по их свидетельству, там не жили, показывает, что означенные евангелисты в этом случае руководились не исторической правдой, а догматическим умозаключением из слов пророка Михея (5:2).
Второй факт — что отец Иисуса, по всей вероятности, был плотником и, стало быть, Иисус происходил из низших слоев народа. Его земляки, жители Назарета, называли его, по словам евангелия, сыном плотника, или просто плотником (Мф. 13:55; Мк. 6:3), и нельзя считать это указание простой выдумкой лишь потому, что Юстин Мученик, приписавший Иисусу также земледельческий труд, усмотрел в нём аллегорическое восхваление справедливости и трудолюбия, на что в Новом завете нет даже и намека. С другой стороны, имена обоих родителей Иисуса — Иосифа и Марии (особенно последнее) — так часто упоминаются в Новом завете, что их также нельзя не считать исторически достоверными. То, что Мария фигурирует на продолжении всей жизни Иисуса и даже пережила его смерть (Мф. 12:47; Ин. 19:25; Деян. 1:14), а Иосиф упоминается лишь в рассказах о его детстве, видимо, свидетельствует о том, что Иосиф либо умер очень рано, либо не сочувствовал позднейшей деятельности своего сына; но можно предположить и то, что сказание об Иосифе, которого нельзя было признавать действительным отцом Иисуса, по догматическим соображениям было совершенно опущено евангелистами.
Далее о семейных отношениях Иисуса мы знаем, что он имел братьев и сестер (Мф. 13:55; Мк. 6:3). Имена братьев нам известны: Иаков, Иосий, Симон и Иуда; о сестрах же нам сообщают только то, что во время общественного служения Иисуса они жили в Назарете. В евангелии говорится, что однажды, когда Иисусу сообщили, что его мать и братья стоят за дверьми дома и желают его видеть, он будто бы ответил:
«Кто Матерь Моя? и кто братья Мои? И, указав рукою своею на учеников Своих, сказал: вот матерь Моя и братья Мои, ибо, кто будет исполнять волю Отца Моего Небесного, тот Мне брат, и сестра, и матерь»
(Мф. 12:46; Мк. 3:32; Лк. 8:19)Но этот эпизод сам по себе еще не свидетельствует о том, что Иисус разошелся со своей семьей, и, во всяком случае, совершенно изолированным является сообщение Марка о том, будто бы «ближние» Иисуса при посещении его намеревались «взять» его, ибо считали, что он «вышел из себя» (3:21). Иоанн тоже говорит, что братья Иисуса «не веровали в Него» (7:5). Но этот евангелист мог пожелать устранить настоящих братьев Иисуса как неверующих для того, чтобы впоследствии при описании распятия Иисуса иметь возможность указать на любимого ученика его как на истинного сына Марии и духовного брата Иисуса. Что касается Иакова, так называемого брата Господня, то он стал играть после смерти Иисуса выдающуюся роль, так что о нём, вероятно, упомянули бы и синоптические евангелия, если бы не было достоверно известно, что, по крайней мере, в то время он не входил в тесный кружок последователей Иисуса. Но после смерти Иисуса его братья и мать вместе с апостолами составили ядро христовой общины (Деян. 1:14; 1 Кор. 9:5), а вышеупомянутый Иаков стал одним из трех ее «столопов» и был даже главой иерусалимской общины (Гал. 1:19; 2:9, 12; ср. Деян. 15:13; 21:18). Апостол Павел намекает, что Иаков держался строго-иудаистских воззрений, а церковное предание изображает его настоящим ессейско-эбионистским святым, по аскетизму своему более похожим на Иоанна Крестителя, чем на Иисуса. Существует предположение, что Иаков был двоюродным, а не родным братом Иисуса, так как именами Иакова и Иосия (как жители Назарета называли двух братьев Иисуса) Матфей (27:56) наделяет двух сыновей какой-то другой Марии, именно той, которую Иоанн (19:25) признаёт сестрой матери Иисуса. Но это предположение невероятно; хотя, вообще, в Библии двоюродные братья часто именуются просто братьями, но трудно допустить, чтобы подобная неточность допущена была относительно Иисуса и его родных, имена которых постоянно упоминаются наряду с именем матери Иисуса. В данном случае мы имеем, очевидно, дело с предположением, возникшим на почве догматического предрассудка.
Во всяком случае, авторам рассказов о зачатии и рождении Иисуса, приведенных у Матфея и Луки, братья Иисуса должны были представляться лишь сводными братьями, то есть братьями со стороны матери, так как, по их же собственному свидетельству, Иисус был рожден не от Иосифа, а от Святого Духа. Но в данном случае мы игнорируем евангельские рассказы, в которых речь идет о сверхъестественном происхождении Иисуса, так как мы здесь считаемся лишь с историческими сведениями. К разряду исторических фактов нельзя причислить и рассказы о происхождении Иисуса от Давида и рождении его в Вифлееме. Эти рассказы — продукт догматических умозаключений от ожидаемого Мессии к чертам Иисуса как Мессии предполагаемого. С другой стороны, рассказы эти исторически неправдоподобны уже потому, что оба родословия Иисуса, приводимые у Матфея (1:1–14) и у Луки (3:23–38), противоречат друг другу, а сам Иисус, по словам Матфея (22:41–45), полуиронически отнесся к представлению о Мессии как потомке Давида. Происхождением от Давида пытались объяснить, каким образом Иисус проникся сознанием своего мессианского призвания, но мы скоро увидим, что та необычная версия, какую Иисус придал мессианской идее, объясняется гораздо легче, если принять, что он и сам не признавал себя потомком Давида.
§32. Образование Иисуса. Его отношение к Иоанну Крестителю
Какими средствами духовного развития располагал Иисус в те годы, когда готовился к общественному служению, — об этом наши источники почти совсем умалчивают. Лука (2:41–47) рассказывает о том, как вел себя двенадцатилетний Иисус в Иерусалимском храме в присутствии учителей, и, разумеется, хотел этим сказать, что не Иисус, этот юный ученик Божий, мог научиться у них чему-либо, а, наоборот, они, эти ученейшие старцы и вожди народа, могли у него набраться ума-разума; но тем самым Лука обнаруживает догматическую тенденциозность своего рассказа и совершенно обесценивает его в смысле историческом. Там же Лука замечает, что родители Иисуса ежегодно ходили на праздник Пасхи в Иерусалим; но это замечание, с одной стороны, служит ему предлогом для рассказа о вышеуказанном эпизоде с учителями храма и, с другой стороны, иллюстрирует ту мысль, которую Лука проводит в своем рассказе о детстве Иисуса, а именно что родители Иисуса были благочестивы и соблюдали установленный закон.
То, что в евангелиях не имеется указаний на собственно-научное образование Иисуса, тоже можно объяснить догматическим желанием евангелистов представить Иисуса настоящим учеником Божиим. Поэтому мы склонны думать, что в действительности он получил систематическое образование, хотя в молодости и занимался, вероятно, ремеслом отца, ибо личный пример апостола Павла (Деян. 18:3; 22:3) показывает, что по обычаям иудеев занятия ручным трудом не исключают ученой карьеры. С другой стороны, титул равви, или учителя, которым величали Иисуса не только ученики, но и другие, в том числе книжники, еще не может служить доказательством его учености, так как в то время, как и теперь, всякого, фактически выступавшего в роли учителя, принято было величать соответствующим титулом. Наконец, в самом учении и методе Иисуса не заключается ничего такого, чего нельзя было бы объяснить предположением, что сам Иисус был даровитой личностью, усердно изучал и знал книги Ветхого завета и почерпнул много сведений из частного свободного общения с учеными представителями своего народа, особенно с последователями трех господствующих сект. Однако же оригинальность, свежесть и отсутствие того книжного доктринерства, которое нередко проступает даже у просвещенного апостола язычников (Павла), в свою очередь, наводят нас на мысль о самостоятельном развитии Иисуса, чему могло способствовать также его галилейское происхождение. Мы знаем, что в Галилее жило смешанное население и что в ее северной части было особенно много язычников, вследствие чего она даже называлась языческой Галилеей (Мф. 4:15). К тому же эту провинцию от правоверной Иудеи отделяла Самария, так что обитатели Иудеи смотрели на галилеян свысока и не считали их настоящими и полноправными евреями. Все эти обстоятельства, без сомнения, могли только способствовать развитию более или менее свободного религиозного течения.
Иисус, по словам Луки (3:23), на тридцатом году жизни вошел в сношение с Иоанном Крестителем, но, по свидетельству евангелий, оно не оказало никакого влияния на образование Иисуса. Евангелисты говорят, что Иоанн был призван лишь крестить Иисуса и провозгласить его Мессией; при этом они рассказывают о таких обстоятельствах, которые с нашей исторической точки зрения не имеют никакой ценности и будут нами разобраны впоследствии, в другом исследовании. Тем не менее мы не считаем уместным отрицать всякую историческую достоверность безобидного сообщения о том, что Иисус был крещен Иоанном (как это было сделано недавно).[136] Из того обстоятельства, что сто лет спустя евреи ожидали, будто должен прийти Илия и помазать на служение Мессию, предтечей которого он являлся по пророчеству Малахии, еще не следует, будто вся повесть о крещении придумана в расчете на эти ожидания евреев. Рассматривая вопрос по существу, мы не находим нужным отвергать вышеизложенное сообщение и таким образом порвать ту нить, которая нам помогает объяснить фактами прошлого появление и деятельность Иисуса.
Всё то, что Иисус слыхал об Иоанне Крестителе, могло его побудить отправиться на Иордан: ведь и его тогдашняя религиозная система не удовлетворяла, ведь и в нём успело пробудиться сильное стремление к лучшему, и вся его последующая деятельность показывает, что и ему казался правильным тот путь нравственного перерождения, на который указывал Иоанн. В церемонии погружения крещаемых в реку он мог увидеть символ того покаяния в грехах, которого Иоанн требовал от всех крещаемых вообще (Мф. 3:6; Мк. 1:5), а то обстоятельство, что евангелисты по догматическим соображениям придали иной смысл крещению Иисуса, не имеет исторического значения. Кто не стоит на точке зрения непогрешимости Иисуса, которая несовместима с исторической наукой, тот в факте крещения Иисуса не усмотрит ничего странного: ведь даже самый безупречный и благородный человек всегда сможет упрекнуть себя каким-нибудь проступком, недостатком или прегрешением, тем более что по мере нравственного совершенствования в самом человеке возрастает чуткость по отношению ко всякому безнравственному и уклонению от нравственных идеалов. Недаром Иисус заметил тому богатому юноше, который назвал его «учителем благим», что этот эпитет приличествует только Богу, ибо «никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10:17–18; Лк. 18:18–19).
Нельзя предполагать, чтобы все приходившие креститься к Иоанну неизменно оставались при нём: обряд крещения он совершал также над целыми толпами народа, которые приходили поклониться новому пророку и затем снова обращались к обыденной жизни; но что при Иоанне, как позднее при Иисусе, образовалась группа учеников и неразлучных спутников-«последователей», об этом единогласно свидетельствуют евангелисты, и перед нами возникает лишь вопрос: не состоял ли в числе таких последователей Иоанна, хотя бы временно, сам Иисус? Тот факт, что евангелисты ничего не говорят об этом, еще ничего не доказывает, так как по догматическим соображениям они вообще избегали того, что могло бы навести на мысль о хотя бы временном подчинении Иисуса Крестителю. Но по существу, нам представляется вполне вероятным, что Иисус, которого не связывали никакие домашние или общественные отношения, не преминул в течение довольно продолжительного времени состоять в близком общении с видным человеком, столь родственным ему по своим стремлениям. С нашей естественно-человеческой точки зрения само собой разумеется, что Иисус мог при этом не только усвоить себе нравственные принципы Крестителя, но и научиться у него многому, что впоследствии ему пригодилось на поприще народного Учителя. Но вместе с тем Иисус, вероятно, стал сознавать и то, что между ним и Крестителем существует коренное разномыслие по вопросу о путях и средствах достижения ими обоими намеченных сходственных целей.
Оба стремились к религиозно-нравственному возрождению своих соотечественников, к созданию такой народной общины, которая могла бы похвалиться какими-либо более существенными заслугами и преимуществами, чем происхождение от Авраама, и была бы подготовлена к достойной встрече ожидаемого Мессии. Но Креститель, судя по словам Матфея, надеялся достичь этой цели путем суровых обличений и угрозы страшным судом Божиим, а Иисус по складу своего духа не мог признать правильным такой образ действия. Правда, в нужных случаях он тоже находил суровые слова осуждения, но всё же путь кротости и милосердия ему был симпатичнее; ему вообще был чужд дух Илии, с которым современники и сам он сравнивали Крестителя (Лк. 1:17; 9:54; Мф. 17:12). С другой стороны, Креститель, как мы видели, рассчитывал достичь «освящения», возрождения народа путем внешних самоистязаний: частых постов, воздержания от вина и мирских радостей. В подобном аскетизме Иисус, вероятно, видел лишь видоизмененный, по сравнению с обрядностью левитов, способ внешнерелигиозного служения Богу и, стало быть, новый источник уклонений от нравственных целей и, несомненно, полагал, что тяжелое и мрачное настроение, порождаемое аскетизмом, также мало способствует нравственному образу жизни. Насколько оба расходились во взгляде на конечную цель, на сущность мессианского спасения, обусловленного нравственным перерождением или покаянием, — этого теперь уже нельзя установить, но можно смело предполагать, что при различии характеров они в этой области не были друг с другом солидарны.
Согласно преданию, сообщенному Матфеем (4:12), первое открытое выступление Иисуса совпало с моментом заточения Иоанна в темнице; насколько это верно, мы не знаем, но, во всяком случае, нас не может убедить в противном показание четвертого евангелия, автор которого (3:24) сообщает, что Иисус успел выступить и совершить различные дела в Галилее и Иерусалиме, когда Иоанн еще не был заточен в темницу. Это сообщение не имеет исторического значения хотя бы потому, что евангелист оставляет Крестителя на свободе лишь затем, чтобы он позднее мог добровольно сложить свои доспехи перед Иисусом, как того требует вся концепция и тенденция четвертого евангелия. То же следует сказать о сообщении евангелиста, будто Иисус еще при жизни своей заимствовал у Иоанна обряд крещения (Ин. 3:22; 4:1); впрочем, это сообщение вскоре опровергается самим же автором евангелия. Более древние евангелисты говорят, что Иисус установил этот обряд после своего воскресения (Мф. 28:19; Мк. 16:16). Поэтому необходимо предположить, что обычай крещения установился в древнехристианской общине лишь после смерти Иисуса и, как многое другое, впоследствии был приписан его почину.
По словам Матфея, после удаления Иоанна Крестителя тотчас появляется в другой местности Иисус, который сначала стал проповедовать то же, что проповедовал Иоанн Креститель: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное» (3:2; 4:17): Таким образом, оказывается, что Иисус намеревался лишь заступить место Иоанна Крестителя, тем более что и в его проповеди, как в тождественных проповедях Крестителя, нет ни малейшего указания на то, чтобы он (Иисус) самого себя выдавал за ожидаемого Мессию. Равным образом в последующем эпизоде о призвании учеников (Мф. 4:18–19) Иисус тоже выступает только в роли пророка; чудеса, которые он вскоре совершает (Мф. гл. 8), еще не заставляют народ видеть в нём существо более высокое; правда, бесы пытаются раскрыть тайны его мессианства (Мф. 8:29), но он им запрещает говорить об этом (Мк. 1:25, 34). Исцеление слепого и немого бесноватого, затем хождение по водам наводит также и людей на мысль, что Иисус — Мессия (Мф. 12:23; 14:33), но это мнение, очевидно, еще не успело обратиться во всеобщее и твердое убеждение, если Иисус значительно позднее еще спрашивал своих учеников, за кого почитают его люди и они сами (Мф. 16:13). В трех первых евангелиях этот эпизод единогласно приводится после насыщения толпы хлебами и до преображения Иисуса, а первые два, кроме того, точно указывают, что действие происходило в Кесарии Филипповой; далее во всех евангелиях после этого рассказа приводится первое предсказание Иисуса о предстоящих ему страданиях, после чего Иисус из Галилеи отправляется в Иерусалим, — все эти повествования, по справедливому замечанию Баура, уже отмечены печатью, несомненно, исторической правды. Стало быть, до этого времени суеверный народ считал Иисуса пророком, воскресшим сверхъестественно из мертвых: Илией, или Иеремией, или недавно казненным Иоанном Крестителем, и, следовательно, только предтечей Мессии, а не самим Мессией. Тот факт, что Иисус был удивлен ответом, который он получил от Петра на вышеприведенный вопрос, показывает, что за пророка — предтечу Мессии его принимали также и его ученики и что сам Иисус не выдавал себя за Мессию, ибо если бы он раньше им уже открыл, что он Мессия, то не стал бы спрашивать, за кого они его почитают. По словам наших евангелий, Иисус уже в Нагорной проповеди (Мф. 7:21) и в наставлении ученикам (Мф. 10:23) объявил себя Мессией, который придет вторично для страшного суда, но если эти речи исторически достоверны, то их, как и те эпизоды, где бесноватые и другие люди называли Иисуса Мессией, следовало, безусловно, отнести к более позднему периоду.
Кроме того, остается еще открытым вопрос: стал ли сам Иисус только впоследствии считать себя Мессией или он всегда полагал себя Мессией и только впоследствии решил открыться ученикам и народу? К этому вопросу мы еще вернемся, когда будем говорить об отношении Иисуса к мессианской идее его соотечественников.
§33. Религиозное самосознание Иисуса. Невозможность установить его на основании четвертого евангелия
Шлейермахер в своих лекциях по интересующему нас предмету справедливо заявляет:
«Своеобразное самосознание Иисуса развилось не из пророчеств о Мессии и не из убеждения, что он (Иисус) есть сам Мессия, а наоборот, оно и навело его на мысль, что мессианские пророчества относились исключительно к нему; стало быть, признание себя Мессией было у него моментом не первичным, а вторичным, вытекавшим из его общерелигиозного сознания».
Это замечание Шлейермахера, как и всё, что он высказывал о личности Христа, отличается чисто субъективным, неисторическим характером; но тем не менее оно очень остроумно и может быть использовано исторически.
Газе говорит: «Когда-нибудь в своей жизни Иисус должен был осмыслить теократическое верование в Мессию и преодолеть его», — но, добавим мы от себя, он, наверно, не успел бы преодолеть мессианскую идею, если бы до ее усвоения не приступил к ней с собственным религиозным мировоззрением, которое и помогло ему преодолеть эту идею и очистить ее от чувственно-национальных элементов. Предположим, что внешние обстоятельства, происхождение, ожидания среды, в которой он родился и воспитывался, или отношения и события его отроческих лет навели его на мысль о том, что он Мессия, прежде чем успело выработаться его религиозное самосознание, предположим также, что его самосознание развилось на стереотипной ходячей идее Мессии; тогда он усвоил бы мессианскую идею лишь в той форме, как она понималась его современниками, а при его жизни также и учениками; он должен был бы считать себя тем Мессией, который призван возродить в религиозном и моральном отношении израильский народ и главное освободить его при чудесной помощи Иеговы от ига язычников и обеспечить ему мировое господство. Но если бы он стал относить к себе такую мессианскую идею, не успев противопоставить ей оригинальное религиозное сознание, ему не удалось бы преодолеть ее могущественное обаяние, а если он, наоборот, преодолел эту идею в своей жизни и деятельности, то ясно, что его своеобразное религиозное сознание уже успело в нём достаточно окрепнуть, когда он стал ее перерабатывать. Если мы спросим, в чём состояла оригинальная особенность религиозного сознания Иисуса, помимо национальных представлений о Мессии, то и церковная традиция, и господствующее ныне теологическое течение отошлют нас главным образом к Евангелию от Иоанна и скажут, что там любимый ученик Иисуса изложил сокровеннейшие мысли своего учителя, глубочайшие откровения Иисуса о самом себе и об отношении к Богу. Но старая теология относилась к этому вопросу добросовестнее и правдивее. Исходя из всего того, что в четвертом евангелии высказывает о себе Иисус, называя себя там единородным Сыном Божиим, светом земли, тем, кто пребывает в Отце и в ком человечество видит Отца, тем, кто сошел с небес и вернется на небеса, старая теология, развивая частью учение четвертого евангелиста, частью различные изречения Иисуса, считала, что Иисус предвечно пребывал у Бога как олицетворенное творческое Слово Бога, что затем он для спасения человечества временно вочеловечился, дабы, исполнив свою миссию, снова вернуться на небеса (Ин. 1:1–14; 3:13, 16; 6:62; 8:58; 17:5). Стало быть, Иисус сознавал себя божественным существом, лишь временно облекшимся в плоть человеческую и, может быть, принявшим человеческую душу, но при этом он твердо помнил о своем былом состоянии и был проникнут ясным сознанием своей божественности и того, что зависимость от Отца, которую признавал Иисус, евангелиста Иоанна, была зависимостью не человеческого существа от Бога, а низшего божества — мирозиждителя от Бога вышнего.
Подобный образ Иисуса вполне соответствовал направлению и интересам старой ортодоксальной теологии, но показался неприемлемым новейшей теологии, и так как он был создан главным образом по ее излюбленному четвертому евангелию, то она попала в очень затруднительное положение. Шлейермахер в своих лекциях о жизни Иисуса говорит:
«Коль скоро мы допустим, что в Иисусе действительно жило воспоминание о его предсуществовании, то должны будем признать, что это сознание не было в нём собственно человеческим сознанием».
Поэтому он полагает, что мы не должны буквально понимать соответствующие слова Иисуса в Иоанновом евангелии. В них нужно видеть не положительное собственное воспоминание Иисуса, а только предположение о том, что Божьим предопределением он уже предвечно был избран на роль спасителя мира. Однако же четвертое евангелие начинается так (1:1): «В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Этим словом был сотворен мир, затем оно воплотилось в Иисусе, который выступает с проповедью и заверяет, что он был до Авраама, и говорит о славе, которой пользовался у Бога прежде сотворения мира. Стало быть, в данном случае говорит воплотившееся Слово Творца, и оно же вспоминает о своем личном существовании до момента вочеловечения. Следовательно, всякое иное толкование приведенных слов, и в частности толкование, с которым выступает современная двоедушная теология, должно быть отвергнуто как искусственная и неправильная интерпретация.[137]
В истории мы не знаем таких примеров, чтобы кто-нибудь из настоящих, действительно плотью облеченных людей помнил о своем существовании до рождения, не говоря уже о своем божественном существовании прежде сотворения мира, — подобные случаи мы считаем немыслимыми, и если кто-нибудь станет нас уверять, что он помнит о таком своем существовании, то мы назовем его безумцем, если он сам верит тому, что говорит, а в противном случае — обманщиком. Но считать Иисуса таким обманщиком или безумцем мы не можем ввиду того влияния, которое он оказывал на всех, и тех его речей и деяний, с которыми нас ознакомили сочинения, заслуживающие полного доверия. Поэтому нам остается допустить, что автор четвертого евангелия просто заставил Иисуса говорить в духе александрийской системы, и, таким образом, нам не придется ни оспаривать буквальный смысл приведенных изречений Иисуса, ни признавать их подлинными изречениями Иисуса.
Но и, помимо изречений о мнимом предсуществовании, все речи Иисуса о самом себе в четвертом евангелии таковы, что не дают никакого представления о его своеобразном самосознании. Допустимо ли, чтобы Бог, обратившийся в человека, стал поступать подобно Иоаннову Иисусу? Чтобы он в своих речах постоянно и решительно самого себя называл Богом на соблазн людям, которые не в силах постичь того, как может божественное «Я» говорить человеческими устами? Ужели Бог, ставший человеком, не признал бы более разумным и пристойным раскрыть людям свое божественное существо косвенным путем, лучезарно просветляя свой человеческий образ? На все эти вопросы нельзя дать определенного ответа, так как они всецело входят в область фантазии. Ясно только то, что здравомыслящий человек, кто бы он ни был, не мог говорить о себе того, что четвертое евангелие приписывает Иисусу и помимо речей о предвечном и потустороннем бытии. Всё, что Иисус говорит о самом себе в этом евангелии, представляется сплошной доксологией (славословием), переведенной из второго в первое лицо, и не в форме обращения, а в форме самоизъявления, и только привычкой бессознательно представлять себе эти речи сказанными во втором лице можно объяснить то, что их доселе находят назидательными. Когда восторженный христианин называет своего учителя, вознесенного, по общему предположению, на небо, светилом мира и говорит, что видевший его видал самого Отца, то есть Бога, тогда такие преувеличения мы относим на счет экзальтации глубоко верующего человека. Но кто, подобно составителю четвертого евангелия, решается приписывать самому Иисусу те слова и мысли, которые подсказаны ему собственной благочестивой экзальтацией, тот этим оказывает Иисусу весьма двусмысленную услугу.
Все возмущаются известной фразой: «Государство — это я», потому что человек, сказавший эту фразу, как бы присвоил себе в исключительную собственность то, что принадлежит всем. Правда, в данном особом случае мы считаемся еще и с тем фактом, что монарх, сказавший эту фразу (Людовик XIV), нисколько не был вправе считать себя воплощением или олицетворением того государства, которым ему довелось править. Допустим даже, что это сказал бы человек, имевший на то больше прав, например Фридрих Великий или Вашингтон; однако же и в их устах такая фраза нам была бы неприятна. Но всего вернее то, что таким людям не пришло бы даже в голову сказать нечто подобное. Фридриха Великого, который говорил, что король есть первый слуга государства, мы в такой же мере уважаем, в какой Людовика XIV мы презираем за его высокомерие. Мы рассуждаем так: Фридрих Великий слишком хорошо понимал, что такое государство и что по сравнению с ним представляет собою даже самое высокопоставленное лицо, чтобы осмелиться отождествить одного себя с целым государством. По аналогии с этим, мы преклоняемся перед Иисусом, когда он скромно заявляет: «что ты называешь Меня благим? Никто не благ, как только один Бог» (Мк. 10:18; Лк. 18:19). Но когда тот же Иисус в Евангелии от Иоанна говорит: «видевший Меня видел Отца» (14:9), или: «Я и Отец — одно» (10:30), то это нас смущает или по меньшей мере приводит в недоумение. Глядя на дело с нашей неизменно человеческой точки зрения, мы рассуждаем так:
«Допустим, что кто-нибудь вполне проникнут сознанием того, что в нём представлена идея, а религия и человеческое самосознание примирено с божественным сознанием; но чем утонченнее его религиозное сознание, тем более он будет понимать, что он еще далек от абсолютного совершенства, и чем лучше он понимает, какими средствами можно насадить в людях истинное благочестие, тем более он поспешит открыться людям. Немыслимо, чтобы человек истинно религиозный мог произнести фразу: „видевший Меня видел Отца“; только экзальтированный христианин более поздней эпохи мог вложить такую фразу в уста того, кого он привык считать вочеловечившимся Богом второго ранга.»
В конце концов, действительно подлинными и мыслимыми представляются только те изречения Иоаннова Иисуса о самом себе, которые встречаются также и в первых трех евангелиях, или, иными словами, те, в которых Иисус обрисовывает свои отношения к Богу в виде отношений между сыном и отцом. Но в первых трех евангелиях этот взгляд покоится на широком рациональном основании. Там люди, которые стараются подражать Богу в отношении моральных совершенств, особенно же равного для всех милосердия, именуются сынами Божьими (Мф. 5:9, 45), а Бог за свою попечительную и всепрощающую любовь к людям называется их Отцом Небесным (Мф. 5:45, 6:1, 4, 6, 8, 26, 32; 7:11), и отцом должны его именовать в своих молитвах те, которые возвысились до такого взгляда на истинное существо Бога (Мф. 6:9).
Однажды Иисус обращается к Богу как к Отцу и Господу неба и земли и благодарит его за то, что он утаил понимание его учения от мудрых и разумных и открыл его младенцам (Мф. 11:25; Лк. 10:21). В этом случае он, видимо, стоит на общей точке зрения, которая уполномочивает каждого доброго человека называть Бога отцом. Но затем он продолжает так (Мф. 11:27): «Всё предано Мне Отцем Моим, и никто не знает Сына, кроме Отца; и Отца не знает никто, кроме Сына, и кому Сын хочет открыть». В этих словах выражается уже сознание говорящего (Иисуса) о том, что он стоит в особых отношениях к Богу. Это те самые отношения, которые отмечает Иисус Иоаннова евангелия, когда обращается к Богу-Отцу и говорит: «И всё Мое Твое, и Твое Мое» (17:10), или в другом месте заявляет: «Как Отец знает Меня, так и Я знаю Отца» (10:15). В четвертом евангелии такого рода изречения согласуются со всеми прочими замечаниями относительно возвышенной природы Иисуса: если Господь попечению своего личного творческого Слова, ниспосланного на землю в образе человека, поручил всё человечество и если всё «начало быть» (1:3), то, следовательно, это Слово вообще стоит наравне с Богом-Отцом. Но именно по этой причине и не имеют исторической ценности речи Христа, приведенные в четвертом евангелии. Иисус, который о себе высказывает такие вещи, не существует для историка. В первых трех евангелиях подобные изречения Иисуса покоятся на ином основании. Правда, три первых евангелиста признают Иисуса человеком, зачатым от Святого Духа, но не считают его воплощенным Словом Творца, и всякую власть на земле и на небе они приписывают ему только после воскресения (Мф. 28:18). Поэтому мы попытаемся вышеприведенное изречение у Матфея и Луки объяснить на базе широкого воззрения, признающего всех людей сынами Божьими. С этой точки зрения уже легче представить себе, как Иисус от представления о Боге-Отце дошел до мысли об исключительных, особых отношениях к Богу. Среди народа, который видел в Боге господина и себя считал его рабом, Иисус познал в Боге Отца благодаря тому, что в душе его исчезло всякое противоречие между сознанием личности и сознанием Божества; вследствие этого у него могла возникнуть мысль, что только он один правильно познал Бога-Отца, а остальные обрели это познание благодаря ему. Но зачем он добавляет, что и Сына не знает никто, кроме Отца? Разве Сын, то есть он сам, Иисус, был таким таинственным существом, что один лишь Бог мог это познать? Нет — если он был человеком, и да — если он был существом сверхчеловеческим. Таким образом, это изречение, содержащееся лишь в первом и третьем евангелиях, приводит нас к мысли, которая является основным воззрением четвертого евангелия и вносит в наше представление об Иисусе противоестественный и сверхчеловеческий элемент.
§34. Религиозное сознание Иисуса по свидетельству трех первых евангелий
Следовательно, если ни четвертое евангелие, ни родственные ему по духу цитаты синоптических евангелий не дают возможности понять самосознание Иисуса, нам остается обратиться исключительно к синоптическим евангелиям в целом. Из речей Христа, ими воспроизведенных, главной всегда, по справедливости, считалась Нагорная проповедь, которая уже в своем начале содержит указания на новый, христианский строй идей, освеживший и оплодотворивший человеческую жизнь, подобно первому весеннему дождю. Так называемые восемь блаженств (Мф. 5:3–10) — это такие христианские парадоксы, в которых сказалось полное отличие нового мировоззрения от традиционных взглядов иудеев и язычников. Отныне блаженными почитаются не богатые, пресыщенные и ликующие, а бедные и обремененные; алчущие и жаждущие; истинное счастье и богатство отныне обретаются не насилием, не спорами, не упорным отстаиванием собственного права, а кротостью, миролюбием и терпением. В полную противоположность старому миру, новый христианский мир исходит уже не из внешности и ее предполагаемого соответствия внутреннему содержанию, а, наоборот, только внутреннее признаёт существенным и главным и полагает, что последнее может побороть противоположную ему внешность и даже облечься ею без ущерба для себя.
Евангелия от Матфея и от Луки, как известно, в этом месте разногласят: у Луки (6:20) говорится просто о «нищих», а у Матфея — о «нищих духом»; у первого говорится о тех, которые в настоящем действительно алчут и жаждут, а у второго — об «алчущих и жаждущих правды». Я считаю простейший текст Луки за первоначальный и думаю, что вышеуказанные добавления сделаны в Евангелии от Матфея позднее, во избежание превратного толкования, будто Иисус, независимо от внутренней ценности, считал блаженными всех тех, которые претерпевают чисто внешние лишения. Правда, та формулировка блаженств, которую дает Лука, живо напоминает о воззрениях позднейшей секты эбионитов: терпящим внешние лишения на этом свете Лука обещает счастье на том свете, а счастливым ныне он говорит: «горе вам!» и угрожает наказаниями в будущем. Но эта формулировка у Луки может быть удовлетворительно объяснена также и тем опытом, который Иисус, вероятно, успел приобрести за время своего учительства. Быть может, он увидал, что высшие стремления у зажиточных классов населения обыкновенно заглушаются зримым благосостоянием, а у бедных поддерживаются чувственными лишениями, поэтому, выступая среди угнетенных народных масс Галилеи, он и мог говорить об их блаженстве считаясь с тем душевным состоянием, которое у них вызывалось соответствующим внешним положением. Ведь и при всякой революции мы замечаем, что не сытые и довольные, а голодные и недовольные сочувствуют и содействуют перевороту, а возникновение христианства знаменовало одну из самых крупных революций. Но если Иисус обещал блаженство нищим, алчущим и т.д. не ради претерпеваемых ими внешних бедствий как таковых, то, значит, Матфей приписками своими не исказил смысла его слов и, во всяком случае, понял их гораздо правильнее, чем позднейшие эбиониты, которые под влиянием аскетической экзальтации стали всякое приобретение земной собственности считать грехом.
Осуществление блаженства, которое Иисус обетовал нищим и угнетенным, он относил к будущей небесной жизни — и в этом сказалась точка зрения его эпохи и народа, с которой мы не можем не считаться. Внутреннее сверхчувственное блаженство, которое заключается уже в самой способности воспринимать всё возвышенное, признаётся будущим воздаянием. И действительно, людям предстояло уничтожить противоречие между внутренним и внешним и новую духовную жизнь свою облечь в соответствующие внешние формы, этот процесс естественно и постепенно совершается на этом свете, но никогда не завершается здесь, а потому религиозное представление и ожидает чудесного примирения внешнего и внутреннего в загробной жизни.
Проникновением от внешнего к внутреннему, сказавшимся в самом вступлении к Нагорной проповеди, объясняется затем и та интерпретация закона, которая содержится в первой части этой проповеди, где чисто внешней фарисейской обрядности в качестве существенного момента противопоставляется внутреннее убеждение, где строго осуждается не только всякое убийство, но и гнев и ненависть, не только настоящее прелюбодеяние, но также простая похотливость, где отвергается не только клятвопреступление, но также всякая клятва вообще, как момент излишний при простой правдивости. Противополагая завету древних, то есть последователям Моисеева закона, свой собственный завет, Иисус в своих беседах с учениками выставляет себя законодателем внутреннего убеждения в противоположность Моисею, давшему закон для внешнего поведения, или, вернее, он ставит себя выше Моисея, ибо пришел завершить духовно данный Моисеем закон буквы. Чисто еврейским (и вообще античным) принципам строгого возмездия, любви к друзьям и ненависти к врагам Иисус противопоставляет заповедь терпимости и любви к врагам (Мф. 5:38 и сл.) и заканчивает свою речь словами (ст. 45):
«Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных».
Про это изречение, в отличие от многих других, приведенных в книгах Нового завета, можно с уверенностью сказать, что оно действительно принадлежит Иисусу и не было ему приписано позднее. Ведь последующий период времени, вплоть до момента составления наших евангелий, был слишком переполнен ожесточенной и страстной борьбой, чтобы создать столь просвещенное и великодушное изречение. В нём отчетливо сказалась основная черта благочестия Иисуса: воплощением такой беспредельной доброты он считал Отца Небесного, и вследствие такого взгляда на Бога он и любил называть Бога Отцом.
Свое понимание Бога Иисус не мог почерпнуть из книг Ветхого завета, где Яхве является Богом гневным, страстным, сурово и безмерно мстящим и карающим и где такое представление о Боге было только смягчено, но не уничтожено позднейшими пророками. Пророку Илии Бог является уже не в грозе с землетрясением и пламенем, а в дуновении тихого ветерка (3 Цар. 19:12); но такие сообщения о Боге встречаются в ветхозаветных книгах крайне редко, и это надо отнести на счет того партикуляризма иудеев, который заставлял их воображать Яхве Богом мстящим и карающим, по крайней мере в отношении языческих народов, и мешал возникновению более гуманных представлений о божестве. Поэтому народ Израиля назывался детищем Яхве, а израильские цари считались наместниками и избранниками Бога, но представление о Боге — Отце всех людей было совершенно чуждо Ветхому завету. Такое представление об отношении Бога к человеку Иисус мог почерпнуть только из самого себя, оно могло явиться только следствием того, что беспредельная доброта составляла основную черту его собственного существа, роднила его с Богом. Подобно Богу, долготерпеливому Отцу, терпимо и спокойно относиться к людской злобе, воздавать за зло добром и побеждать врага благодеянием — все эти принципы Иисуса проистекали из глубины его собственного сердца. Иисус наказывал своим последователям поступать согласно этим принципам, дабы они показали себя истинными сынами Отца Небесного; он их увещевал быть совершенными, «как совершенен Отец… Небесный» (Мф. 5:48), — и это наставление показывает, что в моральном отношении Иисус представлял себе Бога таким, каким он сам показал себя в важнейшие моменты своей религиозной жизни, и что этим идеалом он, в свою очередь, окрылял себя в своей религиозной жизни. Всеобъемлющей любовью, которая и зло хочет побороть добром, определялось его высокое религиозное настроение, и основной чертой Бога он признавал ту же всеобъемлющую любовь.
Если все люди — сыны Божьи, то в отношении друг к другу они — братья (Мф. 5:22), а потому взаимные их отношения определяются началом равенства, которое нас обязует относиться к другим так же, как к себе, не судить других строже, чем себя (Мф. 7:1–2), и, вообще, поступать с людьми так, как мы хотим, чтобы люди с нами поступали (Мф. 7:12). Недаром эта заповедь всегда считалась важным самобытным принципом христианской морали: в ней заключается основная идея гуманности, подчинение всех человеческих индивидов общей идее человечества, которая жива во всех и каждым должна быть признаваема и уважаема в других.
Это гуманное любовное настроение Иисуса во всей его деятельности, проникнутой тем же настроением, подымало его над всеми преградами и гранями человеческой жизни, роднило с Отцом Небесным и доставляло ему такое внутреннее блаженство, в сравнении с которым теряли всякое значение любые внешние утехи и страдания. Вот почему он проявлял ту ясную беспечность, которая все думы и заботы о пище и одежде возлагала на Бога, одевающего полевые лилии и питающего птиц небесных (Мф. 6:25–28). Вот почему он не роптал на свою скитальческую жизнь, при которой ему часто негде было и голову преклонить (Мф. 8:20). Вот почему он равнодушно относился к внешним почестям и поношениям: он сознавал, что является носителем и глашатаем божественной идеи среди людей (Мф. 5:11). По той же причине особенно любовно и заботливо Иисус относился к детям, ибо при своей невинности и незлобливости они, не ведая ни ненависти, ни гордости, всего более соответствовали этому счастливому любовному настроению и всего чаще являются для ближнего объектом любви (Мф. 18:3; 19:14), по этой же причине он готов был пройти два поприща, когда его просили пройти одно (Мф. 5:41), и прощать сегодняшнему брату не до семи раз, а до седмижды семидесяти раз (Мф. 18:21–22).
Развивая в себе такое светлое настроение, роднящее человека с Богом и объединяющее всех людей узами братства, Иисус осуществил идеал пророков, идею того Нового завета, который Господь начертает в сердцах людей (Иер. 31:31). Он, по словам поэта, «божество претворил в свою волю», которая ради него «сошла со своего мирового трона, после чего пропасть заполнилась, и исчезло страшное видение»; он помог человеку сбросить узы рабства и обрести свободу. Эту ясность настроения и цельность, эту красоту душевную, отражавшуюся во всём поведении Иисуса, можно называть эллинизмом в Иисусе. Но его сердечные порывы и соответствующие им представления о Боге отличались чисто духовным и моральным характером, и всё то, чего греки добились лишь при помощи философии, у него является продуктом воспитания, основанного на Моисеевом законе, и изучения трудов пророков.
Каким образом достиг Иисус такого гармоничного настроения души? Имеющиеся у нас сведения о его жизни не содержат никакого указания на то, что он обрел его путем тяжелой душевной борьбы. Правда, эти сведения охватывают кроме сказаний о детстве только краткий период его общественного служения и притом рисуют его с точки зрения сверхчеловеческой непогрешимости. Поэтому можно предположить, что периоду ясного душевного равновесия предшествовал у Иисуса период тяжкой мрачной борьбы и, может быть, различных заблуждений. Но если здесь уместна аналогия, то от такой борьбы должны были бы сохраниться хотя какие-нибудь следы в дальнейшей жизни, о которой у нас имеется достаточно сведений. Все крупные деятели, вроде Павла, Августина, Лютера, дошедшие до просветления путем борьбы и крутой ломки, всю жизнь свою сохраняли неизгладимые следы пережитого в виде тяжелого, сурового и мрачного характера. У Иисуса ничего подобного не наблюдается.[138] Он как бы родился натурой светлой и прекрасной, затем всё более и более развивался из самого себя, всё более и более прояснял и укреплял свое самосознание, не думая ни о повороте, ни об избрании иного жизненного пути. Но это, конечно, не исключает и отдельных колебаний и ошибок, и продолжительных стараний преодолеть себя и встать на путь самоотречения. Недаром Иисус противился тому, чтобы его называли благим (иная и притом уклончивая версия этого наречения Иисуса, имеющаяся у Матфея (19:17), несомненно, является продуктом позднейших изменений, подобно тому как и вызывающий вопрос Иисуса: «кто из вас обличит меня в неправде?», приведенный у Иоанна (8:46), является, очевидно, изречением Иоаннова Христа-Логоса). Необходимо допустить, что внутреннее развитие Иисуса шло, в общем, ровно, не без значительных борений, но и без резких кризисов, и такое допущение хоть в какой-то мере является способом осмысления догмата о непогрешимости Иисуса, являющегося в церковной формулировке чисто отрицательным и потому бесплодным понятием. В этом отношении, как было отмечено выше, высокодаровитый апостол язычников (Павел) нисколько не походил на своего учителя, а два великих обновителя позднейшего христианства, Августин и Лютер, более приближаются к Павлу, чем к Христу. Но если когда-нибудь вновь явится человек, в котором религиозный гений нового времени будет воплощен так же, как в Иисусе был воплощен гений его времени, то он едва ли станет опираться на своего предшественника, как опирались названные изломанные натуры, — он будет продолжать его дело опять-таки самостоятельно.
§35. Отношение Иисуса к Моисееву закону
Мы видели, что Иисус достиг гармонии религиозной жизни, мира и единогласия с Богом чисто духовным путем, развивая в себе силу любви; благодаря этому он встал в весьма своеобразное отношение к тем внешним средствам, которыми его соотечественники старались достичь той же цели: они должны были ему казаться окольным путем, в котором он лично уже не нуждался, а тем, которые не решались следовать за ним по избранному им кратчайшему пути, окольная дорога могла казаться и, быть может, действительно была необходимой, хотя многие из них и рисковали застрять на этом дальнем обходном пути, не достигнув цели.
На вопрос книжника о наиважнейшей заповеди Иисус заявил, что весь закон Моисея и пророков зиждется на заповеди — всем сердцем любить Бога и любить ближнего, как самого себя (Мф. 22:35–40; Мк. 12:28–31). По словам Марка (22:33), книжник будто бы заметил, что эта заповедь «больше всех всесожжений и жертв»; но это замечание, очевидно, сам евангелист добавил от себя, хотя в нём вполне правильно истолкована мысль Иисуса. Одним из главных жертвоприношений иудеев была искупительная жертва за содеянные грехи и проступки; иудеи полагали, что без подобной жертвы Бог не отпустит им грехов. Напротив, Иисус, по силе своего религиозного сознания, прямо давал отпущение грехов, если усматривал искреннее раскаяние, веру и любовь (Мф. 9:2; Лк. 7:47). Точно так же он относился к празднованию субботы, которую так чтили иудеи и даже пророки; правда, он тоже воздерживался от всякой черной работы в этот день, но если действительная нужда или какой-нибудь высший долг требовали внешнего труда, то он без всяких колебаний сам делал то, что нужно, и разрешал это своим ученикам. Евангелие от Марка (2:27) в рассказе о срывании колосьев приписывает Иисусу следующее изречение: «Суббота для человека, а не человек для субботы». Это изречение не встречается в других евангелиях и принадлежит опять-таки Марку, а не Иисусу; но у Матфея Иисус говорит: «Если бы вы знали, что значит: милости хочу, а не жертвы, то не осудили бы невиновных» (12:7). Подобный взгляд, как сказано выше, мы встречаем также у многих еврейских пророков, но Иисус высказывает его очень резко, и столкновения из-за работы по субботам он, очевидно, даже ищет, а не избегает; поэтому едва ли можно сомневаться, что не только ему самому была ясна бесцельность такого внешнего служения Богу, по сравнению с внутренним, но что он старался также всемерно разъяснить это мало-помалу своим соплеменникам.
Правда, нам не вполне ясно, как далеко шли намерения и планы Иисуса в этом отношении. В большинстве случаев он нападал на такие добавления к Моисееву закону, которые были сделаны позднейшими учителями и соблюдение которых фарисейская партия считала столь же обязательным, как и соблюдение самого закона. Например, в Законе были предписаны омовения для всевозможных действительных или мнимых осквернений, например, от прикосновения к трупу, к роженице и т.п.; но предписание о том, чтобы при всяких обстоятельствах умывались руки перед едой, было уже добавлено раввинами, и соблюдение его ни сам Иисус, ни его последователи не считали обязательным (Мф. 15:1–2). Фарисеи, требовавшие соблюдения подобных предписаний, возмущали Иисуса, как мы выше видели, главным образом потому, что люди, вставшие на этот окольный путь обрядности, рисковали застрять на нём, не дойдя до Бога, так как из-за внешних форм они могли оставить без внимания внутреннюю сущность благочестия и даже нравственные обязательства. Случалось, например, что дети лишали своих родителей должного вспомоществования, чтобы принести обещанный дар Богу (Мф. 15:5–6). Иные, во исполнение предписания, отдавали левитам десятину даже с мяты, тмина и аниса, о чём в Законе ничего не говорится, и в то же время совершенно игнорировали моральные заповеди (Мф. 23:23). Правда, Иисус, восставая против этого явления, только заявляет, что «сие надлежало делать, и того не оставлять», то есть что человек, постаравшийся исполнять нравственное предписание закона, действует весьма похвально, если соблюдет затем также и обрядовое предписание закона, но ни в коем случае не следует пренебрегать первым ради последнего. Кроме того, во вступлении к той же антифарисейской речи, где встречается и вышеозначенное изречение, Иисус велит народу соблюдать все предписания фарисеев и книжников, но не следовать их примеру: «По делам же их не поступайте, ибо они говорят, и не делают» (Мф. 23:3). Однако тут же Иисус сам говорит (23:4), что фарисеи и книжники возлагают на плечи людям «бремена тяжелые и неудобоносимые», а в другом месте он, как бы в противоположность им, заявляет: «Иго Мое благо и бремя Мое легко» (Мф. 11:30). Наконец, по поводу того обстоятельства, что ученики его не соблюдали закона об омовении рук, он говорит, что «всякое растение, которое не Отец… Небесный насадил, искоренится» (Мф. 15:13). Отсюда явствует, что, по мнению Иисуса, раввинские постановления и обряды обременительны и вредны и никаким высшим авторитетом не санкционированы и что пока им нужно подчиняться, однако дни их уже сочтены.
Но, восставая против добавочных предписаний раввинов, не хотел ли Иисус посягнуть также и на сам Моисеев закон в его ритуальной, обрядовой части? На этот вопрос мы затрудняемся ответить ввиду особого характера наших источников. Когда Иисуса упрекнули за то, что ученики его не умывают за едою рук, он сказал народу:
«Слушайте и разумейте! не то, что входит в уста, оскверняет человека, но то, что выходит из уст, оскверняет человека»
(Мф. 15:10–11)В этом случае он либо сам не сознавал всего значения своей речи, либо намеренно хотел умалить значение высокочтимого Моисеева закона о принятии пищи. Затем, вопреки закону Моисея (Втор. 24:1), разрешающему развод (расторжение брака) при условии получения женой от мужа разводного письма, Иисус говорит: «кто разводится с женою своею, кроме вины любодеяния, тот подает ей повод прелюбодействовать»; и далее Иисус поясняет, что Моисей позволил разводиться «по жестокосердию» древнего народа иудейского (Мф. 5:31–32; 19:3, 8). Таким образом, Иисус находил, что Моисеев закон не только в своей ритуальной части, но также и в определениях, регулирующих нравственную сторону совместной жизни людей, нуждается в усовершенствовании и, стало быть, далек от совершенства.
Такое толкование взглядов Иисуса, по-видимому, противоречит тому, что он говорил сам в Нагорной проповеди:
«Не думайте, что Я пришел нарушить закон или пророков: не нарушить пришел Я, но исполнить. Ибо… доколе не прейдет небо и земля, ни одна иота… не прейдет из закона, пока не исполнится всё. Итак, кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царстве Небесном; а кто сотворит и научит, тот великим наречется в Царстве Небесном»
(Мф. 5:17–19)Итак, если под малейшими заповедями и йотой Закона разуметь лишь обрядовые постановления, то, стало быть, сначала Иисус не только терпимо относился к этой части Моисеева закона, но даже признавал ее ненарушимой для всех времен.
Но при таком предположении становятся непонятными и намерения, и вся точка зрения Иисуса. Поэтому различные толкователи находили, что в словах Иисуса о «прехождении неба и земли» содержится указание на действительный и, по тогдашним представлениям, не очень отдаленный срок, а именно момент светопреставления, долженствующего наступить после пришествия и суда Мессии; иначе говоря, они находили, что, пока существует старый мир, Закон Моисея, по мнению Иисуса, действителен даже в мелочах, но что он станет недействительным для ожидаемого нового мира. Однако всякий непредубежденный читатель скорее поймет слова Иисуса в том смысле, в каком их понял уже евангелист Лука, который формулирует их так (16:51): «Но скорее небо и земля прейдут, нежели одна черта из закона пропадет», то есть как то, так и другое будет длиться бессрочно или в течение неопределенного времени, что согласуется и с характером обычных оборотов речи у Иова (14:12), в псалме 71 (7), у Варуха (1:11). Поэтому вернее иное предположение, что в данном случае мы имеем добавочную приписку, усиленно подчеркивающую смысл слов Иисуса с точки зрения позднейших иудео-христиан, и что в словах: «кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царствии Небесном», — заключается намек на апостола Павла, который сам себя называет «наименьшим из апостолов» (1 Кор. 15:9).
К этому последнему предположению я не вполне присоединяюсь, и потому я хотел бы подкрепить первое предположение, указав на то, что непонятные стихи 18 и 19 (Мф. гл. 5) представляются очевидной и несомненной вставкой (впрочем, они вставлены не в текст нашего нынешнего Матфеева евангелия, а в беседу Иисуса и, быть может, уже в одну из самых ранних записей ее). В стихе 19 сказано, что тот, «кто нарушит одну из заповедей сих малейших и научит так людей, тот малейшим наречется в Царствии Небесном», а тот, кто «сотворит и научит», наречется «великим» в Царстве Небесном. Но вслед за тем в стихе 20 говорится: «Ибо, говорю вам, если праведность ваша не превзойдет праведности книжников и фарисеев, то вы не войдете в Царство Небесное». Между этими двумя стихами нет ничего общего. Ибо, как это видно из стиха 21 и следующих, где говорится о Моисеевом законе, воспрещающем убийство, прелюбодеяние и клятвопреступление, — «превзойти праведность» фарисеев означает исполнять не только букву, но и дух Закона; это означает избегать не только злодеяния, но и соответствующих помыслов, не только убийства, но и ненависти и мести, не только прелюбодеяния, но и первых движений похоти; а если так, то зачем же было Иисусу требовать ненарушимого соблюдения мельчайших обрядовых предписаний, которые исполнялись фарисеями с неподражаемой щепетильностью? Присмотревшись ближе к тексту, мы увидим, что формула перехода «ибо говорю вам» встречается дважды: в первый раз (с добавлением слова «истинно») в начале 18-го стиха и во второй раз в начале 20-го стиха. Если в то место, где формула употреблена впервые, переставить 20-й стих, к которому она так мало подходит в данном месте, тогда получится прекрасная связь мыслей. Тогда окажется, что Иисус изъясняет смысл своей миссии — исполнение или усовершенствование Закона не так, как это теперь указано у Матфея, не совершенно неожиданным заявлением о строгом соблюдении йоты Закона, а совсем иначе: указанием на то, что он пришел не нарушать, а исполнять Закон, так как фарисейское соблюдение Закона, избегающее явных злодеяний и непротивящееся злым помыслам, или пустая законность при безнравственности, ничего не стоит. Если мы так представим себе ход мыслей Иисуса, тогда всё будет ясно и окажется в полнейшем соответствии со всей деятельностью Иисуса. Быть может, именно так и передавалась речь Иисуса первоначально, путем изустного, а потом и письменного сказания, и никого она сначала не смущала, пока обрядовые Законы Моисея непоколебимо соблюдались первыми христианами из иудеев. Но потом, когда апостол Павел обратился с проповедью к язычникам и указал, что для христиан соблюдение Моисеевых обрядов не обязательно, это указание среди иудео-христиан вызвало сильный переполох, как это видно из посланий самого Павла и отчасти из Деяний апостолов: тогда иудео-христиане стали находить соблазнительным это изречение Иисуса, которое так легко было истолковать в духе «павликиан», или, вернее, тогда они предположили, что первоначально это изречение более решительно высказывалось за соблюдение Моисеева закона во всём его объеме, и потому решили вставить стихи 18 и 19, хотя за стихом 17-й, собственно, должен следовать 20-й стих.
Насколько ясно Иисус сознавал всю новизну своего принципа и его несовместимость со старым иудаизмом, видно из того, как он высказывался по вопросу о постах (Мф. 9:14–17). Иудеи удивлялись, что он, в противоположность Иоанну Крестителю, не наказывал своим ученикам часто поститься; ибо всякий иудей, стремившийся прослыть святым, подобно фарисеям и ессеям, старался достичь цели тем, что кроме предписанного Законом (Лев. 16:29) ежегодного поста в день очищения налагал на себя еще различные добровольные посты; так, довольный своей праведностью фарисей в притче Иисуса (Лк. 18:12) похваляется тем, что он постится два раза в неделю. В данном случае Иисус не ограничивается обычным (Мф. 6:16) обличением лицемерия постящихся фарисеев; он не довольствуется также заявлением, что его ученикам не приличествует мрачный аскетизм, пока он среди них пребывает; он рассказывает (Мф. 9:15–17) притчу о ветхой одежде, на которую никто не станет ставить заплату из новой небеленой ткани, и о ветхих мехах, в которые никто не станет вливать молодое вино, дабы одежда и мехи не порвались и вино не вытекло. Тут Иисус высказывает ту идею, что между установленным им принципом искренности помыслов и старой обрядностью, вообще, немыслим компромисс и что при всякой попытке сочетать одно с другим тотчас же обнаружится их несовместимость.
Что же касается жертвоприношений, то Иисус не только предполагает, что они по-прежнему должны еще существовать (Мф. 5:23), но, судя по евангельским рассказам, сам же велит исцеленному им прокаженному принести предписанный Моисеем (Лев. 14:10) жертвенный дар Богу (Мф. 8:4; Лк. 5:14). Но, с другой стороны, мы обращаем слишком мало внимания на то, что, по свидетельству наших евангельских сказаний, сам Иисус нигде не участвует ни в каких иудейских жертвоприношениях, за исключением пасхального заклания агнца. Ведь кроме очистительных искупительных жертв существовали еще жертвы всесожжения, сиропитательные и благодарственные, которые благочестивому израильтянину приходилось приносить по разным поводам, причем для бедных допускались и менее ценные дары; однако мы нигде не находим никаких следов того, чтобы сам Иисус или ученики его приносили подобную жертву. Тот факт, что наши источники умалчивают об этом, не может, разумеется, считаться бесспорным доказательством в настоящем случае; к тому же можно указать на то, что, по словам синоптиков, Иисус всего лишь один раз посетил Иерусалим и пробыл там недолго. Но евангелисты сообщают о таком деянии Иисуса, которое положительно указывает на то, что Иисус мало сочувствовал жертвоприношениям. Мы имеем в виду факт так называемого очищения храма, о котором повествуют все четыре евангелия (Мф. 21:12; Мк. 11:15; Лк. 19:45; Ин. 2:15). Вступив в иерусалимский храм, Иисус в одном из притворов его застал торговцев и покупателей, главным образом продавцов голубей, а по словам Иоанна, также продавцов волов и овец вместе с принадлежащими им животными и, кроме того, менял. Возмущенный таким осквернением святыни, он выгнал их всех вон и опрокинул их столы и скамьи. По этому поводу Реймарус убедительно доказал, что, пока действовал Моисеев закон, было неизбежно также и то, что к храму подводились всякого рода жертвенные животные, особенно в пасхальное время и при наплыве иногородних посетителей: для этой цели в одной из наружных частей храма, в так называемом притворе язычников, было легально отведено особое помещение, и все усматривали отменное благочестивое усердие, если там раскупалось очень много скота. Равным образом необходимы были в храме и менялы (меновщики), у которых могли обменять свои деньги на общеупотребительную храмовую монету. Говоря о том, что «дом молитвы» не следует обращать в «вертеп разбойников», Иисус, по-видимому, возмущался тем обманом, которым сопровождались эти торговые и меновые операции. Но в данном случае кроме изречения Иеремии (7:11), который не желает, чтобы храм Яхве был превращен в вертеп разбойников, Иисус ссылался также на изречение Исаии (56:7), в котором храм именуется домом молитвы, и это обстоятельство указывает на то, что такие материальные жертвоприношения были противны Иисусу, который требовал духовных жертвоприношений. Епифаний говорит об эбионитах, что в их Лжематфеевом евангелии имеется следующее изречение Христа: «Я пришел отменить жертвоприношения, и если вы не прекратите их, то гнев (Божий) не оставит вас». Здесь высказано то отвращение к кровавым жертвоприношениям, которое питали эбиониты и ессеи и которое, подобно воздержанию ессеев от мясной пищи, объясняется их аскетически-дуалистическим мировоззрением. Иисусу такое мировоззрение было совершенно чуждо, но зато он был глубоко убежден, что примирения с Богом можно достигнуть только внутренним путем, и потому, питая отвращение к грубому материализму жертвоприношений, он и восстал против него с горячностью пророка, когда, прийдя в храм, впервые увидал там скотный рынок.
К храмовому культу иудеев, вообще, Иисус, по-видимому, относился далеко не так терпимо, как это кажется по рассказам наших евангелий. Для доказательства того, что Иоанново описание жизни Иисуса правильнее описания синоптиков, указывали, как известно, на полную невероятность предположения, что такой благочестивый израильтянин, каким является Иисус по первым трем евангелиям, в течение многих лет не исполнял предписаний Закона и не совершал паломничества в Иерусалим по случаю больших праздников. С противной стороны было представлено немало соображений для объяснения такого упущения, но самое удовлетворительное объяснение мы получим, если сумеем доказать, что Иисус отнюдь не был законопослушным, традиционно-благочестивым израильтянином. Сообщение евангелистов о том, что против Иисуса синедрион выставил лжесвидетелей, по мнению Реймаруса, не соответствует действительности. Иисуса уличало множество вполне достоверных фактов, и уже одно изгнание покупателей и торговцев из храма было достаточным поводом для предания его суду. Можно допустить также, что в показаниях лжесвидетелей о том, что Иисус дерзновенно говорил: «могу разрушить храм Божий и в три дня создать его» (Мф. 26:61), отразился лишь тот образ мыслей, который сам же Иисус осуществил дерзновенным актом очищения храма. Иоанн, как известно, признаёт, что слова, на которые ссылались лжесвидетели, действительно были сказаны Иисусом, когда он производил очищение храма, которое евангелист относит к начальному периоду общественной деятельности Иисуса. Иоанн только находит, что иудеи-лжесвидетели неправильно истолковали смысл этих слов Иисуса, который говорил иносказательно о своей смерти и воскресении, а не о действительном разрушении храма, как то утверждали иудеи (2:19). У Марка (14:58) лжесвидетели показывают, что Иисус говорил:
«Я разрушу храм сей рукотворенный, и чрез три дня воздвигну другой нерукотворенный.»
Очевидно, это — лишь собственное толкование евангелиста, приписанное Иисусу, но оно гораздо более соответствует образу мыслей Иисуса, чем хитросплетенное толкование Иоанна в смысле воскресения, что можно доказать сравнением с Деяниями апостолов. Лука в своем евангелии совершенно умолчал о показании лжесвидетелей, как будто предназначая его для второй части своего труда; и действительно, в Деяниях апостолов приводится показание лжесвидетелей против Стефана, будто они слышали, как он говорил, что
«Иисус Назорей разрушит место сие (храм) и переменит обычаи, которые передал нам Моисей»
(Деян. 6:14)Здесь говорится только о разрушении, а не о построении храма, но так как вслед за тем сообщается об изменении Моисеева культа, то, стало быть, под построением нового храма следовало разуметь введение иного, нового, более духовного богопочитания. На это, несомненно, хотел указать и Марк, хотя, быть может, под нерукотворным храмом он первоначально и разумел действительное, с неба ниспосланное чудесное строение. В истории Стефана свидетели также именуются лжесвидетелями, а между тем сам же Стефан позднее заявляет в своей речи, что «Всевышний не в рукотворенных храмах обитает» (Деян. 7:48). Это старинное представление встречается уже и в Ветхом завете, где оно высказывается самим Соломоном (3 Цар. 8:27), и оно вполне гармонировало с общееврейским представлением о Боге. Однако ярость, с которой иудеи напали на Стефана и на всю юную общину христиан, показывает, что Стефан высказывал свой взгляд не так уж безобидно, как многие пророки до него, и что при этом он имел в виду не вящую славу Бога, а опасную практическую цель. Поэтому можно предположить, что он действительно говорил что-нибудь похожее на то, что о нём показывали свидетели, и что последние поэтому не были лжесвидетелями. Он, вероятно, говорил, что Иисус, прийдя вторично с неба, разрушит храм и отменит связанный с ним Моисеев культ; а если против Иисуса свидетели показывали то же самое, то, стало быть, и это показание было ложно лишь постольку, поскольку в нём приписывалось Иисусу намерение действительно материально разрушить и восстановить храм. Впрочем, вполне возможно, что и это недоразумение было только аффектировано, что евреи отлично понимали конечную цель Иисуса-реформатора и именно поэтому старались его обвинить и осудить.
Страх, внушенный осуждением Иисуса, побудил его последователей покинуть опасную позицию Учителя и пойти на разные уступки, что было и нетрудно, потому что никто из апостолов, по свидетельству Писания, не постигал вполне идей Иисуса. Стефан, который, как показывает его имя, был, вероятно, иудеем и уроженцем Греции, по-видимому, понял истинные мысли Иисуса лучше палестинских апостолов и, действуя в его духе, стал указывать на предстоящее устранение Моисеева культа, за что его и постигла участь Учителя. После этого иудейские апостолы и иудео-христиане в Иерусалиме и в остальной Палестине стали еще большими приверженцами того направления, которое не только было безопаснее для них, но и более соответствовало их пониманию, и в этом духе они стали обрабатывать также и всю историю Иисуса, в которой поэтому стало исчезать всё то, что указывало на его передовой радикализм, и сохранились лишь едва понятные намеки, как, например, рассказ о показании лжесвидетелей. В этом смысле можно признать и то, что изречение Иоаннова Христа о «поклонении Отцу в духе и истине», о независимом от места богопочитании (4:21) вернее выражает действительный смысл и точку зрения Иисуса, чем изречение Матфеева Иисуса о «непреходящей» букве Закона. Это не значит, что свидетельство Иоанна в историческом смысле более достоверно; это значит только то, что автор четвертого евангелия благодаря своей александрийской образованности сумел додуматься до того же самого мировоззрения, которое Иисус благодаря своей религиозной гениальности открыл столетием раньше в Палестине.
§36. Отношение Иисуса к инородцам
Если Иисус находил, что Моисеево богослужение не соответствует истинной сущности религии, и если он намеревался преобразовать иудейскую религию путем осторожной пропаганды своих взглядов, то этим фактом, по-видимому, уже предрешается вопрос о том, как он относился к неевреям. Вместе с Моисеевой обрядностью, установленной по преимуществу в видах отчуждения израильского народа от других народов, падала и главная преграда между иудеями и язычниками. Тем не менее вопрос необходимо исследовать особо, так как в истории нельзя подразумевать, что данный принцип его автором был проведен до конца последовательно, и так как Иисус мог провести свой принцип последовательно для себя, но по соображениям благоразумия проявить некоторую осторожность по отношению к инородцам, неевреям.
В этом отношении изречения и деяния Иисуса, отмеченные в евангелиях, представляют собой целую систему воззрений и взглядов, как мы уже заметили в нашем введении. С одной стороны, Иисус запрещает ученикам обращаться к язычникам и самарянам (эту смешанную народность мы должны причислить к язычникам); с другой стороны, Иисус отзывается довольно благосклонно о самарянах, радуется и умиляется сближению с язычниками и, наконец, прямо наказывает ученикам распространять среди них евангелие. То Иисус систематически избегает страны самарянской, то он безбоязненно вступает в нее и даже развивает там усиленную и плодотворную деятельность. В одном случае Иисус долго отказывается помочь язычнице, в другом — обнаруживает предупредительную готовность исполнить просьбу язычника и тут же за проявленную им веру ставит его в пример иудеям и, сверх того, грозит, что вместо упорствующего народа иудейского в Царство Небесное будут некогда призваны язычники. При более внимательном взгляде на евангелия мы находим, что у Матфея (19:1) и Марка (10:1) Иисус избегает страны самарянской, что безбоязненно он вступает в нее и благоприятно отзывается о самарянах у Луки (9:52; 10:33; 17:11) и что успешно действует в Самарии у Иоанна (4:5 и сл.). Что же касается язычников, то у Иоанна мы находим указание на то, что Иисус радовался сближению с ними (12:20 и сл.), а у Матфея он запрещает обращаться к ним (10:5). Но в том же Матфеевом евангелии (28:19), равно как и у Марка (16:15) и Луки (24:47), Иисус велит проповедовать им евангелие, а в Матфеевом евангелии мы, сверх того, находим, с одной стороны, благоприятный для язычников рассказ о сотнике Капернаума (8:5–13) и, с другой стороны, рассказ о хананеянке, в котором язычники уподобляются псам (15:26).
Обсудив и взвесив все обстоятельства, мы приходим к выводу, что Иисус по своему личному характеру и по характеру своей деятельности был весьма далек от тех или иных крайних воззрений. Что касается самарян, то рассказ четвертого евангелиста о встрече Иисуса с самарянкой у источника Иакова не может послужить надежной исторической опорой: во-первых, он слишком поэтичен и, очевидно, воспроизводит ветхозаветное описание встреч у колодца Иакова с Рахилью и Елиезера с Ревеккой (Быт. гл. 24, 29), во-вторых, он, очевидно, сочинен в качестве прообраза для позднейшей деятельности апостолов в Самарии (Деян. 8:5) и для последующего обращения язычников; наконец, в-третьих, он слишком тесно связан со своеобразным прагматизмом этого евангелия в отношении нескольких праздничных путешествий Иисуса. Равным образом не представляет исторической ценности и сцена с эллинами, прибытие которых глубоко взволновало Иисуса и побудило его рассказать притчу о семени, которое должно сначала умереть, чтобы впоследствии появились плоды: эта дума явно обработана в духе Иоаннова евангелия по синоптическим рассказам о преображении и душевной борьбе Иисуса. Заключительный наказ Иисуса — поучать и крестить все народы, без исключения, приписан уже воскресшему из мертвых Иисусу и потому в такой же мере достоверен, как и рассказ о воскресении Иисуса. Но и помимо этого очевидно, что вопрос о необходимости проповедовать евангелие язычникам впоследствии не вызывал бы такой страстной борьбы, и все старейшие апостолы, постоянные «последователи» Иисуса, не решились бы отвечать на него отрицательно, если сам Иисус так категорично и торжественно дал на него положительный ответ.
С другой стороны, прямой наказ разосланным ученикам не ходить тропой язычников и не вступать в самарянские города, помышляя лишь о заблудших овцах дома Израилева, слишком проникнут духом иудаизма, особенно если изречение о псах, которым не следует давать святыни, и свиньях, пред которыми не следует метать жемчуг (Мф. 7:6), тоже имеет отношение к проповеди среди язычников. Этот наказ, как и вышеупомянутое изречение о неизменности каждой йоты Моисеева закона, в устах Иисуса совершенно непонятны и искажают его взгляды и намерения. Эти странные изречения Иисуса многие истолковывали в том смысле, что в целях вящего укоренения евангельской проповеди среди иудеев Иисус признал необходимость вначале щадить их предрассудки относительно язычников и в качестве благоразумной временной меры рекомендовал это своим ученикам. Но спрашивается: зачем нужно было еще рекомендовать это ученикам, если они и без того уже были проникнуты всеми иудейскими предрассудками и, в частности, питали отвращение к язычникам и самарянам? Для них такое запрещение было излишне, и если Иисус всё-таки объявил его, то, стало быть, оно соответствовало его собственным взглядам; но в таком случае все стремления и действия Иисуса превращаются для нас в неразрешимую загадку.
Исторически вполне допустимо, что по отношению к неевреям Иисус занимал позицию, лежащую между вышеуказанными двумя крайностями в суждениях и деяниях евангельского Иисуса. Пограничная Галилея с ее чрезвычайно смешанным населением, вероятно, часто и многообразно соприкасалась с язычниками. Без сомнения, Иисус здесь неоднократно замечал, что среди слушателей отдельные язычники обнаруживали больше восприимчивости к его поучениям, они доверчивее относились к нему и с большей готовностью проникались убеждением в необходимости жить по-новому, чем преисполненные предрассудков и притязательные потомки Авраама. Поэтому естественно и то, что Иисус охотно предавался подобным наблюдениям и впечатлениям и пользовался ими, чтобы пристыдить своих соплеменников и возбудить в них чувство соревнования. Но, с другой стороны, чем более он убеждался в невосприимчивости и злонамеренности евреев, тем скорее в нём могла зародиться мысль о том, что дело может принять иной оборот и что не потомки Авраама, а язычники составят большинство в учрежденных им общинах верующих. Именно такого рода мысль высказывает Иисус в конце рассказа о сотнике капернаумском; правда, в рассказе этом повествуется о чуде, но само собою разумеется, что большую чуткость и доверчивость язычники могли проявить также по другим, более естественным поводам.
Рассказ о хананеянке, тоже повествующий о чуде, заканчивается указанием на то, что Иисус был поражен глубокой верой язычницы. По характеру этот рассказ отличается от первого тем, что просьбу римского сотника Иисус исполняет немедленно, а просьбе хананеянки он дважды противопоставляет возражения иудаистского характера и лишь затем уступает ее настоятельной и доверчивой мольбе. Такую неожиданную черствость Иисуса, непонятную после случая с сотником, Марк (7:24) объясняет тем, что Иисус, прийдя в пределы Тирские и Сидонские (то есть в пограничную область финикийскую), «не хотел, чтобы кто узнал» его. Но такое объяснение очевидца является лишь собственной попыткой евангелиста смягчить неприятное впечатление от рассказа. Если Иисус действительно так поступал по указанной причине, тогда необходимо допустить одно из двух: либо это происшествие случилось раньше, в начале деятельности Иисуса, и евангелисты, следовательно, ошибочно относят его к позднейшему периоду; либо Иисус отклонил сначала просьбу хананеянки и выставлял против нее иудаистические возражения не серьезно, а лишь затем, чтобы испытать силу ее веры и выставить ее назидательным примером для сопровождавших его иудеев. Однако всего проще предположить, что этот рассказ, сам по себе повествующий о чудесном событии, не является чисто историческим, а представляется лишь мифическим изображением того направления, по которому впоследствии пошла проповедь евангелия. Подобно тому как под напором уверовавших во Христа масс язычников иудеи вынуждены были, наконец, поступиться своим предрассудком и допустить приобщение языческого мира к христианству, так и сам Иисус лишь после многократных предварительных отказов наконец снисходит к мольбам язычницы и решается ее благословить, сраженный ее непоколебимой верой и смирением.
По отношению к самарянам Иисусу было тем легче преодолеть в себе иудаистские предрассудки, чем менее он сам дорожил храмом и культом Иерусалимским, ибо существование и соперничество храма на горе Гаризим являлось одной из главных причин злобствования иудеев против самарян. Согласно четвертому евангелию (4:21–23), Иисус говорил:
«Наступает время, когда и не на горе сей (Гаризим), и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу… истинные поклонники будут поклоняться Отцу в духе и истине.»
Но это изречение в своем современном виде, как было замечено выше, исторически не достоверно; оно сформулировано автором евангелия в духе исторических и религиозно-философских воззрений позднейшего времени; тем не менее по своей тенденции оно едва ли многим разнится от того строя идей, которого придерживался Иисус. Можно допустить, что, решив отправиться на праздник в Иерусалим, Иисус пожелал уважить общенациональный предрассудок и, может быть, в сообществе с другими галилеянами пошел туда не ближайшим путем через Самарию, а окольным путем через восточно-иорданскую область, как сообщают Матфей и Марк. Правда, Лука говорит (17:11), что Иисус, «идя в Иерусалим… проходил между Самариею и Галилеею» (то есть через Самарию); но это сообщение Луки слишком неопределенно и противоречиво и потому не имеет исторического значения, тем более что столкновение с самарянами, о котором он рассказывает (9:52–53), могло случиться и ранее означенного путешествия при каком-либо из прежних переходов через самарянскую границу (сообщение о подготовке помещения для Иисуса в расчет не принимается). Однако можно допустить и то, что на сообщении Матфеева евангелия отразилось влияние иудаистских предрассудков той среды, в которой это евангелие сложилось и для которой оно было предназначено, и что сообщение Луки, хотя и сбивчиво, но, в общем, вполне верно. Во всяком случае, рассказы о милосердом и о благодарном самарянах (Лк. 10:30–37; 17:11–19), как и рассказы о язычнике сотнике капернаумском и о язычнице хананеянке, свидетельствуют об одном и том же, а именно о том, что опыт с самарянами побудил Иисуса противопоставить их своим соплеменникам иудаистам, чтобы примером первых пристыдить последних. Нельзя, конечно, отрицать того, что подобные, для самарян благоприятные, рассказы в интересе сближения с язычниками могли быть задним числом приписаны Иисусу и введены в Евангелие Луки, написанное в духе павликиан (чудесный характер самого рассказа о благодарном самарянине ясно показывает, что он явно «сочинен»). Но, с другой стороны, взгляд Иисуса на самарян, который обрисован в означенных рассказах, вполне правдоподобен в историческом смысле, и тот факт, что эти рассказы встречаются лишь в третьем евангелии, не может служить основанием к тому, чтобы отвергать их по существу.
Итак, воззрения Иисуса в этом отношении развивались, очевидно, так (и в этом я согласен с Кеймом): вначале он, по-видимому, предполагал, что его миссия должна распространяться только на тот народ, среди которого он вырос и с которым его связывала вера в единобожие и ветхозаветное откровение; но потом, когда он ближе познакомился с местным и окрестным языческим населением и самарянами, соседями галилеян, он стал убеждаться всё более и более в их поразительной восприимчивости, с одной стороны, и в безотрадной закоснелости иудеев — с другой, поэтому он стал включать в сферу своего воздействия и язычников и наконец пришел к мысли, что их массовое вовлечение в основанную им общину вполне допустимо и желательно. Однако в этом направлении он сам еще не делал никаких практических шагов, а предоставил это дело времени и естественному развитию обстоятельств.
§37. Отношение Иисуса к идее Мессии
Когда мы обрисовывали своеобразное религиозное сознание Иисуса, не касаясь пока ни отношения его к Моисееву закону, ни взгляда его на язычников и самарян, мы игнорировали также ту позицию, которую он занимал по отношению к мессианским представлениям своих соотечественников. Но мы отнюдь не думали, что все рассмотренные до сих пор воззрения и мысли Иисуса были в нём вполне развиты к тому моменту, когда он убедился, что он Мессия, обетованный народу иудейскому. Мы полагаем, что лишь основы его религиозной своеобразности — идеализм, стремление подчеркивать во всём момент внутренний и отделять религию от политики и обрядности, светлая уверенность в возможности достичь примирения с Богом и самим собой чисто духовным путем — успели созреть и укрепиться в Иисусе к тому моменту, когда он занялся идеей о Мессии, и этим обстоятельством, по нашему мнению, объясняется тот факт, что он так самостоятельно и своеобразно воспринял ее.
Что в отношении еврейского представления о Мессии Иисус занял своеобразную позицию, это видно из того, как он именовал себя в качестве носителя своей своеобразной миссии. По свидетельству евангелий, грядущего Мессию обычно называли либо «Христом», то есть Мессией, или помазанником, либо «сыном Давидовым» — по имени царя, потомком и преемником которого он считался, либо, подобно самому Израилю и лучшим из его царей, «Сыном Божьим» в высшем смысле этого слова. Сыном Давидовым называли Иисуса лица, просившие у него помощи, слепцы из Иерихона и хананеянка (Мф. 9:27; 15:22; 20:30–31). Когда Иисус исцелил бесноватого слепого и немого, народ вопрошал: «Не это ли Христос, сын Давидов?» (Мф. 12:23), а когда Иисус въезжал в Иерусалим, народ возглашал: «Осанна Сыну Давидову» (Мф. 21:9). Вопрос о том, какими историческими моментами обусловливалось такое именование Иисуса, мы оставляем пока в стороне, но, во всяком случае, очевидно, что выражение «сын Давидов» было у тогдашних евреев общепринятым обозначением для Мессии, но сам Иисус так никогда себя не называл. Мало того, однажды он высказался об этом названии так, что можно даже предположить, что называться этим именем он не желал. Безотносительно к себе, он предложил однажды фарисеям вопрос: чьим сыном они считают Мессию? (Мф. 22:41). Они, согласно преобладающему в народе мнению, ответили: «Сыном Давидовым». Тогда он задал им следующий вопрос: «Если Давид называет Его (в псалме 99) Господом, как же Он сын ему?» На этот вопрос фарисеи ничего не ответили. Тут мыслимы два предположения. Возможно, что сам Иисус знал, каким соображением можно устранить противоречие между отношением подчиненности, на которое указывает наименование Мессии сыном Давидовым, и отношением превосходства, которое указано словами «Господь Давидов»; но таким соображением могло быть только предположение о том, что Мессия есть существо высшего ранга, что по плоти и закону он — потомок Давида, но по духу — существо высшее, непосредственно от Бога исходящее; однако, по свидетельству трех первых евангелистов, Иисус нигде таких воззрений не высказывал, а потому и мы не вправе истолковывать в этом смысле вышеприведенный рассказ. Стало быть, нам остается лишь предположить, что Иисус считал вышеуказанное противоречие действительно неразрешимым, но явно становясь на сторону псалма, в котором Давид (не будучи автором псалма), согласно обычному толкованию, величает Мессию (в псалме персонально не названного) своим Господом; Иисус, стало быть, хотел показать, что неуместно смотреть на Мессию как на сына Давидова. Следовательно, по мнению Иисуса, Мессия был выше Давида, подобно тому, как сам Иисус в другом месте заявляет о себе, что он «больше» Соломона и Ионы (Мф. 12:41–42); он, видимо, хотел порвать ту связь, которая в народном представлении соединяла Мессию с Давидом; но так как именно на этой связи утверждали весь светски-политический элемент мессианских упований иудейского народа, мы вправе заявить, что это изречение Иисуса (если оно действительно ему принадлежит) знаменует отрицание и осуждение этого элемента в иудейском представлении о Мессии.
Другим общеупотребительным названием, или, вернее, величанием Мессии, по свидетельству евангелий, было выражение «Сын Божий». Так назывались в Ветхом завете: народ израильский (Исх. 4:22; Ос. 11:1; Пс. 81:6), Богу угодные правители этого народа — Давид и Соломон (2 Цар. 7:14; Пс. 88:27) и достойнейшие их преемники (Пс. 2:7). Впоследствии это выражение сделалось постоянным эпитетом ожидаемого великого царя из рода Давидова, то есть Мессии, как о том свидетельствует Новый завет. В рассказе об искушении так называет Иисуса дьявол (Мф. 4:3, 6), а иудеи в насмешку называли его так при распятии (Мф. 27:40, 43); так величают его «свирепые» бесноватые, вышедшие из пещер страны Гергесинской (Мф. 8:29), и другие бесноватые (Мк. 3:11), а также люди, плывшие в лодке, когда он шествовал по морю (Мф. 14:33); «Сыном Божиим» объявляет его сам Бог при крещении (Мф. 3:17) и на горе преображения (Мф. 17:5), об этом названии впоследствии допытывается на допросе сам первосвященник (Мф. 26:63), причем эпитеты «Сын Божий» и «Христос» (Мессия) сопоставляются друг с другом как синонимы. Правда, этого второго титула Мессии Иисус не отклонял от себя, как титул «сын Давидов», но в то же время никогда и не присваивал его себе прямо, вопреки утверждению автора четвертого евангелия. На заклинающий вопрос первосвященника: Христос ли он, сын Божий? Иисус ответил: «ты сказал», то есть утвердительно; а когда он вопрошал учеников, за кого они его почитают, и когда Симон-Петр радостно ответил: «Ты — Христос, Сын Бога Живаго», Иисус назвал его за это «блаженным», так как ответ этот, по словам Иисуса, был откровением самого Отца Небесного (Мф. 16:15–18). Но замечательно то обстоятельство, что Иисус счел нужным тогда же облечь это «откровение» тайной. Все три синоптика удостоверяют, что после ответа Петра Иисус тотчас запретил ученикам говорить кому бы то ни было, что он — Христос, а затем начал открывать им, что ему предстоит много пострадать, умереть и воскреснуть (Мф. 16:20–21; Мк. 8:30–31; Лк. 9:21–22). Всё это заставляет думать, что Иисус хотел сказать своим ученикам: «Да, я Мессия, но не ваш царственный сын Давидов; да, я сын Божий, но Бог прославит меня не так, как вы предполагаете, а посредством страданий и смерти»[139].
Итак, первым из двух титулов Мессии — титулом «сына Давидова» — Иисус никогда сам не величал себя и однажды даже полуиронически отнесся к нему; второго титула — «Сын Божий» — он, правда, не отклонял, когда его величали, но в то же время старался оградить себя от возможных недоразумений. Зато сам он всего охотнее именовал себя «сыном человеческим», как бы характеризуя этим эпитетом занимаемое им своеобразное положение. Хотел ли он этим названием показать, что он — Мессия? На этот вопрос отвечали по-разному, и надо признать, что ответить на него, действительно, не так легко, как может показаться. Что в Ветхом завете это выражение употребляется взамен выражения «человек или смертный», в этом можно убедиться из многих мест (Пс. 8:5; Иов. 25:6), в том же значении встречается оно и в Новом завете (Мк. 3:28). Если же тут проступает явственно понятие ничтожества и слабости в противоположении к незаслуженной милости Божией или непозволительной притязательности человека, то это понятие более определенно высказывается у Иезекииля, причем само выражение «Сын человеческий» обозначает уже не человека и человеческую природу вообще, а определенную человеческую личность. Всякий раз, когда Иегова посылает пророку какое-нибудь видение или дает ему какое-нибудь поручение, он называет его «сыном человеческим» (Иез. 2:1, 3, 6, 8; 3:1, 3, 4, 10, 17); а если обратим еще внимание на ту ситуацию, при которой пророку дается это название впервые, а именно на то, что он из страха перед грозным видением упал ниц и лишь по велению Иеговы встал на ноги, то увидим, что это выражение подобрано намеренно, чтобы подчеркнуть контраст между слабой человеческой натурой пророка и тем высоким откровением, которого он удостоился. Поэтому когда Иисус говорит тому, кто предлагает себя в спутники ему, что Сыну Человеческому негде и голову преклонить (Мф. 8:20), когда он говорит, что «Сын Человеческий не для того пришел, чтобы Ему служили, но чтобы послужить и отдать душу Свою для искупления многих» (Мф. 20:28), когда он многократно говорит о предстоящих ему страданиях и смерти, как об участи, уготованной для Сына Человеческого (Мф. 12:40; 17:12, 22; 20:18; 26:2), то он здесь, вероятно, называет себя Сыном Человеческим в том же смысле, в каком Яхве называет так Иезекииля, то есть человеком, который получил от Бога высокие откровения, но всё же слаб и ничтожен, и который должен безропотно терпеть всякие лишения и бедствия. Даже в тех случаях, когда он, Сын Человеческий, присваивает себе власть прощать грехи (Мф. 9:6) и провозглашает себя «господином субботы» (Мф. 12:8) и когда он в притче о плевелах называет сеющего доброе семя Сыном Человеческим (Мф. 13:37), он, судя по цитированным местам, всё же хочет выразить лишь то, что и в таких важных делах он, смертный человек, действует по поручению от Бога.
Однако именно последняя цитата опровергает всё изложенное объяснение. О Сыне Человеческом, посеявшем доброе семя, говорится дальше, что он «при кончине века сего» пошлет ангелов своих, чтобы отделить злых от праведных, вознаградить последних и наказать первых. А такое дело, по представлению Иудеев, кроме Бога мог бы исполнить только Мессия. Следовательно, Мессия, во всяком случае, разумеется тогда, когда о Сыне Человеческом говорится, что он придет во славе своей или Отца своего или в царствии своем и воссядет на престоле своем творить суд (Мф. 10:23; 16:27; 19:28; 24:27, 37, 39, 44; 25:13. 31). Если из указанных цитат можно вывести то несомнительное заключение, что выражением «Сын Человеческий» обозначается Мессия, то из других цитат мы можем также заключить, почему и как возникло это обозначение. А именно, Иисус неоднократно заявляет, что Сын Человеческий придет с силой и славой великой «на облаках небесных» (Мф. 24:30; 26:64; Откр. 1:7). Таких указаний мы не находим в словах Иезекииля о сыне человеческом. Поэтому мы обращаемся к Даниилу, который в вышеупомянутом видении говорит (7:13–14), что после гибели последнего из четырех зверей «с облаками небесными шел как бы Сын Человеческий, дошел до Ветхого днями… И ему дана власть, слава и царство, чтобы все народы, племена и языки служили Ему…» Первоначально это изречение, быть может, не имело в виду Мессию, но впоследствии оно легко могло быть истолковано в благоприятном для него смысле.
Решать вопрос о том, когда именно евреи стали так толковать цитированное изречение Даниила и называть Мессию Сыном Человеческим, нам, за отсутствием других достоверных источников[140] придется исключительно по цитатам из евангелий. Нельзя сказать, что если Иисус для обозначения себя Мессией избрал именно это выражение, то оно уже употреблялось в этом смысле современниками. Ведь мы еще доподлинно не знаем, хотел ли он с самого начала провозгласить себя Мессией, а если не хотел, то самым подходящим выражением он должен был признать такое, которое еще не успело стать традиционным титулом Мессии. По свидетельству четвертого евангелия, это так и было, ибо когда в Иерусалиме Иисус заявлял, что Сын Человеческий будет «вознесен от земли», то народ спрашивал: «Кто Этот Сын Человеческий?» (12:32, 34). Правда, этот вопрос народа — один из тех «деланных» вопросов, которыми так изобилует четвертое евангелие; к тому же даже и с точки зрения четвертого евангелиста он является вопросом аффектированным, так как из предыдущей беседы народ не мог не понять, что речь идет о Мессии. Однако же и у Матфея Иисус спрашивает учеников: «За кого люди почитают Меня, Сына Человеческого?» — потом спрашивает их: «А вы за кого почитаете Меня?» — и изъявляет благоволение свое Петру за то, что он ответил: «Ты — Христос (Мессия)» (Мф. 16:13, 15–17). Этот эпизод тоже указывает на то, что тогда эпитет «Сын Человеческий» еще не был общеупотребительным обозначением Мессии и в этом смысле не был известен даже ученикам Иисуса. Ибо в противном случае Иисус самим вопросом подсказал бы им правильный ответ и не мог бы приписать Божьему откровению того, что Петр прозрел и осознал, что тот, который им дотоле был известен под именем Сына Человеческого, есть сам Мессия. Стало быть, если Матфей не искажает фактов в данном случае, то выражение «Сын Человеческий» лишь позднее стали связывать с изречением Даниила, а в то время это выражение сами ученики Иисуса понимали как Иезекииль, считая его как бы формулой смирения, которой Иисус говорит о себе как о ничтожном сосуде Божьего откровения.
Так ли думал сам Иисус, или он понимал означенное выражение в смысле Иезекииля и в то же время про себя имел в виду Даниилова человека, грядущего на облаках? Этот вопрос приходится решать в зависимости от того, подлинны ли те изречения, где Иисус говорит о пришествии Сына Человеческого на облаках, в славе своей, в царствии своем, вообще, о сверхчеловеческом пришествии. Но об этом у нас речь впереди, а пока мы только спросим: что могло побудить Иисуса обозначить себя таким выражением, которое еще не было общепризнанным названием Мессии? Самым веским мотивом могло быть то, что в начале своей общественной деятельности Иисус, быть может, сам еще не считал себя Мессией, этим подтвердилась бы и та, нами выше высказанная мысль, что Иисус проявил себя сначала пророком, а потом Мессией. Однако мыслимо и то, что Иисус сам уже давно признал себя Мессией, но для других решил обозначить себя таким выражением, которое еще не успело обратиться в титул Мессии, чтобы извне ничего не навязывать своим ученикам и народу и чтобы они сами пришли к тому убеждению, что он — Мессия. Вот почему он так обрадовался, когда увидел, что его ближайшие ученики уже дошли до такого убеждения и вполне самостоятельно додумались до правильного взгляда на него.
Избрать этот путь Иисуса могло заставить то соображение, что, если бы он объявил себя Мессией с самого начала, он возбудил бы тем в народе такие политико-национальные надежды, которые резко противоречили его представлению о Мессии. С другой стороны, с этим представлением о Мессии чрезвычайно гармонировал эпитет «сын человеческий»; в противоположность Мессии — Сыну Божьему и всему тому, что жадные до чудес мистики пристегивали к этому понятию, этот эпитет заключал в себе элемент смирения и ничтожества, человеческого и естественного; а в противоположность Мессии — сыну Давидову и всему связанному с ним национальному высокомерию, партикуляризму и политическому фантазерству этот эпитет носил печать универсального, гуманного и морального. Сыну человеческому негде голову свою преклонить; он пришел не для того, чтобы ему служили, а для того, чтобы служить другим; он будет предан в руки человеческие, примет страдания и смерть: как непохож такой жизненный удел на блестящую карьеру Сына Божия! Сын человеческий сеет доброе семя слова, он властен отпускать грехи на земле, он признаёт своим призванием отыскивать и спасать заблудших: как эта миссия не похожа на ту миссию, которую евреи приписывали своему сыну Давидову! Сначала Иисус долго исполнял эту свою миссию на глазах учеников и народа, долго заявлял себя сыном человеческим и человеколюбцем, который ничто человеческое не считает ничтожным и чуждым для себя и который не отвергает безобидных радостей человеческих, как не избегает и страданий человеческой жизни, если они встречаются ему при выполнении им своего призвания, а лишь после того признал он своевременным открыться и принять звание Мессии, хотя бы перед ближайшими своими последователями: но и тогда еще он запрещает своим ученикам распространять дальше весть о том, что он Мессия (если только это — факт исторический, а не вымышленный, с целью прославления скромности Иисуса (ср. Ис. 42:1; Мф. 12:16). Это показывает, что он, вообще, не считал народ созревшим для того, чтобы понимать Мессию в желательном для него смысле; и тот факт, что, открывшись ученикам, Иисус стал говорить им о предстоящих ему страданиях, показывает, что он и ученикам своим настоятельно внушал за Сыном Божиим не забывать в нём сына человеческого.
Баур различает в самосознании Иисуса два фактора: один общечеловеческий, состоящий в том, что он сознавал истинное, свободное от ложного посредничества, чисто нравственное отношение между Богом и человеком; и другой — партикулярный, национальный, сводящийся к еврейскому представлению о Мессии. Первый фактор Баур рассматривает как безграничное идеальное содержание, которому надлежало облечься в ограниченную форму второго фактора, чтобы стать историческим моментом и сообщиться миру. Сама по себе мысль эта верна, но она выражена так, что можно подумать, будто Иисус лишь приспособлялся к еврейскому представлению о Мессии, тогда как его личное убеждение соответствовало первому фактору. Бесспорно, сам Баур этого не думал; он знал отлично, что такая личность, как Иисус, оказавший неизмеримо сильное влияние на ход истории, не могла приспособляться, разыгрывать какую-то роль, иметь в сознании своем какой-то пробел, не заполненный движущей идеей; он знал, конечно, что такая личность всецело должна была быть проникнута убеждением. Но это не подчеркнуто в его изложении, и потому гораздо удачнее замечание Шлейермахера, что собственное самосознание привело Иисуса к убеждению, что в мессианских пророчествах Священного Писания евреев говорится именно о нём.
К такому убеждению Иисус мог прийти тем скорее, что сами пророчества, то есть ветхозаветные изречения, которые в то время приурочивались к ожидаемому Мессии, заключали в себе два элемента: реальный и идеальный, религиозно-политический и религиозно-нравственный. Первый элемент довел еврейский народ до края гибели. Детство Иисуса ознаменовалось восстанием Иуды Галилеянина во время римской переписи (Деян. 5:37), которое окончилось столь же печально, как и все прежние и последующие попытки иудеев восстать против римского владычества, несмотря на то что фанатические сторонники идей этого Иуды встречались еще при закате еврейского государства и возбуждали смуту. Во всех этих восстаниях политическое представление о Мессии являлось внутренней стимулирующей силой, так как фанатики отказывались повиноваться кому бы то ни было, считая, что Яхве единственный законный повелитель избранного народа и своевременно пошлет ему в лице Мессии видимого помазанника и спасителя. Отсюда явствует, что упомянутые практически-вредные последствия политического элемента мессианских прорицаний должны были еще сильнее толкать такого идеалиста, как Иисус, в сторону религиозно-нравственного элемента. В том, что другим представлялось лишь условием существования мессианского спасения, то есть развитие народа в духе истинного благочестия и нравственности, Иисус усматривал главную суть дела. Он не разделял мнения, что Иегова в награду за исправление евреев чудесным образом изменит строй мировых отношений, сделает евреев господствующим народом, подчинит им их прежних угнетателей и одарит их всей полнотой внешних благ и чувственных услад. Напротив, Иисус полагал, что в духовном и нравственном подъеме, в новом, уже не рабском, а чисто сыновнем отношении к Богу евреи обретут то счастье, которое уже само по себе является желанной целью и, кроме того, заключает в себе естественный зародыш всевозможного внешнего совершенства. Он говорил, что прежде всего следует искать Царства Божьего в этом смысле, и тогда всё остальное само приложится (Мф. 6:33).
§38. Мессия поучающий и мессия страждущий
Так называемые мессианские пророчества представляли Мессию по преимуществу в образе могущественного царя, и это объясняется тем, что сама идея Мессии зародилась на почве ожиданий, что некогда наступит снова такой счастливый период национального процветания, который евреи переживали при Давиде. Однако к Мессии относили и такие изречения, в которых говорилось не о воинственном, а о миролюбивом властителе и даже только о пророке, которого Бог пошлет народу своему, а в подлинно-мессианских изречениях, как было указано выше, выражалась надежда на то, что Мессия не только одолеет врагов, но и утвердит иной, лучший образ мыслей в народе.
На иудейской почве представление о царственно-величавом и воинственном Мессии никогда не исчезало, хотя уже и в Ветхом завете высказывалось новое представление о Мессии, которое впоследствии могло привести к тому, чтобы в Мессии видеть не могущественного повелителя, а скромного учителя-страдальца. То была идея «слуги Иеговы», выраженная во Второисаии.[141] Не подлежит сомнению, что этот слуга Иеговы первоначально не имел ничего общего с Мессией. В соответствующих местах (Ис. 41:8; 44:1–21; 45:4; 48:20) слугой своим Иегова прямо называет семя Авраама, народ израильский, который он избрал и призвал от всех концов земли и который он не отвергнет и не покинет. Во время изгнания, будучи рассеян среди чуждых ему идолопоклонников, народ израильский вследствие того еще сильнее привязался к религии Иеговы и, считая себя избранным слугой истинного Бога, стал смотреть на себя либо как на учителя, либо как на страдальца, глядя по тому, в какие отношения он становился к окружающим народам.
Соответственно этому здесь, как и в мессианской идее, проступает отчасти воинственная жажда мести: Иегова посрамит и уничтожит все народы, угнетавшие и оскорблявшие его слугу, а народ израильский превратит в сокрушительное всеуничтожающее молотило (41:11–15). Во время изгнания народ сознал, что его религия не только превосходит религию вавилоно-халдейскую, но и чарует лучшие умы других наций, хотя в целом ее и отталкивают. Поэтому народ израильский признал своей миссией распространение религии Яхве среди других народов: слуга Божий, на которого Яхве излил свой дух, призван стать светочем народов, провозвестником истины и правды на земле. Научившись во время изгнания страдать и терпеть, он будет действовать терпеливо и тихо, но и неустанно, пока не достигнет своей цели и не исполнит своей высокой миссии (42:1–4).
При таком высоком призвании израильский народ во время своего изгнания вынужден был выносить обиды со стороны могущественных языческих народов; Иаков стал червем, ограбленным и скованным людьми (41:14; 42:22), но не потому, что Яхве его отверг, а потому, что он пожелал покарать его за неверность и посредством кары побудить к раскаянию, а затем простить ему его прегрешения (42:23; 43:21). По иной, более дерзновенной версии оказывалось, что израильский народ пострадал не столько за свою вину, сколько за грехи других народов (или, что лучшая, верная Яхве часть народа пострадала за испорченную и неверную массу); что кару, которая должна была постигнуть идолопоклонствующие народы (а также и примкнувшую к ним часть Израиля), Яхве наложил на слугу своего, который за смирение и терпеливое страдальчество получит, наконец, блестящее вознаграждение: возвращение на родину и восстановление прежнего царства (52:13; 53:12).
Впрочем, в указанном отделе Книги Исаии всё это высказано так неясно и сбивчиво вследствие внесения чисто личных моментов (болезнь, раны, смерть, погребение), пророчески-смелой смены действующих лиц и употребления непонятных слов, что необходимо крепко держаться за ту нить, которую дает вступление, где слуга Яхве прямо отождествляется с народом израильским, иначе легко потерять ее и вообразить, что местами (особенно в главах 52, 53) под слугой Яхве разумеется не народ, а единичное лицо. Совершенно прав был тот ученый иудей, который отцу церкви с его христианским пониманием текста возражал, что тут речь идет о еврейском народе в целом и что он в изгнании был рассеян и наказан, чтобы приобресть много новых прозелитов[142]. В греческом переводе так называемых 70 толковников[143], слова «Слуга (раб) Божий» поняты были в том же смысле, и потому в главе 41 (8) выражение оригинала «слуга Мой, избранник Мой» переданы словами: «Израиль, раб Мой, Иаков, которого Я избрал». Таким же образом переведен и стих 3 главы 49.
Известно, что в Новом завете это место истолковано иначе, и всё, что там сказано о слуге Божием, отнесено не к народу израильскому, а к Христу. В этом отношении классическим местом является стих 34 главы 8 в Деяниях апостолов: здесь евнух «ефиоплянин», хранитель сокровищ царицы эфиопской, по поводу слов Исаии (53:7): «Как овца, веден был Он на заклание, и как агнец пред стригущим его безгласен, так Он не отверзал уст Своих» и т.д. спрашивает Филиппа: «О ком пророк говорит это? о себе ли, или о ком другом?» И Филипп, воспользовавшись случаем и «начав от сего Писания, благовествовал ему об Иисусе» (то есть разъяснял, что под страждущим Мессией здесь подразумевается Христос). Точно так же евангелисты в распятии Христа посреди двух преступников усматривают (Мк. 15:28; Лк. 22:37) осуществление предсказания Исаии (53:12): «к злодеям причтен был»; в бесшумной деятельности Иисуса — осуществление пророчества Исаии (42:1–4) о не вопиющем и не возглашавшем рабе Божием (Мф. 12:19); в актах исцеления от болезней — осуществление изречения Исаии 53:4 (Мф. 8:17). Последнее достигается соответствующим извращением смысла слов пророка, который говорит не об избавлении от болезней, а о восприятии на себя чужих болезней слугой Божиим. Таким же образом в Первом послании Петра (2:22–24) одно место из Исаии (53:4–6) перетолковано в смысле страданий, претерпеваемых Иисусом за других.
Что Иисус сам относил к себе пророчество о слуге Божием из Книги Исаии, нельзя доказать на основании заявления Луки (22:37) о том, что Иисус после последней тайной вечери перед отбытием на гору Елеонскую говорил своим ученикам: «Должно исполниться на Мне и сему написанному: „и к злодеям причтен“». Тут, очевидно, сам евангелист Лука вложил в уста Иисусу то, что другой евангелист, Марк (15:28), замечает лично от себя: «И сбылось слово Писания: „и к злодеям причтен“». В таком же неведении и по той же причине оставляет нас рассказ Луки (4:16–19) о том, что Иисус отнес к себе изречение того же пророка Исаии (61:1), хотя в этом изречении пророк говорит не о слуге Божием, а о себе самом и о том, что он идет благовествовать неимущим и плененным. О воскресшем Иисусе евангелисты тоже сообщают, что он доказывает ученикам на основании Священного Писания и, в частности, пророков, что Мессия должен был страдать и умереть, чтобы войти во славу свою (Лк. 24:25–34). В данном случае тоже разумеется главным образом более поздний раздел Исаии, но мнимые речи воскресшего не могут служить аргументом и опорой в историческом трактате.
Впрочем, впоследствии среди иудеев тоже распространилось толкование, по которому в Исаиевом «рабе» (слуге) Яхве надлежало видеть Мессию. В Ветхом завете «рабом» Яхве назывались не только народ Божий, но и Моисей, и другие, Богу угодные люди, и особенно Давид (Пс. 17:1; 35:1; 88:4, 21), а от них уже легко было перенести это почетное прозвище и на Мессию. Например, вышеозначенное изречение Исаии (52:13) истолковывает в смысле Мессии так называемый Таргум Иоанатана[144], халдейское переложение некоторой части ветхозаветных книг, автор которого, по общему предположению, жил во времена Христа, однако он еще избегает описания страданий и старается обойти их. Ужас перед скорбным видом слуги Яхве Таргум толкует в смысле ожидания его пришествия, страдания за других — в смысле молитвенного заступничества, искажение лика — в смысле бедствования народа в изгнании. Действительно, в изречениях Второисаии о слуге Яхве тоже можно отличить два момента, к которым с точки зрения иудейского представления о Мессии можно относиться различно. Приписанное ему призвание учительское согласовалось с этим представлением и даже находило в нём точку опоры, но страдания и роль мученика казались несовместимыми с ролью царя-героя, каким обычно представлялся Мессия, и потому вполне понятны ухищрения Таргума, не желавшего считаться с этим моментом.
Вполне вероятно, что в представление, которое Иисус составил себе о призвании Мессии, совсем не вошли черты первого рода и что черты непритязательного и терпеливого учительства слуги Яхве, указанные у Исаии (4:8), не только были им приобщены к его идее Мессии, но и немало способствовали тому, что Иисус решил отнести представление о Мессии к самому себе. Далее необходимо отметить и то, что представление о слуге Яхве как о «свете для язычников» (Ис. 42:6; 49:6) могло помочь Иисусу расширить с самого начала круг своих интересов за пределы иудейского народа. Но терпимость неразрывно связана с учительской деятельностью; неутомимый учитель должен уметь сносить неблагодарность и побороть строптивость долготерпением, а история еврейских пророков изобилует примерами того, что многие из них засвидетельствовали мученической смертью свою верность возвещенной ими религии Иеговы. Поэтому к образу Мессии приходилось приобщать и такие черты «раба» Яхве, как готовность пострадать, претерпеть бедствия и истязания и даже самоё смерть. Возможно, Иисус в начале придерживался лишь черт первого рода, желая быть Мессией в смысле скромного и терпеливого учителя; но чем более он наталкивался на невосприимчивость и противодействие со стороны своего народа, чем более он убеждался, что своей деятельностью он возбуждает против себя непримиримую ненависть высших слоев населения, тем более он имел причин включить в свое представление о Мессии черты страдальчества из Исаии (гл. 50, 52, 53) и по примеру прежних пророков (Мф. 23:37; Лк. 18:33) быть готовым претерпеть всё — насилие, осуждение и казнь и предупреждать об этом своих близких. Возможно, что и мысль о том, что он, Сын Человеческий, должен послужить и отдать душу свою для искупления многих (Мф. 20:28) и что смерть его есть искупительная жертва, он также заимствовал из Исаии (гл. 53), хотя, впрочем, взгляд этот, вообще, был свойствен еврейскому миропониманию.
По свидетельству наших первых трех евангелий, Иисус начал возвещать о предстоящих ему страданиях сравнительно поздно, незадолго до рокового отбытия своего в Иерусалим (Мф. 16:21; 17:12; 22; 20:18, 28). Это сообщение в такой же мере исторически правдоподобно, в какой неправдоподобно сообщение евангелиста Иоанна о том, будто Иисус предвещал о своих страданиях и смерти еще в начале своей деятельности (2:19–21; 3:14) и будто Иоанн Креститель о том же говорил еще задолго до публичного выступления Иисуса (1:29, 36). То обстоятельство, что Иисус в четвертом евангелии предрекает свою смерть в гораздо менее определенной форме, чем у синоптиков, отнюдь не подтверждает мысль о превосходстве изложения Иоанна, ибо если Иисус действительно говорил о том, что ему. Сыну Человеческому, предстоит вознестись с земли, наподобие Моисеева медного змия (Ин. 3:14; 12:32), то он должен же был знать о предстоящей ему крестной смерти, о которой, по свидетельству синоптиков, он говорил вполне определенно, но только значительно позднее. Впрочем, точные указания, как, например, то, что Иисусу предстояло умереть именно на кресте, были, видимо, включены в речи Иисуса уже после соответствующих событий, а такие, как оплевание Иисуса (Лк. 18:32), видимо, позаимствованы из пророчества Исаии (50:6) либо самим Иисусом, либо, вернее, евангелистами.
Однако весьма вероятно, что прорицаниями такого рода Иисус сначала возбуждал в своих учениках сильное неудовольствие и возражения. Так, по словам Матфея (16:22), Петр «прекословил» Иисусу, говоря: «Будь милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!» Ибо ученики разделяли обычное представление о Мессии, которое Иисус дотоле пытался изменить лишь косвенным и фактическим путем и прямо еще не оспаривал, а такое представление, конечно, не допускало мысли о страданиях и казни, приличествующей лишь преступникам. Правда, Иисус порицал земные помыслы Петра и с возмущением отверг его возражение против готовности Иисуса пострадать как «сатанинскую» попытку соблазнить и совратить с истинного пути. Правда и то, что Иисус с тех пор при всяком удобном случае указывал ученикам на неизбежность подобного исхода, но последний всё же мог их поразить, прежде чем они успели освоиться с такой мыслью, а потому они вначале и были так угнетены горем, как будто оно постигло их совершенно неожиданно.
Евангелисты неизменно утверждают, что возвещая о предстоящей смерти, Иисус постоянно предрекал, что через три дня он воскреснет. По этому поводу следует заметить, что на воскресенье можно взглянуть трояким образом: можно рассматривать его как чудо, как естественное явление или, наконец, как простое верование, которому не соответствовали внешние факты. В последнем (третьем) случае воскресение не могло быть и предсказано Иисусом, так как оно не совершалось в действительности; во втором случае оно тоже не могло быть предсказано Иисусом, являясь событием непредвиденным, случайным; наконец, в первом случае предсказание является таким же чудом, как и воскресение, но как то, так и другое столь резко нарушают связь естественных причин и следствий, что допустить их — значит отказаться от исторического изображения жизни Иисуса, поэтому для нас такое допущение неприемлемо. Правда, в том изречении пророка, где говорится о пострадавшем, умершем и посреди злодеев погребенном слуге Яхве, также сказано, что потеряв жизнь свою во искупление вины, он узрит потомство свое и будет долго жить (Ис. 53:10). Поэтому можно предположить, что Иисус, отождествляющий себя с этим слугой Яхве, отнес к себе также и это предсказание о чудесном воскресении из мертвых и на этом основании ожидал и предвещал свое собственное воскресение и что позднее, когда это событие совершилось, было внесено в евангелия указание на трехдневный срок. Однако упоминание пророка о потомстве и затем (ст. 12) о том, что «слуга Яхве» разделит добычу с сильными, должно было побудить Иисуса понимать всё это место иносказательно, чтобы оно действительно могло быть отнесено к нему; он должен был понять его в смысле воздаяния и прославления в будущей жизни или (как сказано в стихе 10) в смысле благоуспешного сотворения его руками воли Яхве, то есть в смысле будущего торжества задуманного дела. Историк, биограф Иисуса, может допустить, что только в таком небуквальном смысле, а не в смысле настоящего физического оживления, Иисус говорил о своем будущем воскресении.
§39. Второе пришествие Мессии
По словам евангелий, Иисус говорил не только о своем воскресении в третий день, но также о пришествии Сына Человеческого, то есть о своем собственном вторичном мессианском пришествии в последующее и не слишком отдаленное время, когда он обетовал явиться на облаках небесных, в божественной славе и в сопровождении ангелов, чтобы пробудить к жизни мертвых, судить живых и умерших и учредить свое царство, Царство Божие, Небесное (Мф. 10:23; 13:41; 16:27; 25:31; Ин. 5:28; 6:39).
Это — кардинальный пункт учения Иисуса, и древняя церковь понимала его буквально и даже обосновывала на нём свое существование, предполагая, что без веры в скорое второе пришествие Христа немыслима и христианская церковь. Наоборот, для нас Иисус мыслим лишь как человек, а человеку не свойственно и не присуще то, что он о себе предсказывает. Но если он и сам ожидал, что сбудется предсказанное им, то мы должны его считать мистиком-мечтателем, а если он сам не был убежден в правильности своих предсказаний, то он — хвастун и обманщик. Тут мы имеем такой же случай, каким являлось мнимое изречение Иисуса о его предсуществовании. Нам кажется безумцем тот, кто утверждает, что он помнит, как он существовал до своего рождения (не просто считая, как Платон, известные идеи, находимые в душе, воспоминаниями о таком предсуществовании), хотя в действительности ни другие люди, ни он сам того не помнят, а кто надеется вернуться после смерти, как никто из людей никогда еще не возвращался, тот нам представляется если не безумцем (ибо мечтать о будущем не возбраняется), то, во всяком случае, безнадежным фантазером-мистиком.
Выше мы показали, что Иисус не говорил в своих речах о своем мнимом предсуществовании, и мы пришли к этому заключению не путем иносказательного толкования ясных текстов, а путем указания на то, что такого рода изречения встречаются лишь в четвертом евангелии, автор которого всюду выводит не действительного, а воображаемого им Иисуса. Не так легко разобраться в изречениях Иисуса о его втором пришествии. Их мы находим во всех четырех евангелиях, а в первых трех, которые, как мы говорили, содержат много действительно исторических сказаний, они приведены даже в более подробном и определенном виде, чем в четвертом. Итак, что делать?
Быть может, достаточно толковать их в несобственном иносказательном смысле? Или, быть может, нам удастся доказать, что Иисус их вовсе не высказывал? Или, наконец, предположить, что означенные изречения Иисус говорил и понимал буквально, и, таким образом, признать, что Иисус был мечтателем и чуть ли не фантазером? Это последнее предположение мы отнюдь не должны исключать как немыслимое; хотя оно и не мирится с нашими традиционно-христианскими воззрениями, мы должны поступиться и нашими привычными воззрениями, если окажется, что данное предположение подтверждается историей. Не приходится возражать и на то, что фантазер-мистик не мог бы ни так сильно повлиять на ход истории, как Иисус, ни обладать теми возвышенными и здравыми взглядами, какие мы установили у него выше. Так можно было бы сказать про обманщика, но такого предположения мы здесь не строим. Совмещение высоких интеллектуальных и душевных достоинств с некоторой мечтательностью — весьма обыкновенное явление, и о великих исторических деятелях можно прямо утверждать, что каждый из них был до известной степени мечтателем.
Судя по евангельским рассказам, Иисус предвидел свое второе пришествие в столь близком будущем, что даже говорил своим ученикам: «есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Сына Человеческого, грядущего в Царствии Своем» (Мф. 1:28); «не прейдет род сей, как всё сие сбудется», то есть сбудется второе пришествие Сына Человеческого со всеми предшествующими и сопутствующими обстоятельствами (Мф. 24:34); мало того, он полагал, что тотчас после предсказанного им разрушения Иерусалима наступит и эта заключительная катастрофа (Мф. 24:29). Однако оказалось, что Иисус сильно ошибался относительно срока катастрофы, так как не только «прешел род сей», но за 1900 лет успели перемереть многие другие роды или поколения, а предсказанное им второе пришествие всё ещё не совершилось. Но с нашей точки зрения это нисколько не меняет дела, так как для того, чтобы признать нелепым предсказание о втором пришествии «Сына Человеческого, грядущего на облаках», нам вовсе не нужно убедиться опытным путем в том, что это событие не наступило в назначенный срок. По этой же причине мы отнюдь не чувствуем желания прибегать к таким искусственным и вымученным толкованиям текстов, какими занимаются с большим усердием теологи, доказывающие, что под «родом», который не прейдет, пока не сбудется всё сие, следует разуметь или народ еврейский, или христианскую церковь; что под «всем», что должно прежде сбыться, надо разуметь лишь разрушение Иерусалима, а под словом «сбудется» — только то начало событий, которое и мы теперь переживаем.
Впрочем, под пришествием Иисуса, о котором он говорит (если только слова его не искажены), мы должны понимать не постепенное и невидимое пришествие, то есть естественное развитие результатов его земной деятельности, а зримое и внезапное пришествие или чудесную катастрофу. Уже и при прежних судах Божиих над отдельными народами пророки говорили о затмении солнца и луны и о падении звезд (Ис. 13:10; 34:4; Иоил. 3:15; Ам. 8:9). Но это не дает нам права понимать такие изречения в небуквальном, иносказательном смысле, так как пророки ожидали подобных явлений природы в качестве только предзнаменования и сопутствующего момента исторических событий. Но Иисус, по словам Матфея (24:30; 25:31), говорил: «тогда явится знамение Сына Человеческого на небе; и… восплачутся все племена земные и увидят Сына Человеческого, грядущего на облаках небесных с силою и славою великою», и пошлет он ангелов своих с трубою громогласною, и соберут избранных его от четырех ветров, и затем Сын Человеческий «сядет на престоле славы Своей» и будет судить всех людей, и одних ввергнет в огонь вечный, а другим дарует жизнь вечную. Такое изречение немыслимо истолковать аллегорически, и как христианская церковь всегда понимала его в буквальном смысле, так, вероятно, и сам Иисус в него влагал тот же смысл, если только он действительно говорил что-либо подобное.
Вообще, следует заметить, что речи Иисуса о пришествии впоследствии переделывались многократно. Один раз Иисус говорит ученикам своим, что Сын Человеческий придет, прежде чем они успеют обойти города Израилевы, благовествуя о Мессии (Мф. 10:23); в другой раз он говорит, что придет Сын Человеческий и «придет конец» тогда, когда «проповедано будет сие Евангелие Царствия по всей вселенной» (Мф. 24:14). Ведь это не одно и то же и, стало быть, взгляды Иисуса в промежуток времени от первого предсказания до второго успели существенно измениться или, вернее, первое предсказание было сделано в такое время и в таком кругу, где наступления царства Мессии ожидали лишь для народа израильского, а второе — когда уже было решено допустить и язычников в царство Мессии. В большой речи Иисуса о втором пришествии (Мф. 24; Мк. 13; Лк. 21) встречается особенно много указаний, внесенных, очевидно, после смерти Иисуса. Голод и землетрясение, войны и слухи о войне, восстания народа на народ и царства на царство, которые должны были предшествовать концу, то есть разрушению Иерусалима и пришествию Сына Человеческого (Мф. 24:6 и сл.), — всё это факты времен Клавдия и Нерона, как о том свидетельствуют «Анналы» Тацита, а также «Древности» и «Иудейская война» Иосифа Флавия. В преследованиях и избиениях христиан иудейскими и языческими властями (Мф. 24:9; Мк. 13:9; Лк. 21:12) можно признать первые гонения, предпринятые против христиан в Иерусалиме, а затем Нероном. Ненависть всех народов к христианам (Мф. 24:9) у римского историка[145] превращена в мнимую ненависть христиан ко всему роду человеческому, а охлаждение любви в общине вследствие беззаконий (Мф. 24:12) напоминает собой слова автора Апокалипсиса (2:4), который укоряет Эфесскую общину (церковь) за то, что она «оставила первую любовь свою», особенно же поражает соотносимость слов Иисуса о лжепророках и лжехристианах (Мф. 24:5, 11, 23–26) с некоторыми событиями позднейшего времени. К числу таких лжепророков относится Февда, который выдвинулся в царствование Клавдия и о котором говорится и в Деяниях апостолов (5:36), что он (в неверно указанное время) явился и выдавал себя «за кого-то великого» (то есть за пророка или самого Мессию), и «к нему пристало около четырехсот человек». К ним же принадлежит и так называемый египетский пророк, за которого римский трибун в Иерусалиме принял апостола Павла (Деян. 21:38) и который в качестве второго Моисея шел из Египта по пустыне, чтобы, подобно Иисусу Навину, завладеть без боя Иерусалимом и, по словам Иосифа, привлек к себе 30 тысяч человек. К ним же относятся многие другие, о которых Иосиф говорит, что, выдавая себя за Богом вдохновенных пророков, они стремились к новшеству и перевороту и до безумия возбуждали еврейский народ[146]. При этом особенно замечательно такое совпадение: Иисус (Мф. 24:26) предостерегает своих учеников от доверчивости, когда кто-нибудь им скажет, что Мессия пошел в пустыню; а Флавий сообщает, что Египтянин (египетский пророк) и различные другие лжепророки того времени, лжепророки, появившиеся после разрушения Иерусалима, увлекали народ в пустыню, обещая показать им там великие чудеса.
Предсказывая осаду и разрушение Иерусалима со всеми его последствиями, Иисус в Евангелии от Луки (19:43; 21:20, 24) говорит об обложении города окопами и войсками, о разорении его и рассеянии пленных евреев среди всех народов. Но в этом случае евангелист, видимо, описывает ход действительных событий, происходивших во время разрушения города Титом, и позднее — даже те общие указания, которые имеются у Матфея и Марка (24:2; 13:2), что храм будет разрушен до основания, получают своеобразный колорит при сравнении с Апокалипсисом: автор его ничего не говорит о разрушении храма (11:13) и утверждает только, что «произошло великое землетрясение, и десятая часть города пала, и погибло семь тысяч имен человеческих». Если речи Иисуса подлинны, то это совершенно непонятно, особенно в том случае, если Апокалипсис действительно написан апостолом Иоанном. Но если даже считать его тем, что он есть, то есть произведением иудео-христианина времен Гальбы, то всё же нелегко понять, как мог он в такой мере уклониться от точно и подробно сформулированного пророчества Иисуса, если бы таковое существовало. Поэтому вполне правдоподобно, что это предсказание об осаде и разрушении Иерусалима составлено было иудео-христианами в момент этих событий или позднее, а затем было приписано Иисусу, чтобы и в этом отношении уподобить его ветхозаветным пророкам, особенно Даниилу, которым в то время особенно сильно зачитывались и увлекались.
Всё это, впрочем, еще не затрагивает сути того вопроса, который нас интересует в данном случае. Если пророчество о разрушении Иерусалима и предшествующих событиях было приписано Иисусу позднее, то всё же можно допустить, что он говорил о своем близком пришествии на облаках, и если он в то время не пришел, то христиане всё же могли ждать его пришествия после разрушения Иерусалима.
Иисус обещал вернуться в царствии своем (Мф. 16:28); поэтому спрашивается: как он, вообще, высказывался об этом царствии — говорил ли он, что оно им было основано уже при его жизни на земле, или же он говорил, что оно будет основано при втором пришествии? Подобно Крестителю, Иисус вначале возвещал лишь, что «приблизилось Царство Небесное» (Мф. 4:17), и наказывал своим ученикам молиться: «Да приидет Царствие Твое» (Мф. 6:10). Стало быть, Иисус имел в виду такое царство, которое еще не существовало и лишь должно было наступить. В другой раз Иисус говорит: «Не всякий, говорящий Мне: „Господи! Господи!“, войдет в Царство Небесное» — и заявляет, что вопрос о вступлении в него решится в «тот день», то есть в день страшного суда (Мф. 7:21). В последний вечер он говорит ученикам, что отныне он не будет пить от плода виноградного до того дня, когда будет пить с ними новое вино в Царстве Отца Своего (Мф. 26:29), а в другом месте — что в царстве небесном «многие придут с востока и запада и возлягут с Авраамом, Исааком и Иаковом» (Мф. 8:11). Этими словами Иисус как бы подтверждает, что осуществление Небесного Царства он ожидал не в настоящем, а в другом периоде мировой жизни, который Бог сотворит сверхъестественным образом.
С другой стороны, он говорит, что «от дней… Иоанна Крестителя доныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилие восхищают его» (Мф. 11:12), или, как сказано у Луки (16:16): «С сего времени Царствие Божие благовествуется, и всякий усилием входит в него». На обвинение фарисеев, будто он силой Веельзевула изгоняет бесов, он возражает, что изгоняет бесов «Духом Божиим» и поэтому до них (фарисеев) тоже уже дошло «Царствие Божие» (Мф. 12, 28). На вопрос фарисеев, когда наступит Царство Божие, он отвечает: «не придет Царствие Божие приметным образом… Ибо вот, Царствие Божие внутри вас есть» (Лк. 7:20–21). Стало быть, во всех изречениях Иисуса Царство Божие изображается уже существующим, основанным и открытым при жизни Иисуса на земле. Сопоставляя с этим притчу о зерне горчичном и в особенности притчу о закваске (Мф. 13:31–32), где распространение Царства Небесного на земле уподобляется постепенному закисанию теста, мы убеждаемся, что развитие Царства Небесного Иисусу представлялось вполне естественным и постепенным процессом.
Впрочем, одно не исключает другого. В притче о плевелах (Мф. 13:24 и сл.) Иисус говорит о постепенном произрастании как добрых, так и худых семян, которое внезапно завершается жатвой, понимаемой в смысле кончины мира сего. Если притча изображает наступление Царства Божия, то необходимо отличать время его постепенного развития в настоящем мировом периоде, когда оно существует не в чистом виде, а в сочетании с земным миром, от времени его завершения в будущем мессианском периоде, который начнется с обособления злых от добрых. Точно так же, по словам Матфея (28:20), Иисус, расставаясь с учениками, уверял их, что он будет с ними «во все дни до скончания века»; но этот конец был ранее (24:3) приурочен к моменту второго пришествия Иисуса, поэтому и тут следует отличать невидимое присутствие Иисуса от его видимого пришествия, как выше мы отличали наличное Царство Божие в его несовершенном и неразвитом виде от его совершенного осуществления в будущем.
Не только по свидетельству всех евангелий (поскольку за ними можно признавать историческую ценность), но и по исторической аналогии необходимо предположить, что Иисус отличал подготовляющий настоящий мир от совершенного потустороннего мира, и настоящую жизнь, как время служения, от будущей, как времени воздаяния, и что наступление такого совершенства он приурочивал к чудесному перерождению мира, которое произведет сам Бог. С одной стороны, такой взгляд был одним из представлений, господствовавших среди еврейского народа, подобно отвергнутому Иисусом представлению о сильном в этом мире, Мессии, а с другой стороны, лишь под такой формой, вообще, весь древний мир, уже достигший признания сверхчувственного, мог представлять себе ход мирового развития, вследствие чего и платонизм сходился в этом отношении с иудаизмом. Но если Иисус усвоил подобное воззрение (а не усвоить его он не мог), если он отличал от настоящего земного бытия будущее бытие в Царстве Божием (на небе или на обновленной земле) и если наступление последнего он представлял себе в виде чудесного акта Божьего, тогда уже совершенно безразлично, к какому именно моменту он приурочивал его. Если бы он даже ожидал его в ближайшем будущем и говорил это своим ученикам для утешения, то это было бы с его стороны лишь чисто человеческой ошибкой, но, может быть, и сами ученики Иисуса, опечаленные его смертью, захотели утешить себя, приписав ему подобные пророчества о скором наступлении лучшего порядка в мире.
Во всех означенных изречениях Иисуса нас смущает, таким образом: вышеуказанное чудесное преобразование — наступление идеального момента воздаяния — он связывал со своей собственной личностью, выдавая себя за того, кому надлежало прийти на облаках небесных в сопровождении ангелов, чтобы воскресить мертвых и творить суд над ним. Ожидать чего-либо подобного от самого себя и вообще ожидать — это не одно и то же; кто ожидает чего-либо подобного от себя и для себя лично, того мы считаем не только мечтателем-фантазером, но и человеком непозволительно надменным, как и того человека (а только о таком у нас тут и идет речь), который воображает, что он представляет исключение из всех людей и призван их судить; к тому же Иисус, в частности, не должен был бы забывать, что он когда-то сам отказался от эпитета «благий» и говорил, что такой эпитет приличествует только Богу.
Конечно, если Иисус был убежден, что он — Мессия, и относил к Мессии Даниилово пророчество, то мог также надеяться на то, что во исполнение последнего он некогда придет на облаках небесных. Присматриваясь ближе к соответствующему изречению пророка, мы видим, что суд будет творить не грядущий в облаках Сын Человеческий, а «Ветхий днями», то есть Яхве, а в Апокалипсисе Иоанна (20:11) тоже говорится, что судьей, соответственно древнееврейскому представлению, выступит сам Бог, восседающий на белом престоле. Однако апостол Павел говорит, что «святые», то есть христиане, будут судить мир и даже самих ангелов (1 Кор. 6:2–4), и говорит он об этом как об обычном представлении древнехристианских общин. Соответственно и у синоптиков Иисус обещает 12 апостолам, что они «в пакибытии» воссядут рядом с ним на 12 престолах и будут судить 12 колен израилевых (Мф. 19:28; Лк. 22:30). Поэтому можно допустить, что наряду с представлением о Яхве как о единственном судье, вероятно, существовало уже до Иисуса представление о том, что творить суд будет Мессия в качестве наместника Яхве и что Иисус усвоил себе это представление как составную часть представления о Мессии. Он возвещал человечеству Слово Божие, на основании которого человечество будет некогда судимо; поэтому естественно, что сам провозвестник Слова Божия также примет участие в предстоящем суде, а тому, кто сеял доброе семя, подобало и при жатве поручить ангелам своим выполоть и сжечь плевелы (Мф. 13:37–41); правда, в четвертом евангелии Иисус устраняет себя от суда над миром и заявляет, что в последний день судить будет отвергших Иисуса то «Слово», которое он возвещал (Ин. 12:47–49). Но такая версия подсказывалась евангелисту его понятием о Логосе (Слове), которое исключало всё отрицательное, всякое осуждение и истребление, и потому она не может служить нам аргументом, опровергающим подлинность синоптических изречений Иисуса о суде.
§40. Арена и продолжительность общественного служения Иисуса
Если мы теперь посмотрим, как Иисус насаждал Царство Божие на земле, то мы увидим, что он, по словам Матфея (4:23; 9:35), обходил всю Галилею, все города и селения ее, поучая в синагогах и благовествуя о Царствии Небесном. По сообщению Луки (23:5), люди, обвинявшие Иисуса в Иерусалиме, говорили Пилату, что Иисус «возмущает народ, уча по всей Иудее», от Галилеи до Иерусалима. Евангелисты здесь, как и повсюду, утверждают, что Иисус вел жизнь странствующего учителя. Правда, настоящим местом жительства его был город Капернаум при море Галилейском, тот город, откуда вышли и все главные ученики его (Мф. 4:13; 8:5; 9:1; 11:23; Лк. 4:23); однако он чаще всего странствовал по всей стране в сопровождении ближайших учеников и некоторых зажиточных женщин, которые пеклись о внешних нуждах всей общины (Лк. 8:1–3; 23:49; Мф. 27:55; Мк. 15:40). Проповедовал он или по субботам в синагогах (Мф. 12:9; 13:54; Мк. 1:21; 3:1; 6:2; Лк. 4:16, 31, 33; 6:6; 13:10; Ин. 6:59), или под открытым небом на горе (Мф. 5:1), или сидя в лодке на озере (Мф. 13:1–2; Мк. 2:13; 3:7; 4:1; Лк. 5:1), обращаясь к более или менее многочисленной толпе народа, или он поучал народ во храме Иерусалимском и вел там споры с учеными книжниками (Мф. 21:23; 23:1–39; Мк. 11:27; 12:35–44; Лк. 20:21–26; Ин. 7:14; 8:20–59; 10:2223), или, наконец, по приглашению гостеприимных людей или друзей заходил в частные дома и вел поучительные беседы (Мф. 9:9; 26:6; Лк. 5:27; 7:36; 10:38 — 42; 11:37; 14:1; Ин. 2:1–2; 12:1). Вообще, подобно Сократу, Иисус пользовался всяким удобным случаем, чтобы разбрасывать повсюду семена своего учения, рассчитывая на то, что где-нибудь они упадут на восприимчивую почву.
В целом по вопросу о внешней форме учительской деятельности Иисуса (о методе его учительства речь пойдет ниже) наши евангелисты почти совершенно сходятся друг с другом, но относительно места его деятельности показания трех первых евангелистов значительно разнятся от показаний четвертого. Правда, обе стороны единогласно утверждают, что общественная деятельность Иисуса после крещения, принятого им в Иудее от Иоанна Крестителя, началась в Галилее и закончилась в Иерусалиме; но в промежутке между этими двумя конечными моментами Иисус, согласно четвертому евангелию, выступает большей частью не в тех местах, которые указаны в других евангелиях. По свидетельству последних, Иисус после крещения, совершенного Иоанном, вернулся в Галилею и до последнего отбытия в Иерусалим не выходил за пределы северной Палестины, обходя здесь все селения, лежащие к востоку и западу от Галилейского озера и у верховьев Иордана, где правили страной в качестве римских вассальных князей сыновья Ирода — Антипа и Филипп, и не заходя далее на юг — ни в Самарию, ни в Иудею и Иерусалим, ни, вообще, в ту область, которая находилась под непосредственным управлением римлян. В этих пределах деятельность Иисуса сосредоточивалась по преимуществу в той области, которая лежала к западу от Иордана и Тивериадского озера, то есть в Галилее, и, по словам синоптиков, всего лишь три раза Иисус отлучался на короткое время на восточный берег озера (Мф. 8:18; 9:1; 14:13–34; 15:39) и два раза — в северную часть страны, в окрестности Кесарии Филипповой (Мф. 16:13) и финикийских городов Тира и Сидона (Мф. 15:21–29). Стало быть, по сообщению трех первых евангелий, Иисус не бывал в Иудее и Иерусалиме перед тем своим праздничным путешествием, которое завершилось его казнью, а, по словам четвертого евангелиста, он и перед тем бывал четыре раза в Иерусалиме по случаю Пасхи (2:13), другого, точно не указанного праздника (5:1), праздника кущей (7:2, 10) и обновления храма (10:22), и в этот раз он, по-видимому, не покидал города и его окрестностей в промежутке между двумя последними праздниками; кроме того, он посетил один раз Вифанию близ Иерусалима (11:17 и сл.), затем пробыл некоторое время в земле Иудейской (3:22) и, проходя по Самарии (4:4), оставался некоторое время в каком-то городке близ пустыни Иудейской (11:54).
При этом первые три евангелиста, особенно Матфей, при всяком отбытии Иисуса из Галилеи после заточения Крестителя указывают, почему он отлучался с места: в одном случае Иисус переправился через озеро, желая уклониться от стечения народа (Мф. 8:18); в другом случае — в страну Тирскую и Сидонскую — вследствие того, что книжников смущало его учение (15:21). Напротив, Иоанново евангелие нам постоянно объясняет, почему Иисус покидал Иудею, направляясь в Галилею или Перею, причем оказывается, что в одном случае Иисус хотел уйти от слухов, распускаемых его врагами (4:1–3), а в другом уклонялся от преследований и покушений (5:18; 6:1; 7:1; 10:39; 11:54). Следовательно, обе стороны исходят из противоположных представлений: первые три евангелиста предполагают, что Иисусу вплоть до последнего отбытия в Иерусалим было предуказано действовать в Галилее, которую он лишь по особо важным причинам изредка покидал на короткое время, а Иоанн, напротив, полагает, что Иисус всегда предпочитал выступать в Иерусалиме и Иудее и лишь из-за предосторожности ему приходилось изредка отлучаться в отдаленные провинции.
Но лишь одно из этих противоречивых предположений может быть верным, и потому большинство современных богословов, разумеется, предпочитает верить Иоанну и не доверять синоптикам. Они рассуждают так: в галилейском предании, из которого черпали свои сведения первые евангелисты, в частности Матфей, почти ничего не говорилось о предыдущих праздничных путешествиях Иисуса, а уцелевшие известия о них рано слились в сообщение о последнем и важнейшем его путешествии, таким образом, у синоптиков получились две сплошные, массовые группы сведений, галилейская и иерусалимская, тогда как Иоанн нам говорит, что это не так, что деятельность Иисуса в Галилее прерывалась посещениями Иерусалима и что речи и деяния Иисуса в Иерусалиме относятся к разным моментам его пребывания в этом месте; поэтому Иоанново описание праздничных путешествий Иисуса может служить своего рода регулятором, при помощи которого доставленный прочими евангелистами материал можно распределить так, чтобы галилейские события чередовались с иудейскими в связи с соответствующими передвижениями Иисуса. Однако спрашивается: чем же нам руководиться при таком распределении материала, если первые три евангелиста на всём протяжении своих галилейских повествований нигде не говорят об отбытии в Иудею и если галилейские эпизоды, о которых повествует четвертый евангелист, прерывая свой рассказ об Иудее, почти нигде не совпадают с первыми? В этом случае открывается простор для произвола, и всякая попытка согласовать евангелия в этом отношении может свестись лишь к совершенно необоснованным предположениям.
Поэтому дерзнем поставить вопрос так: что исторически правдоподобнее,
— То, что Иисус, как говорится в первых трех евангелиях, продолжительное время действовал только в Галилее и пограничных с нею областях и лишь под конец решился сделать роковой шаг — отправиться в Иерусалим и тем ускорить кризис и развязку;
— Или то, что он, как сообщает Иоанн, всегда выступал и в Галилее, и в Иудее, и всюду, а в особенности в Иерусалиме, смущал своих противников, пока, наконец, его последнее пребывание в Иерусалиме не завершилось катастрофой?
По этому случаю необходимо коснуться вопроса о продолжительности общественного служения Иисуса, как она выясняется из сообщений евангелистов. Прямого указания на то, как долго действовал Иисус публично, мы не находим ни в одном из евангелий. В этом отношении первые три евангелия совершенно для нас непригодны, так как в них нигде не отмечаются ни месяцы, ни годы, а встречаются лишь изредка такие указания: «по прошествии дней шести», «через два дня» (Мф. 17:1; 26:2), которые по своей неопределенности не могут служить точкой опоры. Зато в четвертом евангелии, по-видимому, даются необходимые указания; в отличие от других евангелий, в нём отмечаются праздничные странствия Иисуса, и те из них, которые совершались ежегодно, например пасхальные, могут служить указанием на то, сколько протекло времени от одного события до другого (предполагая, что все путешествия перечислены без пропусков). От крещения Иисуса Иоанном, которое издавна считалось начальным моментом общественной деятельности Иисуса (Деян. 1:22), до первого пасхального паломничества Иисуса прошло, по свидетельству евангелиста, немного времени (1:29, 35, 43; 2:1, 12). Но второе путешествие, предпринятое Иисусом, вряд ли было пасхальным, ибо в евангелии говорится весьма неопределенно о каком-то «празднике Иудейском» (5:1), стало быть, это событие нам не может служить точкой опоры. Далее евангелист упоминает, что ко времени насыщения народа приближался праздник Пасхи (6:4), но ничего не говорит о том, ходил ли Иисус в этот раз в Иерусалим. Затем до роковой предсмертной Пасхи ни о каких праздниках более не говорит (11:55; 12:1; 13:1), а потому выходит, что общественное служение Иисуса продолжалось по меньшей мере два года, в тот короткий промежуток времени, который протек от крещения до первой Пасхи. Мы говорим «по меньшей мере», ибо по староцерковному воззрению под «Иудейским праздником» (5:1) следовало разуметь праздник Пасхи, и таким образом получалось, что служение Иисуса продолжалось три года. Но мы не знаем, все ли пасхальные праздники перечислил евангелист, и не умолчал ли он о тех, к которым Иисус в Иерусалим не ходил. Неверно рассуждают и те, которые находят, что, в противоположность хронологии Иоанна, можно по первым трем евангелиям определить, что деятельность Иисуса продолжалась лишь один год. О прежних пасхальных путешествиях Иисуса евангелисты умолчали, быть может, потому, что они сами только после первого паломничества Иисуса в Иерусалим стали обращать внимание на этот город; а что Иисус далеко не во все пасхальные праздники бывал в Иерусалиме, это признаёт сам Иоанн, который говорит, что Иисус оставался в Галилее во время одного пасхального праздника (6:4; 1:17, 51; 7:1). Поэтому мы можем утверждать, что первые три евангелия не дают возможности установить продолжительность общественного служения Иисуса, что, исходя из синоптических евангелий, можно предполагать, что он действовал либо один год, либо много лет и что, во всяком случае, только в последний год служения он ходил в Иерусалим на праздник Пасхи.
Предположение о том, что деятельность Иисуса продолжалась только один год, высказывалось многими древнейшими отцами церкви и еретиками, которые ссылались на одно лишь изречение пророка Исаии о «лете Господнем благоприятном» (Ис. 61:2), которое, по словам Луки (4:18), Иисус сам относил к себе и которое по двойному недоразумению было понято в строго буквальном смысле, как указание на продолжительность его деятельности. Однако на подобном же недоразумении покоится и противоположное мнение многих иных отцов церкви, а именно что Иисус крещен был Иоанном на тридцатом, а распят был на пятидесятом году жизни. Дело в том, что, по словам Иоанна (8:57), иудеи однажды заметили Иисусу: «Тебе нет еще пятидесяти лет, — и Ты видел Авраама?» Но смысл этого замечания, конечно, только тот, что Иисус еще не достиг преклонного возраста. Определяя максимум продолжительности общественной деятельности Иисуса, мы должны исходить из того, что Иисус был казнен при прокураторе Понтии Пилате (что подтверждают также и писатели-язычники[147]). Приняв в 25 году нашего летосчисления должность в Иудее, Пилат был в 36 году послан Луцием Вителлием в Рим, чтобы оправдаться по обвинениям, возведенным на него евреями, и оттуда в Иудею он уже не вернулся. Следовательно, позднее означенного 36 года казнь Иисуса не могла состояться. Стало быть, если мы примем хронологическую дату Луки (3:1–2): «в пятнадцатый же год правления Тиберия кесаря… был глагол Божий к Иоанну… в пустыне», — которая, собственно, относится к моменту выступления Крестителя, и предположим, что этой датой определяется момент крещения и начало публичного выступления Иисуса, тогда окажется, что крещение могло последовать на пятнадцатый год правления Тиберия, то есть в 29 году христианского летосчисления, и что период в семь лет, протекший с этого момента до отъезда Пилата из Иудеи, представляет максимальный срок деятельности Иисуса. Но, разумеется, при неполной достоверности хронологической даты Луки это наше исчисление тоже весьма шатко.
Решая вопрос, кто правильнее указал число праздничных путешествий Иисуса — синоптики или Иоанн, нам нужно было сначала коснуться вышеуказанных вопросов по следующему соображению: если бы мы допустили, что Иисус за всё время своего общественного служения совершил только одно пасхальное путешествие, то должны были бы предположить, что вся деятельность Иисуса продолжалась не более одного года, но очевидная неправдоподобность этого последнего предположения отразилась бы неблагоприятно также и на первом, и мы предпочли бы указание четвертого евангелия относительно праздничных путешествии Иисуса; и надо полагать, что и Иоанн именно по этим соображениям отдал предпочтение историческим рассказам четвертого евангелиста. Но если нам ничто не мешает считать, что общественное служение продолжалось несколько лет, хотя бы мы и соглашались в этом отношении с первыми тремя евангелиями, тогда по вопросу о числе путешествий приходится лишь решать, чье сообщение правдоподобнее синоптиков или Иоанна.
В пользу последнего приводят обычно довод, что всякий благочестивый галилеянин, вероятно, считал своим долгом посещать Иерусалим, по крайней мере, во все пасхальные праздники. Но это соображение нельзя ничем подтвердить для того времени, да и сам Иоанн, как замечено выше, этого совсем не предполагает. С другой стороны, этот довод, как было показано, отпадает сам собой, если удастся доказать, что Иисус не был традиционно-благочестивым галилеянином. Наконец, неверно утверждение возлюбивших Иоанна теологов, будто первые три евангелиста сами свидетельствуют в пользу Иоанна, повествуя о таких обстоятельствах и речах Иисуса, которые необходимо предполагают неоднократное посещение им Иудеи и Иерусалима. Говорят, что знакомство Иисуса с Иосифом Аримафейским будет непонятно, если мы не допустим, что Иисус ранее посещал означенные места. Но Иисус мог познакомиться с ним при последнем посещении Иерусалима, если не считать родиной Иосифа галилейское селение Аримафею. О Марии и Марфе мы знаем со слов Луки (10:38) лишь то, что селение, в котором они жили, лежало на пути из обычной галилейской резиденции Иисуса в Иудею, то есть, вероятно, в Галилее или Перее. Иоанн утверждает, что это селение называлось Вифанией и находилось близ Иерусалима, но достоверность показаний Иоанна здесь именно и требуется доказать. Единственным серьезным аргументом против повествования синоптиков является изречение Иисуса (Мф. 23:37; Лк. 13:34):
«Иерусалим! Иерусалим! избивающий пророков и камнями побивающий посланных к тебе! сколько раз хотел Я собрать детей твоих, как птица птенцов своих под крылья, и вы не захотели!»
Вопреки свидетельству Луки, слов этих Иисус не мог сказать, отправляясь в Иерусалим, если ни разу еще не видал этого города за всё время своей публичной деятельности. Но и в самом Иерусалиме Иисус не мог указывать на то, что он много раз пытался тщетно привлечь к себе его жителей, если он успел побывать в Иерусалиме один только раз и пробыть в нём несколько дней. И так приходится отбросить всякие ухищрения и признать, что если это — подлинные слова Иисуса, то, стало быть, он гораздо чаще бывал в Иерусалиме и действовал там в течение более продолжительного времени, чем это можно заключить по синоптическим рассказам. Но слова эти не принадлежат Иисусу. Матфей, приписавший их Иисусу, сообщает также и другое изречение:
«Посему, вот, Я посылаю к вам пророков, и мудрых, и книжников; и вы иных убьете и распнете… да придет на вас вся кровь праведная, пролитая на земле, от крови Авеля праведного и до крови Захарии…» и т.д.(23:34–35).
В обоих изречениях говорится об истязании евреями посланников Божиих, и потому возможно, что вначале они действительно составляли одну речь. Лука же своеобразно разделяет их, причем последнему изречению Иисуса предпосылает следующие слова: «потому и премудрость Божия сказала: пошлю к ним пророков» и т.д. (11:49). Но, во-первых, это добавление представляется первичным именно ввиду его странного характера, что, вероятно, и побудило Матфея опустить его; и, во-вторых, ввиду родства обоих изречений мы можем предположить, что и воззвание к Иерусалиму, которое Матфей сочетал с этим изречением, есть составная часть речи премудрости Божией. Под премудростью же Божией ни Иисус не мог подразумевать себя, ни евангелист — Иисуса, так как такого обозначения и самоцитирования Иисуса вообще в евангелиях не встречаем. Нельзя под премудростью Божией разуметь и вдохновительницу Священного Писания Ветхого завета, так как в Ветхом завете не имеется соответствующих изречений. Поэтому необходимо допустить, что здесь идет речь об особом сочинении, причем один евангелист утверждает, что Иисус привел из него цитату с указанием источника, а другой заявляет, что цитированные слова представляют собственное изречение Иисуса. Возможно, это сочинение было написано каким-нибудь христианином в эпоху разрушения Иерусалима и имело целью от лица премудрости Божией указать евреям на их проступки против посланников Божиих всех времен, начиная с Авеля и кончая Захарией, сыном Варахии, которого зилоты умертвили в храме (Лк. 11:51). Нечто подобное замышлял также и Стефан в своей речи (Деян. гл. 7). Наконец, в устах олицетворенной премудрости Божией слова: «я посылаю к вам книжников», имеют больше смысла, чем в устах Иисуса.
Если, следовательно, неверно утверждение, что и в первых трех евангелиях встречаются места, которые понятны лишь при условии частого посещения Иисусом Иерусалима, то, с другой стороны, против четвертого евангелия можно возразить, что из его рассказа нельзя понять, почему первое пребывание Иисуса в Иерусалиме не стало и последним. По сообщению синоптиков, фарисеи уже тогда, когда Иисус исцелил в субботу сухорукого, «имели совещание против Него, как бы погубить Его» (Мф. 12:14); а после тех резких обличений, которым они подверглись с его стороны в споре об омовении рук, они «подыскивались под Него, стараясь уловить что-нибудь из уст Его, чтобы обвинить Его» (Лк. 11:54). Всё это, вероятно, происходило уже давно, и нам не трудно понять, почему фарисеям не удавалось привести в исполнение свои замыслы тогда: в Галилее партия иерархов не была настолько сильна, чтобы вырвать из среды последователей любимого народом человека; но как только он очутился у них в руках в Иерусалиме, они тотчас и беспрепятственно приступили к делу. Но у Иоанна дело представлено иначе: Иисус уже с самого начала и неоднократно дерзает забираться в эту львиную пещеру и там ведет себя так, что остается только удивляться, как он успевал выйти оттуда целым и невредимым. Уже при первом своем посещении Иерусалима он изгоняет из храма покупателей и продавцов, и при этом, по словам Иоанна, позволяет себе насильственные действия и резкости, о которых ничего не сообщают нам синоптики (о том, что Иисус пустил в дело бич, сообщает только Иоанн), хотя в данном случае его не поддерживала масса приверженцев-энтузиастов, так как этому первому пребыванию Иисуса в столице не предшествовал такой торжественный въезд и прием, каким ознаменовалось его последнее посещение. Уже и тут приходится дивиться, что это дело окончилось благополучно, тем более что и речь о разрушении и восстановлении храма, которую Иисус, по сообщению Иоанна, сказал тогда же, не могла не вызвать большой смуты. Во время второго пребывания Иисуса в столице по случаю неназванного праздника совершенное в субботу исцеление больного возбуждает в иудеях желание умертвить его, а речь, в которой он, видимо, приравнивал себя Богу, еще более утверждает их в этом решении (5:16, 18; 7:1, 19). В следующий затем праздник кущей они опять неоднократно пытаются схватить его за подобные речи и даже посылают с этой целью служителей (7:30, 32, 44). Если мы спрашиваем: да почему же они этого не исполнили, хотя ничто им не мешало тут, в столице? почему служители не выполнили данного им приказа? — то на такой вопрос евангелист дает один ответ: потому что еще не пришел час его (7:30; 8:20). Точно так же и в другом случае, когда враги Иисуса уже подняли камни на него, евангелист замечает, что «Иисус скрылся и вышел из храма, пройдя посреди их» (8:59; 10:39; 12:36). Иными словами, евангелист ссылается на чудо; и действительно, в момент, когда конфликт достиг уже такой остроты, а положение вещей было так благоприятно для врагов Иисуса, только чудо могло отсрочить катастрофу. При этом обнаруживается еще одно противоречие: евангелист заявляет, что промежуток времени, протекший между праздниками, Иисус прожил вне Иудеи, или, по крайней мере, вне столицы, чтобы уклониться от покушений своих тамошних врагов (4:1–3; 7:1; 11:54). Но он ведь мог спокойно оставаться в Иерусалиме, если «еще не пришел час Его» и если он умел чудесным образом скрываться из глаз своих врагов.
Своими сообщениями о прежних посещениях Иисусом Иерусалима четвертый евангелист преждевременно обострил дело, и потому ему впоследствии приходится слишком замедлять ход событий, а так как благодаря этому нарушилось естественное развитие событий, то евангелисту пришлось доводить дело до конца искусственным введением эпизода о воскрешении Лазаря. Упреждать события, вообще, присуще этому евангелисту. У него всё происходит не естественным образом, всё уже предсуществовало. По словам остальных евангелистов, потребовалось продолжительное время и целый ряд событий, прежде чем способнейший из апостолов признал в Иисусе Мессию; а по словам четвертого евангелиста, брат его Андрей сообразил это тотчас (1:40–42), хотя, с точки зрения Иоанна, сообразил он неправильно. По словам того же евангелиста, Иисус уже при первой встрече с Симоном-Петром называет его «Камнем» (1:42), что, согласно первым евангелистам, произошло гораздо позднее. О своем распятии и воскресении Иисус в четвертом евангелии предвозвещает уже при первом праздничном своем приходе в Иерусалим (2:19; 3:14) и уже с самого начала знает, кто его предаст (6:70–71). Итак, четвертый евангелист любит выставлять на первый план и преждевременно рассказывать всё то, что служит к прославлению Иисуса, поэтому он и поспешил вывести Иисуса из галилейского захолустья на подобающую ему широкую арену деятельности — в столичный город, чтобы он там просвещал всех светом своего духа, проявил свое высокое достоинство и на деле показал не только мужество, но и божественную силу (хотя, впрочем, эти два свойства друг друга исключают). Но главное, из основной идеи четвертого евангелия, задавшегося целью противопоставить иудейское неверие, или принцип тьмы, воплощенному в Иисусе принципу жизни и света, само собою вытекало, что и борьбе между обоими принципами с самого начала надлежало разыграться в главном центре и резиденции иудаизма, в Иерусалиме.
Но отрешимся на минуту от нашего предположения, что сообщение Иоанна о многократных праздничных паломничествах Иисуса вытекает из догматической конструкции его евангелия, и предположим, что он лишь ускоряет наступление конфликтов, что Иисус действительно бывал много раз в Иерусалиме до своего последнего посещения, но выступал тогда так осторожно и тактично, что его жизни еще не угрожала серьезная опасность. Однако и в этом случае повествование Иоанна не представляется правдоподобным. Иудея, и в особенности ее столица, являлась средоточием и твердыней всего того, против чего хотел бороться Иисус. Там фарисейская партия господствовала над легко фанатизирующейся массой населения; там прочно утвердился весь внешний культ религии с его пристрастием к жертвоприношениям и очищениям благодаря стараниям многочисленного духовенства, совершавшего в великолепном храме свои торжественные богослужения. Вступить здесь в борьбу с этим фарисейским направлением Иисус, конечно, мог отважиться лишь тогда, когда успел приобрести сторонников и авторитет продолжительной деятельностью в таких местах, где фарисейство еще не было господствующим направлением и где к его учению народ относился восприимчивее, — словом, тогда, когда успел ближе узнать народ с его классами и различной восприимчивостью к глубокой религиозности и выработать собственный план действий на основе данных отношений. Такой продолжительной деятельностью в Галилее Иисус успел, вероятно, возбудить сочувствие в широких кругах населения и обрести тесный кружок преданных учеников; но раз он решил расширить свою деятельность и, не довольствуясь созданием новой замкнутой в себе секты, преобразовать всю религиозную систему своего народа, то должен был отважиться и на решительное и открытое выступление в столице. То, что это выступление даже при надлежащей подготовленности провинции окончится неблагополучно, Иисус мог ясно предвидеть сам, зная по собственному опыту, как велика закоснелость иерархической партии, как неразвита и тупа масса населения и как ненадежен минутный энтузиазм даже восприимчивых слоев народа. Но дело само толкало его вперед; остановиться — значило собственноручно погубить всё то, что раньше удалось совершить, и в то же время, делая последний роковой шаг, Иисус, даже и при неблагоприятном исходе его, мог рассчитывать на то, что его мученическая смерть во имя великой идеи даст, как всегда, огромной важности плоды.
§41. Дидактический метод Иисуса
В той деятельности, которую развернул Иисус на выше очерченной арене, учительство стоит на первом плане, и так как мы уже успели развить основные черты его религиозной системы и вскрыть основное содержание его учения, теперь обратимся к форме, и прежде всего методу учительства Иисуса; при этом в дополнение к вышеизложенному мы обнаружим некоторые частности, характеризующие содержание учения.
О том, что Иисус в роли учителя оказывал огромное и глубокое влияние на впечатлительных людей, свидетельствуют не только евангелия (Мф. 7:28; Мк. 1:22; Лк. 7:29; Ин. 6:68–69), но также исторический успех. Ответом на вопрос о причине такого успеха и влияния могут служить слова Юстина Мученика в его первой «Апологии Иисуса» (I 14):
«Речи его были кратки и убедительны, ибо он не был софистом, и слово его отражало в себе силу Божию».
В этом отзыве, с одной стороны, ярко отмечена глубина религиозности, которой согреты были его речи, а с другой подчеркнута естественная простота их формы. «Он не был софистом», — говорит учитель церкви, получивший греческое образование; а еврей сказал бы, что он не был раввином, не говорил как книжник (Мф. 7:29). Он не придумывал искусственной аргументации, а говорил метко и доказательно. Поэтому в евангелиях мы находим богатое собрание сентенций и изречений, которые, помимо своего религиозного значения, представляют большую ценность по тому ясному уму и прямодушию, которыми они отмечены. Воздайте кесарево — кесарю, а Божье — Богу; никто к ветхой одежде не приставляет заплат из новой небеленой ткани и не вливает вина молодого в ветхие мехи; не здоровым нужен врач, а больным; если твоя рука или нога соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя; вынь прежде бревно из твоего собственного глаза, а потом уж постарайся вынуть сучок из глаза ближнего твоего; не до семи раз должен ты прощать согрешившему брату, а до седмижды семидесяти раз, — всё это незабываемые изречения, в которых выражены неоспоримые истины в крайне сжатой и общепонятной форме.
Такие мудрые изречения Иисус в большинстве случаев высказывал по случайным поводам. Так, например, изречение о динарии вызвано лукавым вопросом фарисея, изречение о враче — недовольством фарисеев, которых смущали его сношения с мытарями. С другой стороны, изречения о сучке и бревне и о соблазняющей руке приводятся в составе длинной речи (Мф. 5:30; 7:3), и в евангелиях сохранились многие такие речи, произнесенные Иисусом в назидание широкому или тесному кругу слушателей. Например, Нагорная проповедь имела целью разъяснить основы религиозно-нравственной деятельности Иисуса более широким кругам его последователей. Так называемая напутственная речь является наказом, которым 12 апостолов должны были руководствоваться в своей евангельской проповеди; в большой антифарисейской речи содержится полемическая отповедь Иисуса сторонникам фарисейства и т.д. Таких подробных речей особенно много приведено в Евангелии от Матфея, и теперь можно уже считать доказанным, что этот евангелист нередко чисто внешним образом связывал воедино изречения, которые высказаны были Иисусом по различным поводам (как, например, в Нагорной проповеди, Мф. 6:19), и что даже после смерти Иисуса составлены были в его духе и приписаны ему изречения, связанные с более поздними обстоятельствами. Все эти речи, в той мере, в какой они подлинны, отличаются вполне естественным, хотя и не всегда строго логическим развитием мыслей; в них, как и в кратких изречениях, слог и способ выражений отмечены печатью простоты, цельности и наглядности; примеры бытовые, очерки природы всегда удачно подобраны и нередко дышат истинной поэзией.
Еще более поэтический элемент преобладает в притчах, в которые Иисус охотно облекал свои идеи, чтобы привлечь народ картинностью речи и изощрить силу разумения и мышления в наиболее восприимчивых слушателях, которым он подробнее разъяснял смысл своих притчей.[148] Притча (аполог) является весьма обычной на востоке формой изложения, которая нередко встречается и в Ветхом завете и, по-видимому, была весьма популярна в те времена. Притчей пользуются не только евангелия, но и талмуд, а Иосиф Флавий сообщает, что император Тиберий пытался посредством притчи защитить себя от нареканий за то, что редко менял чинов управления в провинциях[149] .
Матфей в главе 13 своего евангелия сгруппировал семь притчей, которые не все приведены у двух других синоптиков; они, наверно, не все были произнесены в один раз, но, подобно Нагорной проповеди, без сомнения, являются наиболее аутентичными из всех дошедших до нас изречений Иисуса. Первая притча, о сеятеле, имеющаяся во всех синоптических евангелиях, особенно выделяется своей самобытностью; с одной стороны, в ней сказался собственный житейский опыт Иисуса, приобретенный на учительском поприще, а с другой стороны, в ней наглядно изображено первичное моральное явление различная степень восприимчивости людей к духовному воздействию. Подлинность второй притчи — о плевелах, и седьмой — о неводе, имеющихся только у Матфея, весьма сомнительна; они исходят из эмпирического вывода, что нечистые элементы в настоящем еще невозможно устранить ни из человеческого общества, ни даже из общины христиан, а это, в свою очередь, указывает на то, что притчи эти появились в сравнительно поздний период существования общины, хотя сходство эпитета «враг человек», которым обозначен сеятель плевелов и которым эбиониты обозначали апостола Павла, является, по-видимому, совпадением случайным. В третьей и четвертой притчах, о горчичном зерне и о закваске, проступает постепенный рост нового религиозного принципа, причем первая подчеркивает контраст между скромным началом и огромным конечным успехом этого принципа, а последняя наглядно изображает силу принципа, проникающего во все поры и отношения человечества. Наконец, последние две притчи, о кладе в поле и о жемчужине, отмечают огромную ценность новоявленного Царствия Небесного и представляют собой лишь образное развитие изречения (Мф. 6:33): «Ищите же прежде Царства Божия и правды Его, и это всё приложится вам».[150] Равным образом и отдельно приведенную притчу о царе, рассчитывающемся со своими слугами (Мф. 18:23–35), можно принять за простой комментарий к пятому прошению в молитве «Отче наш» (Мф. 6:12).
В группе притчей, собранных Матфеем в 13 главе, говорится, главным образом, о развитии Царствия Божия, о том, как незаметно оно насаждается в человечестве, как неодинаково оно воспринимается людьми как оно тормозится и оскверняется примесью нечистых элементов и как при всём том оно неудержимо развивается и совершенствуется, являясь высшей наградой для приобщившихся и стремящихся к нему людей. Наоборот, в другой группе, о походах Иисуса в Иерусалим и пребывании его там, Царствие Божие изображается по преимуществу со стороны его завершения и конечной формы и со стороны той участи, которая ожидает людей соответственно их отношению к нему. Здесь говорится о несходстве и контрасте между различными классами иудейского народа, о лицемерии и самодовольстве закоснелых фарисеев и книжников, с одной стороны, и, с другой стороны, о деморализации народной массы, которая, однако, сознает свое падение и вследствие того подает еще надежды на исправление, подобно мытарям, которых так ненавидели и презирали все за их служение римлянам и маммоне. Однако в этих притчах речь идет уже не об одном народе иудейском, а также о язычниках, которых притчи обещают призвать вместо иудеев в Царствие Божие, причем нередко первое (классовое) противоположение заменяется вторым (национальным), хотя бы в редакции евангелистов. Так притча о рабах и талантах у Матфея (25:14–30) в чистом виде говорит лишь об использовании даров (талантов), Богом данных человеку; но по позднейшей редакции у Луки (19:12–27) в притче этой говорится уже не о талантах, а о минах, и высказывается мысль, что граждане, не признавшие царем Господа, будут за это окончательно истреблены, то есть что и иудеев, не признавших Иисуса, постигнет в наказание за это национальное бедствие.[151] Точно так же притчу о двух сыновьях (Мф. 21:28–32), в которой один обещает слушаться отца и не исполняет обещания, а другой поступает обратно, сам Иисус, по словам Матфея, истолковал (ст. 32) в смысле намека на первосвященников и старейшин, с одной стороны, и мытарей с блудницами — с другой; между тем в аналогичной притче о блудном сыне у Луки (15:11–32) содержится вполне очевидный намек на взаимоотношения евреев и язычников. В приведенной лишь Матфеем притче о виноградарях, разновременно призванных, но получивших одинаковую плату за работу (20:1–16), очевидно, разумеются иудеи и христиане из язычников и говорится о неправомерности притязаний первых, тогда как две другие притчи, о брачном пире царя (Мф. 22:1–14; Лк. 14:16–24) и о мятежных виноградарях (Мф. 21:33–41; Мк. 12:1–9; Лк. 20:9–16), явно угрожают совершенным исключением и наказанием жестоковыйному народу иудейскому. Замечательно при этом следующее обстоятельство: вышеупомянутая притча о талантах изложена у Матфея в первоначальном самобытном виде, а у Луки переработана в антиеврейском духе, но притча о царском пире изложена обоими евангелистами иначе: у Луки сказано, что некий (простой) человек сделал большой ужин и звал многих и что званые (то есть иудеи, и в частности, высокомерные иерархи) просто не приняли приглашения, за что и были так же просто отстранены от пира и заменены не только нищими и калеками (то есть, быть может, мытарями и им подобными людьми), но также людьми, призванными с дорог и изгородей (то есть язычниками); наоборот, у Матфея лицо, устроившее пир, — царь с ясно выраженным мессианским обликом, и он устраивает брачный пир для своего сына; мало того, из притчи о мятежных виноградарях, ранее рассказанной евангелистом, им взята новая, притом довольно странная черта — указание на то, что гости званые не только отвергли приглашение, но даже стали мучить и избивать рабов, явившихся их приглашать, и что за это царь послал свое войско истребить их и сжечь их город. Черта эта, очевидно, появилась в притче впоследствии, после разрушения Иерусалима. У Матфея странным представляется еще и то, что нищие и калеки, паче чаяния, явились на пир одетыми в брачную одежду; но эта оговорка, вероятно, сделана была для успокоения христиан из иудеев, если под брачной одеждой будем разуметь обряд обрезания или крещения, соблюдением которого обусловливалось принятие в общину новообращенных язычников (прозелитов).
Многие из этих позднейших притчей Матфея, из которых у Марка встречается лишь притча о виноградарях, а у Луки, кроме того, притча о пире и о минах, и к которым можно еще причислить притчу о верных рабах (Мф. 24:14–30; Лк. 12:42–48) и о десяти девах (Мф. 25:1 и сл.), — подвергались впоследствии разным переделкам со стороны других авторов и, вообще, наводят на мысль, что они не подлинные изречения Иисуса, а отражение идей и взглядов первичной общины христиан. В притче о десяти девах рельефно отразились ожидания скорого пришествия Христа, которым жило христианство в течение целого столетия после смерти Иисуса; притча о мятежных виноградарях, в параллель к знаменитой притче Исаии (гл. 5), обличает иудеев в тех же грехах и преступлениях, о которых говорят Матфей (23:34–39) и Лука (11:49–51; 13:34–35), опираясь, как мы показали, на одно христианское сочинение времен разрушения Иерусалима; в притче о царском пире, по крайней мере, в передаче Матфея, содержится указание на совершившиеся факты позднейшей эпохи.
Третью группу составляют притчи, которые характерны для Евангелия от Луки и которые, в свою очередь, распадаются на две несходные подгруппы. Уже другими авторами было указано на то, что в притчах 16-й и 18-й глав Евангелия от Луки преобладают эпитеты «неверный», «неправедный» по отношению к домоправителю (16:8), богатству (16:9) и судье (18:6) и что эти эпитеты, как и выражение «управитель, судья неправедности», наводят на мысль о наличии какого-то общего источника. Притом в обеих последних притчах, а также в притче о богатом землевладельце (12:16–21) обращает на себя внимание та особенность, что поворотным пунктом в рассказе является всякий раз однообразно сформулированный монолог: «и он рассуждал сам с собою», — говорится о человеке, не знающем, что делать с собранными плодами; о неправедном управителе говорится: «он сказал сам в себе»; равно и о неправедном судье говорится: «после сказал сам в себе». Даже начальные и притом весьма своеобразные слова этих монологов совпадают в притче о богатом землевладельце и о неправедном управителе: землевладелец говорит: «что мне делать? — вот что я сделаю»; а управитель говорит: «что мне делать? — знаю, что сделать». С другой стороны, бросается в глаза и общность оборотов речи в монологе неправедного судьи и в характеристике нерадивого друга из соответствующей притчи той же группы (11:5–8).
Все эти общие признаки указывают на происхождение от единого еврейско-христианского и даже чисто эбионитского источника. В притче о неправедном управителе земное благо является неправедным уже само по себе. В притче о нерадивом друге и неправедном судье подчеркивается действенность молитвы, что соответствует учению эбионитов. Правда, Иисус сам уважал бедность и молитву, но мы не решаемся притчи эти приписать Иисусу, потому что эта идея выражена в них слишком односторонне и, кроме того, потому, что их содержание не соответствует выводимому из них нравоучению, чего не замечается в притчах Иисуса, сообщенных в 13-й главе Евангелия от Матфея. Оказывается, что и нерадивый друг, и неправедный судья, который уступает просьбе лишь вследствие назойливости и надоедливости просителя, это — сам Бог, а неправедный управитель получает одобрение за растрату; которая, хотя и состоит в благом употреблении неправедно приобретенного богатства, но в самой притче квалифицируется как хищение. Такого рода недосмотры, как мы отметили, не встречаются в притчах, которые можно приписать самому Иисусу и в которых не находим мы и таких чисто еврейских оборотов речи, как «что мне делать? — вот что я сделаю». Эту группу характерных и своеобразных притчей автор третьего евангелия, вообще стремившийся к примирению противоречий, без сомнения, заимствовал из какого-нибудь эбионитского источника, чтобы в своем евангелии дать место также и крайне правому из господствовавших в тогдашней церкви направлений.
По содержанию и форме гораздо ближе к духу и манере Иисуса другая группа притчей у Луки, например притча о фарисее и мытаре (18:9–14), о милосердом самарянине (10:30–37) и о блудном сыне (15:11–32). В двух последних уже сказывается своего рода паулинизм, поскольку примерно-нравственный самарянин, выведенный в притче, может быть причислен к язычникам, самодовольный старший сын в последней притче является прообразом позднейшего иудаистского христианства, а покаянный младший сын прообразом обращающихся к христианству язычников. Но вполне возможно, что и сам евангелист так именно думал и эти свои думы изложил в означенных притчах, которые в существенном столь родственны духу самого Иисуса, что можно допустить, что они были рассказаны им. Среднее место между означенными двумя группами притчей, сообщаемых Лукой, занимает притча о богаче и бедном Лазаре (16:19–31): в ней антииудаистский вывод сделан из эбионитской основной идеи, которая, по-видимому, заимствована из иудео-христианского источника, тогда как вывод добавлен евангелистом от себя.
Нравоучительные изречения Иисуса, по словам евангелистов, часто вызывались различными вопросами, — то спрашивали ученики его: «Кто больше в Царстве Небесном?» (Мф. 18:1), то спрашивал Петр, сколько раз прощать согрешившему брату (18:21), то вопрошали ученики Крестителя: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?» (9:14), то допытывались книжники и фарисеи: «Зачем ученики Твои преступают предание старцев? ибо не умывают рук своих, когда едят хлеб» (15:2). Равным образом у первых трех евангелистов к концу жизнеописания Иисуса приведен целый ряд вопросов, которые задавали ему враги с целью унизить его в глазах народа, если бы он не сумел на них ответить или исторгнуть ответ, который можно было бы истолковать ему во вред. Так, при его отбытии из Галилеи фарисеи, по словам Матфея, задают ему вопрос о брачном разводе (19:3); затем, когда Иисус прибыл в Иерусалим и на следующий день явился в храм, к нему приступили первосвященники и народные старейшины с вопросом о его полномочиях и власти, на что он ответил им смутившим их встречным вопросом о власти и полномочиях Иоанна Крестителя (21:23–25). После этого Иисус рассказал несколько притчей, а затем там же ему задали три вопроса его враги, на которые последовал с его стороны встречный вопрос, заставивший врагов его отстать (Мф. 22:15–46; Мк. 12:13–37; Лк. 20:20–44). Ответы Иисуса на означенные вопросы сводятся отчасти к тем кратким незабываемым изречениям, которые, как мы уже сказали, составляют главную основу всех его речей и которых мы здесь опять коснулись потому, что в одном из этих ответов Иисус является толкователем Священного Писания. А именно, когда саддукеи сослались на случай, возможный по иудейским законам о браке, чтобы осмеять учение о воскресении, принятое также Иисусом, он сначала подрывает их казуистику идейным освещением учения о воскресении, а затем пытается и сам доказать правильность этого учения, а также учения о бессмертии, ссылкой на изречения из книг Моисея. Бог называет себя там «Богом Авраама, Исаака и Иакова», но Бог не есть Бог мертвых, а живых; отсюда следует, что и означенные мужи живы (Мф. 22:31–32). Подобные рассказы об Иисусе так живо напоминают разные сказания о раввинах из Талмуда, что многие уже предполагали, не были ли хотя бы некоторые из этих рассказов просто выдуманы иудео-христианами, чтобы показать, что в умении вести диспут Иисус ничуть не уступает иудейским знаменитостям. При этом многие готовы были поступиться вьппеизложенным аргументом против саддукеев, так как едва ли многие усмотрят (подобно де Ветте) в этом аргументе Иисуса удачный довод и глубокое понимание Писания: это — отповедь раввинам во вкусе раввинистов и превосходная аргументация ad hominem[152], но объективной истины в этом аргументе не содержится. Кто творит благо детям и внукам своего умершего друга и говорит, что делает он это из дружбы к их отцу и деду, тот этим вовсе не показывает, что считает последних живыми и верует в бессмертие; он этим лишь показывает, что продолжает питать чувство дружбы к умершему человеку. То же следует сказать и о вышеуказанном Моисеевом обозначении Яхве; автор второй Моисеевой книги (Исход) (3:6), употребив этот эпитет, считался лишь с земной историей патриархов и нисколько не думал о настоящем их состоянии, которое, по его представлению, было и не было жизнью, — пребыванием в подземном царстве теней (Шеол). По тогдашнему представлению фарисеев, умершие праведники пребывают в лучшем отделении этого царства в ожидании грядущего воскресения (ср. Лк. 16:22). Но Иисус говорит, что в мессианском царстве, в Царствии Небесном, то есть после воскресения, эти три патриарха (Авраам, Исаак и Иаков) возлягут на первом месте на пиру совершенных праведников (Мф. 8:11), и потому ясно, что он верил в их бессмертие. Что эту веру он усматривал и в книгах Ветхого завета, хотя она чужда им в этом смысле, мы находим вполне естественным, и это в наших глазах нисколько его не компрометирует, так как мы видим в нём самом лишь человека. Об историко-лингвистическом толковании Писания в те времена вообще никто из иудеев и не догадывался — ни в Палестине, ни за ее пределами; даже такие просвещенные люди, как Филон, были в этом отношении совершенно безоружны; никто тогда не задавал вопроса, что автор хотел сказать данными словами? Как должен был он думать при данных обстоятельствах и что мог он. думать при данных представлениях своей эпохи? Тогда все полагали, что и древние авторы священных книг могли и должны были считать истинным и божественным только то, что они сами считали истинным и божественным (если тому не противоречил только очевидный смысл высказанных слов). Что и сам Иисус усвоил себе этот неправильный метод толкования, столь характерный для его современников, это и помимо вышеупомянутого эпизода для нас столь же ясно, как и то, что он ничего еще не знал о Коперниковой системе мира, но величие его мы в том именно и полагаем, что в обветшалое Писание он влагал совершенно новый смысл, поэтому-то он и был пророком, не будучи хорошим экзегетом.
То, что в наших рассуждениях о методе учительства Иисуса мы придерживались исключительно первых трех евангелий, объясняется тем обстоятельством, что из четвертого евангелия в этом отношении ничего нельзя извлечь. Мы еще можем соглашаться, что автор этого евангелия, при всём отличии своего образования и развития, иногда сходился по духу и мысли с Иисусом, но форма и способ выражений у него совсем иные. В этом отношении печатью подлинности у него отмечено лишь то, что он заимствовал из наших синоптических и иных тогда имевшихся евангелий. Но его собственному изложению присущ деланный и неисторический характер. Многие из наиболее синоптических изречений Иисуса: о разрушении и восстановлении храма (Мф. 26:61; Ин. 2:19), о пророке, которого не чтут в его отечестве (Мф. 13:57; Ин. 4:44), чудодейственное повеление: «встань, возьми свою постель и ходи» (Мк. 2:9; Ин. 5:8), изречение о том, что желающий душу свою сохранить, погубит ее (Мф. 10:39; 16:25; Ин. 12:25), что ученик не выше учителя и слуга не выше господина (Мф. 10:24; Ин. 13:16), что принимающий учеников его принимает его самого, а принимающий его принимает и пославшего его (Мф. 10:40; Ин. 13:20), восклицание: «встаньте, пойдем отсюда» (Мф. 26:46; Ин. 14:31) — все эти сентенции (хотя отчасти измененные) мы находим и у автора четвертого евангелия, но уже тот факт, что он так неуклюже разместил многие из них (напр., 4:44; 13:16; 14:31), показывает, что он не умел обращаться с подобным материалом, что, привыкнув целиком создавать из самого себя речи Иисуса, он не умел сочетать подлинных, традицией переданных ему речей Иисуса со своеобразными продуктами своей собственной мысли. Он тоже не прочь говорить притчами, но синоптические притчи слишком противоречили тону речей его Иисуса, а сам он ни одной создать не смог. Его притчи о добром пастыре (10:1–5) и о винограднике (15:1 и сл.) — только аллегории, а не притчи, так как в них отсутствует историческое развитие фабулы. Христос Иоанна слишком самобытен и верен себе, чтобы уметь рассказать притчу-повествование; форма притчи слишком объективна для субъективного, лирического тона этого евангелия. Всего более подходила автору четвертого евангелия форма политической речи, которая тоже встречается у синоптиков, но и эту форму он совершенно исказил. В первых трех евангелиях спор касается вопросов современности: поста, умывания рук, почитания субботы, податных отношений, учения о воскресении, Мессии, а в четвертом евангелии всё сводится всегда лишь к личности и достоинству Иисуса; в то время как у синоптиков даже вопрос о личности Мессии рассматривается Иисусом на чисто фактической основе (Мф. 22:41), здесь мы, напротив, видим, что даже совершенно объективный вопрос о субботе разбирается в тесной связи со своеобразным учением Иоанна о личности Иисуса (5:17). Иисус Иоанна говорит как бы условным языком, ключ к которому дает учение евангелиста о Христе-Логосе, поэтому его речи непонятны и интригующи для собеседников, не имеющих означенного ключа, а когда они не понимают какого-нибудь изречения, он настаивает на необходимости ключа и высказывает другое изречение, которое без ключа еще менее понятно. Таким образом, возникает спор, который был очень назидателен для обладателей ключа, читателей четвертого евангелия, но для евреев, им не обладавших, был совершенно бесполезен и мог бы повредить и Иисусу, отчуждая и отдаляя от него народ. Ни одной из этих собственно Иоанновых речей, противопоставляющих Иисуса-человека людям, нельзя понять, а потому и очевидно, что таких речей в свое время Иисус не говорил.
§42. Чудеса Иисуса
Если в нашем третьем евангелии ученики, идущие в селение Эммаус, называют распятого Иисуса «пророком, сильным в деле и слове» (24:19), то под «делом» здесь разумеются его чудеса, и они упоминаются раньше его «слова», или учения, как доказательство его пророческого достоинства. Так и в Деяниях апостолов, в речи, произнесенной апостолом Петром в праздник пятидесятницы, Иисус именуется «мужем, засвидетельствованным… (перед евреями) от Бога силами и чудесами и знамениями, которые Бог творил через него» (2:22). По свидетельству апостола Павла (1 Кор. 1:22), национальную особенность иудеев составляет то, что от человека, предлагающего довериться его учению, они требуют «чудес», то есть наступления по слову его явлений, совершение которых превышает человеческие силы, в доказательство того, что с ним Бог (Ин. 3:2). Так, будто бы и Моисей говорил народу, перед гибелью мятежных людей Кореевых (Чис. 16:28–30):
«Из сего узнаете, что Господь послал меня делать все дела сии, а не по своему произволу (я делаю сие): если они умрут, как умирают все люди… то не Господь послал меня, а если Господь сотворит необычайное, и земля разверзнет уста свои и поглотит их… то знайте, что люди сии презрели Господа».
Национальное предание евреев приписывало Моисею и главнейшим пророкам ряд чудес, о которых повествуют почитаемые народом священные книги, поэтому от всякого, кто выдавал себя за пророка и даже за последнего спасителя народа (после первого Моисея), то есть за Мессию, они, естественно, тоже требовали чудес, и всякого учителя, хотя бы всесторонне одаренного, не считали настоящим, если он во свидетельство своего высокого призвания не творил чудес (ср. Ин. 10:41). Поэтому вполне правдоподобно сообщение евангелий о том, что то же требование предъявлялось Иисусу часто, особенно тогда, когда он делал что-нибудь такое, что, видимо, приличествовало только пророку. В первых трех евангелиях сказано, что первосвященники и старейшины народа по поводу реформаторского выступления Иисуса в храме (изгнания торговцев и менял) спрашивали его: «какою властью Ты это делаешь? и кто Тебе дал такую власть?» (Мф. 21:23; Мк. 11:28; Лк. 20:2), а четвертый евангелист формулирует этот запрос так: «каким знамением докажешь Ты нам, что имеешь власть так поступать?» (2:18). У Матфея (12:38) некоторые из книжников и фарисеев сказали однажды Иисусу: «Учитель! хотелось бы нам видеть от Тебя знамение»; а в другой раз фарисеи и саддукеи, искушая его, просили показать им «знамение с неба» (Мф. 16:1; Мк. 8:11).
Вполне естественно и то, что Иисус не соглашался исполнять подобные требования. Правда, было известно, что древние пророки творили чудесные знамения, но они жили уже в области фантастических преданий, а Иисус в то время еще пребывал в строго-исторической действительности, и лишь позднее ему, как и древним пророкам, должно было прийти на помощь предание. По словам Марка (8:12), Иисус на требование фарисеев о «знамении с неба» кратко ответил: «для чего род сей (лукавый и прелюбодейный) требует знамения?.. Не дастся роду сему знамение»; а по словам Матфея (12:39; 16:4) и Луки (11:29), он еще присовокупил: «знамение не дастся ему, кроме знамения Ионы пророка». Правда, Матфей в своем известном добавочном 40 стихе истолковывает это изречение как указание на трехдневное пребывание Иисуса в гробу, прообразом чего было трехдневное пребывание пророка во чреве кита («ибо как Иона был во чреве кита три дня и три ночи, так и Сын Человеческий будет в сердце земли три дня и три ночи»). Но этой приписки нет у Луки, который вместо того говорит (11:30): «ибо как Иона был знамением для Ниневитян, так будет и Сын Человеческий для рода сего»; и далее смысл этих слов он поясняет так (ст. 32): «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной», а современники Иисуса, добавляем мысленно, от проповеди Иисуса не покаялись. Что именно таков первоначальный смысл изречения о знамении Ионы, признаёт и сам Матфей, ибо вопреки собственному толкованию он после слов о пребывании Ионы во чреве кита продолжает, как Лука (12:41): «Ниневитяне восстанут на суд с родом сим и осудят его, ибо они покаялись от проповеди Иониной» (а не вследствие чудесного избавления Ионы из чрева кита). Кроме того, у обоих евангелистов говорится, что не только ниневитяне покаялись от проповеди Ионы, но и «царица южная (Савская)… осудит его, ибо она приходила от пределов земли послушать мудрости Соломоновой» (Мф. 12:42); а это обстоятельство доказывает, что здесь говорится не о чуде, а вообще о деле, произведшем сильное впечатление. На обитателей Ниневии даже однодневная проповедь Ионы произвела столь сильное впечатление, что они покаялись все, включая и царя. Такой же или даже более удобный случай к исправлению и спасению Бог предоставляет иудеям в форме проповеди Иисуса, но они им не воспользуются. Итак, после смерти Иисуса, когда появилась вера в его воскресение, под знамением Ионы христиане стали понимать последнее (воскресение), и в этом смысле вставили в евангелия соответственное, якобы подлинное объяснение Иисуса, а Лука, вопреки Матфею, удержал первоначальную форму речи Иисуса, что, как мы уже указали выше, он делает неоднократно и в других местах.[153]
Некоторые авторы признают, что Иисус своим изречением о знамении Ионы (хотя бы и толкуемом в смысле воскресения) заявил, что не желает творить ни чудес вообще, ни, в частности, таких, о которых говорится в данном случае, то есть чудес, предстоящих в будущем. Но, говорят они, это заявление Иисуса не следует понимать в строгом и обобщенном смысле, ибо-де из его добавочной оговорки о «роде лукавом и прелюбодейном» видно, что не всем современникам вообще, а только фарисеям и книжникам, требовавшим знамений, он не желал дать таковых. Однако евангелисты повествуют, что Иисус, вообще, творил чудеса, и многие из них творил столь открыто, что и фарисеи с книжниками могли их видеть, и, по свидетельству евангелий, действительно их видели неоднократно. Стало быть, под порицаемым им родом Иисус разумел здесь, как и у Матфея (11:16), всех современников вообще, невосприимчивость и лживость которых особенно наглядно проявлялась в фарисеях и книжниках. Этому негодному большинству, видимо, противостояло меньшинство лучших, но не для них приходилось творить чудеса (такая исключительность была бы даже и немыслима); напротив, это меньшинство, видимо, не требовало чудес и не нуждалось в них.
Такому нежеланию Иисуса творить чудеса и знамения, по-видимому, противоречит ответ, который он дал посланцам Иоанна Крестителя и в котором перечисляет ряд чудес, совершенных им в удостоверение своего мессианского посланничества (Мф. 11:5; Лк. 7:22). Перечислив чудеса, которые были совершены на виду у всех, Иисус присовокупляет (Мф. 11:6): «Блажен, кто не соблазнится о Мне». Этими словами он намекает на Иоанна Крестителя, который посланцам наказывал спросить его: «Ты ли Тот, Который должен придти, или ожидать нам другого?» — когда услышал о «делах», то есть чудесах Иисуса. Но он вопрошал Иисуса на основании дошедших до него слухов, а потому не мог и «соблазниться» об Иисусе, если поверил слухам или, подобно фарисеям, не считал деяний Иисуса сатанинскими деяниями. Но такое предположение опровергается евангельским рассказом, поэтому он, вероятно, только сомневался, пророка или Мессию возвещают эти чудеса, подобные которым совершали и ветхозаветные пророки. Но о таком простительном сомнении Иисус не мог отзываться как о «соблазне». По-видимому, слова его были направлены против таких людей, которые «соблазнялись» тем, что он не творил чудес, ожидаемых от Мессии и, стало быть, те чудеса, на которые он ранее ссылался как на факты общеизвестные и очевидные, следует понимать в смысле морального эффекта его учения. «Как! — хочет он сказать. — Вы не видите от меня чудес, которых вы ожидаете от Мессии? Но я ведь каждый день духовно отверзаю глаза слепым, уши глухим, духовно исцеляю и ставлю на ноги хромых, и даже нравственно умерших я воскрешаю и оживляю. Кто в состоянии понять, во сколько раз ценнее эти духовные чудеса, тот не соблазнится и отсутствием чудес телесных, и только такой человек воспринимает и заслуживает то спасение, которое я принес человечеству».
Впрочем, сколько бы ни отказывался Иисус творить телесные чудеса, при данном образе мыслей своих современников и соплеменников он волей-неволей должен был их творить. Ведь он считался пророком (Лк. 7:16; Мф. 21:11), звание пророка он, несомненно, мог приобрести, подобно Крестителю, и помимо чудес; поэтому ему приписывали силу чудотворения и, стало быть, сила эта должна была проявиться и на деле. Если все страждущие всюду следовали за ним по пятам и старались прикоснуться хоть к краю его одежды, чтобы исцелиться от недугов (Мф. 14:36; Мк. 3:10; 6:56; Лк. 6:19), то не удивительно, что под влиянием возбужденного воображения и глубокого чувственно-духовного эффекта у них действительно проходили или временно смягчались их страдания, и такой результат они приписывали чудесной силе Иисуса. Можно усомниться, что путем такого возбуждения фантазии ему удавалось излечить такие болезни, как «кровотечение» женщины (Мф. 9:20), но, с другой стороны, можно допустить, что иногда такие случаи действительно встречались; и если при этом Иисус, отпуская исцеленных, говорил им, как той женщине: «вера твоя спасла тебя» (Мф. 9:22; Мк. 10:52; Лк. 17:19; 18:42), то вернее, скромнее, корректнее и точнее он и не мог бы выразиться. В сообщении евангелистов о том, что на родине, в Назарете, ему по неверию жителей не удалось совершить много чудес или исцелений (Мф. 13:58; Мк. 6:5–6), можно усмотреть след правильных воззрений на чудотворения Иисуса.
Исцеление посредством возбуждения фантазии было особенно возможно при одной болезни, наполовину воображаемой и в те времена бывшей модной у евреев, — при бесноватости. Мы видели, как и в наше время, болезнь эта появилась в связи с вновь возрождающейся верой в духов и демонов, и как нервное и душевное расстройство, обычно проявляющееся в форме конвульсий, периодического безумия и беспамятства и так далее, сочетаясь с суеверием, принимало форму «бесноватости», которая излечивалась путем воздействия на ложное представление. Весьма правдоподобно, что относительно причин этой болезни Иисус разделял представления своих современников, а воздействие именем Бога нередко исцеляло бесноватых, и в этом он мог усматривать знамение наступления мессианской эпохи или Царствия Божия (Мф. 12:28), но он не считал это важным для себя и своих учеников моментом (Лк. 10:20), потому что видел, что то же совершали и другие, которых он, не обинуясь, приравнивал к себе (Мф. 12:27; Лк. 11:19). О больных означенного рода часто упоминают первые три евангелия (Мф. 4:24; 8:16; 9:32; 10:1, 8; 12:22; 15:22; 17:18) и совершенно умалчивает четвертое, — и это тоже является доказательством позднейшего происхождения и исторического характера последнего евангелия.
Но после подобных исцелений воображаемых болезней могло случиться, что вместе с моментальным возбуждением нередко исчезал и вызванный им подъем жизненной энергии, и старые недуги возвращались. О подобных рецидивах упоминает также Иисус, и не только по отношению к больным, исцеленным другими, но и вообще, так что возможно допустить, что и в его собственной врачебной практике встречались подобные случаи. Он объясняет такие рецидивы у бесноватых возвращением бесов в умноженном числе (Мф. 12:43–45; Лк. 11:24–26); стало быть, болезнь эту он приписывал сверхъестественной причине и отнюдь не утверждал, что обладает силой излечивать ее абсолютно.
Таким образом, мы очутились у той границы, которой при исторической точке зрения неминуемо очерчивается «чудотворная» деятельность Иисуса. Это не значит, что о всяком отдельном чуде, рассказанном в евангелиях, следовало отмечать, в какой мере оно исторически правдоподобно; это означает только то, что можно указать пункт, за которым вообще уже не допустимо никакое чудо, так как тут нас покидает историческая аналогия и немыслимо какое-либо проявление законов природы. Начнем с самых крайних случаев. Иисус не мог единым словом благословения ни приумножить количества съестных припасов до чрезмерного предела, ни превратить воду в вино; не мог он вопреки закону тяжести ходить и по воде, не утопая; не мог он также ни воскрешать мертвых, ни выдавать простое пробуждение мнимоумерших за действительное воскресение из мертвых, если он не был мечтателем и вместе с тем обманщиком. Немыслимо и то, чтобы от слова или прикосновения его мгновенно исцелялись слепорожденные и вообще слепые или глухие и прокаженные, ибо такого рода исцеления, вообще, встречаются лишь в сказках и в мире суеверий, но не в истории. Правда, мы знаем, что многие не только верили в подобные явления, но даже уверяли, что либо сами видели их собственными глазами, либо сами их испытали (например, слепые воображали, что на мгновение прозрели, а глухие, что стали слышать), но в действительности ничего подобного не бывало. Кроме болезней мнимо демонических, то есть болезней душевных и нервных (бесноватость), к категории недугов, которые вполне или отчасти, временно или надолго излечиваются путем сильного душевного воздействия (внушения), относятся по преимуществу паралитические страдания: состояние расслабленности, судорожное сведение или искривление отдельных членов или всего тела (Мф. 4:24; 8:6; 9:2; 12:10; Лк. 13:11), — о которых говорится в евангелиях; во всяком случае, поразительные факты подобных исцелений известны, и относительно одного их них приведены документальные доказательства пионером естественнонаучного объяснения чудес.[154] К этой категории психических или мнимых исцелений и вообще естественных последствий возбужденности религиозно-экзальтированных людей следует отнести также все чудеса и знамения, о которых апостол Павел говорит, что он сам их совершал или что они представляли обычное явление в христианской общине (1 Кор. 12:28; 2 Кор. 12:12).
Теперь, естественно, встает вопрос: не пользовался ли Иисус целебными средствами из чувства человеколюбия или из желания осуществить полезную деятельность в той области, в которой, по мнению соотечественников. он должен был как-то заявить о себе? Не был ли он, учитель народа, также и народным знахарем? Такой взгляд господствовал в эпоху просвещения и рационализма и не вполне исчез и в настоящее время (напомним хотя бы об «Истории Христа» Эвальда). Действительно, он соответствует обычаям и нравам обитателей Востока и в том числе еврейского народа, у которого священники и пророки были искони хранителями медицинского предания[155], однако крайнее невежество и суеверие народа в то время приводили к тому, что даже исцеления, произведенные явно естественными средствами, принимались за чудеса. Но чтобы сойти с почвы просто догадок и предположений, нам следовало бы отыскать в евангельском повествовании точку опоры нашего предположения. Такой точкой сторонники указанного предположения считают все случаи, когда Иисус при исцелениях не ограничивался словом, но пользовался также внешними, материальными средствами или дотрагивался до больных рукой. По словам евангелистов, Иисус коснулся слюной языка глухонемого (Мк. 7:33), слепому поплевал на глаза (Мк. 8:23), слепорожденному помазал глаза «брением из плюновения» (то есть, слюной с пылью земли) и затем велел ему умыться водой купели силоамской (Ин. 9:6–7). Так как исцеление в последнем случае наступило после омовения, а у другого слепца, по свидетельству евангелиста, оно совершилось в два приема, то в этом некоторые усмотрели применение естественных целебных средств, а затем даже в простом прикосновении или простирании руки (Мф. 8:3, 15; 9:29:20:34; Мк. 6:5: Лк. 4:40) стали видеть особую манипуляцию и чуть ли не хирургическую операцию. Однако такие предположения решительно противоречат смыслу евангельских повествований. Прикосновение руки при чудесном исцелении в них отождествляется с простиранием рук при благословении; они усматривают в этом передачу высшей силы от чудотворца к исцеляемому больному, а действие слюны и «брения» нам выясняет не история медицины, а история суеверий: ведь даже новоявленный император Веспасиан принужден был плюнуть на глаза слепого, когда угодливому прокуратору Египта вздумалось произвести его в глазах александрийской черни, в сан любимца богов, и слепой этот, разумеется, не преминул тут же прозреть (Тацит. История. IV 81). При этом следует иметь в виду, что о применении таких естественных целебных средств, как «плюновение» и «брение», упоминается не в древнейших и первичных евангелиях, а в позднейших и против истории сильно погрешающих переделках, у Марка и Иоанна. Следовательно, по этому вопросу приходится довольствоваться одними общими предположениями и ненадежным заключением.
Но вам и не нужно строить таких предположении ни для объяснения приобретенного Иисусом авторитета, ни для уяснения начала евангельских повествований о чудесах. Иисус мог приобресть авторитет чисто духовными средствами, а появление рассказов о чудесах вполне объясняется, с одной стороны, естественными чудесами веры, которые мы не отрицали, а с другой стороны, как мы уже выяснили, умозаключением от предполагаемых свойств и деяний Мессии к действительным деяниям и свойствам Иисуса, и, наконец, тем, что для христианских общин сказания о чудесах имели символическое значение, и некоторые сказания служили даже прообразом их учреждений.
§43. Ученики Иисуса
В своей деятельности и учении Иисус стремился не к одному лишь временному успеху, который только и достигается при обращении к широким и меняющимся кругам то приливающей, то вновь отливающей народной массы. Он желал создать нечто более прочное, и хотя нам неизвестно, через сколько времени должен был наступить, по его мнению, конец настоящей мировой эпохи, однако же тому, что насаждалось им в человечестве, он, без сомнения, хотел сообщить силу и способность привлекать и перерождать возможно более широкие слои населения. Достигнуть этого нельзя было без помощи учеников, которые оставались бы всегда при нём, были бы посвящены в его мысли глубже массы и проникались бы его духом. Создавать подобный тесный круг учеников старались, вообще, все еврейские пророки и позднейшие раввины, как и греческие философы; в частности, у ближайшего предтечи Иисуса, Иоанна Крестителя, тоже сложился постоянный круг учеников, помимо изменчивой толпы последователей и сторонников.
Как велико было число учеников Крестителя, мы не знаем, но круг учеников Иисуса, как известно, отличался тем, что состоял из 12 лиц, имена которых сохранились в Новом завете в четырех перечнях, вполне друг с другом сходных, не считая некоторых отличий в порядке перечисления и в одном именовании (Мф. 10:2–4; Мк. 3:16–19; Лк. 6:14–16; Деян. 1:13). Связь этого числа с делением еврейского народа на 12 колен, или племен, очевидна, хотя и неверно сообщение Матфея (19:28) и Луки (22:30) о том, что сам Иисус обещал своим 12 ученикам, что после его второго пришествия они воссядут на 12 престолах и будут судить 12 колен израилевых. Призвал ли Иисус каким-нибудь определенным актом избрания сразу всех 12 учеников, об этом Матфей ничего не сообщает, а то, что повествуют по этому случаю Марк (3:13–14) и Лука (6:13), нам представляется явным измышлением, основанным на господствующем предположении, что 12 апостолов избраны самим Иисусом (Ин. 6:70; 15:16; Деян. 1:2). С другой стороны, не следует заходить слишком далеко и предполагать, что только после кончины Иисуса на почве иудаистских представлений создалась двенадцатичленная коллегия апостолов: число двенадцать появляется на сцене гораздо раньше. В Откровении Иоанна, написанном через 30 с лишним лет после смерти Иисуса, отмечено число двенадцати апостолов как бы в качестве основной христианской величины (21:14), а апостол Павел, который впервые познакомился с сектой христиан в первом десятилетии после смерти Иисуса, упоминает о 12 апостолах как о существующей коллегии (1 Кор. 15:5). Тот факт, что Иисус круг ближайших учеников своих ограничил цифрой двенадцать, без сомнения, показывает, что, создавая план преобразований, он прежде всего думал об израильском народе, но отсюда нельзя заключать о том, что им одним он думал ограничиться впоследствии.
У евангелистов, не исключая тех, которые говорят о единовременном избрании всех 12 апостолов, мы замечаем, что отдельные члены этого кружка учеников по различным случаям пристают к Иисусу по одиночке и попарно; в этом обстоятельстве много исторической правды, но отдельные сцены, которые евангелисты при этом живописуют, столь очевидно созданы на основе легенд и свободно-поэтического творчества, что нам придется впоследствии говорить о них подробнее. Такого рода странными рассказами отмечено в синоптических евангелиях призвание двух пар братьев: сыновей Иоанновых — Симона и Андрея (последний, впрочем, не упоминается у Луки) и сыновей Зеведеевых — Иакова и Иоанна (Мф. 4:18–22; Мк. 1:16–20; Лк. 5:1–11). В повествовании о том, что они призваны были следовать за Иисусом во время рыбной ловли на Галилейском озере, исторически правдоподобно то, что они прежде действительно были тамошними рыбаками. То же следует, по-видимому, сказать и о призвании мытаря, о котором также повествуют все синоптики (Мф. 9:9; Мк. 2:14; Лк. 5:27), но только в Матфеевом евангелии упомянуто его имя, которое совпадает с именем предполагаемого автора этого евангелия и встречается в перечнях апостолов, тогда как у Марка и Луки он зовется Левием. Четвертое евангелие также сообщает, как Симон и Андрей пришли к Иисусу (1:35–42), но при этом указывает иное место и иные обстоятельства; об Иакове это евангелие совсем не упоминает, а об Иоанне говорит с той таинственностью, которая вообще характеризует отношение четвертого евангелия к его предполагаемому автору или вдохновителю (апостолу Иоанну). Там же упоминается еще о призвании Филиппа и Нафанаила, из коих только первый отмечен в синоптических перечнях апостолов, а последнего на основании некоторых догадок отождествляли с Варфоломеем (а теперь с Матфеем), тоже встречающимся в списке апостолов. Ввиду того, что апостолов насчитывалось 12 человек, а многие из них ничем особенным о себе не заявили и пребывали в неизвестности, отдельные пробелы в перечне апостолов, естественно, стали скоро заполняться иными именами; например, место Леввея-Фаддея первых двух евангелий в обоих перечнях Луки стал занимать Иуда, сын Иаковлев.
Во всех перечнях апостолов первое место занимает Симон-Петр, которого Матфей прямо называет первым, как в речах (Мф. 15:15; 16:16, 22; 17:4; 18:21; 19:27; 26:63; Ин. 6:68; 13:6, 9), так и в деяниях (Мф. 14:28; 26:58; Мк. 1:36; Ин. 18:16; 21:3, 7), он, по свидетельству евангелий, стоял впереди всех учеников Иисуса, который отметил его даже особым прозвищем «Кифа-Петр», то есть «Камень» (Мф. 16:18; Мк. 3:16; Лк. 6:14; Ин. 1:42). Возможно, на это прозвище, полученное им по какому-либо случаю, стали смотреть впоследствии как на почетное имя, данное самим Иисусом, или прозвищем этим его наделила сама община; во всяком случае, следует отметить, что именоваться человеком-камнем не приличествует человеку, который подобно Симону-Петру обладал пылким, но не твердым характером, как о том свидетельствует не только его отречение от Иисуса, но также отношение его к спору христиан-язычников и христиан-иудеев (Гал. 2:11). Более метким и характерным является прозвище обоих сыновей Зеведея — «Воанергес», или «Сыны грома», сохранившееся только у Марка (3:17). Оно особенно подходит к Иоанну, если грозный Апокалипсис действительно написан им, и оно вполне подходит к обоим братьям, если правдив рассказ Луки (9:54) о том, что они хотели низвести огонь с неба и сжечь самарянское селение, которое не пожелало приютить их паломнический караван. Они были близки Иисусу еще и потому, что их мать Саломия (Мк. 15:40; Мф. 27:56) принадлежала к числу женщин, сопровождавших Иисуса, ввиду чего она, по словам евангелиста, просила у Иисуса для сыновей своих первейших мест в будущем царстве Мессии (Мф. 20:20 -21). Эти три апостола: Петр, Иаков и Иоанн (не считая Андрея, которого Марк причисляет к ним, по-видимому, потому, что он приходился Петру братом (1:29; 13:3), составляют в синоптических евангелиях как бы особый комитет в составе всей двенадцатичленной коллегии апостолов; по преимуществу с ними Иисус выступает в ситуациях, до правильного понимания которых остальные ученики, видимо, не созрели, или когда совершается своего рода мистерия в присутствии лишь немногих посвященных учеников, например, при преображении Иисуса, при душевной борьбе его в Гефсиманском саду и, по Марку, при воскрешении дочери Иаира. Почему в четвертом евангелии из членов этого синоптического триумвирата совершенно опущен Иаков (только в приложении 21:2 упоминается о сыновьях Зеведеевых) и почему там Петр хотя и не лишается открыто сана первоапостола, но тонко рассчитанным изложением постоянно оттесняется на второе место после другого ученика, или ученика, «которого любил Иисус» (то есть Иоанна), — всё это трудно объяснить, если считать апостола Иоанна составителем четвертого евангелия, но легко понять, если взглянуть на происхождение евангелия с нашей точки зрения, о чём будет сказано позднее. Равным образом и распределение ролей в этом евангелии между Филиппом, Андреем и Фомой, видимо, покоится на совершенно произвольном построении и обусловливается тем уважением, каким эти лица пользовались в преданиях малоазийской церкви, согласно которым, например, Филипп будто бы погребен в Гиераполисе[156].
Далее из числа 12 апостолов оригинальностью характера выделяется тот, которому во всех евангельских перечнях отводится последнее место, Иуда-предатель. Из сообщений первых трех евангелистов трудно понять, а из рассказов четвертого евангелиста — совсем нельзя уразуметь, как мог Иисус принять в столь близкий круг своих учеников человека, способного на предательство, и как сам Иуда мог дойти до того, чтобы предать своего Учителя. Что касается Иисуса, то синоптики, по другому поводу, свидетельствуют, что он «видел (прозревал или угадывал) помышления» людей (Мф. 9:4; Мк. 2:8; Лк. 5:22), а относительно Иуды они лишь в конце, после совершения предательства, осознают, что Иисус знал раньше, что Иуда предаст его (Мф. 26:21). Напротив, четвертый евангелист заявляет без обиняков, что Иисус уже давно знал, кто именно предаст его (6:64). Но если так, то с нашей человеческой точки зрения непонятно, почему Иисус не удалил ученика-предателя из своей общины. Точно так же синоптическое повествование не выясняет и мотивов предательства Иуды, так как предложенная ему сумма денег была весьма ничтожна — 30 сребреников, или 25 рублей (Мф. 26:15). А когда мы узнаем из четвертого евангелия, что Иуда имел в своем распоряжении общинный «денежный ящик» и мог обирать его (12:6), то совсем перестаем понимать, отчего он ради единовременного ничтожного вознаграждения решился на поступок, который неизбежно сопряжен был с утратой столь выгодной и обеспеченной должности казначея. Но дело в том, что указание на размер платы Иуде взято, как увидим, из неверно истолкованного изречения пророка (Зах. 11:12), а обирание апостольской казны Иудой, вероятно, полагается априори из-за совершенного им предательства, подобно тому как сообщение о том, что Иисус будто давно знал, кто его предаст, покоится исключительно на идее Христа-Логоса, которой придерживался четвертый евангелист.
Мы здесь не будем подробно разбирать различные догадки о мотивах, побудивших Иуду совершить предательство. В большинстве случаев предполагают, что Иисус не оправдал его мирянски-корыстных мессианских надежд и что он оскорблен был предпочтением, которое оказывалось трем первым ученикам Иисуса[157]; но этих предположений не подтверждает наше евангельское предание, напротив, полного внимания заслуживает новейшая попытка представить весь рассказ об Иуде и его предательстве простым тенденциозно поэтическим вымыслом.[158] Сторонники этого воззрения указывают на то, что ни Павел, ни автор Откровения Иоанн ни словом не упоминают о предателе: оба говорят просто о 12 учениках-апостолах, не сообщая ничего об исключении кого-либо из их числа (Откр. 21:14; 1 Кор. 15:5); а в рассказе Павла об учреждении евхаристии (1 Кор. 11:23), вопреки другим авторам, упоминающим по этому случаю о предательстве, говорится только о предании Иисуса властям, и говорится это в той самой форме, в какой Матфей (4:12) и Марк (1:14) говорят о взятии под стражу Крестителя, пленение которого не было последствием предательства. Мотивом для измышления «предателя» остроумный автор этого воззрения выставляет желание партии павликиан включить апостола язычников (Павла) в коллегию 12 первоапостолов, для чего и требовалось исключить из нее одного члена, приписав ему лично то предательство, которое совершил весь иудейский народ по отношению к Иисусу. Это и сделал автор первичного евангелия, но ему удалось лишь исключить исполнителя предательства, одного из 12 апостолов, а заменить его Павлом не удалось, потому что этот план расстроила партия иудео-христиан, которая хотя и не дерзнула реабилитировать Иуду, но заместила его вакансию мнимоизбранным Матфеем и тем самым снова оттеснила Павла. Однако, хотя история Иуды-предателя весьма темна, в ней нет ничего настолько невероятного, чтобы побудить нас столь смелой гипотезой объяснять ее возникновение, к тому же гипотеза эта для нас неприемлема уже по той причине, что мы не можем допустить, чтобы павликиане действительно оказывали столь сильное влияние на первоначальное формирование евангельских преданий.
Означенные 12 учеников называются во всех евангелиях апостолами,[159] однако лишь Лука (6:13) заявляет прямо, что сам Иисус их наименовал апостолами. Предназначая их для роли будущих глашатаев евангелия, Иисус действительно мог назвать их так, даже если он их и не отсылал для проповеди при своей жизни, как о том рассказывают три первых евангелиста. В том, что он их посылал проповедовать, можно усомниться по многим основаниям. Во-первых, для того тесного круга людей, из которого, по свидетельству синоптиков, ученики Иисуса не выходили при его жизни, достаточно было его личной деятельности; во-вторых, Иисус не мог не видеть, что представления 12 учеников о царствии Мессии были в то время еще проникнуты иудаизмом и что в своей проповеди они могли пойти вразрез с его намерениями; в-третьих, то наставление, которое, по словам евангелиста, дал Иисус отсылаемым на проповедь апостолам, в такой мере рассчитано на отношения позднейшей эпохи, наступившей после смерти Иисуса, что некоторые части его повторяются в большой пророческой речи Иисуса о бедствиях, которые постигнут Иерусалим перед его разрушением (Мф. 10:17–22; 24:9–13; Мк. 13:9; Лк. 21:12). Поэтому можно предположить, что и отсылка апостолов на проповедь, как и многое другое, случившееся после смерти Иисуса, приписана была сначала воскрешенному Иисусу в качестве его последнего волеизъявления (Мф. 28:14), а затем и живущему Иисусу в качестве первого испытания учеников-апостолов. При этом следует заметить, что только у Марка (6:30) и Луки (9:10) имеется сообщение о том, что вернувшиеся с проповеди апостолы дают отчет о своих деяниях и успехах.
Итак, относительно 12 апостолов мы считаем недостоверным и сомнительным сообщение о том, что они при жизни Иисуса были отосланы на проповедь, и нисколько не оспариваем самого призвания их Иисусом. Иное следует сказать о тех 70 учениках, которых Иисус, по сообщению Луки (10:1), сам выбрал и послал на проповедь, помимо 12 апостолов. Тот факт, что только Лука рассказывает о них, как и то, что он о них рассказывает, заставляет усомниться в достоверности этого сообщения. По словам Луки, Иисус, уходя из Галилеи, избрал «других семьдесят учеников, и послал их по два пред лицем Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти». По-видимому, здесь речь идет о том же самом поручении, о котором евангелист упомянул раньше, говоря (9:52), что Иисус «послал вестников пред лицем Своим» в самарянское селение, «чтобы приготовить для Него» (помещение). Но, с одной стороны, трудно понять, зачем было Иисусу посылать для этого 70 учеников, а с другой стороны, он дает им по этому случаю такое наставление, которое рассчитано, очевидно, на чисто апостольскую миссию, и они, по возвращении своем, сообщают Иисусу (10:17) об изгнании бесов, — что к поручению приготовить для Иисуса помещение никакого отношения не имеет. Далее, в данном им наставлении говорится о продолжительном пребывании и проповедании в городах и жилищах, что, как известно, отмечалось в деятельности апостолов и других глашатаев веры после смерти Иисуса; однако вслед за сообщением о наставлении евангелист рассказывает (10:17), что 70 учеников вернулись с радостью и сообщили Иисусу об успешном изгнании бесов, как о результате своей миссии. Если бы эти 70 учеников действительно были посланы Иисусом на проповедь и притом отдельно от 12 апостолов, то Иисус, наверно, дал бы особый напутственный наказ; между тем оказывается, что Лука взял несколько пунктов из наставления 12 апостолам, приведенного у Матфея, а также из речи Иисуса, которую, по словам евангелиста, Иисус сказал по случаю прихода посланцев Крестителя, и из всего этого составил наставление 70 ученикам-апостолам.
Только третий евангелист упоминает об избрании и отсылке 70 учеников на проповедь, и это обстоятельство является подозрительным, поскольку оно вполне соответствует его своеобразной точке зрения и цели. Правда, 70 учеников напоминают о 70 старейшинах, которых Моисей избрал себе на помощь (Числ. 11:16, 24), ввиду чего и автор Климентовых «Размышлений»[160] утверждает, что Иисус действительно был тем равным и подобным Моисею пророком, о котором было обетовано во Второзаконии (18:15). Но число 70 или 72, по иудейским представлениям, соответствует также числу всех народов земли; поэтому вполне возможно, что третий евангелист, найдя в каком-нибудь иудео-христианском евангелии упоминание о 70 учениках Иисуса, соответствующих 70 старейшинам Моисея, увидел в них прообраз апостолов для 70 языческих народов и в этом смысле говорит о них в своем евангелии.
Теперь в свете того, что нам известно о 12 апостолах из Нового завета и из других, довольно скудных источников, зададимся вопросом: нашел ли Иисус в их лице способных и достойных учеников? Не касаясь вопросов об апостоле-предателе и об испуге и страхе учеников, вызванных заточением и казнью Иисуса, мы должны признать в них людей преданных и стойких, если только достоверны известия об их дальнейшей деятельности и судьбе. Но мы не можем видеть в них людей, способных понимать Учителя и глубоко вникать в его идеи и планы, тем более что мы имеем много оснований высоко ставить самого Иисуса. То, что при таком Учителе они до самой его смерти мечтали о восстановлении царства Израильского (Лк. 24:21; Деян. 1:6), отнюдь не говорит о силе их разумения; а то, что и впоследствии они во имя предрассудка упорно противились допущению язычников в новое царство Мессии, по меньшей мере, свидетельствует о том, что они были неспособны самостоятельно развивать и применять к жизни принципы своего Учителя, когда того требовали обстоятельства. Правда, эта неспособность их, бесспорно, засвидетельствована только в посланиях апостола Павла, а то, что и по смерти Иисуса апостолы лелеяли мирянски-мессианские надежды, мы знаем лишь из евангелия и Деяний апостолов, в которых явно отразилось стремление оттенить превосходство Иисуса и позднейших языческих апостолов, противопоставляя им непонятливость 12 апостолов. Но если Апокалипсис не подделка, то есть если он действительно написан апостолом Иоанном — а подлинность его удостоверяется внешними свидетельствами гораздо убедительнее, чем подлинность любой другой книги Нового завета, — то мы приходим к безотрадному выводу, что Иисуса не понимали даже ближайшие его ученики (мы уж не говорим здесь о «любимом» ученике-наперснике четвертого евангелия); ибо нет надобности доказывать, что эта книга мало проникнута истинным духом учения Иисуса; она написана в духе мести и злобы, столь свойственном пророку Илии и столь чуждом Иисусу и им отвергнутом, а чисто иудейская точка зрения и форма изложения как небо от земли далеки от мировоззрения Учителя, которое известно нам по первым трем евангелиям. Правда, никаких иных подлинных трудов 12 апостолов в Новом завете нет, но то значение, которое обрел впоследствии Павел, показывает, что среди ближайших учеников Иисуса не было ни настоящего представителя его учения, ни человека, которому было бы по силам развивать идеи Учителя далее, в соответствии с изменившимися условиями времени.
Такую роль пришлось выполнять Павлу, человеку, который не был близок Иисусу и даже, вероятно, никогда его не видел, и это обстоятельство оказало огромное влияние на развитие христианского учения; Иисус представлялся Павлу уже не в своей обыденной исторической действительности, а сначала в ореоле энтузиазма его последователей, которых он преследовал и которые под влиянием гонений и возрастающей восторженности помышляли уже не столько о почившем Учителе своем, сколько о существе, долженствующем прийти «на облаках»; потом Иисус стал ему представляться в видениях, то есть в его собственном, до экстаза распаленном воображении; следовательно, Павел представлял себе Иисуса всегда каким-то сверхчеловеческим небесным существом. Правда, таковым же представляли его себе и ближайшие ученики Иисуса после того, как скорбный факт его крестной смерти им удалось скрасить мыслью о последующем воскресении; но в живом воспоминании о земной обыденной жизни Иисуса они всё же имели нить, которая связывала их настоящее представление о нём с прежним, человеческим и естественным взглядом на него; такой связующей нити не было у Павла, поэтому его фантазия могла работать и творить безудержно. Боготворение Иисуса началось именно с Павла, лично не знавшего Иисуса-человека; продолжали это боготворение люди, которые, подобно автору Послания к Евреям тоже не знали Иисуса в земной его жизни; а завершил боготворение Иисуса автор четвертого евангелия, который во времени и пространстве еще более далек от Иисуса.
§44. Путешествие в Иерусалим
Мы теперь уже не можем точно сказать, как далеко Иисус зашел в разработке своих планов, в частности в организации сгруппировавшейся вокруг него общины, ко времени своего рокового путешествия в Иерусалим. Матфей сообщает, что прежде чем отправиться туда, Иисус в общих чертах обрисовал основы будущей организации общины. После того как Петр от лица 12 апостолов высказал убеждение, что Учитель их — Мессия, Иисус, по словам Матфея, дал ему прозвище «Петр» («Камень») и объяснил, что на нём, как на скале, он создаст церковь (общину) свою; кроме того, он вручил ему «ключ Давидов» (Ис. 22:22; 3:7) в Царствии Небесном и тем самым облек его властью отворять и затворять врата неба, или, как сказано в евангелии, вязать и разрешать, то есть приказывать и воспрещать, зная, что всё утверждаемое им на земле уже заранее одобрено на небесах (Мф. 16:17–19). Позднее (Мф. 18:18; Ин. 20:23) Иисус облекает той же властью всех своих учеников и установляет, чтобы церковь (община) разбирала взаимные споры христиан на правах верховного третейского суда. Однако само слово «церковь»-община (экклесия), высказанное в такое время, когда общины-церкви еще не существовало, равно как и указание на ее права и обязанности, и, наконец, запрещение ученикам называть себя раввинами, или учителями (Мф. 23:8), — всё это указывает на более позднюю эпоху, когда означенные учреждения и правила, вероятно, постепенно выработавшиеся, были наконец приписаны велению Иисуса. Вот почему в самом евангелии верховная власть «разрешать и связывать» в одном случае поручается Петру, а в другом — вообще всем ученикам Иисуса; в этой двойственности евангелиста отразилось различие воззрений и стадий развития древней церкви.
Вопрос о том, с какой целью Иисус отправился в Иерусалим, приходится решать по сообщениям о том, что именно он делал при въезде в город и после прибытия туда, так как в евангельских рассказах об этом путешествии Иисуса ничего не говорится о его цели, вернее, говорится, что Иисус отправился в Иерусалим, чтобы пострадать и умереть (Мф. 16:21; 20:18). В этом плане следует отметить прежде всего торжественный въезд Иисуса в город (Мф. 21:1–11; Мк. 11:1–10; Лк. 19:29–38; Ин. 12:12 — 19) и последующее очищение храма, о котором мы уже говорили. Реймарус, как известно, утверждает, что Иисус замышлял политический переворот и торжественно въехал в Иерусалим, чтобы при содействии народа провозгласить себя царем. Другие авторы, напротив, усомнились в исторической достоверности этого события и заявляли, что рассказ о нём внушен либо пророчеством Захарии (9:9), которое цитируется Матфеем и Иоанном, либо желанием создать противовес воинственному шествию апокалипсического Христа (Апок. 19:11). Однако можно допустить, что сообщение о въезде Иисуса на осле действительно появилось в евангельском рассказе из пророчества Захарии и что торжественный въезд Иисуса среди ликующей толпы народа тем не менее является историческим фактом; но, с другой стороны, возможно, что Иисус, вовсе не отклонявший роли Мессии, в противоположность господствовавшему представлению о Мессии как грозном герое-воителе, пожелал опереться на изречение Захарии, который изображал Мессию кротким и миролюбивым князем. Политический момент мог в этом случае отсутствовать: кто безоружный с толпой таких же безоружных вступает в город, восседая на животном, олицетворяющем собою мир, тот или является уже общепризнанным властителем, или намеревается стать таковым с помощью средств, исключающих всякое внешнее насилие. Стало быть, царственно торжественный характер въезда Иисуса мог знаменовать собой верховную санкцию его проповеднической и реформаторской деятельности. По сообщению трех первых евангелий, Иисус направился в Иерусалим вместе с караваном галилейских паломников, состоявшим по преимуществу из его учеников и последователей; при самом въезде в столичный город они вздумали почтить своего пророка-земляка, устилая его путь ветками деревьев и одеждами и приветствуя кликом: «Осанна Сыну Давидову!», и тем скоро привели в движение весь город. Четвертый евангелист сообщает, что весть о прибытии пророка из Галилеи заставила и других паломников выйти из города, чтобы устроить ему торжественную встречу; это сообщение само по себе весьма правдоподобно, но, будучи приведено в связь с воскрешением Лазаря, оно становится проблематичным.
В сопровождении упомянутой толпы последователей Иисус отправился в храм и там учинил деяние (очищение храма), которое весьма чувствительно затронуло обычай, имевший непосредственное отношение к иудейскому культу жертвоприношений. В последующие дни Иисус произносил публично речи, в которых резко нападал на господствующую партию фарисеев и духовенство, беспощадно обличая их лицемерие, надменность, корыстолюбие, призывая народ отвернуться от них и угрожая карой Божьей, призванием других, более достойных деятелей в виноградник Господа (Мф. 20:1–16; 21:33-44). Подобные деяния, конечно, возбуждали тревогу властных иерархов и наводили на мысль о необходимости устранить и обезвредить столь опасного противника, но до поры до времени им мешала исполнить эти замыслы преданная Иисусу толпа народа (Мф. 21:15, 45; Мк. 11:18; 12:12; Лк. 19:47; 20:19; Ин. 12:19).
О том, каким путем Иисус предполагал идти к своей конечной цели, проживая в Иерусалиме, приходится лишь строить разные догадки, так как наши евангелия, исходя из совершившихся фактов и своей догматической точки зрения, представляют дело так, будто Иисус сам предвидел неудачу своих начинаний и собственную гибель. Однако если он действительно предчувствовал такой исход, приготовился к худшему варианту, то, будучи разумным человеком, он, вероятно, всё-таки успел составить некоторый план действий и на случай удачного исхода, хотя шансы на успех с каждым днем всё более и более ухудшались. В общем, этот план, вероятно, был таков: Иисус считал возможным посредством религиозно-нравственного поучения постепенно привести еврейский народ к тому, чтобы он отказался от внешних обрядов, очищений и, может быть, жертвоприношений и таким образом сам себя освободил от опеки духовенства и доверился руководству людей, воспитанных в духе истинного внутреннего благочестия. Успехи, которых он успел достичь в этом направлении у себя на родине, внушали ему бодрость и в то же время показали, что необходимо перенести борьбу в самый центр лагеря противника и что наиболее удобным моментом для этого были праздники так как в массе съезжавшихся на праздник паломников-галилеян он мог найти себе опору, а в лице иных приезжих иудеев — обширную толпу слушателей и удобный случай быстро распространить свои идеи в самых широких кругах населения. Нельзя предполагать, чтобы он надеялся в течение одной недели праздников достичь своей конечной цели, то есть преобразования всей национально-религиозной системы, но, вероятно, он рассчитывал своей проповедью за это время подготовить себе почву в столице хотя бы настолько, чтобы можно было оставаться там и продолжать добиваться своих целей, или, быть может, он предполагал после праздников вернуться в Галилею, а брошенные им в столице семена учения предоставить пока собственному развитию и продолжать прерванную работу при следующих праздничных визитах. Но, повторяем, всё это — одни догадки и предположения, и мы считаем нужным высказать их здесь, чтобы показать, что Иисус не был ни революционером-неудачником, ни мечтателем-фантазером, как склонны думать те, кто совершенно отрешился от евангельского взгляда на него.
Несколько дней успел прожить Иисус в Иерусалиме, причем ночи он проводил вне города, то в Вифании, то в каком-то поселке подле горы Елеонской (Мф. 21:17; Мк. 11:11; Лк. 21:37); но за два дня до начала праздника, по сообщению первого евангелиста, первосвященники, книжники и старейшины народа, собравшись в доме первосвященника Каиафы на совещание, решили взять Иисуса хитростью и убить (Мф. 26:1–5; Мк. 14:1; Лк. 22:1–2). Однако популярность, которой пользовался Иисус в народе, мешала исполнить этот замысел во время праздников, когда столица была переполнена массой паломников, особенно же галилеян, и можно было опасаться «возмущения в народе». Матфей говорит, что совещавшиеся у Каиафы решили взять и убить Иисуса «только не в праздник»; но так как это последнее выражение («только не в праздник») едва ли означает, что иерархи надеялись совершить это трудное дело до наступления близкого праздника, то, стало быть, они рассчитывали на то, что Иисус останется в столице после праздника, когда прочие паломники успеют разъехаться по домам.
В этот-то момент, по единогласному свидетельству всех евангелий, и начинается деятельность Иуды-предателя. Иисус проводил ночи вне города, вероятно, потому, что городские жилища были переполнены во время праздников, но если они, как говорят, меняли место ночлега, то, надо полагать, что он уклонялся от преследования своих врагов, и хотя последние, вероятно, сами сумели бы схватить его, но всё же им мог быть полезен человек из группы приближенных учеников Иисуса, соглашавшийся указать сыщикам то место, где Иисус проводил ночь (Мф. 26:14–16; Мк. 14:10; Лк. 22:3–4; Ин. 18:2; Деян. 1:16). Сколько они заплатили за это предательство, мы не знаем, потому что «30 сребреников» взяты, как мы сказали выше, из одного изречения пророка, которое было истолковано в смысле предательства Иуды.
Выполнение замысла первые три евангелиста относят к 14 нисана, когда (вечером) начинался первый день праздника Пасхи, а четвертый евангелист столь же категорически относит его к 13 нисана, то есть к кануну праздника (Мф. 26:17; Мк. 14:12; Лк. 22:7; Ин. 13:1). По единогласному свидетельству всех евангелистов, Иисус в этот вечер перед уходом на то место, где он был схвачен, устроил совместно с учениками трапезу; по сообщению синоптиков, она была пасхальной, а по словам Иоанна — нет, ибо она таковой не могла быть вечером 13 нисана. Далее, по рассказу синоптиков, Иисус в этот вечер, по аналогии с пасхальной трапезой, учредил евхаристию, но Иоанн об этом ничего не сообщает, а приписывает Иисусу другое символическое действие — омовение ног ученикам. Тем не менее евангелисты, очевидно, говорят об одной и той же трапезе или вечере; это видно из того, что они все именуют ее последней трапезой Иисуса с учениками, после которой он тотчас же пошел в то место, где был взят под стражу, и все они приурочивают к этой трапезе предсказание Иисуса о предательстве Иуды и об отречении Петра. Истинной может быть, конечно, лишь одна версия, но вопрос о том, кто прав, в данном случае имеет лишь критико-экзегетическое, а не историческое значение. Для решения вопроса о достоверности и происхождении Иоаннова евангелия он существен, но для историка не представляет большого интереса, в какой день Иисус был схвачен и казнен и была ли его последняя трапеза с учениками пасхальной или нет. Поэтому мы оставляем вопрос этот пока открытым, и лишь позднее объясним, как в евангелиях возникло это разногласие.
§45. Последняя вечеря, взятие под стражу и казнь Иисуса
Описание последнего вечера, проведенного Иисусом с учениками, основано у евангелистов на предположении, что Иисус заранее знал всё, что ему предстояло в будущем (Ин. 13:1; 18:4). Это само собой вытекало из их представления об Иисусе как Мессии, родившемся от Бога, или воплощенном Слове Творца; но с нашей точки зрения оно подлежит ограничению человечески возможным и исторически вероятным. Иисус мог предвидеть, что конец его приближается, он мог также сомневаться в верности и стойкости некоторых учеников и даже не скрывать этого от них; но предположить, будто он точно знал и объявил, что именно в ту ночь свершится его участь, и будто бы он прямо указал на Иуду как на предателя и предсказал, что Петр трижды отречется от него, прежде чем пропоет в первый раз петух, — можно было бы лишь в случае, если он получил предостережение со стороны тайных своих последователей в верховном совете, о чём, однако, ничего не говорится в наших источниках; словом, всё это немыслимо исторически, хотя, как мы увидим ниже, психологически нетрудно объяснить, как последователи Иисуса пришли впоследствии к такому представлению.
Учреждение евхаристии на последней вечере (Мф. 26:26–29; Мк. 14:22–25; Лк. 22:19) с упоминанием о страданиях и смерти объясняется тем предчувствием, которое, естественно, должно было появиться у Иисуса, если он правильно оценивал свое личное положение. Он видел, что, с одной стороны, его окружают сильные и озлобленные враги, которые в своем фанатизме не останавливались ни перед чем, и что, с другой стороны, даже близкие друзья плохо его понимали, а народная масса еще не настолько расположена к нему, чтобы видеть в ней надежный оплот от замыслов и покушения врагов. Поэтому, когда он преломлял хлеб, как старший за трапезой, и раздавал его своим ученикам, он мог невольно подумать о том, что точно так же поступят и с его собственным телом его непримиримые враги; когда он наливал красное вино, ему могла явиться мысль, что и его собственная кровь, быть может, скоро будет точно так же литься; поэтому, в предчувствии грядущего, он мог сказать своим ученикам, что как поступает он теперь с хлебом и вином, будет скоро поступлено и с ним, а потому и предлагает им за всякой совместной трапезой при виде хлеба и вина вспоминать о нём а также о том, что он им ныне говорил. Погруженный в размышление о своей близкой смерти, он мог увидеть в ней искупительную жертву и освящение нового союза между Богом и человечеством, и чтобы дать общине, которую он собирался учредить, живое средоточие, он мог установить, чтобы такая раздача хлеба и вина производилась повторно и торжественно.
Всё это возможно и естественно, но действительно ли всё происходило так, как повествуют евангелисты, это иной вопрос. Хотя умолчание четвертого евангелиста, с нашей точки зрения, не доказывает противного, однако и свидетельство апостола Павла (1 Кор. 11:23–25) не представляется столь доказательным аргументом, как это принято думать. Павел передает то предание об установлении вечери (евхаристии), какое он нашел в общине при своем вступлении в нее, но трудно указать, сколько в этом предании сохранилось черт первоначальной вечери и сколько новых черт привнесено позднее из христианского обычая. Если Иисус в последнюю вечерю, согласно праздничному обычаю евреев, раздавал хлеб и вино и при этом лишь указал на грозящую ему насильственную смерть и если потом в общине установился обычай раздавать хлеб и вино повторно на память о его кончине, то вслед за тем могла явиться мысль о том, что-де сам Иисус велел этот обычай соблюдать («сие творите, как только будете пить» и т.д.). Наконец, когда община, совершая эту трапезу, привыкла видеть в хлебе и вине тело и кровь Христа, а в крови Христа — кровь Нового завета, тогда явилась мысль о том, что-де сам Иисус признал хлеб и вино своим телом и кровью, и впоследствии могли уверовать в это даже те, кто сам участвовал — как и апостолы — в последней вечере Иисуса. Но обычай повторного устройства вечери мог, естественно, установиться у ранних христиан помимо повеления Иисуса, благодаря ежегодно совершаемой пасхальной трапезе, и, в особенности, благодаря священным трапезам ессеев, которые устраивались еженедельно, а с особенной торжественностью — по прошествии каждых семи недель. Различие лишь в том, что вместо хлеба и воды, которую ессеи употребляли на своих трапезах, христиане, подражая пасхальному ритуалу, стали употреблять хлеб и вино.
Из происшествия у горы Елеонской, которое, по словам евангелистов, имело место вслед за последней вечерей (Мф. гл. 24; Мк. гл. 14; Лк. гл. 22; Ин. гл. 18), исторически достоверно, по-видимому, то, что Иисус был взят под стражу служителями иудейского синедриона под предводительством предателя-ученика, и Иисус при этом не оказал серьезного сопротивления. Напротив, то, что в синоптических рассказах предшествует аресту: так называемая душевная борьба и три моления Иисуса (у Матфея и Марка), появление ангела и кровавый пот (у Луки), во всяком случае, представляется сильно приукрашенным мифом. Но общее указание евангелистов на то, что Иисус чувствовал в тот вечер страх перед грядущими страданиями и смертью и только после сильной внутренней борьбы преодолел свое малодушие, исходит из предположения, будто он знал заранее, что ему предстояло в ближайшие часы. Такое предположение вряд ли допустимо, ибо евангелисты считают это предвидение сверхъестественным, каким мы его считать не можем, а предвидение естественное едва ли было столь определенно, чтобы вызвать душевное волнение ровно за час до осуществления предчувствий. Исторически достоверным можно считать разве только то, что в последние минуты мысль о предстоящей казни всё неотвязчивее подступала к Иисусу, ужас этой мысли всё более и более омрачал его душу, и ему пришлось собрать все свои нравственные силы и вновь погрузиться в сознание отчей любви Бога и своего высокого призвания, чтобы сохранить спокойствие и покорность Богу перед лицом надвигающихся испытаний.
В последующем рассказе о допросе и осуждении Иисуса (Мф. 26:57–27:30; Мк. 14:53–15:19; Лк. 22:54–23:25; Ин. 18:12–19:16) все евангелисты сходятся друг с другом в том, что Иисус сначала был допрошен и осужден иудейскими властями, а затем был отведен к римскому прокуратору, который должен был утвердить смертный приговор и привести его в исполнение; но прокуратор не сразу убедился в виновности подсудимого Иисуса и после нескольких попыток спасти его отдал приказ казнить его лишь под давлением настойчивых требований иудеев. По словам первых двух евангелистов, иудейский трибунал на основании ложных показаний свидетелей признал Иисуса виновным в том, что тот собирался разрушить храм Божий и в три дня вновь построить его, или, как мы пояснили выше, обвинил его в попытке изменить существующую иудейскую религию. Такое обвинение было очевидно ложно, поскольку Иисусу приписывалось намерение осуществить свой план насильственным путем, но оно было небезосновательно, поскольку речь шла о желании Иисуса изменить религиозную систему иудеев. После того его спросили, выдавал ли он себя за Мессию, и его утвердительный ответ с ссылкой на псалом 10 и главу 7 Книги Даниила был сочтен за богохульство и преступление, наказуемое смертью. Перед римским прокуратором иудейские власти, по единогласному свидетельству евангелистов, подчеркнули политический момент в инкриминируемом преступлении — представление о Мессии как царе иудейском, чтобы представить Иисуса мятежником, подстрекающим народ к восстанию против римской власти, и это им удалось, хотя и не без труда, так как Пилат не усматривал в Иисусе политически опасного человека. Во всём этом эпизоде нет ничего исторически неправдоподобного, однако следует заметить, что сопротивление Пилата евангелисты слишком подчеркивают, чтобы оттенить невинность Иисуса и непримиримую злобу иудеев; поэтому весь этот эпизод, как и рассказ о нём евангелистов, нам придется разобрать впоследствии подробнее.
В рассказе евангелистов о распятии Иисуса мы тоже игнорируем такие детали и черты (Мф. 27:31 и сл.; Мк. 15:20 и сл.; Лк. 23:26 и сл.; Ин. 19:16 и сл.), которые имеют целью показать, что и природа, и человечество, и завеса храма, и Священное Писание свидетельствуют о невинности распятого и о виновности его убийц. Мы, в свою очередь, считаемся лишь с тем фактом, что Иисус был пригвожден к кресту и снят с него, как всем казалось, мертвым. При рассмотрении вопроса о реальности этой смерти всего важнее установить, как долго Иисус провисел на кресте до и после видимой кончины своей. Распятие на кресте при небольшой потери крови от гвоздевых ран не влекло за собою скорой смерти; казнь эта именно тем и была мучительна, что смерть при ней наступала медленно. Стало быть, чем дольше Иисус провисел на кресте живым, тем вероятнее то, что действительная смерть у него наступила с исчезновением явных признаков жизни, и чем дольше он после этого провисел на кресте, тем несомненнее смерть мнимая могла перейти в действительную смерть. Но если он уже по прошествии немногих часов показался мертвым и был тотчас снят с креста, то можно допустить, что он просто впал в обморочное состояние, от которого впоследствии он мог еще оправиться. По словам Матфея (27:45 и Луки (23:44), Иисус провисел живым на кресте немногим более трех часов, ибо, рассказав о разных происшествиях, случившихся, пока Иисус был на кресте, означенные евангелисты заявляют, что в шестом часу (то есть в 12 часов дня) наступила по всей земле тьма, продолжавшаяся до девятого часа (то есть до 3 часов пополудни), после чего Иисус испустил дух. По словам Марка (15:25), Иисус был распят в третьем часу (то есть 9 часов утра) и, следовательно, провисел шесть часов живым на кресте; напротив, по словам Иоанна (19:14), приговор Пилатом был произнесен в шестом часу (то есть в полдень), когда, по свидетельству синоптиков, солнце уже померкло над распятым Иисусом. Предположим, что некоторое время ушло на отвод Иисуса к месту казни и на процесс распятия, и примем во внимание то, что еще до наступления следующего дня, то есть, по еврейскому времяисчислению, до шестого часа вечера, Иосиф Аримафейский выпросил у прокуратора труп Иисуса и снял его с креста; тогда оказывается, что Иисус пробыл на кресте максимум два-три часа до наступления смерти, и, вероятно, еще меньше времени после своей кончины.
По свидетельству Марка (15:44), Пилат удивился, что так рано наступила смерть Иисуса, но от дежурного сотника узнал, что Иисус действительно скончался. По словам Иоанна (19:31–34), Пилат по просьбе иудеев послал воинов ускорить смерть всех трех распятых, перебив у них голени, чтобы успеть снять их с крестов еще до наступления следующего праздничного дня, субботы; но вместо того один из воинов, увидев Иисуса мертвым, не перебил ему голени, а пронзил ему копьем ребра, после чего истекла кровь и вода. Этот удар копьем приводится обыкновенно как доказательство действительной кончины Иисуса; однако то, что последовало за этим ударом копья, представляется нам невозможным, да и сам эпизод поранения копьем рассказан только в четвертом евангелии и так сдобрен причудливым пророчески-мистическим прагматизмом, что не может считаться фактом историческим и потому вместе с другими неисторическими элементами данной части евангельского повествования будет нами рассмотрен впоследствии. Доказательство реальности смерти Иисуса, каковым, очевидно, не может служить указание на факт казни, сводится к отсутствию убедительных доказательств его воскресения: если действительно умершим следует признавать того, о дальнейшей жизни которого не имеется никаких исторических сведений, то смерть Иисуса на кресте следует считать реальной.
Часто ставился и обсуждался вопрос о том, были ли пригвождены только руки или также и ноги распятого, но этот вопрос непосредственного отношения к реальности кончины Иисуса не имеет. Возможность мнимой смерти не исключается пригвождением ног, так как оно не влечет за собой обширного кровоизлияния. Но Иисус не мог бы уже в первый день своего воскресения совершить естественно те переходы, о которых повествуют евангелия: переход от могилы в город, потом оттуда в селение Эммаус, отстоявшее в трех часах пути от города, затем вечером обратно в город и вскоре после того в Галилею, если бы он имел и на ногах гноящиеся и болезненные раны. Этот вопрос вообще и разрешение его в смысле пригвождения одних рук Иисуса в частности представляют крупный интерес для той теологии, которая считает воскресение Иисуса естественным пробуждением мнимоумершего, то есть в наше время не только для немногих явных, но и для многих тайных и замаскированных рационалистов; но нам, при нашей точке зрения, нет никакой нужды становиться на чью-либо сторону, что же касается евангелистов, то по этому вопросу первые два евангелия не сообщают ничего; у Луки (24:39) воскресший, для доказательства того, что он действительно Иисус, а не бесплотный призрак, предлагает ученикам осмотреть его руки и ноги и осязать их; в этом случае невольно начинаешь думать, что язвы от гвоздей имелись у Иисуса не только на руках, но и на ногах. Наконец, Иоанн упоминает лишь о ране в боку и о язвах от гвоздей на руках Иисуса и тем наводит нас на мысль о том, что у Иисуса были пригвождены только руки. Из современных Иисусу писателей, Иосиф Флавий ничего не говорит по этому вопросу, хотя в своей истории иудейской войны он часто упоминает о распятиях. Отцы церкви, например Юстин, Тертуллиан, также еще видавшие распятых, утверждают, что ноги Иисуса тоже были пригвождены, но мы не знаем, потому ли они говорят так, что это было явлением обычным при распятии, или потому, что хотели показать, что изречение псалма (21:17) — «пронзили руки мои и ноги мои» также исполнилось на Иисусе. Наконец, известное замечание Плавта о двукратном пригвождении ног и рук[161] иные авторы истолковывают в том смысле, что усиление наказания состояло будто не в прободении каждой конечности двумя гвоздями вместо одного, а в пригвождении не только обеих рук, что было обычным явлением, но, в порядке исключения, также и обеих ног. Взвесив все эти данные, можно было бы признать, что ноги Иисуса тоже были пригвождены, но за отсутствием вполне бесспорных доказательств вопрос этот должен остаться открытым.
Что Иисус после снятия с креста был погребен, об этом уже во времена апостола Павла свидетельствовало христианское предание (1 Кор. 15:4), которое в данном случае представляется исторически правдоподобным. По римскому обычаю, распятых оставляли висеть до тех пор, пока они не уничтожались от ненастья, птиц и тления; а по обычаю еврейскому, их снимали до наступления вечера и зарывали на неосвященном кладбище; однако римский закон разрешал передавать тела казненных родственникам и друзьям, когда они о том просили. Евангелисты ничего не говорят о том, чтобы сами ученики Иисуса просили власть выдать им его тело, но они сообщают, что об этом позаботился человек, не состоявший в близких отношениях к Иисусу, богач и член совета Иосиф из Аримафеи. Впрочем, сообщения евангелистов о погребении Иисуса, равно как и замечание Матфея о страже, поставленной у гроба Иисуса, возбуждают многие сомнения и потому будут рассмотрены впоследствии.
§46. Воскресение. Недостаточность евангельских повествований
По единодушному свидетельству евангелистов, Иисус, погребенный в пятницу вечером, пролежал субботу в гробу и затем воскрес из мертвых в воскресенье утром (Мф. 28:1; Мк. 16:1; Лк. 24:1; Ин. 20:1). Но сообщения о том, чтобы кто-нибудь сам видел это происшествие, нет ни в одном евангелии. По словам Матфея, у гроба стояла стража, но ослепленные сиянием сошедшего с небес ангела стражники пали, как мертвые, и, следовательно, тоже не видали, как ангел отвалил камень и вывел Иисуса из гроба. Но вслед за тем, по сообщению всех евангелистов, к гробу являются женщины и, найдя камень отваленным, узнают от ангела (или ангелов) о воскресении Иисуса, что вскоре подтверждается явлением самого воскресшего. Итак, мы подошли к тому критическому моменту, когда в свете евангельских свидетельств о чудесном воскресении Иисуса нам приходится либо признать несостоятельность естественноисторического взгляда на жизнь Иисуса и, следовательно, отречься от всего высказанного выше и от предпринятого нами исследования, либо объяснить содержание означенных рассказов, исключая чудо, то есть объяснить возникновение самой веры в воскресение Иисуса. Вопрос этот непосредственно затрагивает жизненный нерв всего христианства, и потому понятна не только чуткость верующих христиан ко всякому свободно высказанному по этому вопросу мнению, но и чувствительные последствия, которые такое вольное слово может навлечь на того, кто его высказал. Однако чем важнее вопрос для всего миропонимания христиан, тем более необходимо, чтобы исследователь высказывался о нём вполне определенно, ясно и откровенно, отрешаясь от посторонних соображений.
Вполне естественно, что обычные богословы, не окончательно погрязшие в догматизме, вышеозначенным евангельским рассказом пользуются для того, чтобы показать свое уменье — говоря много, ничего не сказать, или сказать не то, что содержится в их словах. Вполне естественно, что люди типа Газе фразерствуют по этому случаю, чтобы не сказать открыто, что они считают смерть Иисуса только мнимой смертью, а такие, как Эвальд, стараются под грудой высокопарных слов скрыть ту мысль, что в этом кардинальном вопросе они солидарны с ненавистным автором критического исследования жизни Иисуса. Однако даже Баур находил, что обсуждение воскресения Иисуса выходит за пределы исторического исследования, и следовательно, он тоже уклонился от разъяснения щекотливого вопроса, хотя бы формального. К тому же и выражается он так, что можно подумать, будто исторически нельзя доказать, да и не дело историка доказывать, было ли воскресение Иисуса чудесным или естественным явлением реального мира или только фактом веры его учеников. Тем не менее Баур был убежден, что воскресение Иисуса ни в коем случае и смысле не было реальным явлением, а отсюда само собою вытекало, что оно было только фактом веры. Нам возразят, что Баур в данном случае рассуждает не как историк, а как философ; но такое возражение софистично и несправедливо, ибо и с чисто исторической точки зрения Баур должен был признать, что новозаветные рассказы о воскресении Иисуса недостаточны, чтобы доказать реальность воскресения распятого, а поскольку философия необходима и историку, чтобы и в данном, и в аналогичных случаях отвергать чудо, постольку и сам Баур пользовался ею как историк. Совсем иначе, и притом как истый историк, рассуждает Баур, когда без обиняков заявляет, что необходимым историческим предположением для всего последующего является не столько фактическая реальность воскресения Иисуса, сколько вера в это воскресение. Это — превосходная отповедь тем апологетам, которые стараются уверить всех, что без фактического воскресения Иисуса не могла бы возникнуть и христианская община. Нет! — возражает на это совершенно правильно историк: необходимо признать лишь то, что сами ученики Иисуса твердо верили в его воскресение, и этого вполне достаточно для объяснения их дальнейших выступлений и действий; на чём именно утверждалась эта вера, в чём состоит фактический момент воскресения Иисуса — вопрос открытый, на него исследователь может ответить как ему угодно, нисколько этим не затрудняя объяснения происхождения христианства. Возникновение указанной веры у учеников, разумеется, вполне можно объяснить, если взглянуть на воскресение Иисуса как на чудесное явление внешнего характера и подобно евангелистам предположить, что Иисус действительно был мертв, но затем Господь Бог актом своего всемогущества снова воскресил его, или, точнее, даровал ему некоторую новую и высшую форму бытия, при которой его могли еще телесно видеть ученики на земле, но сам он был уже бессмертен и вскоре был вознесен на небо, дабы соприсутствовать Богу-Отцу. Но для нас такой взгляд неприемлем по многим основаниям. Даже независимо от самого вопроса о возможности чудес вообще следует заметить, что признать подобное неслыханное чудо можно было бы лишь в случае, если оно подтверждается таким свидетельством, лживость которого более немыслима, чем реальная действительность свидетельствуемого события. Стало быть, подобное свидетельство должно прежде всего исходить от самих очевидцев события, и рассказ о нём должен быть повествованием таких лиц, в присутствии которых событие случилось. Но выше нами уже было установлено, что ни одно из наших евангелий не составлено апостолом или иным очевидцем жизни Иисуса. Единственное сочинение в Новом завете, которое по нашему предположению действительно было составлено одним из 12 апостолов, — Откровение Иоанна — не дает нам ничего, кроме общего сказания о том, что Иисус был мертв, а затем ожил и стал бессмертен (1:5, 18; 2:8).
Первое сколько-нибудь подробное сообщение о том, как появилась вера в воскресение Иисуса среди его учеников, мы находим у апостола Павла, однако сам он не был очевидцем тех «явлений», на которых утверждалась эта вера, о них он даже и по собственному признанию сообщает лишь со слов других. Он говорит (1 Кор. 15:3–7), что, как ему передано от других, Иисус умер, был погребен и воскрес, согласно Писанию, в третий день, и что он явился Кифе, потом 12 апостолам, затем сразу более чем 500 братиям, наконец, Иакову и также всем апостолам. Мы не сомневаемся, что апостол Павел слышал это от Петра, Иакова и, может быть, от других учеников (Гал. 1:18; 2:9), и что все они, а также 500 братий, были уверены, что видели вновь живым умершего Иисуса. Но так как речь идет здесь о вере в нечто совершенно неслыханное, позволительно спросить: каким образом все эти лица убедились, что их видение не было самообманом и иллюзией? На такой вопрос нам свидетель ничего не отвечает. Он говорит просто, что воскресший Иисус «явился» им, то есть они верили, что видят его явственно, но как дошли до этой веры и по какому основанию они сочли это видение действительным явлением своего умершего учителя, об этом Павел ничего не сообщает. Весьма сомнительно, чтобы он и сам задавался подобными вопросами. Ведь и ему явился Христос (о чём придется ниже говорить подробнее), и это видение его настолько укрепило в вере и настолько удовлетворило и вразумило его, что только по прошествии трех лет он из Дамаска, вблизи которого он имел это видение, отправился в Иерусалим, чтобы подробнее осведомиться об Иисусе и о посмертных явлениях его другим ученикам (Гал. 1:18). Необходимо допустить, что о таких явлениях он слыхал и прежде, когда он сам еще преследовал приверженцев новоявленного Христа, но, разумеется, в то время он был слишком возбужден своею страстью, чтобы спокойно разбираться в фактической реальности слухов. Тот факт, что он не разбирался в этом и потом, после своего обращения в христианство, и что в течение трех лет довольствовался тем, что он сам увидел и услыхал, ясно показывает, как субъективен был весь происшедший с ним переворот и как мало он был склонен к историческому исследованию объективных фактов. Недаром он как бы кичится тем (Гал. 1:16–17), что после упомянутого явления Иисуса он не пошел тотчас в Иерусалим, посоветоваться с апостолами, и что, придя в Иерусалим, он, кроме Петра и Иакова, брата Господня, ни с кем не говорил. Оба апостола, вероятно, рассказали ему о явлениях, которые они сподобились увидеть; возможно, что и кто-либо из 500 братий тоже сообщил ему о том, что они видали, но проверять эти рассказы, дознаваться о степени их основательности или разбираться в противоречиях он не стал, да и нельзя было этого требовать от человека, который вполне уверовал в реальность собственного видения и в совершенную достаточность подобных субъективных убеждений.
Стало быть, во-первых, мы не располагаем никакими показаниями свидетеля-очевидца о явлениях, на которых первоначально утвердилась вера в воскресение Иисуса; во-вторых, такой свидетель, как апостол Павел, который имел очевидную возможность черпать свои сообщения из первых рук, ограничивается констатацией того факта, что опрошенные им очевидцы твердо верили в то, что им явился воскресший Иисус. За более подробными сведениями приходится обращаться к евангелистам, но они не принадлежат к числу свидетелей, которые, подобно Павлу, могли черпать свои сообщения из первых рук. Следовательно, их показания и подавно не имеют того веса, который необходим, чтобы невероятное представить правдоподобным. К тому же и сами рассказы евангелистов часто противоречат и показаниям апостола Павла, и друг другу. Например, апостол Павел ничего не сообщает о явлении Иисуса женщинам, о которых все евангелисты, за исключением Луки (Мф. 28:9; Мк. 16:9; Ин. 20:14), сообщают, что Иисус явился им ранее других учеников. Но это обстоятельство, быть может, объясняется тем, что Павел хотел ссылаться только на показания мужчин, подобно тому, как автор приложения к четвертому евангелию тоже не упоминает о явлении Иисуса Марии Магдалине. Первым (мужчиной, если угодно), кому явился Иисус, Лука (23:34), как и Павел, считает Петра; но о явлении Петру ничего не сообщают ни Матфей, ни Марк, ни Иоанн, они повествуют лишь о явлении Христа всем апостолам (Мф. 28:16–17; Мк. 16:14; Ин. 20:19, 26), которое Павел отличает от явления Иисуса Петру. Наоборот, о явлении Христа двум шедшим в селение ученикам, о котором сообщает Лука (24:13–15) и Марк (16:12), Павел ничего не говорит, вероятно, потому, что это явление казалось ему маловажным сравнительно с явлением апостолам и 500 братиям. Но о последнем явлении евангелисты тоже ничего не сообщают; не говорят они и об особом явлении Иисуса Иакову, о чём упоминается у Павла, а также и в Евангелии Евреев. Наконец, о вторичном явлении Иисуса всем апостолам, которым Павел заключает свое перечисление, ничего не говорится в первых трех евангелиях, а по словам Иоанна, при первом явлении Иисуса присутствовали всего лишь 10 апостолов (Фома тогда находился в отлучке), а через восемь дней Иисус снова явился уже всем оставшимся 11 апостолам. Наконец, во введении к Деяниям апостолов говорится (1:2–3), что воскресший Иисус являлся на земле апостолам в продолжение 40 Дней; стало быть, за это время Иисус мог являться много раз другим лицам и в других местах; но такое предположение противоречит прежним сообщениям того же автора, который в евангелии говорит, что последнее явление воскресшего Иисуса имело место в самый день его воскресения.
Если пока еще и можно было полагать, что ни Павел, ни евангелисты не ставили себе задачей перечислять все явления воскресшего Иисуса, то подобное предположение разбивается о показание четвертого евангелиста, или автора 21-й главы четвертого евангелия, который говорил, что Иисус по воскресении своем является (по меньшей мере) трижды ученикам своим (21:14), а именно: в первый раз является он 11 апостолам (20:19) (отсутствие Фомы мы игнорируем, как момент несущественный), что у Павла считается вторым явлением; во второй раз он явился всей коллегии апостолов в полном ее составе (20:26), что у Павла считается пятым явлением; наконец, в третий раз он явился семи апостолам у моря Галилейского (21:1), о чём ничего не сообщают ни Павел, ни кто-либо из прочих евангелистов. Явления Петру и Иакову, или первое и четвертое явления по Павлу, были, может быть, опущены евангелистом Иоанном потому, что в этих случаях Иисус являлся лишь единичным апостолам; но почему евангелист умолчал о том, что Иисус явился 500 братиям, среди которых, вероятно, были и 11 апостолов, и почему он счел необходимым отметить явление Иисуса семи апостолам у моря Галилейского? Сам евангелист не говорит, что это явление (у моря Галилейского) было последним, а те речи, которые при этом произнес Иисус, по свидетельству евангелиста, тоже не исключают возможности дальнейших его явлений. Но у всех прочих евангелистов последняя беседа Иисуса с учениками, отмечаемая в евангельском рассказе, видимо, считается также и последним его явлением вообще, ибо в ней Иисус преподает ученикам свои последние распоряжения и обетования и вслед за тем, по свидетельству Марка и Луки, возносится на небо. Но о вознесении на небо Иисуса ничего не говорят ни Матфей, ни Иоанн; но, по словам Матфея, в последний раз явился Иисус ученикам в Галилее, а по словам Луки и Марка — в самом Иерусалиме или в окрестностях его. Стало быть, какое-нибудь из этих сообщений, без сомнения, ошибочно.
Впрочем, противоречивостью топографических указаний отмечена не только последняя встреча Иисуса с учениками, но также вся история явлений воскресшего Христа. Апостол Павел точно не указывает места упомянутых им явлений Иисуса. По сообщению Матфея, Иисус является обеим Мариям в утро воскресения по пути от гроба в город, то есть около Иерусалима, через них он призывает учеников явиться в Галилею, как он уже делал это при жизни (26:32) и как об этом только что говорил ангел (28:7), и там, в Галилее, он является им в первый и последний раз (28:9, 16–17). Напротив, по словам Луки, Иисус в день воскресения своего является вблизи Иерусалима двум шедшим в Эммаус ученикам, потом Петру и вслед за тем — 11 апостолам, прибывшим с ними, вероятно, братьям Иисуса и женщинам (Деян. 1:14), в самом Иерусалиме, и, кроме того, наказывает им не отлучаться из города, пока на них не сойдет сила свыше, что, по словам автора Деяний апостолов, произошло лишь в день пятидесятницы, то есть семь недель спустя (Лк. 2:49; Деян. 1:4). Марк пытается сочетать обе версии, говоря, что сначала ангел через женщин направил учеников в Галилею, где они рассчитывали увидеть Иисуса, но затем, неизвестно почему, Иисус является им в Иерусалиме и его окрестностях (16:7). Но такое сочетание противоречивых показаний недопустимо. Если прав Лука, который сообщает, что Иисус в день воскресения велел ученикам оставаться в Иерусалиме, то, стало быть, Иисус не мог в то же утро посылать их в Галилею, как говорит Матфей; сами они тоже не могли пойти туда вопреки его приказу, и, следовательно, Иисус не мог им там явиться, как сообщает Матфей и автор добавочной главы в Евангелии от Иоанна. Наоборот, если Иисус обещал в Галилее увидеться с учениками, тогда непонятно, отчего он им явился в тот же день в Иерусалиме. Следовательно, если Матфей прав, то отпадают все явления ученикам в Иерусалиме и вблизи него, о которых сообщают остальные евангелисты. Кроме того, мы замечаем ряд второстепенных противоречий. Например, по сообщению Луки (24:1–10), Мария Магдалина, мать Иакова, Мария, Иоанна и другие женщины, пришедшие из Галилеи с Иисусом, придя к его гробу, находят там двух ангелов и по возвращении своем рассказывают о слышанном и виденном апостолам и всем остальным. По словам Марка (16:1–8), только три женщины, и в том числе Саломия вместо Иоанны, направляются ко гробу, видят там лишь одного ангела и затем из страха никому о виденном не рассказывают. Далее Матфей сообщает (28:1–9), что только две женщины (обе Марии) увидели ангела, который сидел на камне, от гроба отваленном, и затем на обратном пути они встречают самого Иисуса. Наконец, по словам Иоанна (20:1–14), одна только Мария Магдалина отправилась ко гробу Иисуса и увидела в свой первый приход пустой гроб, а затем во второй приход — двух ангелов, сидящих у гроба, и, наконец, заметила самого Иисуса позади себя. Далее Матфей и Марк ничего не сообщают о том, что передает Лука (24:12), — будто Петр, выслушав рассказ женщин, тоже пошел ко гробу и нашел его пустым, тогда как, по словам Иоанна (20:2), вместе с Петром пошел еще один ученик. Впрочем, ни выше отмеченным, ни многим другим второстепенным противоречиям мы особого значения не придаем, ибо и без того ясно, что евангельские рассказы о явлениях воскресшего Иисуса не имеют характера доказательных свидетельств и не могут заставить нас признать невероятный факт и отказаться от предположения, что все эти рассказы евангелистов покоятся на заблуждении.
На этих евангельских рассказах о явлениях воскресшего Иисуса мы останавливались лишь для того, чтобы показать, какими средствами располагали те, которым он являлся, чтобы убедиться в реальности «явлений». Мы замечаем, что во всех этих рассказах сильно подчеркивается тот факт, что все 11 апостолов отнюдь не спешили верить явлениям Христа. Это хотя и роняло престиж их беззаветной веры в Иисуса, но могло вселить вящую уверенность в тех, которым приходилось веровать по силе их свидетельства. Так, по сообщению Луки, апостолы не поверили рассказу женщин о явлении и благовестии ангелов и сочли его пустой болтовней (24:11); по словам Марка, апостолы не поверили также и ходившим в селение ученикам, которые утверждали, что сами видели Иисуса (16:12–13); а по свидетельству Матфея, даже при последнем явлении Иисуса в Галилее из апостолов «иные усомнились» (28:17), что, впрочем, и неудивительно, если Иисус и им явился в «ином образе», как, по словам Марка, он явился шедшим в селение ученикам (16:12). Чем же поборол Иисус сомнения своих учеников и заставил их поверить ему? По свидетельству Матфея и Марка, только тем, что являлся им, близко к ним подходил и говорил с ними. Более убедительные доводы он вынужден был представлять в версии Луки, а самого недоверчивого скептика встречает у Иоанна. У Луки оба эммаусских странника явились в Иерусалим к 11 апостолам и, прежде чем успели рассказать о своей встрече с Иисусом, узнали от них, что Иисус воистину воскрес и являлся самому Петру, и в это время сам Иисус вдруг появился среди них. Несмотря на весть о воскресении Иисуса, они испугались и подумали, что «видят духа» (призрак), тогда Иисус показал им свои руки и ноги и велел им их ощупать, чтобы убедиться, что он имеет «плоть и кости» и, стало быть, он не призрак, а когда они «от радости еще не верили и дивились», он спросил еще пищи и тут же «перед ними» стал есть печеную рыбу и сотовый мед (24:36–42). Казалось бы, что по этим признакам можно было прийти к заключению, что Иисус естественным путем воскрес и ожил, но тот же Лука сообщает (24:31), что, явившись эммаусским странникам, Иисус, поговорив с ними за трапезой, вдруг «стал невидим для них», а затем он столь же внезапно очутился среди учеников в комнате апостолов, что вовсе не свидетельствует о естественном приходе Иисуса, ибо Лука в данном случае, без сомнения, подразумевает то, что было высказано прямо Иоанном, а именно что Иисус пришел и встал посреди комнаты, когда двери дома были заперты (20:19, 26). При этом он в первое свое появление только показал им свои руки и свой бок, а во второе появление велел «неверующему» Фоме вложить персты и руку в раны свои, а в приложении к этому (четвертому) евангелию еще сказано, что Иисус ел с учениками печеную рыбу и хлеб (21:5, 9, 12).
Если действительно правда то, что Иисус ел и был осязаем, то, стало быть, ученикам являлся естественно-живой и плотью облеченный человек; если правда то, что они видели и осязали раны этого человека, то, стало быть, он был распятый и умерший на кресте Иисус; но если он являлся при запертых дверях, то, стало быть, естественная плоть и жизнь этого человека обладали каким-то особым и сверхъестественным свойством. Но в этом-то и заключается недопустимое и нелепое противоречие. Всякое осязаемое тело обладает плотностью и силой сопротивления и не может проникать через запертые двери, не утратив плотности и силы сопротивления; с другой стороны, тело, свободно проникающее через дверные доски, не может иметь ни костей, ни желудка, переваривающего хлеб и печеную рыбу. Это — признаки, которые не могут одновременно совмещаться в действительном человеке; такое совмещение и сочетание может произвести только фантазия и воображение. Таким образом, евангельское свидетельство о воскресении Иисуса не только не является убедительным, но само себя опровергает; с другой стороны, оно есть лишь продукт стремления создать твердую опору для догматического представления, а где нет этого стремления, там и евангельское свидетельство теряет всякое значение.
§47. Воскресение Иисуса не есть естественное оживание
Итак, в воскресении Иисуса мы не можем видеть чудесное явление внешнего мира, потому что евангельские свидетельства об этом явлении, служащие для первоначального обоснования веры в воскресение, отнюдь не настолько доказательны, чтобы заставить нас поверить в это чудо; во-первых, они исходят не от очевидцев, во-вторых, они не согласуются между собою и, в-третьих, они обрисовывают существо и действия воскресшего Иисуса противоречивыми чертами.
Традиционное церковное представление разрешает вопрос об этих противоречиях просто указанием на чудо, которое по существу своему может совмещать в себе черты и элементы, с обычной человеческой точки зрения кажущиеся противоречивыми; напротив, представители другого взгляда стараются истолковать евангельские рассказы так, чтобы в них не оказывалось отмеченных противоречий: на воскресение Иисуса они глядят как на естественный процесс и говорят, что после воскресения он находился в том же состоянии, как прежде. В рассказах евангелистов о явлениях воскресшего Иисуса они отмечают лишь такие черты, которые свидетельствуют о естественной телесности Иисуса (например, раны, осязаемость, еду, в смысле способности есть, и потребность в пище), и, наоборот, такие черты и свойства, которые указывают на призрачный характер воскресшего Иисуса, они стараются устранить своеобразным толкованием. Они рассуждают так: то, что ученики испугались при появлении Иисуса, как о том неоднократно сообщается в евангелиях (Лк. 24:37; Ин. 21:12), вполне понятно, ибо они считали его действительно умершим и потому вообразили, что видят тень его, вышедшую из преисподней. Что странники эммаусские так долго его не узнавали, что Мария Магдалина приняла его за садовника, это объясняется в первом случае тем, что черты лица его были искажены от перенесенных им страданий, или тем, что он вообще не имел резко выраженных черт лица, а во втором случае тем, что, вышедши нагим из гроба, он облачился в платье ближайшего садовника, что он при запертых дверях внезапно появлялся на собраниях учеников, это (как полагает даже Шлейермахер) объясняется тем, что ему двери открыли раньше. Что тело Иисуса по выходе из гроба не было чудесно преображено, а было покрыто тяжкими ранами и вообще было телом истощенного и выздоравливающего человека, это видно также из прогрессивного улучшения его самочувствия, ибо в день воскресения он еще говорит Марии Магдалине: «не прикасайся ко мне» (Ин. 20:17), а восемь дней спустя, когда раны его успели уже заметно зажить, он сам предлагает дотронуться до них Фоме; в день воскресения утром он еще старается не отходить далеко от могилы, а после полудня он уже настолько окреп, что решается пройти в селение Эммаус, лежащее в трех часах пути от Иерусалима, а затем, несколько дней спустя, отправляется даже в Галилею.
Относительно самого воскресения Иисуса сторонники означенного взгляда говорят, что сверхъестественным оно представляется лишь ученикам и евангелистам, но не является таковым в действительности. Неудивительно, что взволнованные женщины приняли за ангелов белый саван в пустом гробу или неизвестных, одетых в белое мужчин, а для того, чтобы отвалить от гроба камень, не нужно было ангелов, это могли случайно или умышленно сделать люди.[162] Наконец, то, что Иисус вышел живым из гроба, после того как камень был отвален, тоже объяснить нетрудно, если принять во внимание все предшествовавшие обстоятельства. Распятие на кресте сопряжено лишь с незначительной потерей крови даже в том случае, если кроме рук пригвождены и ноги, а потому смерть на кресте наступает очень медленно от судорог в растянутых конечностях или от постепенного истощения. А если Иисус, видимо, умершим был снят с креста уже по прошествии шести часов, то можно думать, что предполагаемая смерть его была простым, похожим на смерть оцепенением, от которого снятый с креста Иисус мог вполне оправиться в прохладном могильном склепе, облаченный в пелены с целительными мазями и душистыми травами. По этому случаю принято ссылаться на Иосифа Флавия, который сообщает, что однажды, возвращаясь с воинской разведки, он увидал много распятых еврейских пленников, и в том числе троих знакомых, и упросил Тита освободить их, и, когда их сняли с крестов и стали приводить в чувство, один из них действительно ожил, а двух остальных спасти не удалось[163]. Нельзя сказать, чтобы примером этим подтверждалось данное предположение: если из трех распятых, о которых мы не знаем, сколько времени они провисели на крестах, и которые, вероятно, еще были живы (ведь Иосиф пожелал спасти их), двое даже при заботливом врачебном уходе умерли, а ожил лишь один, то весьма сомнительно, чтобы мог ожить человек, который, как Иисус, был снят с креста без признаков жизни и оставался без врачебного ухода. Разумеется, такое оживание не невозможно, но утверждать, что так именно воскрес Иисус, мы вправе лишь в том случае, если бесспорно докажем, что Иисуса действительно видели после того живым. Но выше мы уже заявляли, что доказать этого нельзя. Насколько сообщение евангелистов о смерти Иисуса ясно, единогласно и последовательно, настолько же отрывисто, противоречиво и неясно у них сообщение о тех фактах, в силу которых его последователи уверовали в его воскресение; им Иисус являлся случайно и внезапно, то здесь то там, то в том то в другом виде, то приходя неведомо откуда, то исчезая неведомо куда, а в целом всё это производит впечатление не объективно восстановленной связной жизни, а субъективного представления, единичных видений, которые вначале, быть может, действительно наблюдались, но, во всяком случае, позднее были приукрашены и разработаны в различных вариантах.
Поэтому нам представляется излишней и ненужной попытка сторонников естественного объяснения устранить из евангельских рассказов о воскресении Иисуса весь элемент чудесного; они намеревались, по-видимому, устранить чудесный элемент из действительного происшествия, но у евангелистов мы находим не рассказ о происшествии или факте, а только описание представления о нём, а из него нам незачем вытравлять элемент чуда. С другой стороны, нет надобности подробно отмечать, как неестественно сторонники «естественного взгляда» толкуют слова евангелистов. Если евангелист повторяет дважды одни и те же слова: «пришел Иисус, и стал посреди», «когда двери были заперты», то это отнюдь не значит, что Иисусу открыли раньше двери; если телесность Иисуса действительно была естественной, то он не мог вдруг «стать невидимым» за трапезой двух учеников в Эммаусе; наконец, ясно также, что мнимое улучшение самочувствия Иисуса также вымысел, так как представлению всех евангелистов о состоянии и телесности воскресшего Иисуса очевидно чуждо всё, что указывало бы на страдание и вообще на человеческие потребности. Притом оказывается, что и помимо упомянутых затруднений сторонникам «естественного взгляда» на воскресение Иисуса не удалось решить главный вопрос — объяснить, как христианская церковь утвердилась и обосновалась на вере в чудесное воскресение Мессии-Иисуса. Существо, полумертвым вышедшее из гроба, хворое, нуждавшееся во врачебной помощи, повязках, укреплении здоровья и заботах и, наконец, всё же изнемогшее под тяжестью страданий, очевидно, не могло бы произвести на учеников то впечатление восторжествовавшего над смертью господина жизни, которым определялась вся их позднейшая деятельность; такое воскресение могло бы только умалить то впечатление, которое Иисус производил на них своей жизнью и смертью, оно в лучшем случае завершилось бы элегическим финалом, но никоим образом не могло бы превратить их печаль в энтузиазм и уважение их к Иисусу обратить в боготворение.
§48. Явление Христа апостолу Павлу
Выше мы показали, что апостол Павел сообщает, по-видимому, со слов очевидцев, о явлениях воскресшего Христа, затем мы обратились к повествованию евангелистов о том же предмете, чтобы дополнить некоторыми подробностями краткое и недосказанное сообщение апостола и решить вопрос: на чём покоилось убеждение очевидцев, что они действительно видели воскресшего Иисуса. Но того, чего искали, мы не нашли. Мы, впрочем, уже знали, что никто из евангелистов не повествует по записям или со слов очевидцев, и хотя их сообщения более подробны, чем рассказ Павла, они противоречат и друг другу, и себе самим, так что руководствоваться ими невозможно и нам снова приходится обратиться к показанию апостола Павла. Присматриваясь ближе к его рассказу, мы находим, что он лишь потому не удовлетворил нас, что мы не дочитали его повесть до конца. Рассказав о явлении Христа Кифе и Иакову, 12 апостолам и 500 братиям, он добавляет: «а после всех явился и мне, как некоему извергу» (1 Кор. 15:8). О своем видении он выражается так же, как и о видениях других, он признаёт все эти видения равноценными, но о своем видении упоминает лишь в конце, как и себя самого он называет последним из апостолов, хотя и равным по достоинству. Стало быть, по мнению Павла, явления Христа старшим ученикам вслед за воскресением ничем не отличались от более позднего явления Христа ему самому. Каково же было это последнее видение?
Об этом явлении, как известно, в Деяниях апостолов имеется подробное троякое сообщение (9:1–30; 22:1–21; 26:4–23), которое повествует о нём как о внешнем чувственном явлении: говорит о небесном свете, который поверг Павла на землю и ослепил его на несколько дней, и о гласе с неба, который произносил внятные слова и был также слышен его спутникам. Но здесь нет речи о тех признаках внешней реальности, какие, согласно третьему и четвертому евангелиям, Иисус являет старшим ученикам, когда дает им себя ощупать и ест у них перед глазами. За исключением слепоты, излеченной Ананией, и наблюдений спутников, весь этот эпизод представляется нам видением, которое сам Павел приписал некоторой внешней причине, но которое в действительности порождено было внутренней причиной. Не со всеми деталями рассказа автора Деяний приходится серьезно считаться — в этом нас убеждает сравнение первого, выше цитированного рассказа с двумя другими его версиями в речах апостола Павла; оказывается, и сам автор не стремился к точности и не тревожился, если в рассказах его встречались уклонения и разногласия. Например, в одном случае он, как мы уже сказали, утверждает, что его спутники стояли в онемении, а в другом — что они поверглись вместе с ним на землю; в одном случае он говорит, что все они слышали глас, но никого не видели, а в другом — что они видели свет, но не слыхали голоса того, кто говорил с ним. Мало того, даже речь Иисуса в третьей версии дополняется известным изречением о том, что «трудно … идти против рожна»; сверх того, назначение его апостолом язычников, последовавшее по прежним двум рассказам через Ананию, или при втором видении в Иерусалимском храме, в третьем рассказе включено в речь Иисуса при его первом явлении. Нет никаких оснований полагать, что эти три рассказа в Деяниях апостолов почерпнуты из разных источников, и потому автор должен был бы сам заметить и исправить разногласие, а если он того не сделал и если он, не просмотрев свой прежний рассказ, снова изложил его произвольно, то это нам показывает, как беззаботны были новозаветные писатели относительно подробностей, которыми так дорожит писатель, стремящийся к строгой исторической правде.
Впрочем, рассказчик в Деяниях даже и при большей аккуратности и точности повествования всё же не является ни очевидцем, ни лицом, почерпнувшим свои сведения из рассказов очевидцев. Если автором всего сочинения считать того, кто в разных местах Деяний говорит о самом себе и об апостоле Павле «мы», «нас», то всё же при происшествии, случившемся вблизи Дамаска, он еще не сопутствовал апостолу, с которым он сблизился значительно позднее, в Троаде, во время его второго миссионерского путешествия (Деян. 16:10). Но выше мы сказали, что и это предположение об авторе Деяний ошибочно: он только местами вставлял переработанную им запись временного спутника апостола об их совместных странствиях, и мы поэтому не вправе считать автора-рассказчика очевидцем также и в тех пунктах и частях рассказа, в которых не встречается слово «мы», а именно в той части книги, где приведены оба рассказа Павла о его обращении, первый — иудеям Иерусалима, а второй — Агриппе и Фесту в Кесарии. Слово «мы» встречается в последний раз в главе 21 (18), при посещении Павлом Иакова, и затем опять появляется в главе 27 (1), где речь идет об отплытии апостола в Италию. Следовательно, внешним образом нас ничто не заставляет видеть в этих речах рассказ человека, который сам слыхал их, и содержащийся в них собственный рассказ Павла о том, как совершилось его обращение; а по своему внутреннему характеру рассказ этот, упоминающий о сиянии и падении ниц, о чудесном ослеплении и исцелении, о снах и видениях, так живо напоминает обычные еврейские и древнехристианские легенды о видениях и чудесах и, с другой стороны, так соответствует манере и вкусам автора Деяний и третьего евангелия (например, рассказам о Корнилии и Петре в Деяниях (гл. 1) и о Захарии и ангеле в евангелии Луки (гл. 1), что о явлении Христа Павлу приходится сказать то же самое, что о явлении Иисуса старейшим ученикам: необходимо обратиться не к свидетельствам, почерпнутым из третьих рук, а к собственному свидетельству апостола, тем более что в данном случае оно является рассказом, взятым не из вторых, а из первых рук.
Но тут нам снова приходится пожалеть, что апостол слишком кратко повествует о том, как ему явился Иисус. В приведенном уже месте (1 Кор. 15:8) он замечает о себе лишь то, что воскресший Христос после всех явился и ему. В другом месте он вопрошает: «Не видел ли я Иисуса Христа, Господа нашего?» (1 Кор. 9:1) и без сомнения разумеет то же самое явление. Наконец, в том месте, где он подробнее всего описывает совершившееся с ним превращение (Гал. 1:13–16), он говорит лишь следующее: «Бог… благоволил открыть во мне Сына Своего, чтобы я благовествовал Его язычникам». Все эти изречения в целом нам показывают, что апостол был убежден, что видел Иисуса, а из рассказа автора Деяний явствует, что он слыхал речь Иисуса, или вообразил, что слышит его слова. Слышать речи свыше Павел, вообще говоря, считал себя достойным. Он, видимо, подразумевает не то явление, о котором говорилось у нас выше, а другое, позднейшее, когда в своем Втором послании к коринфянам (12:2) сообщает, что знает человека, который назад тому 14 лет «восхищен был до третьего неба» и слышал «неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать». Но тут же он добавляет, что не он, а Бог знает, был ли тот человек «в теле, или вне тела», и, стало быть, он сознавал, как трудно при подобных явлениях установить фактическое их содержание. С другой стороны, в Послании к галатам он считает происшедшее с ним превращение открытием в нём Сына Божия и, следовательно, сам подчеркивает внутреннюю сущность дела, сам признаёт, что, видя и слыша Христа, он в душе своей проникался истинным познанием его как Сына Божия. Не подлежит сомнению, что он при храме мыслил вознесенного Христа действительно и внешне присутствующим, а само явление в полном смысле объективным явлением. Но в его рассказе нет ничего такого, что помешало бы нам (как о некоторых деталях в рассказе автора Деяний, если отнестись к ним строго исторически) быть иного мнения и взглянуть на это явление, как на чисто субъективный факт его внутренней душевной жизни.
Сам апостол признаётся, что восторженное состояние души, или экстаз, он, вообще, переживал нередко. Во Втором послании к коринфянам он пишет (12:1): «не полезно хвалиться мне, ибо я приду к видениям и откровениям Господним», то есть что видений и откровений он удостаивался часто, причем, в частности, указывает на приведенный выше случай восхищения некоторого человека «до третьего неба». Далее он говорит: «чтоб я не превозносился чрезвычайностью откровений, дано мне жало в плоть, ангел сатаны, удручать меня» (12:7). Это замечание наводит на мысль, что он страдал припадками, быть может эпилепсией; недаром он упоминает о своих немощах, о слабости тела и невзрачном своем облике (2 Кор. 10:10; Гал. 4:13). О повышенной нервности его свидетельствует и то, что он, по собственному признанию (1 Кор. 14:18), больше других членов коринфской общины «говорил языками», то есть говорил восторженные экстатические речи, которых никто не понимал без толковника или переводчика. Откровению свыше приписывает Павел также и намерение отправиться в Иерусалим, чтобы объясниться со старейшими апостолами (Гал. 2:2), при этом можно отчетливо увидеть (по замечанию Баура), как возникали в нём мнимо сверхъестественные настроения. Объясняя, почему он опять отправился в Иерусалим, он кроме ссылки на откровение приводит весьма рациональный мотив: он хотел удостовериться, что «не напрасно ли подвизался» на своем апостольском поприще. Обстоятельства в то время складывались весьма неблагоприятно. Крупные успехи проповеди Павла среди язычников обратили на него внимание первой общины христиан в Иерусалиме; ее смущало то, что в противоположность метрополии иудео-христиан в Антиохии складывался другой центр христиан-язычников. В Антиохию, где подвизался Павел, явились члены Иерусалимской общины и, видимо ссылаясь на апостолов, стоявших во главе этой общины, потребовали, чтобы язычники-прозелиты подчинялись Моисееву закону и, в частности, подвергались обрезанию, если желают вступить в общину мессианского спасения. Но такое требование шло вразрез с убеждениями Павла, а если первоапостолы настаивали на нём, то становился неизбежным раскол, грозивший уничтожить всё то дело, которому он посвятил свою жизнь. Можно себе представить, как сильно это волновало его и как он дни и ночи размышлял об этом, а при таком душевном состоянии неудивительно и то, что намерение поехать в Иерусалим для объяснений с апостолами представилось Павлу откровением свыше или воображаемым наказом от Христа, явившегося ему во сне или наяву.
Теперь перенесемся в то время, которое предшествовало его обращению, и представим себе, как его, «неумеренного ревнителя отеческих преданий» (Гал. 1:14), должны были волновать грозные успехи нарождающегося христианства. Тогда он тоже видел, что самому дорогому и святому для него грозила опасность, что неудержимо надвигалось новое течение, которое развенчивало и отвергало всё то, что ему казалось существенно важным, то есть соблюдение всех иудейских законов и обычаев, и что оно особенно враждебно ополчалось против фарисейской партии, которой он был предан всей своей пылкой душой. Казалось бы, что после таких душевных потрясений Павлу должен был привидеться скорее Моисей или Илия, чем Христос; однако же необходимо обратить внимание и на другую сторону дела. В конечном счете оказалось, что Павел не нашел удовлетворения в своем ревностном искании и отстаивании фарисейской правды, и это уже тогда сказывалось в страстной тревоге и зилотической торопливости его деяний. При своих многочисленных и многообразных столкновениях с людьми, уверовавшими в нового Мессию, вступая с ними в споры как опытный диалектик (Деян. 9:29), а позже врываясь на их собрания, заключая их в темницу и допрашивая на суде, он, вероятно, часто убеждался, что уступает им в двояком отношении. Воскресение Иисуса было фактом, на котором они настаивали и на котором утверждали свою веру, столь резко отличавшуюся от традиционной веры иудеев. Будь Павел саддукеем, он затруднился бы оспорить этот факт, ибо саддукеи вообще не признавали воскресения из мертвых (Деян. 23:8); но он был фарисеем и, следовательно, верил в воскресение, долженствующее произойти при кончине мира, а с точки зрения тогдашнего мышления иудеев можно было допустить и то, что в некоторых исключительных случаях святые праведники могут воскреснуть и раньше. Отрицая воскресение Иисуса, Павел должен был поэтому стоять на том, что Иисус был не святой праведник, а лжеучитель и обманщик. Но в этом именно он и начал сам сомневаться, когда увидел ближе последователей Иисуса. Они были искренни в своей вере и столь же твердо убеждены в том, что Иисус воскрес, как и в том, что живы сами, а с другой стороны, они обнаруживали такую твердость духа, такое миролюбие и радостно-спокойное настроение даже в минуты страданий, что тем посрамляли и обезоруживали своих гонителей с их тревожным и безрадостным усердием. Разве лжеучитель мог обрести таких последователей? Разве обман и лживость могли внушить такое спокойствие и самоуверенность? Итак, с одной стороны, Павел видел, как эта новая секта постепенно умножалась и крепла, несмотря на все гонения и даже именно благодаря гонениям, а с другой стороны, он чувствовал, что гонения не доставляют ему того удовлетворения, которое он замечал в гонимых. Поэтому неудивительно, если в минуты уныния и внутреннего разлада он задавал себе вопрос: кто же, наконец, прав — ты или распятый галилеянин, которому поклоняются эти люди? Дойдя до такой грани, он при своих телесных и душевных задатках легко мог впасть в экстаз и в этом состоянии Христос, гонителем которого он был дотоле, мог ему явиться во всей своей славе, о которой говорили все его последователи, мог указать ему на ложь и тщету всей его деятельности и склонить его к служению ему.
§49. Выводы о возникновении веры в воскресение Иисуса
Мы показали, как следует смотреть на явление Христа, которое побудило апостола Павла перейти от фарисейского иудейства к новой мессианской общине. Если таковы же были те явления, под влиянием которых у первых учеников Иисуса сложилась вера в него как в воскресшего Христа, то и они были внутренним переживанием, и если лицам заинтересованным они казались внешними чувственными восприятиями, то нам они представляются видениями, или фактами мятущейся душевной жизни.
Подобные «явления» вызывались и осуществлялись в обоих случаях примерно одними и теми же причинами и условиями. Волнение, которое в душе позднейшего апостола язычников вызвано было грозными успехами христианства и его собственным усердием в преследовании сторонников христовой веры, соответствовало у древнейших первоапостолов волнению, которое вызывалось гонениями против Иисуса и его сторонников со стороны иудеев. С другой стороны, чем для Павла являлось впечатление, полученное им от первой христианской общины с ее беззаветной верой и жаждой страдания, тем для старейших учеников Иисуса было воспоминание о его личности и убеждение в том, что он — Мессия.
Иудейские представления о Мессии хотя и были, в общем, не одинаковы, но всё-таки сходились в том, что Мессия, основав царство свое, будет властвовать над своим народом свыше естественного века человеческого. По словам Луки (1:33) и Иоанна (12:34), царству его не будет конца, как о том говорится также в Псалмах 110 (4), у Даниила (7:14, 27) и Иезекииля (9:6); в других местах встречается положение о том, что Мессия будет царствовать на земле 1000 лет (Апок. 20:4), или 400 лет, или меньше; а если он умрет, то это будет лишь концом земного бытия и переходом к неземному бытию,[164] но он отнюдь не должен умереть, не исполнив своей миссии, то есть того, чего ждал от него народ, и, во всяком случае, не должен умереть, как осужденный на казнь преступник. То и другое случилось с Иисусом: его мессианская деятельность прервалась в самом начале от учиненного над ним насилия иудеев; но она прервалась только временно и мнимо: народ, к которому он был послан, оказался недостойным сохранить его у себя, поэтому «небо приняло его» до тех времен, когда народ окажется достойным нового его пришествия и наступления давно обещанных «времен отрады» для истинного Израиля (Деян. 3:20–21). Момент преждевременной насильственной смерти мог быть воспринят в иудейское представление о Мессии лишь при условии, что смерть Мессии знаменует не сошествие души его в царство теней, а вознесение к Богу и вхождение в мессианскую славу (Лк. 24:26) с последующим вторым пришествием на землю во всей славе.
Кто обращался по этому поводу к Ветхому завету, тот мог с тем же успехом найти в нём указание на этот переход Мессии через смерть и гроб к новой, высшей жизни, с каким в разных местах, трактующих о других лицах и вещах, желающие находили указание на Мессию и его деятельность вообще. Разве Давид (Пс. 15:8–11), могли они сказать, да и действительно говорили, только за себя лично славил Бога за то, что он не оставит душу его в преисподней и не предаст плоть его тлению? Ведь Давид умер, как все люди, и труп его истлел. Не ясно ли отсюда, что эти слова Давида были словами обетования и относились к великому его потомку, Мессии, то есть Иисусу (Деян. 2:25 и сл.). А разве Исаия не предрек о рабе Яхве, что он будет исторгнут из обители живых и погребен среди преступников, а когда душа его принесет жертву искупительную, то он будет еще долго жить и получит часть свою среди великих мира (Ис. 53:10–12)? При этом ученики Иисуса, вероятно, вспоминали слова, в которых он указывал на предстоящие страдания и смерть, с одной стороны, и на неотвратимое конечное торжество его дела — с другой, и которые, быть может, опирались на соответствующие изречения Ветхого завета. По свидетельству Луки (24:25, 32, 44), воскресший Иисус по преимуществу изъяснял ученикам Писание и доказывал, что его страдания, смерть и воскресение были в нём предсказаны; это наводит нас на мысль о том, что после смерти Иисуса ученики его укрепляли свою веру усиленным изучением Писания.
Следовательно, после смерти Иисуса между его последователями и иудеями-староверами установились своеобразные отношения. Последние говорили: ваш Иисус не мог быть Мессией уже потому, что Мессии предуказано жить вечно или после продолжительного мессианского господства умереть вместе со всей земною жизнью вообще, а ваш Иисус умер позорной и преждевременной смертью, не совершив ни единого из мессианских подвигов. На это первые возражали: так как наш Мессия умер преждевременно, то пророчества, приписывающие Мессии вечную жизнь, должно понимать в том смысле, что его смерть не есть пребывание в преисподней, а только переход к высшей жизни у Бога, после чего он в свое время вернется опять на землю и завершит вами прерванное дело.
Правда, избранные мужи Ветхого завета, которые удостоились такого же вознесения к Богу, например Енох и Илия (а по позднейшим иудейским легендам также и Моисей), были приняты на небо, не умерев, и вместе со своей плотью вознесены были в горнюю обитель. Может показаться, что это представляет существенное отличие, но в действительности — нет. Земная плоть Еноха и Илии не могла в своем настоящем виде войти в небесный мир духов, и Бог не мог не преобразить ее предварительно, а то, что он проделал с их живою плотью, он мог проделать также с телом Иисуса, предвозвещая тем и будущее воскресение всех мертвых. Это такое же отличие, какое, по словам Павла (1 Кор. 15:52), существует между теми, которые умрут раньше: первые должны будут «измениться», а последние «воскреснуть нетленными», то есть плоть первых безотносительно к смерти приобретет свойства, необходимые для новой жизни в царстве Христа, тогда как у последних умершая плоть снова оживет и тоже изменится или преобразится. Однако поверить, что с Иисусом совершилось такое двойное чудо, превосходившее то чудо, которое совершилось с Енохом и Илией, мог только тот, кто видел в нём пророка, превосходящего двух названных пророков, то есть тот, кто, несмотря на его смерть, был убежден, что он Мессия. Такое убеждение должны были прежде всего усвоить себе ученики Иисуса в то тяжкое время, которое последовало за его казнью. Но это убеждение приводило также к мысли, что душа его не стала бессильной пленницей преисподнего царства, а вознеслась к Богу на небеса, а кто задумывался над вопросом, как совершилось это вознесение, тот, стоя на иудейской точке зрения, при которой душа без тела была просто тенью, необходимо приходил к выводу, что плоть Христа ожила, и он воскрес из мертвых.
Однако прежде чем вполне сложилось последнее представление, ученики Иисуса могли предположить, что вознесенный Мессия являлся им во всей своей новой славе. Например, если они полагали, что он стал ангелом у Бога, то, стало быть, он мог и не являться подобно ангелу. Впрочем, явления его могли быть и незримыми телесно. Когда Христос являлся Павлу, по словам автора Деяний, одновременно видно было сияние, то есть ореол вознесенного Христа, и слышен был глас небесный. Этот глас напоминает нам звучащего оракула позднейших иудейских поверий, так называемую «дщерь гласа», о которой сообщают писания раввинов. Как видно из Евангелия Иоанна (12:29), сущность оракула этого состояла в том, что случайный естественный звук, например внезапный удар грома и т.п., принимался за знамение и истолковывался в том или ином смысле, сообразно данным обстоятельствам и настроениям. Если бы сам Павел сообщил нам о сиянии, которое внезапно осветило его, и о гласе, исходившем от сияния (в прямом, а не переносном смысле, как во Втором послании к коринфянам, 4:6), то мы, не обинуясь, предположили бы, что в момент происходившей в душе его борьбы апостол принял молнию и гром за появление и карающий голос гонимого им Христа, но так как рассказ этот приводится в Деяниях апостолов, то ввиду позднего происхождения и неисторического характера этого сочинения можно допустить, что эти детали эпизода просто взяты из легенд или поэзии.
Отдельные рассказы евангелистов о явлении воскресшего Иисуса тоже не трудно свести к происшествиям вполне естественного характера. По сообщению Луки, на второй день после казни Иисуса двое учеников, идя полем из Иерусалима, встретили незнакомца, который объяснил им во вдохновенной речи смерть Мессии и ее значение, и в то мгновение, когда он в вечерних сумерках стал удаляться от них, они подумали, что он — сам Иисус. В добавочной главе к четвертому евангелию имеется такой рассказ: несколько учеников, ловя рано утром рыбу с лодки на Тивериадском озере, увидали на берегу незнакомца, который подал им удачный совет относительно закидывания сетей и которого они за это признали «Господом», хотя и не решились спросить его, действительно ли он Иисус. Признав эти рассказы, по существу, историческими, можно допустить, что ученики Иисуса, взволнованные внезапной его смертью и постоянно вспоминая его образ, легко могли принять за утраченного ими учителя первого встречного незнакомца, если он сталкивался с ними при необычных условиях и производил на них сколько-нибудь сильное впечатление. К тому же и в истории можно указать немалое число примеров такой же иллюзии, имеющих место при аналогичных обстоятельствах.
Я приведу один пример из истории моей родины. Герцог Ульрих Вюртембергский хотя и не был убит, но был изгнан Швабским Союзом из своей страны, которую заняли австрийцы и таким образом предупредили его возвращение.
«Но так как герцог, — говорит его прекрасный биограф, — имел еще в стране многих приверженцев, которые о нём думали и скорбели день и ночь, и так как запрещение говорить о нём окружало личность его покровом таинственности, то стало усиленно работать их воображение: о герцоге заговорили, в представлении его приверженцев, даже звери и камни. Находились и такие, которые уверяли, что сами видели то тут, то там старого герцога или даже принимали его переодетым у себя в доме: они видели того, кого хотели видеть.»
Но так как при боязливости и мнительности герцога нельзя предположить, что он действительно явился беззащитным в страну, захваченную его врагами, то и все рассказы о том, будто он бродил как привидение по всей стране, приходится считать продуктами возбужденной фантазии и легендой, для возникновения которой, как замечает этот наблюдательный и умный историк, обстоятельства и в данном случае сложились очень благоприятно. Трактирщица из Мюнхингена, о которой он упоминает, могла действительно принять за герцога заехавшего к ней неведомого гостя, точно так же угольщик из Ураха мог признать герцога в том незнакомце, которому он указал дорогу через лес, и подобные рассказы, распространяясь дальше, могли дать повод к сочинению других таких же рассказов, лишенных уже всякой фактической основы.[165]
Подобные иллюзии могли иметь место и в нашем случае, однако первые явления Иисуса отдельным лицам едва ли были простыми иллюзиями. Когда распространилась весть о том, что Иисуса видели живым, иллюзии были еще возможны, но изначально такое верование могло возникнуть лишь иным путем, так как речь шла не о живом изгнаннике, а об умершем Иисусе. Если Павел говорит, что воскресший явился сначала Кифе, то этим, как уже было сказано, не исключается возможность предположения, что некоторым женщинам он явился и привиделся раньше. Заявление Марка (16:9) о том, что Иисус «явился сперва Марии Магдалине, из которой изгнал семь бесов», — весьма знаменательно; что именно эта женщина первая увидела воскресшего, подтверждается не только Иоанном (20:14), но также Матфеем, с той лишь разницей, что последний упоминает еще о другой Марии (28:1–9); а замечание о семи изгнанных бесах заимствовано Марком у Луки (8:2). Но у такой женщины при ее физическом и душевном состоянии внутреннее возбуждение легко могло разрешиться видением. И мужчинам той эпохи и при тогдашнем уровне образования также было не чуждо подобное душевное состояние, — это мы видели на примере апостола Павла. Что касается Петра, то и он, видимо, был предрасположен к разным видениям, и в подтверждение этого мы можем тем, кто в евангелиях и в Деяниях апостолов видят действительную, хотя и необычную, но всё-таки естественную историю, указать на происшествие, предшествовавшее крещению римского сотника Корнилия (Деян. гл. 10). Неожиданно среди бела дня во время молитвы на кровле дома он пришел в исступление и увидел сходящий с неба как бы полотняный сосуд, наполненный разными зверями, и услыхал из отверстого неба некий глас. Мы, разумеется, относим этот эпизод к числу легенд христианской общины и объясняем его прагматизмом автора Деяний, но вместе с тем считаем возможным предположить, что тотчас после смерти Иисуса в тесном кругу его последователей преобладало общее всем душевное и нервное возбуждение, которым нивелировались все индивидуальные черты отдельных лиц. Об Иакове сохранилось в Евангелии Евреев предание, что после многодневного поста ему явился воскресший Иисус; признав этот рассказ исторически верным и сравнив его с рассказом о Деяниях апостолов (10:10), мы снова приходим к тому выводу, что явления Иисуса были видениями, галлюцинациями.
Лука рассказывает о шедших в Эммаус учениках, что когда встреченный ими незнакомец принял их приглашение и сел с ними за трапезу и, взяв хлеб, благословил, преломил и подал его им, они по этому «преломлению хлеба» узнали в нём Господа Иисуса (24:30, 35). Столь же знаменательная раздача хлеба и рыбы незнакомцем, в котором ученики признали воскресшего Иисуса, отмечается в дополнительной главе Евангелия от Иоанна (21:13). Если мы вспомним, что выражением «преломление хлеба» обыкновенно обозначалась евхаристия или вечеря (Деян. 2:42, 46; 20:7; 1 Кор. 10:16) и что такая вечеря наглядно напоминала о последней и других вечерях, при которых Иисус, как старейший в доме, раздавал своим ученикам хлеб; если затем вспомним, что в первые времена христианства эта вечеря совершалась часто, может быть, ежедневно, и служила большим утешением и поддержкой для малочисленной первичной общины-церкви, то естественно допустить, что благодаря такому приподнятому настроению на вечерях в отдельных случаях воспоминание о Христе превращалось в мнимое явление его собравшимся сотрапезникам.
§50. Время и место явления Христа апостолам
Если спросить, когда и где Иисус являлся своим ученикам, то и старейший из свидетелей, апостол Павел, как мы отметили выше, не даст на такой вопрос положительного и ясного ответа. Места видений он вовсе не указывает, а время отмечает лишь предположительно. Он говорит (1 Кор. 15:3, 8), что и «сам принял» (как традиционное сказание), что Христос умер, был погребен и воскрес в третий день, согласно Писанию, и что он явился Кифе, потом 12 апостолам и т.д. Стало быть, Павел говорит, что Иисус воскрес в третий день, но не говорит, что воскресший явился Кифе или кому-либо другому в тот же третий день, а так как он упоминает об этом явлении Кифе непосредственно вслед за указанием о воскресении Иисуса, а после сообщения о явлении Иисуса всем апостолам говорит о своем собственном видении, которое, однако, имело место много лет спустя после смерти и воскресения Иисуса, то мы вообще не знаем, какой промежуток времени протек между отдельными явлениями и между воскресением Иисуса на третий день и его первым явлением.
По сообщениям же евангелистов, черпавших сведения из третьих рук, все или хотя бы некоторые явления воскресшего Иисуса пришлись на самый день воскресения. По словам Иоанна, Иисус явился Марии Магдалине еще в утро воскресения вблизи гроба, затем вечером того же дня — собравшимся ученикам. По словам Луки, он являлся в тот же день сначала эммаусским странникам и Петру, потом четырем апостолам и бывшим с ними. Из того же предположения исходит укороченный и сбивчивый рассказ Марка. По словам Матфея, воскресший явился 11 апостолам позднее в Галилее, но женщинам явился он в утро воскресения, когда они, увидев гроб пустым, возвращались в город. Поэтому можно спросить: могли ли древнейшие христиане признать третий день по смерти Иисуса днем его воскресения, если бы в этот день он не явился своим ученикам? Чем объяснить то, что уже ко времени апостола Павла и составления Апокалипсиса Иоанна днем господним, христианским праздником недели считался день, следующий за субботой (1 Кор. 16:2; Откр. 1:10), если бы не в этот день стал известен ученикам великий факт воскресения их Мессии?
Если воскресение Иисуса было чудом, то оно могло свершиться в любой день, а естественное оживание или воскресение должно было, безусловно, совершиться в один из ближайших дней, иначе оно вовсе не могло бы совершиться; но тот психологический переворот, из которого, по нашему мнению, возникли апостольские видения Христа, по-видимому, требовал для своего развития продолжительного времени. Пока ученики пришли в себя от страха, в который их повергла неожиданная казнь Иисуса, пока они опять собрались вместе, опомнившись от паники, должно было, по-видимому, пройти более одного дня. Немало времени потребовалось и для того, чтобы они могли углубиться в изучение книг Ветхого завета и почерпнуть из них уверенность, что их Иисус есть Мессия, несмотря на то, что он страдал и умер и что через страдания и смерть он пришел к мессианской славе. Итак, если уже на третий день после смерти Иисус действительно являлся ученикам, то, по-видимому, немыслимо считать эти явления лишь субъективными видениями учеников, и наш взгляд на происхождение веры в воскресение Иисуса, очевидно, опровергается тем, что немыслимо возникновение этой веры уже на третий день после распятия.
К такому же неблагоприятному для нас результату приводит, видимо, и указание на топографию этих явлений в евангелиях. В утро после субботы, накануне которой распятый Иисус был погребен, ученики его находились в Иерусалиме, где по свидетельству всех евангелистов, не исключая и Матфея, совершились первые явления воскресшего. Следовательно, Иисус явился своим ученикам там, где было погребено его тело. Это обстоятельство нас тоже должно, по-видимому, смутить, тогда как для обоих других предположений на воскресение Иисуса оно является моментом благоприятным, ибо как в том случае, если Иисус был воскрешен посредством чуда, так и в случае, если он естественным путем сам пробудился от мнимой смерти, тела его в гробу не оказалось и перед лицом этого явления нельзя опровергнуть утверждение учеников о том, что он воскрес; мы же предполагаем, что тело Иисуса оставалось в гробу, и потому дело принимает иной оборот. Если в том самом городе, вблизи которого в общеизвестном и общедоступном склепе лежало тело Иисуса, ученики его до истечения двух суток после погребения стали утверждать, что Иисус воскрес и ушел живым из гроба, разве мыслимо, чтобы иудеи не побежали тотчас ко гробу, не вынули оттуда труп и не выставили его публично, чтобы опровергнуть дерзкую ложь учеников? И как могли бы ученики выступить с подобным заявлением, если достаточно было осмотреть могилу, чтобы убедиться в его неосновательности?
Однако евангелисты только сообщают, что уже во второе утро после погребения Иисус являлся своим ученикам, и ничего не говорят о том, что они тотчас же стали сообщать весть о его воскресении неверующим иудеям. Напротив, по свидетельству всех евангелистов, ученики сначала умалчивали об этом, а по рассказу Луки (в Деяниях), апостолы стали говорить о воскресшем Христе только в день пятидесятницы, то есть через семь недель после означенного третьего дня. Кроме того, исторически ничем не подтверждается предположение, что Иисус был погребен в каменном склепе Иосифа (об этом мы будем говорить подробнее позднее), а если Иисус был погребен, быть может, вместе с прочими казненными в каком-нибудь неосвященном месте, то ученикам его было уже нелегко осмотреть его могилу, и если они после того выступили с вестью о его воскресении, то и противникам их было труднее опознать и демонстрировать тело Иисуса, тем более что евреи всегда питали отвращение к трупам умерших.[166]
Что же касается указания на то, что в столь короткий промежуток времени ученики не могли прийти в такое настроение, при котором мыслимы видения, то и на это возражение у нас есть что ответить. Этот переворот совершался и мог совершиться не логическим путем и не в области ясного и трезвого мышления, а в темных глубинах души; то был насильственный перелом, или молния, которою разрешилась тяжесть душевного томления. Подобный перелом не подготовляется логической работой мысли; напротив, силой душевного предчувствия он предвосхищает то, что озаряется впоследствии светом рефлексии, он устанавливает сразу то, над чем впоследствии придется работать разуму. Стало быть, наше представление о воскресении Иисуса отнюдь не опровергается даже в том случае, если нам докажут, что в его воскресении ученики успели убедиться уже на третий день после его смерти.
Однако сами новозаветные сообщения заставляют усомниться справедливости этого предположения. В самом деле, зачем было ученикам скрывать до 50-го дня и не пускать в обращение весть о воскресении Христа, если они убедились в том уже на третий день? В Деяниях говорится, что им велено было ждать Святого Духа, который должен был сойти на них в пятидесятницу; но мы при нашей точке зрения знаем, что этот день был избран для сошествия Святого Духа потому, что древнехристианское мировоззрение противопоставляло таким наглядным образом провозглашение евангелия синайскому законодательству и что установление срока в этом случае определялось догматической, а не исторической причиной. Не сказалось ли в этом еще и напоминание о том, что весть о воскресении Иисуса и вера в это воскресение возникли не в третий день, а позднее, — это уже другой вопрос.
Однако все евангелисты, не исключая и Матфея, свидетельствуют о том, что воскресший Иисус уже на третий день появился в Иерусалиме и его окрестностях. Да, не исключая и Матфея; но как он говорит об этом? Он говорит, что ангел у гроба возвестил женщинам о воскресении Иисуса и велел им немедленно передать эту весть ученикам, а тем временем сам Иисус пройдет в Галилею, и там они его увидят. Не только ученики впервые увидят воскресшего Иисуса в Галилее, но также и «вы», женщины, говорит ангел, увидите его там, в Галилее. Но странное дело! Когда женщины поспешили от гроба в город, чтобы принести эту весть ученикам, сам Иисус явился им на пути. Увидев Иисуса тут, они не могли увидеть его впервые в Галилее, как это предсказал ангел. Что же могло побудить Иисуса так скоро отказаться от своего плана, который он только что объявил через ангела? Женщины шли исполнять данное им поручение, и лично они уже были убеждены, ибо от гроба они ушли со страхом, но и с радостью великой, как говорит Матфей. Не хотел ли Иисус сказать им еще что-нибудь, о чём позабыл ангел? Нет, он говорит им то же самое, что уже сказал ангел: чтобы ученики шли в Галилею, где они увидят его. Словом, это первое явление Христа, рассказанное у Матфея, так излишне, что оно не только не имело места, но и не входило в состав первичного повествования; этот эпизод вставлен позднее и притом не в текст нашего Матфеева евангелия, а в то повествование, которое евангелист положил в основу своей истории воскресения, приписав к ней от себя этот несовместимый с нею эпизод. Если мысленно отбросить это первое явление, то получается вполне цельный и связный рассказ. Вблизи Иерусалима у гроба в утро воскресения является один ангел с первой вестью о воскресении Иисуса и с наказом идти в Галилею, затем сам Иисус является, как сказал, лишь в Галилее, когда ученики и женщины уже пришли туда. Но если Галилея была местом явления воскресшего Иисуса, то и явиться мог Иисус не в третий день, а позднее, так как ученики, очевидно, не успели бы дойти до горы Галилейской в тот самый день, когда утром получили в Иерусалиме приказание идти туда. Этому воззрению, лежащему в основе рассказа у Матфея, противоречит, как мы сказали выше, рассказ Луки и Иоанна; по их словам, Иерусалим и окрестности его представляют главное, а если отбросить дополнительную главу у Иоанна, то и единственное место явлений и деяний воскресшего, которые поэтому и могли начаться в самый день воскресения, хотя это последнее представление и несовместимо с тем, которое проводится в рассказе Матфея, но автор первого евангелия всё же сделал уступку в его пользу и написал, что воскресший Иисус явился подле Иерусалима женщинам, а не ученикам, ибо тогда последним незачем было бы идти в Галилею.
Из этих двух противоположных представлений о месте явлений Иисуса представление Луки и Иоанна является уже потому более поздним, что Матфей внес в свой собственный рассказ лишь одну деталь из их рассказа; но, кроме этого, рассказ Матфея отличается историческим правдоподобием. Чудесно воскресший Иисус мог, разумеется, по собственному произволу являться своим ученикам и в Иерусалиме, и в Галилее, но естественно ожившего Иисуса, может быть, удерживали в первое время в Иерусалиме его раны и истощение; наконец, ученики с которыми мы теперь считаемся, при нашей точке зрения должны были спешить вернуться к себе на родину, в Галилею, после удара, постигшего в столице их учителя. Они ведь не могли знать точно, как далеко зайдет партия иерархов, не станет ли она хватать и более известных сторонников Иисуса, поощренная своей победою над ним. Против такой опасности они в чужом им Иерусалиме были совершенно беззащитны, тогда как у себя на родине, в Галилее, они могли найти защиту у родственников и земляков, а партия первосвященников там была не так сильна, как в столице. На это намекает, несомненно, и евангельская повесть, хотя рассказ Матфея уже не самобытен. По сообщению первых двух евангелистов, все ученики Иисуса после его пленения обратились в бегство (Мф. 26:56; Мк. 14:50); во время допроса Иисуса еще оставался Петр, но при распятии не присутствовал уже никто из 12 апостолов. Если у Матфея (26:31) Иисус относил к ним пророчество Захарии (13:7): «поражу пастыря, и рассеются овцы стада», то эти слова, очевидно, правильно истолковал автор четвертого евангелия, у которого Иисус предсказывает (16:32), что ученики «рассеются каждый в свою сторону». Они возвратились в Галилею, по свидетельству четвертого евангелия (включая и добавление), не ранее чем через восемь дней после воскресения, а по словам Матфея — лишь по получении известия о воскресении и приказа Иисуса; но «приказ» этот введен в рассказ лишь для смягчения: евангелист пытается объяснить верховным велением то, что ученики делали из страха и независимо от повеления.
Но если после казни Иисуса ученики в страхе убежали к себе на родину, то и перелом в их настроении и их видения Христа объяснить уже гораздо легче, хотя их можно объяснить и предполагая, что они остались в Иерусалиме. Выйдя из сферы влияния врагов и убийц Учителя, они стали оправляться от того страха и оцепенения, которые овладели ими при его пленении и осуждении. Затем в Галилее, где они так часто ходили с ним и среди того населения, которое совместно с ними так часто воодушевлялось его речами, им предоставлялось много поводов воссоздавать в памяти его образ и представлять его себе в тех многознаменательных ситуациях, в которых они его там заставали. Немаловажное значение имело также и то, что теперь они были вдали от гроба Иисуса, близость которого, особенно вначале, мешала появиться вере в то, что погребенный вышел из могилы. Таким образом, перенеся явления Иисуса в Галилею, мы можем предположить, что они начались не в третий день, а при получившемся в итоге продлении сроков, понятным становится также и сам поворот в настроении учеников.
Итак, место явлений воскресшего Иисуса правильнее указано Матфеем, чем другими евангелистами; но почему впоследствии его указание сочли неверным и почему он, переработав использованное им древнейшее сказание, опроверг себя, оставив эпизод о явлении Иисуса женщинам вблизи Иерусалима, — понять нетрудно. Вполне естественно предположить, что воскресший Иисус проявил себя живым, то есть явился прежде всего там, где находился покинутый им гроб. Затем ученики, окрепнув в Галилее духом и утвердившись в своей вере в Иисуса как Мессию вернулись в Иерусалим и основали там общину, которая в силу центрального положения гораздо скорее стала метрополией для всех других общин распятого и воскресшего Мессии. Поэтому о том периоде, когда апостолы покинули этот центр, естественно, старались не вспоминать и представляли дело так, будто столицу никогда не покидала центральная община, будто 11 апостолов всё время оставались вместе в Иерусалиме, где их и пробудили к новой вере первые явления воскресшего учителя. Так именно и говорили впоследствии в Иерусалиме, и так дело это представлено автором третьего евангелия, который галилейские предания первого евангелия дополнил главным образом иудейскими и иерусалимскими сказаниями. Однако из этого не следует, будто Матфей сделал Галилею местом явлений воскресшего Иисуса из галилейского патриотизма; дело просто в том, что галилейское предание, которого он в целом придерживался, не давало никакого повода калечить первичную фактическую основу рассказа в угоду Иерусалиму.
Относительно момента воскресения Иисуса труднее допустить неисторическое происхождение рассказов, чем относительно места воскресения; по-видимому, столь древнее и точное указание на то, что Иисус воскрес и явился в третий день, может считаться исторически достоверным. Однако же и тут нетрудно увидеть, почему для воскресения был установлен именно третий день, когда утверждалась вера в воскресение и в явления Иисуса. Распятого Мессию узы смерти должны были удерживать недолго (Деян. 2:24), попрать смерть и преисподнюю он должен был по возможности раньше. Следовательно, вера его последователей, с одной стороны, естественно побуждала приблизить момент его выхода из гроба к моменту его смерти и погребения, но, с другой стороны, нельзя было и сокращать период смерти до нуля: Иисусу надлежало умереть лишь на короткий срок, но умереть действительно и совершенно. Этому способствовало следующее обстоятельство: распятие Иисуса, по единогласному свидетельству всех евангелистов (хотя они друг с другом расходятся в определении праздника пасхального), было совершено днем, а погребение вечером накануне субботы. В субботу Бог почил от всех дел (Быт. 2:2; Евр. 4:4), поэтому казалось, что и Мессии приличествует в этот день почить от своих земных дел, то есть почить в гробу в субботний день. К тому же, вследствие характерного значения числа «три» (троицы), третий день, по-видимому, считался наименьшим сроком для беспрепятственного исполнения какого-либо дела и как бы вошел в поговорку. Яхве, заявляет у Осии (6:2) покаявшийся народ, «оживит нас через два дня, в третий день восставит нас, и мы будем жить пред лицем Его». Подобный же ответ Иисус, по словам Луки (13:32), послал «лисице» Ироду: «се, изгоняю бесов и совершаю исцеления сегодня и завтра, и в третий день кончу»; а указание времени в заявлениях лжесвидетелей (Мф. 26:61), будто Иисус собирался разрушить храм Божий и в три дня воссоздать его, тоже нет нужды приурочивать к истории воскресения. Напротив, уподобление пребыванию Ионы во чреве кита (Мф. 12:40), где он произнес молитву (2:1–11), которая напоминает мессианские псалмы страстей, видимо, придумано позднее, когда моментом воскресения Иисуса уже признано утро воскресного дня, так как три дня и три ночи пребывания Ионы во чреве кита не согласуется с двумя ночами и одним днем, проведенными, по свидетельству евангелий, Иисусом в гробу.
Следовательно, признание третьего дня моментом воскресения Иисуса могло последовать еще при жизни апостолов и с их согласия, хотя оно и не имело под собой исторического основания. Никто не мог сказать, что он был очевидцем того, как выходил Иисус из гроба; момент этого события указывался исключительно на основании догадок, и единственно правильной догадкой было то, что Иисус покинул гроб прежде, чем кому-либо явился. Каким промежутком времени отделялся момент выхода из гроба от первого явления, оставалось невыясненным; и если третий день, первый после субботы, признан был наиболее соответствующим моментом по догматическим соображениям, то всякий, кому Христос являлся на четвертый или восьмой день или еще позднее, не мог бы воспротивиться признанию третьего дня моментом воскресения Иисуса, как не воспротивился тому и Павел, которому Иисус явился много лет спустя.
Таким образом, вера в Иисуса как Мессию не только не поколебалась от его насильственной смерти, но даже выросла и укрепилась изнутри, силою духа, работой воображения и на почве нервного возбуждения. Так удалось упрочить жизненное развитие за всем тем, что было в Иисусе нового и глубоко религиозного и что он поучением и личным примером внушал своим ученикам. Но фантастическая форма этого восстановления веры стала с тех пор определять собою все представления о его образе, речах, деяниях и судьбе; вся его жизнь облеклась как бы облаком сияния и славы, которое всё выше и выше поднимало его над всем человеческим и вместе с тем всё более и более удаляло от естественной и исторической правды. История наблюдений и явлений, легших в основу веры в его воскресение, также подверглась в этом смысле изменению, но об этом речь пойдет в конце следующей книги, задача которой — детальное исследование всех преобразований, которые претерпела история жизни Иисуса под влиянием фактического настроения древнейших христианских общин, во многих отношениях отражавшего иудаистские представления той эпохи.
Книга 2. Мифическая история Иисуса, ее происхождение и развитие
§51. План исследования
В первой части настоящего труда мы очертили действительную историю жизни Иисуса и постарались представить его постижимым для нас человеком, насколько вообще возможно представить таковым существо, которое приходится рассматривать в отдаленном прошлом, да к тому же через призму, своеобразно преломляющую все лучи. Теперь мы переходим к рассмотрению самой «призмы» и попытаемся объяснить как созданное ею мнимое изображение, так и те условия, при которых последнее возникло.
Подобное исследование можно было бы вести по нескольким различным планам. Мы могли бы брать каждое из наших четырех евангелий в отдельности и, расположив их рассказы в порядке развития христианских представлений, показать, как каждому евангелисту приходилось рисовать жизнь Иисуса на данной ступени развития, при данных церковных направлениях и догматических предположениях. Или, ввиду родства трех первых евангелий и представляемых ими направлений, мы могли бы связать их в одну группу и, противопоставив их четвертому евангелию, рассмотреть развитие синоптических мифов, а потом и мифов Иоанновых. Но в первом случае нам пришлось бы обозревать историю жизни Иисуса четыре раза, а во втором — по меньшей мере дважды. Первый способ изложения оказался бы весьма громоздким, а второй — искусственным. При всём различии и несходстве мировоззрение автора Иоаннова евангелия стоит в тесной связи с мировоззрением синоптиков, а в некоторых случаях даже опирается на него, и вообще воззрения Иоаннова евангелия относятся к воззрениям синоптиков, как высшая или превосходная ступень к ступени низшей или положительной и сравнительной. Поэтому и критика, которая старается понять евангелия как литературно-исторические произведения, может рассматривать каждое из них в отдельности, чтобы затем связно обозреть евангельское описание жизни Иисуса. Но наша главная задача — ответить на вопрос, является ли евангельский рассказ об Иисусе историческим свидетельством, или чем-либо иным, и потому нам следует пойти иным путем. Мы будем брать не отдельные рассказы, а целые группы рассказов, например о происхождении Иисуса, о его рождении, крещении, чудесах, и будем следить за развитием их по всем четырем евангелиям, руководясь при этом, по возможности, хронологией событий в жизни Иисуса.
Итак, в первый отдел у нас войдут мифические рассказы о прошлом Иисуса и, в частности, история его Предтечи, рассказы о посвящении и крещении его Предтечей, а также рассказы об искушении Иисуса сатаной.
Глава первая. Мифическое прошлое Иисуса
§52. Классификация мифов
Признавая исторический характер за евангельскими рассказами о жизни Иисуса в Назарете, об отношениях его к Иоанну Крестителю, об имени его родителей, следует заключить, что рассказ о прошлом Иисуса построен евангелистами на элементарном предположении нового вероучения о том, что Иисус — Мессия.
Иисус, по убеждению его последователей, был Мессией, то есть сыном Давидовым, сыном Божиим, вторым Моисеем, последним, и притом величайшим Спасителем своего народа и всех людей, уверовавших в него.
Сыном Давидовым он был, во-первых, в том смысле, что происходил из рода Давидова, и, поскольку доказывать это приходилось всемерно и всесторонне, у Матфея и Луки приведены особые родословия Иисуса. Сыном Давидовым Иисус был, во-вторых, в том смысле, что родился в городе Давидовом (Вифлееме), но так как Иисус фактически был и считался назореем,[167] то одни евангелисты пытались объяснить, почему родители Иисуса переселились из Назарета в Вифлеем, а другие старались объяснить, почему родители Иисуса перебрались из Вифлеема в Назарет. В-третьих, Иисус был сыном Давидовым еще и в том смысле, что, подобно Давиду, был посвящен, или помазан, от пророка, через это помазание преисполнился Святого Духа и стал отправлять свою высокую должность.
Поскольку Иисус-Мессия был в то же время сыном Божиим в строгом смысле этих слов, то авторы первого и третьего евангелий повествуют, что Иисус зачат был в утробе матери своей от Святого Духа без всякого участия отца-человека и потому был предвозвещен и приветствован ангелами. Но автор четвертого евангелия признал, что Иисус — воплотившееся Слово Бога-Творца, и потому решил устранить как нечто ничтожное и недостойное высокого призвания Иисуса не только родословие его и рассказ о происхождении от Давида и рождении в городе Давидовом, но также идиллическую сцену явления пастухов к новорожденному Мессии.[168]
Наконец, Иисус-Мессия был вторым Моисеем в том смысле, что жизнь младенца-Иисуса подвергалась такой же опасности, какая некогда угрожала жизни первого спасителя иудейского народа, младенца-Моисея, и которая создана была тем обстоятельством, что звезда, обетованная по книгам Моисея, появилась при его рождении и поклониться ему, новорожденному Мессии, явились мудрецы савские с дарами. Далее, вторым Моисеем он был также и в том смысле, что, подобно Моисею и Самуилу, он уже в отрочестве своем стал готовиться к своему высокому призванию и поучал ученых старцев. Наконец, вторым Моисеем он был потому, что выдержал искус, которого не выдержал Израиль, ведомый Моисеем, и таким образом явил себя носителем и исполнителем обетования о спасении.
I группа мифов: Иисус — сын Давидов
I. Иисус-Мессия происходит из рода Давидова; два родословия
§53.
Евангелистам предстояло доказать, что Иисус происходил от семени Давидова, так как, по представлениям народа иудейского, Мессии надлежало родиться от семени Давидова (Ин. 7:42; Рим. 1:3). Но разрешение этой задачи облегчалось тем обстоятельством, что род Давидов в восходящем и нисходящем направлении был известен в такой же мере, в какой род Иисуса был неведом.
Потомство Давида было всем известно, оно указано в книгах Царств и Паралипоменон, подробно излагающих историю иудейских царей до вавилонского изгнания иудеев, а во вступлении к Первой книге Паралипоменон приведено и родословие, доходящее до Зоровавеля, предводителя возвращающихся из изгнания иудеев, и его ближайших преемников. Всякий потомок Давида, разумеется, считался вместе с тем потомком Авраама, родоначальника иудейского. Но те, которые в Мессии видели не только сына Давидова, но и обетованное Аврааму «семя, о котором благословятся… все народы земли» (Быт. 22:18; Гал. 3:16), считали нужным удлинить родословие Мессии также и в восходящем направлении на основании указаний, имеющихся в первой книге Моисея, в заключительной главе книги Руфь и во вступлении к книге Паралипоменон; а кто желал пойти еще дальше и довести родословие до самого Адама, тот находил необходимые указания в пятой и одиннадцатой главах книги Бытие и во вступлении к книге Паралипоменон.
Итак, родословие, приведенное в книгах Ветхого завета, обнимало все поколения от Адама до Зоровавеля и его ближайших преемников, но тут оно обрывалось и затем становилось проблематичным, и весь пробел, который приходилось заполнять, чтобы дойти до Иисуса, определяется периодом приблизительно в 500 лет. Заполнить пробел можно было двояким образом, и лучше всего, разумеется, если бы удалось документально установить родословие Иисуса в восходящем направлении. Но сделать это было, бесспорно, трудно. Достаточно напомнить, что, по сообщению Юлия Африканского,[169] Ирод, устыдясь своего незнатного происхождения, велел уничтожить все иудейские родословия, чтобы показать, как неправдоподобно предположение о том, что, несмотря на треволнения эпохи Македонского, Маккавейского и Римского владычества, в семье какого-то безвестного галилеянина-плотника будто бы сохранились древнейшие родословные списки. Тот же Юлий Африканский сообщает, что впоследствии, когда народилась община христиан, родственники Господа много занимались генеалогией своего рода. Это известие вполне правдоподобно, и потому можно допустить, что благодаря генеалогическим изысканиям, которыми занимались не только родичи Иисуса, но, вероятно, также и другие члены христианской общины, составились два родословных списка, приведенные у Матфея (1:1–17) и у Луки (3:23–38). Но в этих списках вышеуказанный пробел заполнен совершенно неудовлетворительно и произвольно, что и понятно, так как составители родословий, видимо, не располагали никакими документами и должны были довольствоваться собственными догадками и предположениями. Например, сына Зоровавеля, от которого произведен род Иисуса, Матфей называет Авиудом, а Лука — Рисаем (в противоположность 1 Пар. 3); отца Иосифа, родителя Иисуса, Матфей называет Иаковом, а Лука — Илием. Кроме того, в обоих евангельских родословиях Иисуса мы находим неодинаковое число поколений или родов: Матфей насчитывает (включая Зоровавеля и исключая Иосифа) 10 родов, а Лука почти вдвое больше (19 родов).
Такие, расхождения, повторяем, вполне естественны, поскольку составители обоих родословий заполняли вышеозначенный пробел продуктами собственного изобретения, ничего не зная друг о друге; а если составителю родословия, приведенного в Евангелии Луки, было известно родословие, которое приведено Матфеем, то всё же он не мог не изменить его по каким-нибудь причинам; мало того, он должен был изменить имена некоторых потомков Давидовых до Зоровавеля, хотя имена их известны из книг Ветхого завета. А именно, Матфей выводит род Иисуса от Давида через Соломона и известный ряд царей иудейских, а Лука из всех сыновей Давида предпочел Нафана, который в первой книге Паралипоменон (3:5) упоминается прежде Соломона; но о потомках Нафана в Ветхом завете ничего не говорится, так что составителю родословия, приведенного у Луки, очевидно, приходилось самому создавать их имена, если только он не нашел перечня их где-либо в ином месте. Почему он обошел линию царей, указанную в Ветхом завете? Не потому, конечно, что она показалась ему слишком знатной и блестящей для Христа; наоборот, надо полагать, что эта линия царей показалась неприличной для Христа. Известно, что династия Давида, подобно всяким вообще династиям, с течением времени всё более и более вырождалась. О последнем отпрыске ее, об отведенном в Вавилон Иехонии, пророк Иеремия от лица Иеговы (22:30) высказал следующее суждение:
«…Никто уже из племени его не будет сидеть на престоле Давидовом и владычествовать в Иудее».
Кто знал и помнил это слово Иеговы, тому, разумеется, не могла прийти в голову и мысль о том, что кому-либо из потомков столь нечестивого человека даст «Господь Бог престол Давида, отца Его; и будет царствовать над домом Иакова вовеки, и Царству Его не будет конца» (Лк. 1:32–33). Фактически нечестивым был не только этот отпрыск Давида, но также и Ровоам, и даже Соломон при его сладострастии и идолослужении мог считаться уже выродком; поэтому неудивительно, что среди иудеев, как гласит предание, образовалась даже партия, которая утверждала, что Мессия должен народиться не по этой опороченной линии царственных преемников Давида, а по другой, менее известной, но зато неопороченной линии потомков. Естественно, что эту именно генеалогию включил в свой труд автор третьего евангелия, паулинист по убеждениям и образованию, тогда как автор первого евангелия, разделявший взгляды иудео-христиан, предпочитал усвоить и включить в свое произведение генеалогию противоположного характера. Иудео-христиане смотрели на Мессию как бы глазами легитимистов, а паулинисты, которых можно уподобить орлеанистам,[170] предпочитали иметь Мессию, который не был ни отпрыском главенствующей линии потомков Давидовых, ни национальным царем иудейским. По этой же причине автор третьего евангелия решил принятое им родословное древо продолжить за Авраама до Адама, и даже до самого Бога желая, очевидно, представить Иисуса в образе второго Адама (1 Кор. 15:45, 47) и, выдвинув его за рамки иудейства, сблизить со всем человечеством вообще.
Как общее несходство означенных двух родословий, так и отличительные свойства каждого из них в отдельности указывают на то, что они — продукт догматических предположений, а не исторических изысканий. Родословие, приведенное у Матфея, делится на три отдела с равным числом имен в каждом отделе: первый обнимает собой праотцев от Авраама до Давида, второй — от Давида до вавилонского переселения и третий — от вавилонского пленения до Иисуса. Что автор руководился в данном случае двучленным перечнем праотцев, приведенным в книге Бытие (5:1; 10:10), это явствует уже из того заголовка, которым он снабдил свое родословие: «родословие Иисуса Христа, Сына Давидова», и которое аналогично заголовку: «родословие человеков», встречающемуся в александрийском переводе книги Бытие; здесь родословие тоже отмечает сначала 10 родов от Адама до Ноя и затем столько же родов от Сима до Авраама. Такое разделение весьма знаменательно и, очевидно, произведено умышленно. В этом равенстве периодов, ознаменованных чередованием великих исторических событий — причем за первым праотцем, родоначальником человечества, следовал второй, а затем праотец верных, усматривался ритм истории, как бы пульс Вселенной, направляемой промыслом Божиим, что, конечно, в действительности не так просто. Наш генеалог-евангелист, сопоставляя с указаниями книги Бытие то родословие, которое приведено в книге Руфь, мог насчитать 14 родов или поколений за весь период от Авраама до Давида. Хотя, по существу, и было безразлично, получается ли в конечном счете 10 или 14 родов, всё же цифра 14, или удвоенная седмица, могла показаться числом знаменательным и священным, и потому генеалог старался лишь, чтобы число 14 и у него повторялось так же, как повторялось число 10. Однако период, предшествующий Христу, не заполнялся дважды взятым числом 14; при введении в родословие всех царей иудейских приходилось брать по меньшей мере три раза по 14 родов, а число три (троица) тоже было числом священным. Как первая группа 14 праотцев заключалась Давидом, а третья — Мессией, так и вторую группу надлежало заключить каким-нибудь великим историческим событием, и таковым пришлось выставить уже не царствование какого-то великого угодника Божия, а вавилонское пленение, акт Божия суда и наказания.
Довести число родов третьей группы до 14 было нетрудно для составителя родословия, ибо, кроме Зоровавеля и отца его, именем которого он порешил украсить родословие, в его распоряжении не было иных имен; не смущало его и то, что пробел в 600 лет от Иехонии до Иисуса (не считая последнего) немыслимо было заполнить 13 поколениями, если считать, что сын рождался у отца в среднем на 16-м году жизни. Всего более смущала его средняя группа, ибо царей иудейских за весь период от Соломона до падения царства насчитывалось 20 человек или, за вычетом Иоахаза и Седекии, которые не оставили потомства, по меньшей мере 18 человек; поэтому приходилось выбросить четверых, чтобы получить группу в 14 человек. Нельзя сказать, чтобы наш генеалог в данном случае исключил самых плохих царей: Иоас и Амасия, выброшенные им из родословия, были, по свидетельству ветхозаветных историков, царями благоверными и во всяком случае лучше Иорама и некоторых других, которым наш генеалог отвел место в своем родословии. Тот факт, что перед Иехонией (или Иоахином) пропущен отец его Иоаким, можно, пожалуй, объяснить ошибкой, происшедшей вследствие созвучия имен, тем более что в качестве братьев Иоахина поименованы такие лица, которые были братьями отца его, Иоакима. Но далее мы видим, что от Иорама генеалог переходит не к Ахасии, или, по-гречески, Охозии (опустив троих — Ахасию, Иоаса и Амасию), а к Усии, или, по-гречески, Озии, и потому мы начинаем подозревать, что он умышленно опускал созвучные имена, чтобы замаскировать пропуск. В конце концов оказывается, что генеалог слишком увлекся пропуском имен, ибо вторая группа 14 родов только тогда действительно заполнится, если еще раз присчитать Давида, отмеченного уже в первой группе, и затем закончить Иосией или, начав с Соломона, присчитать Иехонию; но так как за отчислением последнего в третьей группе родов остается лишь 13 имен, то приходится считать его, а не Давида, дважды, до и после вавилонского пленения. При помощи таких манипуляций автор действительно достиг намеченной им цели: Мессию-Иисуса представил потомком Авраама и Давида и сверх того, разбив всё родословие на три равные группы по 14 имен в каждой, получил возможность утверждать, что эта группировка родов не простая случайность, а указание Царства Божия, управляющего судьбами человечества, хотя она свидетельствует нам о том, что данное родословие есть продукт не тщательного исторического изыскания, а произвольной догматической конструкции.
В том родословии, которое приведено у Луки, такой числовой группировки мы не находим, однако же и тут знаменательным является то обстоятельство, что, сосчитав все имена, упомянутые в родословии, не исключая Бога, мы получаем число 77, то есть священную седмицу, повторенную 11 раз. Растянуть так родословный список стоило немалых усилий, о чём свидетельствует многократное повторение одних и тех же имен (например, Иосиф отмечается четыре раза, Иуда — два раза, столько же раз повторяются имена Левия, Мелхия, Матфата, Маттафии и, кроме того, какого-то Матфаты). Такое повторение наблюдается не только в тех местах, для которых нет указаний в Ветхом завете, но также и в историческом перечне родов, а это, в свою очередь, свидетельствует о том, что фантазия писателя-генеалога истощалась и что он вынужден был повторяться, когда ему на ум не приходило какое-нибудь новое имя.
Впрочем, не он был автором третьего евангелия, последний использовал уже готовое родословие и включил его в свое евангелие (удлинив его в восходящем направлении), что видно из того, что, как заметил уже Шлейермахер, родословие как-то противоестественно втиснуто им между двух связных и последовательных рассказов — о крещении и искушении Иисуса (у Матфея оно помещено в самом начале евангелия, и там оно вполне уместно, так как за ним следует непосредственно история рождения Иисуса), поэтому может показаться, что евангелист сам его составил и заранее предназначил для данного места; но такое предположение, как в отношении Матфея, так и в отношении Луки, опровергается самим содержанием родословия. Оба евангелиста в своем рассказе о рождении Иисуса заявляют, что к акту зачатия Иисуса Иосиф никакого отношения не имел, а между тем в своих родословиях они при помощи Иосифа связывают Иисуса с родом Давидовым. Правда, оба евангелиста в своих родословиях выставляют Иосифа лишь мнимым отцом Иисуса, отмечая, что он был «мужем Марии», от которой родился Иисус; но такая оговорка — очевидная приписка или поправка и сделана лишь с той целью, чтобы история рождения Иисуса не расходилась явно с родословием. Кто считал Иисуса сыном Давидовым, или Мессией и, чтобы доказать это, составлял родословие, по которому Иосиф оказывался потомком Давида, тот, очевидно, полагал, что Иосиф и был отцом Иисуса. Родословия Иисуса, помещенные в первом и третьем евангелиях, являются памятником такой эпохи и среды, для которой Иисус еще был естественно рожденным человеком. Тому, кто веровал, что Иисус родился от Марии по воле Божией, без участия мужчины-человека, и кто тем не менее хотел его представить сыном Давидовым, тому следовало бы доказать, что сама мать Иисуса, Мария, происходила из рода Давидова; но наши евангелисты дают нам родословия Иосифа; они не решились отбросить эти родословия, хотя те и были для них непригодны, так как отцом Иисуса в них является Иосиф. Чтобы разрешить дилемму, они решили порвать естественную, родственную связь между Иосифом и Иисусом и не заметили того, что тем самым они порвали жизненный нерв своих родословий и подточили всю их доказательность.
§54.
С естественнонаучной точки зрения оба родословия Иисуса, при всём своем несходстве и уклонении от истории и последующих евангельских рассказов, объясняются столь легко и просто, что нам трудно понять, зачем понадобилась иная точка зрения, усложняющая данный вопрос; и как можно считать правильной точку зрения, при которой вопрос лишь еще более запутывается. В действительности затруднения создаются лишь при предположении, что оба родословия Иисуса представляют собою настоящие исторические документы и что вся повесть о рождении Иисуса есть исторический рассказ.
Такое предположение обязывает прежде всего объяснить, как мог Матфей или составитель приведенного им родословия решиться выбросить из списка предков Иисуса четырех весьма известных иудейских царей и выступить с заведомо ложным заявлением, что со времен Давида и до вавилонского изгнания в стране иудейской сменилось лишь 14 родов или поколений. Предположить, что писатель, вдохновенный самим Богом, в данном случае ошибался, нельзя; писатель, действовавший самопроизвольно и по собственной инициативе, пожалуй, мог еще смешать Иоакима с Иехонией, но если писатель сразу пропускает трех царей, то есть именно столько, сколько было нужно, чтобы получилась вторая группа в 14 родов, то это уже не простая случайность, а явно предумышленное действие. Мы говорим: автор родословия хотел создать и получить 14-членную группу предков, и тем самым мы признаем антиисторическим произволом тот прием, которым он осуществил свой умысел. Наоборот, новейшие богословы-церковники, подобно некоторым отцам церкви, склонны усматривать в этом деянии нечто знаменательное; они говорят: опущение трех царей, живших между Иорамом и Осией, знаменует подтверждение Божией заповеди о непризнании многобожия и идолослужения (Исх. 20:5). Иорам, говорят они, женился на идолопоклоннице Афалии, дочери Ахава и Иезавели, поэтому ее потомство было недостойно наследовать теократический престол и вследствие этого было исключено также из родословия Христа. Однако все последующие цари, предки Иисуса, тоже были потомками означенной супружеской четы, поэтому при данном предположении следовало прервать на этом месте родословие. Нет! — возражают богословы: Иегова грозился покарать за идолослужение лишь до третьего и четвертого колена, поэтому лишь сыновья, внуки и правнуки означенной четы утрачивали право фигурировать в родословии Иисуса, что именно и отметил евангелист Матфей. Итак, мы видим, что и безумию присуща методичность, и потому не стоит и воздействовать на него доводами разума.
Однако и тем, кто в родословиях Иисуса видит исторические документы, всё же не мешало бы объяснить, почему эти родословия не согласуются друг с другом? Как мог Иосиф быть одновременно сыном Иакова и Илия? Как мог он происходить от Давида по линии Соломона и последующих царей и в то же время быть потомком Давида по линии Нафана и других нецарствовавших лиц? По-видимому, ответить на такой вопрос нетрудно. Например, в генеалогии Сципиона Африканского Младшего можно было бы составить два родословных списка, причем в одном могла бы фигурировать линия Сципионов, а в другом линия Эмилиев, и оба списка были бы неоспоримы исторически, ибо один составитель родословия исходил бы от естественного, родного отца Сципиона, а другой — от отца-усыновителя. Так и один из отцов церкви, Августин, усматривал в Матфеевом Иакове родного отца Иосифа, а в Илие Луки — его отца-усыновителя. В предупреждение вымирания родов закон Моисеев постановил, чтобы по смерти мужа его бездетную вдову брал себе в жены брат покойного и чтобы сын-первенец, родившийся от такого брака, записывался в родословие брата-покойника (Втор. 25:5–6). Поэтому уже до Августина ученый христианин Юлий Африканский пытался объяснить отмеченное разногласие евангельских родословий Иисуса тем, что мать Иосифа была замужем за Илием и, не имея от него детей, после его смерти вышла замуж за его брата, от которого и прижила сына Иосифа. Стало быть, прав Матфей, который заявляет, что Иаков родил Иосифа, потому что он был ему родным отцом; но прав также и Лука, который признаёт отцом Иосифа Илия, сыном которого он был по закону. Однако если Иаков и Илий были родными братьями, то, стало быть, отцом у них было одно и то же лицо, на котором оба родословия должны были бы сойтись, чего в действительности мы не замечаем. Поэтому Юлий Африканский предположил, что Иаков и Илий были братьями по матери, а у нее было двое мужей, из коих один принадлежал к роду Давидову по линии Соломона, а другой — по линии Нафана и первый прижил с нею Иакова, а второй — Илия. Эта гипотеза построена весьма искусно, но хороша она лишь тем, что не является совершенно невозможной, ибо всех наших недоумений она во всяком случае не разрешает. Так, в восходящей части родословия мы снова замечаем, что отец Зоровавеля, Салафииль, происходил от двух разных отцов и принадлежал к двум разным линиям родства; по словам Матфея, отцом его был Иехония из царствующей линии, а по словам Луки, — Нирий из другой, побочной линии. Поэтому опять приходится строить двоякое предположение: во-первых, что Иехония и Нирий были братьями и что один из них был родным отцом Салафииля, а другой, в силу левирата,[171] лишь законным отцом его, и, во-вторых, что оба были братьями лишь по матери, что их отцы тоже были последовательно женаты на одной и той же женщине, и поэтому один генеалог исходил от законного отца, а другой, вопреки закону Моисееву, от родного отца. Впрочем, такого рода толкования представляются чересчур искусственными даже многим богословам, которые поэтому предпочитают принимать простое отношение усыновления или предполагают, что Матфей и Лука говорят о разных Салафиилях и Зоровавелях или что одно из родословий является родословием Марии. Однако любопытно, которое из родословий может считаться родословием Марии, так как в одном из них (у Луки) Мария вовсе не упоминается, а в другом (у Матфея) только говорится, что Иосиф, отпрыск Давидов, был мужем Марии. Впрочем, в Матфеевом родословии прямая связь предков Иисусовых с предками Марии точно и ясно исключена словами: «Иаков родил Иосифа, мужа Марии». Поэтому нам остается допустить, что родословие, которое приведено у Луки и которое совсем не упоминает о Марии, и есть родословие Марии. Но у Луки (3:23–24) сказано: «Иисус… был, как думали, Сын Иосифов, Илиев, Матфатов» и т.д. Поэтому теологи предполагают, что слово «сын» в первом, третьем и последующих местах обозначает действительно сына и только во втором месте, между Иосифом и Илием, — зятя. Другие же теологи говорят еще и так: Иисус был мнимым сыном Иосифа, затем сыном, а через Марию — внуком Илия, далее сыном, то есть правнуком Матфата, и т.д. Но обе эти догадки крайне противоестественны, и потому мы затрудняемся принять какую-либо из них. Многие отцы церкви и апокрифические евангелия заявляли, что Мария тоже происходила от семени Давидова, но именно это евангелист Лука и отрицает: по поводу народной переписи он замечает (2:4), что Иосиф пошел из Назарета в Вифлеем записаться вместе с Марией, «потому что он (а не оба) был из дома и рода Давидова».
Далее возникал вопрос: какое же значение имеют для Иисуса эти родословия, если и перечень предков его, и рассказ о его рождении мы примем за исторические факты и если, стало быть, Иосиф был отпрыском Давида, но не был родным отцом Иисуса? Нам говорят: эти родословия или, по крайней мере, Матфеево родословие (если родословие, приведенное Лукой, считать родословием Марии) имеют целью показать не естественное происхождение и родство Иисуса, а лишь то, что теократическое право на звание Мессии им унаследовано было от Давида через мужа его матери и, стало быть, это родословие имеет значение юридическое, а не генеалогическое. Но в иудейском и древнехристианском представлениях (Рим. 1:3; Ин. 7:42) означенным родословиям фактически приписывался двойной характер юридико-генеалогического документа: мессианские права Иисуса обусловливались родством его с Давидом, и лишь тогда, когда стал изменяться взгляд на личность Иисуса и евангельские родословия стали терять свое первоначальное значение или из родословий Иосифа стали превращаться в родословия Марии, евангелисты, не желая совсем расставаться с древним, высокочтимым документом, попытались перекроить его на новый лад без всякого ущерба для новых догматов, но также и без пользы для себя.
II. Иисус-Мессия родился в городе Давидовом
§55.
Согласно изречению пророка (Мих. 5:2), желанному пастырю народа Божия, или Мессии, надлежало прийти из Вифлеема. Это пророчество евангелисты понимали в том смысле, что Мессия родится в Вифлееме (Мф. 2:4–6), и потому они умозаключили, что если Иисус — Мессия, то и ему надлежало родиться в городе Давидовом (Ин. 7:42).
Подтвердить и доказать это умозаключение было труднее, чем доказать происхождение Иисуса от Давида. О родителях Иисуса не было известно, что они происходили от семени Давида, но зато не имелось также данных, чтобы утверждать противное, и потому всякий мог по этому вопросу думать как угодно. Иначе обстояло дело с местом рождения Иисуса и местом жительства его родителей: тут уже всем было ведомо и памятно, что Иисус родился в Назарете, где проживали и родители его, а не в Вифлееме. Но так как место рождения может и не совпадать с местом постоянного жительства, пророчество могло оставаться в силе: Иисус ведь мог родиться во время переезда или родители его могли переселиться в другое место, когда он еще был младенцем. В первом случае они, следовательно, издавна проживали в Назарете и лишь по случайному поводу явились в Вифлеем на кратковременную побывку, а во втором случае они проживали вначале в Вифлееме, но затем были вынуждены переселиться в Назарет. Тут рассказчик был волен повествовать что ему угодно, и нам теперь нетрудно понять, почему каждый из повествователей повел рассказ по-своему. Иудаист-догматик по преимуществу считался с пророчеством о Вифлееме, а эллинист-прагматик склонялся в пользу исторических указаний о Назарете; первый смотрел на Вифлеем как на место пребывания родителей, а второй видел в Назарете место, где Иисус воспитывался и где он мог бы также и родиться, если бы пророчество не предуказало ему родиться в ином месте. Читатель знает, что первой точки зрения придерживался Матфей, а второй Лука.
Матфей, рассказывая о родителях Иисуса, о беременности его матери, о «сомнениях» Иосифа и их разрешении через ангела во сне (1:18–25), не говорит нам ясно, где всё это происходило; но вслед за тем он сразу заявляет, что Иисус родился в Вифлееме (2:1), и потому необходимо предположить, что и всё предыдущее происходило там же, что родители Иисуса постоянно и издавна проживали в Вифлееме и что евангелист упоминает Вифлеем лишь там, где того требовала его догматическая цель, а именно в связи с рождением Иисуса, который мог быть Мессией лишь в случае, если бы родился в городе Давидовом. Туда же на поклонение младенцу Иисусу являются и мудрецы с Востока, и вообще родители его, по-видимому, вовсе не намеревались покидать это место, если бы не явился им во сне ангел и не велел бежать в Египет, чтобы спасти младенца от предстоящего избиения детей вифлеемских (2:13–15); но после смерти Ирода, замыслившего это избиение младенцев, они опять-таки вернулись бы в Вифлеем, если бы преемник Ирода, Архелай, новый правитель Иудеи, в жестокости не уступавший Ироду, не возбудил в них новых опасений и ангел, явившийся во сне, не указал им поселиться в Галилейском городе Назарете (2:22–23). Отсюда явствует с полной очевидностью, что евангелист Матфей принимает пребывание родителей Иисуса в Вифлееме за реальный факт: он полагает и прямо заявляет, что они издавна проживали там, и вовсе не приводит их туда по случаю рождения Иисуса; наоборот, после рождения Иисуса он их выселяет оттуда и считает нужным объяснить, почему они потом вместе с Иисусом поселились в Назарете.
Наоборот, Лука, говоря о родителях Иисуса, отмечает, что исконным и постоянным местом их жительства был Назарет: там, по его словам, ангел Гавриил возвестил Марии о том, что она чудесным образом зачнет во чреве своем младенца (1:26–34); там же Мария обзавелась домашним хозяйством, туда же возвращается она после посещения Елисаветы (1:56), и туда же родители Иисуса после непродолжительной побывки в Вифлееме снова возвращаются вместе с младенцем причем евангелист говорит буквально, что возвратились они в «свой» город Назарет, то есть в место постоянного жительства (2:39). Следовательно, евангелист Лука, в противоположность Матфею, принимает за реальный факт проживание родителей Иисуса в Назарете, а не Вифлееме; он только помышлял о том, чтобы их своевременно переселить в Вифлеем, после чего возвращение в их родной город Назарет представляется уже фактом естественным и понятным.
Ввиду означенной проблемы третьему евангелисту пришлось считаться, с одной стороны, с тем обстоятельством, что, согласно сохранившемуся историческому сказанию, Иисус родился и проживал в Назарете, а с другой стороны, согласно догматическому предположению, приходилось утверждать, что Иисус-Мессия родился в Вифлееме. Мы не знаем, был ли евангелисту известен рассказ Матфея о рождении и отрочестве Иисуса, а если да, то, вероятно, он подумал про себя, что старейший его коллега по перу, Матфей, слишком уж упростил задачу. Он должен был спросить себя: как очутились родители Иисуса в Вифлееме? Ответ Матфея, что они издавна и постоянно проживали там, ему должен был показаться произвольно предрешенным. Их прибытие в Вифлеем Лука мог, в крайнем случае, мотивировать предположением о том, что явился ангел и велел Иосифу отправиться вместе с Марией в Вифлеем, дабы исполнилось пророчество Михея (к чудесным появлениям ангелов Лука питает такое же пристрастие, как и Матфей). Но такой выход Луке всё же должен был казаться слишком искусственным и неожиданным, к тому же ангела пришлось ему выводить на сцену уже раньше, при благовещении об Иисусе и его Предтече, да и позднее, при рождении Иисуса, тоже еще предстояло призвать на помощь ангелов. Поэтому Лука, вероятно, предпочел мотивировать перемещение родителей Иисуса естественной причиной, историческими обстоятельствами данной эпохи, тем более что такое объяснение ничуть не исключало предуказаний божественного промысла. Наконец, в этом случае автор имел возможность отметить, что ему известно то, чего не ведали другие авторы евангелий, а именно что он знаком с историей и древностями не только иудейскими, но и римскими. Что Лука действительно не прочь был обнаружить свою эрудицию, это мы видим не только из данного рассказа, но также из его попытки хронологически определить момент выступления Предтечи (3:1 и сл.) и из тех исторических экскурсов, которыми он изукрасил речь Гамалиила в Деяниях апостолов (5:34–39). Впрочем, все эти доказательства эрудиции евангелиста свидетельствуют лишь о том, что исторические познания его не отличались ни точностью, ни глубиной. Так, в евангелии он заявляет, что в 30-х годах по Р.X. в Авилинее правил некий Лисаний, который в действительности был убит уже за 30 лет до Р.X.[172] В другом месте (в Деяниях) он устами одного из членов иерусалимского синедриона, Гамалиила, упоминает как о факте прошлого об одном восстании, которое случилось 10 годами позднее того времени, когда произносил свою речь Гамалиил; а вслед за тем как о последующем событии говорит о другом мятеже, который случился 30 годами раньше первого, а именно Гамалиил во времена Тиберия говорит: «Незадолго перед сим явился Февда» (Деян. 5:36), а затем рассказывает о восстании Февды так, как говорит о нём Иосиф Флавий,[173] однако нам доподлинно известно, что восстание Февды случилось тогда, когда наместником был Куспий Фад, который в Иудею был послан Клавдием. Затем Гамалиил продолжает: «После него (Февды) во время переписи явился Иуда Галилеянин». Но в данном случае речь идет об известной Квириниевой переписи, произведенной после смещения Архелая Августом. Но, разумеется, теологи столь же любезно и предупредительно относятся к своим «священным» авторам, как на стрельбищах метчики относятся к высокопоставленным особам; сколько бы промахов они ни сделали, метчики неизменно удостоверяют, что они в мишень попали. Точно так и в данном случае являются на сцену некий Лисаний попозже, а некий Февда пораньше, чтобы не уронить достоинства исторических знаний Луки или даже самого Святого Духа. Но если автор трижды пытается блеснуть своей исторической начитанностью (о третьей попытке сказано будет ниже) и трижды столь решительно «проваливается», что толковникам приходится потратить много сил и времени, чтобы затушевать его промахи, то, стало быть, начитанность и ученость евангелиста не так уж значительны.
Впрочем, автор не совсем несведущ в области истории: он имел понятие о «переписи», то есть о том римском цензе, осуществление которого так взволновало в то время иудеев и послужило поводом к восстанию Иуды Галилеянина. Неудивительно, что об этой переписи он вспомнил именно тогда, когда ему пришлось переселять родителей Иисуса, живших в Назарете, в Вифлеем, где надлежало родиться Иисусу-Мессии. Если эта перепись вызвала такую смуту и волнение в народе, то разве не могла она побудить и родителей Иисуса предпринять столь желательную для евангелиста поездку в Вифлеем? К тому же всякая перепись вообще способствует передвижению и переселению различных групп населения, а данная перепись могла евангелисту показаться очень подходящим предлогом, потому что по части хронологии он был нетверд, перепись он относил (в Деяниях апостолов) ко времени события, которое случилось тридцатью с лишним годами позднее, и, стало быть, он перепутал хронологию либо в одном, либо в другом случае или, вернее, в обоих случаях. Правда, в своем евангелии (2:1 и сл.) он по части переписи обнаруживает большую осведомленность, чем в Деяниях; он замечает (и историографией это подтверждается), что эта перепись была «первой», произведенной римлянами в Иудее, вследствие чего она и повела к восстанию Иуды. Далее Лука сообщает, что она была исполнена Квиринием,[174] правителем Сирии, что подтверждает также Иосиф Флавий. Наконец, ему известно, что перепись эта состоялась в силу повеления кесаря Августа, который пожелал «сделать перепись по всей земле», то есть по всей Римской империи.
Относительно последнего заявления Луки следует заметить, что оно не подтверждается, ибо никто из более ранних писателей, современников Августа, не упоминает, чтобы этот император повелел произвести общеимперскую перепись. Светоний, как и Дион Кассий, и «Памятник Анкирский»[175] сообщают лишь о многократных частных цензах народа, то есть римских граждан, и лишь источники значительно более позднего периода (конца V в. по Р.X.) говорят о переписи и измерении всей империи, и говорят об этом словами, свидетельствующими о зависимости от цитированного Луки. Возможно, что евангелист в данном случае допустил преувеличение, предполагая, что повелителю римского мира приличествует издавать лишь «мировые» декреты или что родителей Спасителя мира могло побудить отправиться в Вифлеем только событие взволновавшее весь мир.[176] Беда лишь в том, что перепись произведена была в Иудее не в то время, которое указывает евангелист. Выше уже было сказано, что, когда Архелай лишился сана народоправителя (этнарха) Иудеи и Самарии и область его была присоединена к провинции сирийской, наместник этой провинции, Квириний, по повелению императора распорядился произвести перепись (ценз) жителей и их имущества в целях обложения их податью[177]. Но к этому времени Иисусу было уже не менее семи лет от роду, если верить свидетельству Матфея (2:1) и Луки (1:5), что Иисус родился «во дни Ирода, царя Иудейского». Следовательно, перепись Квириния произведена была в действительности слишком поздно, чтобы к ней можно было приурочить отбытие Марии в Вифлеем для рождения Иисуса.
Но, может быть, перепись произведена была в Иудее 10 годами раньше? Допуская это, мы приходим к выводу, что Лука смешал областную перепись с общеимперской и перепись раннего периода с переписью позднейшего времени. В таком случае Лука повинен не только в хронологической ошибке: более ранняя перепись, вопреки Луке, не могла произойти при Квиринии, правителе Сирии, так как Квириний назначен был наместником в Сирии много лет спустя после смерти Ирода. Далее, о переписи ничего не говорит Иосиф Флавий, который весьма подробно повествует об этом времени, да и римляне производили перепись обычно лишь тогда, когда какую-нибудь область им удавалось всецело отобрать у местных повелителей и подчинить римскому управлению, а перепись Квириния, состоявшаяся после свержения Архелая и вызвавшая смуту в народе, по-видимому, принадлежала к числу цензов, впервые произведенных римлянами среди евреев. Допустим, однако, что по той или иной из причин (указанных Иосифом Флавием[178]) римляне в виде исключения (об исключениях подобного рода упоминает Тацит) действительно произвели перепись в Иудее, прежде чем последняя окончательно превратилась в римскую провинцию. В таком случае ценз этот должен был производиться обычным порядком и с такой целью, с какой цензы обыкновенно производились у римлян. Но Лука сообщает (2:3), что по приказу императора во время переписи «пошли все записываться, каждый в свой город», то есть каждый пошел в тот город, в котором прописан был его род, вследствие чего и сам Иосиф отправился в Вифлеем, город Давидов, потому что там 1000 лет назад родился его родоначальник Давид. Не подлежит сомнению, что так поступали иудеи при своих всенародных переписях, ибо иудейская государственность, по крайней мере в древности, покоилась на родовых и племенных началах. Но римляне преследовали статистико-финансовые цели, производя цензы (перепись) в провинциях, и не руководствовались при этом ни родовыми, ни племенными соображениями. По свидетельству наиболее достоверных источников, сельчане у римлян призывались в областные города и вообще всякий обыватель призывался в тот город, в котором числился гражданином его родной или названый отец. Весьма невероятно, чтобы оставшиеся в живых потомки Давида (а в том числе и сам Иосиф, если признать его потомком Давидовым) продолжали еще считаться гражданами Вифлеема после всех тех перемен и пертурбаций, которые произошли за тысячелетний период времени, и после того, как они уже успели расселиться по более или менее отдаленным областям. Нам могут указать на то, что римляне при производстве переписей на окраинах подстраивались к обычаям подвластных им народов. Но, вероятно, они даже и в подобных случаях всё-таки не упускали из виду преследуемых целей, и данному предположению противоречит наш случай, когда человек (Иосиф) для дачи показаний о себе лично, о своей семье и своем имуществе является из отдаленной Галилеи в Вифлеем, где не было почти никакой возможности проверить правильность его цензовых показаний.
Далее, по словам Луки, Иосиф отправляется в Вифлеем не один, а вместе с обрученной с ним Марией, чтобы вместе с нею записаться (2:5). Но подобная совместная явка была не нужна по законам римским и иудейским. Из Ветхого завета нам известно, что при иудейских переписях женщины постоянно игнорировались, а относительно римских цензов известно, что, по закону Сервия Туллия, римский гражданин вовсе не обязан был приводить на перепись своих женщин и детей, а должен был лишь заявить о них; личного привода женщин не требовал римский закон также и от обитателей провинций. Стало быть, если Мария и отправилась в Вифлеем, то лишь по собственному желанию или по предложению Иосифа, да и вообще вся их поездка представляется актом их доброй воли, потому что, вопреки Луке, ничто не заставляло их ехать в Вифлеем. Перепись Квириния не могла понудить их к этой поездке, потому что она произошла десятью годами позднее, а относительно другой, более ранней переписи нам ничего не известно, не говоря уже о том, что такая перепись не соответствовала данным обстоятельствам. Перепись Луки не была ни римским цензом, потому что римский ценз не стал бы призывать галилеянина в Вифлеем, ни переписью иудейской, потому что при иудейской (как и римской) переписи Марии можно было преспокойно оставаться дома. Стало быть, самих родителей Иисуса никакая видимая причина не понуждала предпринимать эту поездку, да еще в такое время, когда Мария уже была беременна. Но евангелисту очень важно, чтобы они поездку эту совершили, и, хотя момент поездки для них был неудобен, он был удобен для него, чтобы он мог заявить, что Иисус родился в городе Давидовом и поэтому одно из самых главных требований, предъявляемых Мессии, им фактически выполнено.
III. Иисус-Мессия, подобно Давиду, помазуется на служение пророком
§56.
Чтобы быть вторым Давидом и в то же время превзойти его, Мессия должен был не только происходить от семени Давидова и родиться в городе Давидовом, но также получить еще помазание на царство от Бога через какого-нибудь пророка. Давида помазал на царство Самуил миром, которым он раньше помазал и Саула, первого царя. По случаю помазания Давида Бог повелел Самуилу пойти в Вифлеем и обещал ему там указать, кого из сыновей Иессея он избрал на царство (1 Цар. 16:1–13); Саулу же, наоборот, Бог повелел явиться к Самуилу, которому он указал на Саула как на избранника, заслужившего помазание миром (1 Цар. 9:15–16).
Но этот Давидов прообраз для посвящения Мессии был подменен другим представлением в эпоху, последовавшую за вавилонским пленением. Народу, предавшемуся несчастью, предстоял Страшный суд Иеговы, но до суда, по словам пророка Малахии (4:5), Иегова еще раз попытается исправить и спасти народ свой, послав ему пророка Илию, который своей мощной проповедью подготовит людей к суду Божию и «представит Господу народ приготовленный» (Лк. 1:17). Илия был тот глашатай, который приуготовит пути Господу (Мал. 3:1); о нём же возвещал и глас, услышанный вторым Исаией (40:3) в конце периода изгнания в пустыне. Пришествия Илии, который должен был возродить всех заблуждавшихся и нравственно упадших, всякий благочестивый израильтянин стал ждать с нетерпением и называл блаженными тех, кто его увидит (Сир. 48:11), и так как в народе сложилось мнение, что после Илии придет не сам Иегова, а Мессия, то Илия был признан предтечей Мессии (Мф. 17:11); ему же надлежало совершить над Мессией то, что совершил Самуил над Давидом, то есть помазать его и при этом объявить ему, а также и другим, что он предназначен для высокой миссии, как Самуил возвестил Давиду о предуготованной ему роли.[179]
Что Илия воскрес и помазал Иисуса, этого не знал, да и не решался утверждать никто; поэтому всем, кому хотелось приписать Иисусу также эту мессианскую примету, приходилось искать среди людей, знавших Иисуса, человека, который походил бы на Илию и совершил бы над Иисусом манипуляцию, аналогичную миропомазанию пророка. Самым подходящим для этого лицом оказывался Иоанн Креститель, который незадолго перед выступлением Иисуса стал очень популярной личностью. Он проповедовал в пустыне иудейской и поэтому мог сойти за «глас вопиющего в пустыне», о котором говорил Исаия. Он призывал покаяться, ибо царство небесное уже близко, и, следовательно, он приуготовлял путь Господу. Он вел суровую аскетическую жизнь и мог быть и в этом отношении приравнен к Илии Фесвитянину. Правда, Иисуса он не помазал миром, а крестил водой; но и такое крещение могло сойти за миропомазание, так как вся эта церемония совершена была над Иисусом не для того, чтобы он изменил свои помыслы, а для того, чтобы посвятить его на мессианский подвиг и приуготовить к этому призванию.[180]
Крестителя, подвизавшегося на берегах Иордана, нельзя было послать к Иисусу в дом, как послан был Самуил в дом Давида, чтобы помазать его на царство; наоборот, Иисус должен был явиться сам к Крестителю на Иордан, что он и исполнил. Чтобы крестить Иисуса (Мф. 3:13–17; Мк. 1:9–11; Лк. 3:2–22; Ин. 1:32–34), Иоанну не требовалось специального повеления от Бога, какое некогда дано было Самуилу, потому что он крестил вообще всех, обращавшихся к нему, но крещение Иисуса должно было иметь особое значение: оно должно было сообщить ему необходимые силы и способности для предстоящего мессианского подвига, так как крещение это было равносильно миропомазанию. Совокупностью таких божественных сил и способностей или, точнее говоря, передатчиком и насадителем их в человеке, по убеждению иудеев, был Дух Божий. Когда Самуил помазал Давида в кругу его братьев (1 Цар. 16:13), говорит Святое Писание, дух Иеговы вселился в Давида в тот же час. Об отпрыске корней Иессеевых о Мессии, Исаия (11:1–3) прорицал, что на нём почиет дух Иеговы, дух премудрости и разумения, дух совета и могущества, дух познания и страха Божьего.
В Ветхом завете преимуществом особо избранных угодников Божиих, царей и пророков (Ис. 61:1) признавалось то, что на них сходил Дух Божий, и сказывалось это в повышенном вдохновении. Эта черта в новоявленной общине Мессии стала общим достоянием, так как, согласно пророчеству Иоиля (3:1), через крещение, совершаемое во имя Иисуса, и через возложение рук от апостолов крещаемым сообщался дар Святого Духа (Деян. 2:38 — 8:17; 19:5–6; Рим. 8:9; Гал. 3:2). Естественно, что от такого вторичного низведения Святого Духа на христиан первичное сошествие Святого Духа на Христа должно было во многом отличаться: оно должно было не только проявиться в каком-либо необычайном результате, но также и принять характер чудесного внешнего происшествия. Естественным символом Духа Божия всегда считался огонь. Иоанн Креститель предрекал (Мф. 3:11), что идущий вслед за ним будет крестить «Духом Святым и огнем». Поэтому Христос, вознесясь на небо, ниспослал Св. Дух на апостолов сначала в виде раздельных огненных языков, а потом он незримо стал передаваться через рукоположение (Деян. 2:3), а в евангелии, которым пользовался Юстин[181], было сказано, что при крещении Иисуса воды Иордана загорелись огнем.[182] Кроме огня в Ветхом завете мы находим еще другой символ Духа Божия. В Св. Писании сказано, что на отпрыске Давидовом Дух Божий будет «почивать», что он «сойдет» на него свыше. Перед сотворением мира Дух Божий витал над первозданными водами (Быт. 1:2), а древнеиудейские толковники добавляют: Дух Божий витал над миром, как голубица витает над своими птенцами, не прикасаясь к ним. Над водами, затопившими землю во времена Ноя, тоже витала голубица (Быт. 8:8–12), и так как противоположностью всеуничтожающего потопа христиане признавали спасительную воду крещения (1 Пет. 3:20–21), которая сопоставлялась также с водой первозданной, то вполне естественно возникла мысль о том, что голубица появилась при крещении Мессии-Иисуса, отметив собой высокое значение этого акта. Символическое значение голубицы и агнца было хорошо известно христианам (Мф. 10:16), и этими символами кротость христианского учения определялась гораздо выразительнее, чем огнем (Лк. 9:54–56).
Евангелие Евреев утверждает, что Дух Божий в виде голубицы не только витал над Иисусом, но и вошел в него, но эбиониты, которые в противоположность позднейшему учению церкви утверждали, что Иисус был просто человеком, старались, разумеется, возможно нагляднее подчеркнуть его возвышенное естество. Также и в наших трех первых евангелиях рассказ о крещении Иисуса в своей первоначальной версии как и родословии Иисуса проникнут еще той идеей, что Иисус был человек, естественным путем рожденный. Но и при этой точке зрения евангелисты сочли возможным отрешиться от нелепого поверья в то, что голубица вошла внутрь Иисуса (вероятно, через рот), ибо и простое витание голубицы над его главой, о чём Иоанн говорит прямо и что другие евангелисты (согласно изречению Исаии, 11:1), видимо, подразумевают, могло сослужить им требуемую службу: оно символизировало постоянство, если и не имманентность божественного естества в Иисусе.
То обстоятельство, что голубица появилась из разверстого неба — причем, по словам Евангелия Евреев, всё место осветилось ярким светом, — показывает, что эта голубица была не заурядной птицей, а существом высшего порядка. Однако эпизод этот являлся лишь немою сценой и требовал более или менее яркого освещения или изъяснения. Его мог представить Иоанн Креститель, которому надлежало указать, что это сошествие Святого Духа на Иисуса обращает его в Мессию и наглядно утверждает его в этом звании. Многим казалось, что это разъяснение взято из Ветхого завета, где сам Иегова устами псалмопевца (2:7) заявляет: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя». Что это изречение относилось к кому-то из царей израильских и обращало его в наместника Божия, это вполне очевидно и бесспорно, но для нас не представляет никакого интереса вопрос о том, кто именно из царей подразумевался псалмопевцем в данном случае. Наоборот, в Новом завете это изречение неоднократно (Евр. 1:5, 5:5; Деян. 13:33) относится к Иисусу и истолковывается в смысле указания на то, что он есть Мессия или сын Божий в высшем смысле этого слова. Такое указание было дано в псалме Давидом (Деян. 4:25) по повелению от Бога, поэтому вполне естественно, что Богу надлежало самолично подтвердить это теперь, когда настало время исполнить обетование. Небо разверзлось, чтобы дать сойти Духу Божию в виде голубицы, поэтому из отверстого неба мог послышаться и глас Божий, подчеркнувший высокое значение всей этой сцены известным изречением Божиим о Мессии.
Тут мы предполагаем, что глас с неба говорил ту фразу, которую цитирует Юстин из «Достопамятностей апостольских» по псалму 2:7: «Ты Сын Мой, Я ныне родил Тебя»[183]. Так это изречение читали многие из позднейших отцов церкви, а в одном из наших рукописных евангелий данное место евангелиста Луки формулируется точно так же. В Евангелии Евреев Епифания эта форма уже сочетается с формой наших евангелистов; так глас небесный сначала говорит так, как он говорит у Луки: «Ты сын мой возлюбленный, в тебе мое благоволение», а затем прибавляет: «Тебя я родил ныне». Пораженный блеском света, появившегося при этих словах, Креститель спрашивает Иисуса: «Кто ты, Господи?», на что глас небесный отвечает, как у Матфея: «Сей есть сын мой возлюбленный, в коем мое благоволение». Что именно заставило сначала переставить слова «ныне я тебя родил», а потом и вовсе их отбросить, это мы узнаем из толкований Юстина, который говорит, что эти слова не значат, будто Иисус стал сыном Божиим лишь в тот момент; после крещения от Иоанна Иисус стал сыном Божиим не объективно, а субъективно, в представлении людей. Означенные слова отлично подходили к тому взгляду, который, как мы показали, лежит в основе родословий у Матфея и Луки и который мы позднее встретим еще у Керинфа и эбионитов, — что Иисус был естественно рожденным человеком, которому сообщилось высшее свойство при крещении. Но если мы, подобно авторам трех первых евангелий, а также Юстину, будем утверждать, что Иисус зачат был от Святого Духа, то вышеозначенные слова теряют всякий смысл и должны быть искусственно истолкованы или совершенно опущены. Но так как в последнем случае пришлось бы расстаться с небесным гласом, решено было ухватиться за другое изречение Иеговы, которое тоже истолковывалось в мессианском смысле (Ис. 42:1) и которое Матфей применительно к Иисусу в другом месте (12:18) формулирует так: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный Мой, Которому благоволит душа Моя». Со сценой крещения это изречение вполне гармонировало, так как Иегова далее заявляет, что на него, возлюбленного отрока, он «положит» дух свой (хотя под отроком возлюбленным пророк, очевидно, разумел народ израильский). Сходство с изречением пророка особенно наглядно сказывается в той версии гласа небесного, которую находим у Матфея (сей есть сын мой возлюбленный), тогда как исключенное изречение псалмопевца всего более напоминает версию Марка и Луки (ты сын мой возлюбленный).
Строго говоря, не одно лишь это изречение псалмопевца пошло в разрез с изменившимся воззрением на личность Иисуса. Если Иисус был зачат и рожден от Святого Духа, то зачем же Дух сходил на него впоследствии? Если он был сын Божий (о том, что он представлял собой Божественное Слово, или Логос, мы пока не говорим), то можно ли было сообщить ему еще какие-то высшие и совершеннейшие свойства Божества? Да и приличествовало ли сыну Божию принять крещение покаяния от Иоанна? Чтобы устранить этот последний соблазн, автор первого евангелия (Мф. 3:13–15) дополнил сцену крещения следующим диалогом: явившегося креститься Иисуса Иоанн хочет «удержать» или отговорить от этого намерения замечанием: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?», но Иисус ему возражает на это: «Оставь теперь, ибо так надлежит нам исполнить всякую правду» (то есть оправдать ожидание, основанное на мнимых прообразах и пророчествах о том, что второй Илия придет и помажет Мессию).
После устранения недоумения о неприличии крещения оставалось еще противоречие между последующим сообщением даров Святого Духа и первичным зачатием от Святого Духа, и это противоречие стало теперь выступать еще резче. Если Креститель и возражал против крещения Иисуса до акта крещения и тех чудесных знамений, которыми оно сопровождалось, то он должен же был знать, и знал заранее, что Иисус «сильнее» его, что он Мессия, ибо он сам же признаёт (Мф. 3:11), что ему «надо креститься» от Иисуса Духом Святым и огнем; следовательно, означенные чудесные знамения совершались не для него, Крестителя, а для народа или для самого Иисуса. По первоначальному смыслу повествования чудеса, ознаменовавшие крещение, относились к Иисусу и имели вполне реальную цель — наделить его дарами Духа Божия, но такой смысл знамений исключается более высоким взглядом на личность Иисуса; поэтому Матфей и Марк изображают этот эпизод в виде зрелища или манифестации, преподнесенной Иисусу (неведомо зачем), а также и Крестителю, тогда как у Луки, даже воплотившего голубицу, свидетелями-очевидцами этих чудес являются все присутствующие. Такое изложение не могло удовлетворить четвертого евангелиста, который полагал, что Христа уже нельзя было наделить какими-либо дарами или свойствами, которыми он не обладал бы предвечно, будучи божественным Логосом; поэтому он находил, что чудесные крещенские знамения относились не к Иисусу, а к Крестителю, и имели целью убедить последнего, что Иисус есть сын Божий. Но внушать ему такое убеждение необходимо было лишь в том случае, если бы он не знал заранее, что Иисус — сын Божий, и в данном случае разъяснение четвертого евангелиста противоречит словам первого евангелиста (Ин. 1:29–34). Но при такой версии отпадал и глас небесный, который у евангелиста заменен простым указанием на то, что о грядущем знамении Креститель уже знал от Бога.
Понимая евангельский рассказ о чудесах, сопровождавших крещение Иисуса, исторически, то есть в смысле и духе самих евангелистов и их времени, и не считая его по этой именно причине рассказом историческим мы избавляемся от множества неразрешимых недоумений и противоречий, с которыми встречаются теологи, пытающиеся истолковать их при предположении, что данный эпизод есть историческое, достоверное событие. Одни из них стремятся объяснить чудо в смысле видения, которое Бог будто послал Крестителю и Иисусу; другие предполагают, что над Иисусом случайно пролетела настоящая, вполне реальная голубица; третьи утверждают, что в данном случае имело место атмосферное явление, гроза с молнией и громом, который принят был за глас небесный. Однако всё это — мелочь сравнительно с главным вопросом: зачем же сыну Божию, зачатому от Святого Духа, надо было дополнительно сообщать дары Святого Духа? Этот вопрос, с нашей точки зрения, разрешается легко и как бы сам собою, а теологам приходится решать его при помощи парадоксов и ухищрений, поражающих своей нелепостью. Одни при этом заявляют, что в Иисусе пребывал предвечно сын Божий, но Дух Святой, третье лицо Божества, вступил с ним в некоторую новую связь, которая отличалась от единосущности Бога-Духа, Бога-Сына и Бога-Отца. Другие уверяют, что Иисусу был врожден Святой Дух как начало жизни, но при крещении он сообщился ему как дух его призвания или миссии. Наконец, третьи говорят, что Иисус извечно сознавал себя сыном Божиим, но лишь в момент крещения наделен был силой показать себя сыном Божиим перед очами всего мира. Все эти объяснения представляются лишь жалкими софизмами и бессодержательными абстракциями, о которых, вероятно, и сами интерпретаторы не отдавали себе ясного отчета.
Итак, евангельский рассказ о происшествиях, отметивших крещение Иисуса, со всеми добавлениями, возникшими на почве иных, отличных представлений, в главных своих чертах подсказан был желанием показать, что Иисус, сын Давидов, получил помазание и соответствующие дары Святого Духа свыше, как предок его, Давид, получал их через Самуила. Это желание проявилось у одного из евангелистов в очень наглядной и определенной форме. Как книга Самуила, в которой главным действующим лицом является Давид, исходит из истории рождения Самуила, а не Давида, так и Лука предпосылает истории благовещения и зачатия Иисуса историю его Предтечи, причем нисколько не скрывает, что он кому-то подражает.[184] Поэтому здесь было бы уместно выяснить происхождение рассказов о детстве Крестителя, но так как они тесно сплетаются с рассказами о благовещении и рождении Иисуса и их приходится рассматривать в связи с последними и так как история рождения Иисуса изложена в евангелиях не с точки зрения родства его с Давидом, а с точки зрения его родства с Богом-Отцом, то и нам приходится этому вопросу отвести особую главу в нашем исследовании.
II группа мифов: Иисус — сын Божий
I. Иисус, вне всякого участия со стороны мужчины-человека, зачат Марией от Святого Духа
§57.
Как было выше сказано, христианское учение в своей морально-религиозной основе возникло из иудаизма, когда последний уже успел в процессе истории проникнуться до насыщения различными инородными и, главным образом, греческими образовательными элементами. То же следует сказать и о представлении о том, что Иисус есть сын Божий, ибо оно, хотя и не является духовной основой христианского учения, всё же определяет собой его форму. Наименование Иисуса Мессией утверждалось на базе древнего иудаизма, и в действительности, как было отмечено выше, оно имело только иносказательный, фигуральный смысл, которым не исключалось представление об Иисусе как подлинном человеческом сыне. То, что Иисус стал признаваться истинным сыном Божиим без человеческого отца, объясняется влиянием языческих представлений на общее мировоззрение древних христиан.
Изречение псалмопевца о сыне Божием, рожденном днесь, как мы сказали, относили к Иисусу даже те, кто считал его сыном Иосифа и понимал его родство с божеством в традиционном теократическом смысле, что-де Иисус, как вообще все лучшие цари из рода Давидова, но в более высокой степени, является любимцем и наместником Бога. Такое представление об Иисусе утверждалось по преимуществу на вере в его воскресение из мертвых, на вере в то, что он продолжает пребывать у Бога, но оно не скоро вытеснило собой другое, естественное представление о его действительном происхождении. В первой главе Послания к римлянам апостол Павел говорит об Иисусе, что он «родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни, через воскресение из мертвых». Отсюда явствует, что оба воззрения при иудаистской точке зрения не исключали друг друга.
Однако же в иудействе замечалась склонность противопоставлять друг другу естественное и религиозное воззрение, причем роль естественных родителей в рождении особо выдающихся людей сильно умалялась в пользу божественного вмешательства. Лица, которым в предначертанном от Бога плане отводилась наиболее важная роль в деле воздействия на избранный народ Божий, в еврейской легенде изображаются по преимуществу людьми, родившимися поздно, от престарелых родителей или неплодных матерей. Апостол Павел говорит (Рим. 4:16–20), что Авраам поверил Богу, оживляющему мертвых и делающему несуществующее существующим, поэтому он не считал, что тело его, почти столетнее, уже омертвело и утроба Сарры тоже омертвела, он пребывал твердым в вере, что Бог силен и исполнит обещанное, то есть даст ему, старику, сына Исаака. Далее, Иосиф, любимейший и мудрейший из сыновей Иакова и спаситель его рода, родился от матери, долго остававшейся неплодной, как и Самсон-богатырь и Самуил, основатель иудейского царства и истинного богопочитания, причем рождение этих двух героев, по преданию, было предвозвещено ангелами небесными, а рождение Исаака — самим Иеговой. Выше мы сказали, что по тому же плану Лука составил историю рождения Крестителя, и в апокрифических евангелиях мы находим сообщение о том, что Мария, матерь Иисуса, тоже родилась от престарелых родителей, причем один из апокрифов по этому случаю дает поучительное разъяснение той идеи, которая лежит в основании подобных сказаний, а именно по поводу вышеотмеченных ветхозаветных примеров апокриф говорит:
«Бог затворяет утробу женщины-матери затем, чтобы чудесным образом снова открыть ее и показать, что родившееся после того дитя есть дар Божий, а не плод страсти человеческой».[185]
Если при подобных запоздалых деторождениях главная роль отводится Богу, то нетрудно было додуматься и до той мысли, что в одном особо выдающемся случае деторождения Богу благоугодно было исполнить всё, то есть вполне устранить мужчину-человека за невозможностью устранить самоё женщину от акта деторождения.
Тем не менее эта мысль еще долго «смущала» и отталкивала правоверных иудеев. Открыв утробу женщины, долго остававшуюся закрытой восстановить почти иссякшую детородную силу у престарелых супругов — всё это мог исполнить Бог, творец и хранитель мира и действующих в нём сил без всякого ущерба для чистоты своего сверхъестественного существа, но видеть в Боге олицетворение детородного начала и заместителя родителя-мужчины казалось делом крайне соблазнительным, ибо такое представление низводило Бога на степень чувственных существ или сладострастных языческих богов. Однако в Ветхом завете имелось изречение, которое могло быть истолковано в вышеуказанном смысле и было использовано христианами древнейшего периода, изречение Исаии (7:14) о забеременевшей девственнице. Когда во времена Ахаза царь сирийский Рецин и царь израильский Факей напали на Иудею, царь иудейский (Ахаз) испугался и стал просить помощи у ассирийского царя; тогда пророк Исаия успокоил его следующим знамением: обстоятельства царя изменятся к лучшему, если некая «Дева (вероятно, жена самого пророка; ср. 8:3, 8)[186] во чреве примет и (в надлежащий срок) родит Сына, и нарекут имя Ему Еммануил, что значит: с нами Бог» (Мф. 1:23).
Тут, правда, ничего не говорится ни о Мессии, ни о рождении младенца от девственницы, но это обстоятельство не помешало иудеям издревле славившимся своими произвольными толкованиями текстов Писания, истолковать означенное изречение применительно к Мессии, а христианам оно не помешало увидеть в этом изречении пророчество об их Христе, тем более что и среди иудеев уже существовало представление о подобном сверхъестественном рождении Мессии; впрочем, до сих пор не удавалось установить такое представление для эпохи дохристианской. Наоборот, в греко-римской религии, как известно, подобное представление о детищах богов было весьма обычно и относилось оно не только к полубогам мифического периода, но также и к отдельным лицам позднейшей исторической эпохи. Нередко это представление, по-видимому, создавалось на почве тщеславия самих властителей и лести подвластных им людей, но часто оно бесспорно выражало искреннее верование почитателей известного державца или героя и нередко возникало весьма рано, вслед за кончиной «обожаемого» лица. Так приверженцы Пифагора, фанатики и мистики позднейшей эпохи, провозгласили его сыном Аполлона, а относительно Платона еще при жизни его племянника Спевсиппа в Афинах сложилось сказание о том, что он, Платон, родился от брака Аполлона с его матерью Периктионой. По этому поводу один из ученых отцов христианской церкви замечает, что в представлении людей князь мудрецов (Платон) мог родиться только от девственницы (и бога мудрости, добавим от себя). Александр Великий, вероятно, сам пустил слух о том, что он родился от брака Зевса с его матерью Олимпиадой, а Ливий предполагает, что аналогичный слух, ходивший среди римлян относительно Сципиона Старшего, тоже создался при деятельном участии последнего. Вполне мог сделать то же Август, о котором Светоний и Дион Кассий на основании древних источников воспроизводят следующую легенду, явно скопированную со сказания о рождении Александра: к матери Августа, Аппии, уснувшей в храме Аполлона после ночного пиршества в честь этого бога, подползла змея, от которой у нее родился через 10 месяцев сын Август, считавшийся сыном Аполлона. Как бы ни создавались подобные сказания, но им верили в те времена, так как они соответствовали стремлению тогдашнего человечества прийти в непосредственное общение со сверхчувственным миром, и потому неудивительно, что и христиане захотели своему Мессии отвести место в ряду всех этих мудрецов и властителей, богами порожденных. При этом христиане, разумеется, тщательно устраняли всё, что напоминало о сладострастии, о половом совокуплении, тогда как в греко-римских легендах этот момент подчеркивается нарочито и откровенно. Христиане говорили, что не Бог в образе человека или змеи тайком подкрался к матери Мессии, а Святой Дух или сверхчувственная творческая сила Бога во чреве чистой девы призвала к жизни младенца Божия.
В подобной форме означенное представление было приемлемо и для христиан из иудеев. Они находили, что подобное рождение Христа предсказано в изречении Исаии о сыне девы, что аналогичными прообразами их Мессии являются ветхозаветные угодники Божии, которые рождались поздно и паче чаяния человеков, но вместе с тем они избавлялись от староиудаистских нареканий, сообщая эпизоду рождения Иисуса сверхчувственный характер, и в борьбе своей против иудаизма приобретали важное оружие, отмечая то преимущество, которое присуще рождению такого рода и которое ставит Христа выше Моисея и всех староиудейских пророков.
Но когда это представление возникло, его надлежало инсценировать приличествующим образом, то есть облечь в форму соответствующего рассказа, а для этого необходимо было ввести прежде всего хотя бы момент божественного предвозвещения, которым отмечено большинство ветхозаветных примеров несвоевременного рождения угодников божиих; затем необходимо было использовать того «естественного» отца, на которого возлагались немалые надежды авторами родословий и которого теперь приходилось устранять; наконец, необходимо было приуготовить на земле приличествующую встречу новорожденному Богомладенцу.
Относительно двух первых пунктов в наших евангелиях мы находим два сообщения: одно в первом евангелии, а другое — в третьем (Мф. 1:18–25; Лк. 1:26–38), но для беспристрастного исследования более ценным представляется первое, Матфеево сообщение. Оно возникло раньше, и потому грубее и наивнее, чем сообщение Луки. Оно грубее в том смысле, что в нём отмечается соблазнительный факт беременности обрученницы не от своего обрученника, хотя тут же соблазн устраняется оговоркой, что Мария забеременела от Святого Духа, что, впрочем, не мешает Иосифу сомневаться в невинности Марии и пожелать тайно оставить или отвергнуть ее, пока не явился ему во сне ангел и не рассеял его сомнений. Была ли Мария предуведомлена относительно сверхъестественной причины своей беременности, об этом рассказ Матфея ничего не говорит. Такой пробел показался, видимо, недопустимым автору соответствующего рассказа у Луки, если только он знаком был с рассказом Матфея; он решил, что Марию неприлично изображать какой-то жертвой насилия, какое учиняли языческие боги в аналогичных случаях, и что она, наверно, была предуведомлена заранее о предстоящей ей беременности; поэтому к Марии является ангел, притом не заурядный ангел-аноним, а сам архангел Гавриил, о котором повествуют книги Ветхого завета (Дан. 8:16; 9:21. Тов. 12:15) и который считался одним из самых сановных членов божественного легиона. Этот ангел предвозвещает Марии, что она обрела благодать у Бога, и зачнет во чреве, и родит Мессию, а когда Мария усомнилась, ангел поясняет, что исполнится сказанное им потому, что Святой Дух сойдет на нее, и сила Вышнего осенит ее, вследствие чего и рождаемое ею святое дитя наречется сыном Божиим в полном смысле слова. После того как Мария заявила, что она, раба Господня, преклоняется перед волей Всевышнего, автор рассказа счел уже излишним говорить, как отнесся к этому благовещению Иосиф, а Матфей не признал нужным пояснить и то, была ли сама Мария предуведомлена относительно грядущего.
Таковы отличия упомянутых рассказов, обусловленные несходством их основного плана. Общая черта и сходство их сводятся к тому, что, во-первых, о чудесном зачатии мессианского младенца предвозвещает посланец небесный и что, во-вторых, глашатай этот предуказывает наименование будущего младенца: Иисус. Впрочем, так было предуказано и ветхозаветными прототипами и историей Исаака и Измаила, Самсона и Самуила. Как у Матфея ангел заявляет Иосифу: жена твоя родит сына (а у Луки ангел заявляет Марии: родишь ты сына), и наречешь ему имя Иисус, так Иегова говорил (Быт. 17:19) Аврааму: «Жена твоя… родит тебе сына, и ты наречешь ему имя Исаак». Как имя Исаака («смех») производилось от недоверчивой усмешки Авраама (17:17), или Сарры (18:12–15), или соседей (21:6), так у Матфея имя Иисуса производится от предстоявшей младенцу миссии — спасти людей от грехов их, и это выражается словами, которые напоминают о предвозвещении миссии Самсона спасти Израиль из рук филистимлян (Суд. 13:5).[187] Такое подражание ветхозаветным рассказам указывает на то, что евангельский рассказ возник среди христиан иудаистов, о чём свидетельствует и иудаистская формулировка миссии Иисуса у Луки, у которого ангел заявляет Марии (1:32–33), что сыну, которого она родит, Господь Бог отдаст «престол Давида» и будет он царствовать «над домом Иакова вовеки». Впрочем, у Матфея кроме грехов, от которых спасет чудесно родившийся Иисус «людей Своих» (1:21), видимо, следует — в духе иудаистов — предположить также последствия греха — порабощение и истязание со стороны языческих народов.
§58. Добавление: Благовещение и рождение Предтечи
Искусственность конструкции рассказа о рождении Иисуса у Луки сказывается не только в вышеотмеченных деталях, но и в том, что Лука рассказ свой усложняет историей Иоанна Предтечи (1:5–25, 36, 76–80), тогда как Матфей ограничивается повествованием о рождении и детстве Иисуса. В этом отношении начало Евангелия от Луки, как мы сказали, сходно с Первой книгой Царств, которая тоже исходит не от рождения Саула и Давида, а от рождения пророка Самуила, который призван был помазать их на царство; однако история Самуила далеко не так тесно сплетается с историей упомянутых царей, как у автора Евангелия от Луки история Мессии-Иисуса сплетается с историей его Предтечи, Иоанна.
Как родители Самуила проживали у горы Ефраим, так и родители Крестителя проживают на горах иудейских (1:39); и как Самуил, «творец Царей», считался по новоиудейскому преданию отпрыском колена Левия (1 Пар. 7:26), ибо помазание царей обычно производилось первосвященником (3 Цар. 1:39), так и у Луки человек, который призван был помазать Мессию, считается по отцу отпрыском левитов, а его мать признаётся даже представительницей рода Аарона и тезкой жены последнего (Исх. 6:23); но так как мать Иисуса именуется здесь родственницей матери Предтечи (1:36), то Лука, видимо, намеревался показать, что царственный сын Давидов по матери своей происходил также от колена левитова (то есть духовенства) и, следовательно, является истинным царем-первосвященником по чину Мелхиседека [Пс. 110 (109):4]. Как мать Самуила, так и мать Крестителя долго были неплодны; но мать Самуила жила под одной крышей с другой, плодовитой женой мужа своего и несмотря на свое неплодие, считалась его любимейшей женой, напоминая собой Рахиль подле Лии, а мать Крестителя напоминает собой Сарру, то есть единую законную, хотя и неплодную и престарелую жену столь же престарелого мужа; при этом Лука замечает (1:7), что Захария и неплодная жена его, Елисавета, «оба были уже в летах преклонных», то есть Лука даже форму выражения заимствует из Ветхого завета (Быт. 18:11). Далее, Лука копирует прототип Самуила еще и в том, что возвещение о предстоящем рождении сына приурочил к поездке по богослужебным делам: родители Самуила узнали о будущем рождении сына во время паломнической поездки в Силон, куда они отправлялись, чтобы принести жертву Иегове, а отец Иоанна Крестителя — в Иерусалиме, куда он отправился по делам священнической службы, чтобы служить перед Богом «в порядке своей чреды».
Желание родителей Самуила иметь потомство было особенно сильно у неплодной матери его, так как у отца уже были дети от другой жены, поэтому она сама просит у Иеговы сына и сама же получает от первосвященника заверение в том, что ее молитва услышана Иеговой (1 Цар. гл. 1). У родителей Крестителя желание иметь потомство было, видимо, одинаково сильно, но так как в данном случае жена не последовала за мужем, только муж получает от ангела Гавриила, явившегося ему в храме, весть о том, что его молитва услышана Богом. В истории Самуила ангел не появляется, и евангелист почерпнул эту деталь из истории несвоевременно родившегося Самсона (Суд. гл. 13). Явление ангела Захарии в храме, а не в поле или ином месте, как родителям Самсона, объясняется духовным саном Захарии. Имя ангела, Гавриил, столь характерное для Евангелия от Луки и заимствованное им из иудейской мифологии времен возвращения из плена вавилонского (Дан. 8:16; 9:21), было отчасти указано в истории Самсона, ибо, хотя ангел там и отказывается назвать себя, он именует себя «человеком Божиим», то есть Гавриилом.
В истории Самсона весть, принесенная посланцем Божиим, не возбуждает никаких сомнений, и в истории Самуила заверение первосвященника тоже было принято с доверием, ибо в обоих случаях родители были не слишком еще стары и возвещенное им рождение ребенка не представлялось делом абсолютно невозможным; но так как в рассказе Луки родители Крестителя являются четой очень престарелых супругов, напоминающих собой Авраама и Сарру, евангелист оговаривается, что словам ангела Захария (как и Авраам) поверил не сразу. Как в случае Авраама оба родителя мотивируют свое недоверие преклонностью возраста (Быт. 17:17; 18:12), так в данном случае Захария и его жена (1:18) тоже ссылаются на то, что они оба «в летах преклонных». Как Авраам по поводу обетования о том, что его потомство водворится в земле Ханаанской, вопрошает: по чему я узнаю это? (Быт. 15:8), так и Захария точно такою же фразой выражает ангелу свое сомнение (1:18); Аврааму и Сарре неверие было прощено, потому что в прошлом они еще не ведали примеров исполнения аналогичных обетований Божиих, но Захария не мог не знать, что в истории его народа аналогичные случаи уже бывали, и потому за свое неверие он был наказан: ангел объявил, что Захария будет молчать и не сможет говорить до того дня, пока не сбудется всё им возвещенное. Точно так же Павел был поражен временной слепотой после того, как ему явился Христос скорбящий (Деян. 9:8), а Даниил после появления ангела онемел (от испуга, а не в наказание), пока ангел не коснулся его уст и не вернул ему способность речи (Дан. 10:15).
Предуказание имени младенца, который должен был родиться чудесным образом, взято из истории Измаила и Исаака (Быт. 16:11; 17:19), а указание о будущем образе жизни и поведении его и, в частности, о том что он «не будет пить вина и сикера», буквально совпадает с тем указанием, которое дано было матери Самсона во время ее беременности (Суд. 13:4; 7:14). В совершенно сходной форме высказано в обоих случаях также и обетование о том, что предвозвещаемый младенец «Духа Святого исполнится еще от чрева матери своей» и будет возрастать и укрепляться духом (Суд. 13:5; 24. Лк. 1:15, 80). Затем, хвалебный гимн, введенный в рассказ Луки, опять-таки напоминает собой историю Самуила: как мать Самуила, принеся дарованного ей сына к первосвященнику (1 Цар. 2:1), восхваляет Бога, так и отец Крестителя, у которого «разрешились уста и язык его» при обрезании дарованного ему сына, «стал говорить, благословляя Бога», и пророчествовал (Лк. 1:64–67). Впрочем, хвалебный гимн Марии (Лк. 1:46–55) более сходен в своих деталях с гимном матери Самуила, чем гимн Захарии.
Предположение о том, что автор третьего евангелия составил данный рассказ-мозаику по разным ветхозаветным прототипам, может показаться неправдоподобным лишь тому, кто не имеет никакого представления об идеях и писательской манере позднейших иудеев. Иудеи эпохи эпигонов жили всецело прошлой историей своего народа и Святым Писанием, в котором изложена его история, так что позднейшие события и факты они считали уже предвозвещенными и предвосхищенными в пророчествах и прообразах Святого Писания, а поэты, желавшие прославить нарождение нового угодника Божия, полагали, что оно должно было произойти совершенно так, как повествуется об аналогичных случаях в священных книгах древности.
Впрочем, создатель вышеизложенного рассказа не был простым бездарным подражателем; наоборот, он измышляет и творит самостоятельно и, добиваясь намеченной им цели, не стесняет себя фактами действительности, доказательством чего может служить оригинальный эпизод свидания матери Мессии с матерью Предтечи. Это свидание евангелист придумал, без сомнения, для того, чтобы прославить Иисуса, отмечая то интимное и изначально подчиненное отношение, в котором Креститель находится к Иисусу. Цель эта достигалась всего лучше изображением того, как относятся друг к другу сами матери Иисуса и Крестителя, еще вынашивая их в утробе, и как в своей беседе они характеризуют позднейшее взаимоотношение обоих деятелей. Чтобы такая встреча казалась правдоподобной, автору пришлось отметить кровное родство обеих матерей и устами ангела указать сомневающейся Марии, что с ее родственницей Елисаветой Бог тоже сотворил чудо и исполнил данное ей обетование. Правда, на взаимоотношение обоих младенцев автор указывает уже словами, которыми мать Предтечи приветствовала мать Мессии (Лк. 1:43): «Откуда это мне (то есть чем заслужила я эту честь), что пришла Матерь Господа моего ко мне?» Это приветствие вполне аналогично словам, которыми впоследствии Креститель встретил пришедшего к нему Иисуса (Мф. 3:14): «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли приходишь ко мне?» Но еще более знаменательным является то, что даже зарождающийся в утробе матери Креститель принял активное участие в прославлении, которое уготовила Елисавета матери Мессии-Иисуса: при появлении Марии «взыграл» младенец во чреве матери своей, Елисаветы. Прототипом этого эпизода является ветхозаветная повесть об одном из несвоевременно родившихся лиц: Ревекка, жена праотца Исаака, тоже была много лет неплодна, и по молитве супруга ее Иегова даровал ей сразу двух сыновей-близнецов которые впоследствии стали родоначальниками двух народов, идумеян и израильтян (Быт. 25:21 и сл.); по словам еврейской легенды, позднейшее взаимоотношение обоих народов предопределилось уже взаимоотношением обоих братьев-близнецов в утробе их матери Ревекки: взаимная неприязнь их проявилась в том, что близнецы сталкивались друг с другом уже в чреве Ревекки, а умственное превосходство слабого, но изворотливого и подвижного Израиля над грубым и физически мощным Едомом оказалось в том, что в момент рождения Иаков хватался за ноги своего брата-первенца Исава (25:26; 27:36). Но так как Креститель не мог быть братом-близнецом Иисуса, то при приближении матери Мессии ему оставалось только многознаменательно «взыграть» во чреве своей матери. Как Авраам возрадовался, когда ему сказали, что он увидит день пришествия Христа, и как он возликовал, когда в раю действительно увидел «день Христа» (Ин. 8:56), так и Креститель уже во чреве своей матери возрадовался пришествию того, кого он должен был впоследствии предвозвестить, и выразил он радость тем, что после приветствия Марии «взыграл» во чреве Елисаветы (Лк. 1:44). Но «взыграть» он мог лишь в том случае, если успел достичь возраста, когда «плод чрева» (зародыш человека) вообще уже начинает шевелиться (наш евангелист любит изображать детали даже чудесных происшествий с точки зрения естественного процесса); поэтому евангелист оговаривается, что Елисавета была беременна уже шестой месяц, когда к Марии явился ангел с благовестием и надоумил ее навестить свою родственницу (Лк. 1:36).
Мы уже сказали, что евангелист не преминул использовать хвалебный гимн, который изрекла мать Самуила, отдавая сына на служение Иегове. Евангелист пожелал, чтобы аналогичный гимн изрек отец Крестителя; самым подходящим для того моментом было рождение или обрезание младенца Иоанна, но прежде чем момент этот наступил, Мария явилась в дом Елисаветы и, таким образом, упредила Захарию в деле произнесения хвалебного гимна матери Самуиловой (Лк. гл. 1; 1 Цар. гл. 2). Поэтому Захарии довелось произнести свой гимн лишь в день обрезания сына (Лк. 1:67–79), составив его из цитат, надерганных из разных псалмов и пророческих изречений.
§59. Рождение Иисуса
Благовестие о рождении Крестителя, благовестие о рождении Иисуса, свидание матерей их, рождение и обрезание Крестителя, рождение и обрезание Иисуса — таков план повествования евангелиста Луки, тогда как у Матфея в соответствующем разделе ничего не говорится о Крестителе, а о рождении Иисуса лишь вскользь упоминается в двух местах (1:25; 2:1 и сл.) без каких-либо подробностей об этом событии.
У Луки (2:1–20) о рождении Иисуса имеется весьма пространный рассказ, и в основу его положена перепись Квириния, из-за которой родители Иисуса будто бы отправились в Вифлеем. Выше нами уже было показано, что это сообщение не подтверждается историей и что оно было придумано по догматическим соображениям; тем не менее евангелист строит весь последующий рассказ именно на этом нереальном основании. Прибыв в Вифлеем лишь ради переписи, родители Иисуса оказались там людьми чужими и не имели собственного крова, и так как весь город был переполнен такими же приезжими людьми, они не нашли себе пристанища в домах и вынуждены были приютиться в нежилом сарае (а по словам апокрифических евангелий и некоторых отцов церкви — в пещере, или «вертепе», вблизи города) и положить новорожденного младенца в ясли. Этот эпизод, в свою очередь, наводил на мысль о пастушеском быте. Праотцы еврейского народа тоже были пастухами и среди стад своих получали откровения свыше. Первому Спасителю народа иудейского, Моисею, ангел Господень явился в то время, когда тот пас стада своего тестя Иефрона, или Иофора (Исх. 3:1), а предка Мессии, Давида, Бог призвал из овечьего загона, близ Вифлеема, чтобы пасти избранный народ Божий (Пс. 77:70; 1 Цар. 16:11), точно так же и греко-римская легенда повествует о своих героях Кире и Ромуле, что они росли и жили среди пастухов. Вот почему в данном случае первого извещения о рождестве младенца — Мессии были удостоены убогие и кроткие пастухи в поле, а не фарисеи и книжники и не жестоковыйный царь Ирод в столичном городе Иерусалиме.
Ангел является пастухам ночью, и «слава Господня осияла их»; эта деталь основана на следующем представлении: по словам Исаии (9:2), народ, блуждающий ныне во тьме, увидит свет великий, и «на живущих в стране тени смертной свет воссияет». Это пророчество отнесли к Мессии-Иисусу как Матфей (4:16), так и Лука, повествующий о детстве Иисуса (2:32); он есть «Восток свыше», свет, просвещающий во тьме (Ин. 1:5), а потому ассоциация идей приводила к той ночной сцене, которая нарисована Лукой. Ангел, явившийся пастухам и осиявший их светом славы Господней, возвещает им, что в городе Давидовом родился Спаситель, который есть Христос-Мессия, и он подтверждает истину своего благовестия указанием на то, что, вернувшись в город, они найдут в яслях спеленутого младенца. Так и пророк Исаия (7:14) подал царю Ахазу «знак», заявив, что некий не родившийся еще младенец при рождении своем получит имя, означающее радость, да и вообще еврейская легенда любит подтверждать истину пророчеств, божественное происхождение заповедей или высокое призвание угодников Божиих исполнением второстепенных, лишь на ближайшее будущее рассчитанных прорицаний (например, 1 Цар. 3:34; Мф. 21:5; Деян. 10:5–17). Когда ангел досказал свое благовестие, явившееся с ним бесчисленное воинство небесное стало славить хором Бога, а пастухи затем идут в город, находят в указанном месте младенца и сообщают всем встречным, что было возвещено им о сем младенце; люди, услышав их рассказ, «дивились» ему, а мать младенца Иисуса «сохраняла все слова сии, слагая в сердце своем», как некогда Иаков слагал в сердце своем то, что говорил ему о сновидениях его дивный сын Иосиф (Быт. 39:11).
Украсив рождество Иисуса отмеченным явлением ангела, евангелист, видимо, признал излишним отметить обрезание Иисуса так, как он отметил обрезание Крестителя; однако вовсе умолчать об обрезании Иисуса Лука не счел возможным (2:21), ибо ему хотелось непременно подчеркнуть, что родители Иисуса строго соблюдали законы Моисея.
II. Иисус — воплотившееся слово Бога-Творца.
§60.
Выше было показано, что взгляд на Иисуса как на существо, зачатое в утробе девственницы от Святого Духа, мирился с иудейским представлением о Боге благодаря тому, что в нём установлены были все чувственные моменты. Однако взгляд этот невольно и неизменно проникался элементом чувственным и смущал не только иудеев, но также и христиан-язычников (прозелитов), успевших уже одухотворить свое представление о существе Бога. Такие христиане, правда, стремились изобразить своего Христа сверхчеловеком, превосходящим всех ветхозаветных пророков, чтобы нагляднее отмежевать свою новую религиозную систему от религии древнеиудейской, но им казалось, что той же самой и даже более высокой цели можно достичь иным путем, минуя вышеуказанное «соблазнительное» представление об Иисусе.
Последователи Иисуса не могли представить себе своего убиенного Мессию простым заурядным мертвецом или нереальным бесплотным призраком, поэтому у них сложилась вера в то, что он воскрес и вознесен был к Богу на небеса, а на почве такого верования создавалось у них представление об Иисусе, воскресшем и вознесенном на небеса, как о существе, которое по достоинству своему по меньшей мере равно прочим небожителям, то есть ангелам, или даже превосходит их, так как сам Бог даровал ему «всякую власть на небе и на земле» (Мф. 28:18). Но Иисус не мог быть равен им, если бытие его началось лишь с момента человеческого рождения, тогда как ангелы появились уже в момент сотворения Вселенной; чтобы сравняться с ними в этом отношении, он должен был существовать уже до момента своего человеческого рождения, а в момент рождения он как личность не появился впервые, а только сошел на землю, или перешел от прежней сверхчувствительной формы бытия к земной форме существования.
Развитию такого представления об Иисусе-Мессии способствовали некоторые иудаистские воззрения. Возможно, что у Даниила образ сына человеческого, вознесенного на облаках к престолу Божию и получившего от Бога власть над миром, первоначально являлся символом народа израильского, но когда в этом «сыне человеческом» стали усматривать (как видно из евангелий) самого Мессию, то это обстоятельство уже давало повод смотреть на него как на сверхчеловеческое существо. По убеждению иудеев, имя Мессии, как сама идея народа иудейского и его законов, задумано было Богом еще до сотворения Вселенной, то есть тщеславие побуждало иудеев верить, что Бог сотворил мир только ради народа израильского и что ради него же он пошлет миру Мессию и поэтому Бог помышлял о Мессии и предрешил его служение при сотворении Вселенной. Но всем известно, к чему приводят такого рода представления: предрешенное или предопределенное превращается легко в предсуществовавшее, а идеальное предсуществование обращается в реальное бытие. Если сам Иисус считал, что наименование Иеговы Богом Авраама, Исаака и Иакова свидетельствует о вечном бытии означенных праотцев (Мф. 22:31–32), то и последователям его не трудно было умозаключить, что если Мессия фигурировал в предвечном Божьем плане мироздания, то, стало быть, в момент сотворения Вселенной он, Мессия, фактически существовал у Бога.
Наименование Иисуса «началом создания Божия» (Апок. 3:14) стоит на рубеже именно такого идеального и реального воззрения, к которому приводили также некоторые черты моисеевой истории сотворения Вселенной. Как известно, в первой книге Моисея имеются два рассказа о сотворении человека. В одном (1:27) говорится: «И сотворил Бог человека по образу своему, по образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». Во втором (2:7) говорится, что Бог Иегова слепил человека мужа из праха и вдунул ему дыхание жизни и затем сотворил ему жену из ребра его. Этот двойной рассказ навел новейших критиков на мысль о том, что первая книга Моисея составлялась из нескольких различных записей, а иудейских мыслителей он натолкнул на следующее открытие: если в одном рассказе говорится, что человек сотворен по образу и подобию Божию, а в другом, что он сотворен из праха, то, значит, в первом случае речь идет о человеке сверхчувственном, небесном, а во втором — о чувственном, земном. Такое толкование находим мы не только у александрийского еврея Филона, но также у апостола Павла, по мнению которого, Иисус-Мессия по существу своему есть именно такой небесный человек, второй Адам, образ и подобие Божие, противостоящий земному человеку, или первому Адаму (1 Кор. 15:45; 2 Кор. 4:4). Вторым или последним человеком он именуется, без сомнения, потому, что должен проявить себя лишь после первого, земного человека, хотя и сотворен раньше его: Бог пошлет на землю в образе человека этого небесного Адама, извечно пребывавшего при нём на небесах в преображенном, лучезарном образе сына Божия, чтобы закончить настоящий период мировой жизни, когда потомство земного Адама дойдет в развитии своем до известного пункта. Стало быть, если Мессия в качестве небесного Адама существовал уже с момента сотворения Вселенной, то он мог воздействовать на человечество и, в частности, на избранный народ Божий всегда, хотя и появился среди земных людей лишь в образе Иисуса, а если Павел (1 Кор. 10:4–5, 9) именует Христа «камнем духовным», следовавшим за израильтянами в пустыне, и если христиан Коринфа он увещевал не искушать Христа, как искушали его некоторые израильтяне, то нас ничто не заставляет в первом видеть аллегорию, а в последнем уклоняться от вывода, что Павел ставил своего Христа-Адама в своеобразное отношение к израильтянам уже в период их блужданий по пустыне.
Нелегко ответить на вопрос, приписывал ли он ему какое-либо участие в сотворении Вселенной. Правда, в Первом послании к коринфянам (8:6) он говорит:
«У нас один Бог-Отец, из Которого всё (создалось), и мы для Него (существуем), и один Господь Иисус Христос, Которым всё (содержится) и мы Им (содержимся).»
По-видимому, Христу здесь отводится второстепенное служебное место, а не роль Творца Вселенной. Но если Павла признаем автором Послания к колоссянам, в котором говорится (1:15–17), что Христос есть «образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари», что им создано всё на небесах и на земле, видимое и невидимое, что «всё Им стоит», и если первое изречение мы станем пояснять последним, то нам придется согласиться, что, по учению паулинистов, Христос сотворил Вселенную. Но, по свидетельству книг Моисея, человек, не исключая и того, который создан по образу и подобию Божию, сотворен был в шестой день, после прочих тварей. Поэтому трудно понять, какое, собственно, участие принимал Христос в создании Вселенной. Что, вообще говоря, его творческая роль и деятельность не совсем исключается тем фактом, что сам он был сотворен Богом-Отцом, это мы видим из Послания к колоссянам, которое наводит нас на мысль, что сначала он был сотворен Богом, а затем сам сотворял всё остальное. Но если это Послание, как и Послания к филиппийцам и к ефесянам, относится к более позднему времени и если указанное изречение Послания к коринфянам допускает также и иное толкование, то всё же из него, как и из Послания к евреям видно, куда клонился ход развития этих представлений. Автор Послания к евреям, как и автор Послания к колоссянам, отвергая паулинистскую идею первого человека, исходит из мессианского эпитета «Сын Божий», но понимает его в метафизическом, а не в иудейско-теократическом смысле и допускает его участие в сотворении Вселенной. Сын Божий, по словам автора Послания к евреям (1:3), есть «сияние славы и образ ипостаси» Бога первородный, которым Бог сотворил эонов, то есть весь мир — нынешний и будущий, видимый и невидимый, и которого он ради человеков впоследствии вочеловечил, то есть облек в человеческую плоть и кровь (2:14). Следовательно, мы, в сущности, имеем здесь то же, что четвертый евангелист называет Логосом, «Словом Божиим», хотя автор Послания к евреям еще не употребляет этого термина, что представляется загадочным, так как он знает термин «Слово Божие» (4:12), да и не мог не знать его, ибо получил такое же образование, как Филон Александрийский.
Понятие логоса в представлении Филона и всей александрийской религиозно-философской школы имело двоякий корень — иудейский и греческий. Но иудаистское слово (логос) отнюдь не означает творческого слова Божия (Быт. 1:1), как и в словах псалма 32 (6). Словом Иеговы «сотворены небеса, и духом уст его — всё воинство их» — здесь не видно даже и простого поэтического олицетворения. Что же касается термина «мемра», встречающегося в халдейских парафразах Ветхого завета, то он представляется лишь отголоском александрийского Логоса. Напротив, через всю еврейскую литературу сентенций и изречений, начиная с книги Иова и Притч Соломоновых и кончая книгами Сираха и Премудрости Соломона, проходит идея премудрости Божией, и эта идея у Иова (28:12) даже олицетворяется, а в Притчах (гл. 8–9) формулируется так, что вопреки прямым намерениям автора может быть принята за действительную личность: «Премудрость Божия» здесь произносит речи, говорит, что она есть начало деяний Божиих и сотворена Богом прежде всех прочих тварей и вещей, что она помогала Богу утверждать устои мира и развлекала его, а себя в то же время развлекала делами сынов человеческих. По словам Книги Сираховой (гл. 24), премудрость сотворена Богом прежде всех времен и восприяла начало свое из уст Всевышнего, она искала себе вечного пристанища среди народов земных, а Бог указал ей вселиться в Иакова и содеять своей собственностью Израиль (Вар. 3:37).[188] В книге Премудрости Соломоновой (7:25; 10:9 и сл.) премудрость является истечением славы и величия Божия и отражением вечного света, духом Божиим, который устрояет Вселенную и благоволит к человеку, поддерживает всё благое в мире, вселяется в души людей благочестивых и в виде облака и столпа огненного ведет за собой народ израильский во время его странствий по пустыне. От такой Премудрости Божией, созидающей и охраняющей Вселенную, последний из отмеченных нами апокрифов отличает Слово Божие, которое в качестве творческого слова Бога и слова всевышнего судии здесь также олицетворяется (9:1 и сл.).[189] Когда вопреки чудесным знамениям Моисея египтяне продолжали упорствовать в неверии (Исх. гл. 7 и сл.), тогда среди ночной тишины всесильное Слово Божие, как могущественный воин, сошло с небес и, держа в деснице своей, как острый меч, суровое слово повеления, встало между небом и землей (подобно ангелу смерти в 1 Пар. 22:12) и начало всюду сеять смерть и разрушение.
Но в той системе греческой философии, которая наряду с философией Платона оказала наибольшее влияние на александрийских иудеев, в стоической системе для обозначения божественного разума, проникающего в искусно устрояющего всю Вселенную, употребляется не слово «премудрость», а термин, которым александрийские переводчики Ветхого завета и вообще все иудеи, говорившие на греческом языке, обозначали творческое Слово Божие, термин «Логос», который вследствие особенности греческого языка одновременно означает «разум» и «слово». Поэтому философски образованные александрийские иудеи скоро привыкли приписывать Логосу то, что приписывалось Премудрости Божией. Таким образом, у Филона, одного из современников Иисуса, Логос обозначает, с одной стороны, то, что в иудейской литературе именуется Премудростью Божией, и, с другой стороны, то что у стоиков именуется Разумом Вселенной, а у Платона и неопифагорейцев — Мировой душой и Мировой идеей. Логос Филона есть посредник между Богом и Вселенной. Он стоит на рубеже, отделяющем Бога от Вселенной, и осуществляет их взаимные сношения: в нисходящем направлении он, будучи комплексом всех божественных идей, внедряет их во Вселенной, а в восходящем направлении — предстательствует перед Богом за весь мир и, в частности, за человечество. Он тоже сотворен, но он не сотворен, как мы; он не существовал предвечно, но всё же стал существовать прежде всего того, что существует; поэтому он является Богом для всех существ, стоящих, подобно нам, далеко ниже его. Но он не есть Бог в себе, он — только Бог второй, или младший, подчиненный. Этот Логос, как незримый ангел в виде облака и снопа огненного, руководил исходом народа израильского из Египта, и, вероятно, он же разумеется под тем сверхчеловеческим существом, которое, по словам Филона, познают и увидят в эпоху мессианскую только спасенные и которое снова отведет рассеявшихся иудеев в землю обетованную. Но это сверхчеловеческое существо Филон не отождествлял с царем-Мессией, который встанет во главе вернувшегося народа иудейского; под Логосом он разумел сверхчувственное безличное существо, неспособное облечься в материальную форму.
Оба понятия — Логоса и Христа-Мессии — скоро слились в одно представление. Роль посредника, которую Мессия играл в отношениях Бога и Вселенной, естественно сближала и роднила их. Но в Новом завете слияние обоих понятий осуществлено лишь в Иоанновом евангелии (1:1–18). Апостол Павел предполагает, что Мессия, или Сын Божий, существовал до человека, но ничего не ведает еще о Логосе в смысле Филона. В Послании к Евреям, где «Слово» (логос) уже встречается, оно означает Сына Божия, сотворившего и спасающего мир и являющегося сиянием славы и образом ипостаси Божией (1:1–3), или Слово Божие, которое «живо и действенно и острее всякого меча обоюдоострого: оно проникает до разделения души и духа… и судит помышления и намерения сердечные» (4:12). В Откровении Иоанна указано (19:13), что на челе победителя — Христа, того Верного и Истинного, который праведно судит и воинствует, начертано никому неведомое имя: «Слово Божие». Но и в данном случае Иисус является лишь глашатаем и исполнителем повелений Божиих относительно Вселенной, это явствует из всего контекста, в частности из замечания о том, что «из уст же Его исходит острый меч, чтобы им поражать народы», то есть суровое Божие Слово осуждения. Впрочем, само собою разумеется, что более поздний автор евангелия, тоже считающегося произведением Иоанна, мог исходить из этого эпитета, созданного Иоанном, автором Откровения, и употребить его в таком же метафизическом смысле. Но едва ли автор евангелия первым сочетал и слил эти два понятия воедино, так как подобное сочетание встречается и у других писателей той же эпохи например у Юстина Мученика, который писал свои труды в 147–160 гг. по Р.X. Притом у Юстина учение о Логосе, как мы уже отмечали сильно отличается от Иоаннова учения, и потому можно утверждать, что он, как и автор четвертого евангелия, усвоил себе это учение как популярную идею современников, использовав и переработав ее в интересах христологии.
Вступление в мир человеческий высшего существа, принявшего образ Иисуса, Павел изображает следующим образом (Рим. 8:3): «Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной», то есть облекши плотью подобной греховному телу человеческому, но безгрешной. О том же апостол выражается еще и так (Гал. 4:4): «Бог послал Сына Своего (Христа), Который родился от жены», но это замечание ничего общего не имеет с отрицанием участия мужчины-человека в рассказах Луки и Матфея о рождении Иисуса, ибо в другом месте (Рим. 1:3–4) апостол прямо заявляет, что Иисус Христос «родился от семени Давидова по плоти и открылся Сыном Божиим в силе, по духу святыни (то есть оказался сыном Божиим по силе своего Святого Духа) через воскресение из мертвых». Без сомнения, Павел считал Христа естественно рожденным человеком, в коем воплотился сын Божий, или Адам небесный, еще до его рождения.
В Иоанновом евангелии этот высший из духов признаётся «Словом» (Логосом), единородным Сыном Божиим, который вначале был у Бога и сотворил всё сущее; но о том, как это Слово вступило в сферу человеческой жизни, евангелист умалчивает; он только замечает (1:14), что «Слово стало плотию», то есть облеклось в человеческое тело; когда и как это случилось — мы из евангелия не узнаем. О неучастии родителя — человека в его порождении не упоминается и в данном случае, как и в изречениях Павла. По свидетельству евангелиста Иоанна, не только иудеи (6:42), но даже апостол Филипп, который признал в Иисусе Мессию, предвозвещенного законом и пророками, и который был призван самим Иисусом, именует Иисуса сыном Иосифовым (1:45). По мнению евангелиста, христиане, уверовавшие во имя Христа, «ни от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились» (1:13), хотя по своему происхождению и рождению они и являются простыми человеками; поэтому и сам Христос представляется евангелисту Иоанну единородным Сыном Божиим, ибо хотя он и родился, как все люди, но в нём объединилось Слово Божие (Логос) с человеческим естеством. Однако евангелист не поясняет, когда это объединение совершилось. Существует предположение, что четвертый евангелист считал моментом соединения Логоса с человеческим естеством в Иисусе момент его крещения от Иоанна, ибо он говорит, что в период деятельности Крестителя Логос, или «Свет истиный», лишь готовился прийти, но еще не пришел (1:9–10), а при крещении Иисуса «дух», сошедший с неба в виде голубя, почил на нём (1:32). Но дух, сошедший с неба в виде голубя в момент крещения Иисуса, нельзя безоговорочно отождествлять с Логосом, который является пережитком раннего представления о Христе как высшем существе, и это представление евангелист отмечает по традиции, хотя оно и не согласовалось с его собственным учением о Логосе, подобно тому как синоптики отмечали сошествие Святого Духа на Иисуса при крещении, хотя это и не согласовалось с их же рассказом о зачатии Иисуса от Святого Духа. Всего вероятнее предположение, что четвертый евангелист приурочивал вышеозначенное слияние или объединение Логоса с человеческим естеством в Иисусе к началу жизни Иисуса (подобно тому как Платон воплощал свои предшествующие души в людях), но умолчал о детстве Иисуса отчасти потому, что было труднее изобразить детство воплотившегося меньшего Бога, чем детство человека, зачатого и рожденного от Бога, отчасти же потому, что рисовать детство Иисуса евангелисту казалось вероятно делом, умаляющим возвышенный тон и дух его повествования.
Но если взгляды Иоаннова пролога, как и взгляды синоптиков, на появление Иисуса одинаково несоизмеримы с более ранним взглядом на мессианское естество Иисуса, сказавшимся в рассказе о его крещении, то всё же их нельзя по этой лишь причине сочетать и сравнивать между собою. Несостоятельно мнение Юстина[190] о том, что под Святым Духом или силой Всевышнего, от которых, по свидетельству Матфея и Луки, зачала Мария, следует разуметь Логос, Слово. Дух ли, Слово ли осенили Марию — всё равно, суть в том, что существо божественное, воплотившееся и пребывавшее в Иисусе, есть нечто отличное от простого наития божественного духа, обусловившего собой его зачатие или рождение. В последнем случае субъект евангельского повествования лишь порождается, возникает, начинает жить под влиянием данного импульса, а в первом случае субъект, уже порожденный, воплощается и переходит лишь к иной форме бытия. В одном случае личность Иисуса является сложным продуктом оплодотворения, исходящего от божества и воздействующего на человеческое (женское) существо, а в другом случае личность Иисуса есть чисто божественная личность Логоса, для которой человеческая фаза бытия есть только временная, переходная стадия существования.
§61.
К представлению о Премудрости Божией, выведенной в Притчах Соломоновых и в Книге Сираховой, приходил не только всякий, стремившийся отождествлять со сверхчеловеком личность Мессии-Иисуса, но приводил и сам Учитель-Иисус. В указанных произведениях Премудрость неоднократно выступает в качестве наставницы людей и поучает их речами, и тот, кто видел в Иисусе идеального учителя-наставника, без колебаний сближал его с Премудростью-наставницей человеков. В Притчах Соломоновых (9:1–5) говорится, что Премудрость устроила себе жилище, наготовила себе скотье мясо и домашнее вино, собрала трапезу и велела слугам своим на высотах города взывать: придите есть мой хлеб и пить изготовленное мною вино. Этот эпизод живо напоминает собой евангельскую притчу о брачном пиршестве (Мф. 22:4; Лк. 14:17), в которой царь тоже рассылает слуг своих по улицам города — приглашать к нему гостей, так как трапеза у него собрана, тельцы и скот откормленный заколоты и угощение готово. В этой притче Иисуса царь заменяет собой Премудрость Божию, выступавшую в Притчах Соломоновых, но выше мы уже отмечали случай, когда Иисус в евангельском предании заступал место Премудрости Божией. У Луки (11:49) Иисус приводит в качестве изречения Премудрости Божией суждение о том, что пророки и апостолы, являвшиеся к иудеям, ими истязались и умерщвлялись, а у Матфея (23:34) то же суждение приведено в качестве собственного изречения Иисуса, подобно тому как историк Гегесипп член общины иудеохристиан, о современниках Иисуса говорил, что они удостоились услышать собственными ушами «Богом вдохновенную Премудрость» (Евсевий. Церковная история III 32, 8).
В последней (51-й) главе Книги Сираховой имеется благодарственная молитва, автор которой, питомец и глашатай Премудрости, нередко выражается теми же словами, какие в соответствующем месте первого и третьего евангелий приписаны Иисусу. Автор Сираховой Книги (51:1, 23, 31–32, 34–35) восклицает:
«Прославлю тебя, Господи Царю… Воздам славу Дающему мне мудрость… Приблизьтесь ко мне, ненаученные, и водворитесь в доме учения, ибо… души ваши сильно жаждут… Подклоните выю вашу под иго ее, и пусть душа ваша принимает учение… Видите своими глазами… я немного потрудился и нашел себе великое успокоение.»
Эти слова живейшим образом напоминают о словах Иисуса, приведенных у Матфея (11:25, 28, 29):
«Славлю Тебя, Отче, Господи неба и земли (в отличие от моления Сираха), что Ты утаил сие (познание истины) от мудрых и разумных и открыл то младенцам… Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас; возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня… и найдете покой душам вашим…»
Такое совпадение и сходство случайным быть не может, и, надо полагать, соответствующее место из Книги Сираховой, первоначально написанной на еврейском языке, было известно самому Иисусу.
Но в Притчах Соломоновых (гл. 8) Премудрость заявляет:
«Господь имел меня началом пути Своего, прежде созданий Своих… Я родилась прежде, нежели водружены были горы, прежде холмов… Когда Он… полагал основания земли… я была радостью всякий день… Итак, дети, послушайте меня… Кто нашел меня, тот нашел жизнь, и получит благодать от Господа, а согрешающий против меня наносит вред душе своей: все ненавидящие меня любят смерть.»
Далее в Книге Сираховой (гл. 24) мы читаем:
«Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена… Я вышла из уст Всевышнего… Приступите ко мне, желающие меня, и насыщайтесь плодами моими. Ядущие меня еще будут алкать, и пьющие меня еще будут жаждать» и т.д.
В этих изречениях заключается зародыш Иоанновых речей Христа. Исторический Иисус был отождествлен с ветхозаветной и апокрифической Премудростью, ему была поручена роль Премудрости, наставницы людей, предвечной подруги и сотрудницы Божества. Заявление Премудрости о том, что обретший ее обретает жизнь, а утративший ее утрачивает жизнь и что возненавидевший ее возлюбил смерть, живо напоминает о соответствующих изречениях Христа, приведенных в евангелии Иоанна (3:20, 36; 5:24). Премудрость приглашает людей есть ее хлеб и пить ее самоё, и Христос евангелиста Иоанна предлагает делать то же (4:10; 6:51; 7:37); различие лишь в том, что у Сираха Премудрость добавляет, что евшие и пившие ее постоянно будут алкать и жаждать, а у евангелиста Иоанна Христос заявляет, что приходящие к нему, хлебу жизни, не будут алкать и верующие в него не будут жаждать никогда, так как «вода», которую он дает человеку, «сделается в нём источником воды, текущей в жизнь вечную» (4:14). Виноградная лоза с гроздьями, которой Христос Иоанна уподобляет себя с учениками своими (15:1), тоже заимствована из речей Сираховой Премудрости (24:17). Вообще фраза, встречающаяся в книге Сираха: «Премудрость прославит себя и среди народа своего будет восхвалена», определяет собой характер всех речей Христа, приведенных в четвертом евангелии. Такое самопрославление и самовосхваление нисколько не шокирует в качестве олицетворенного понятия и атрибута Бога, но оно смущает в устах простого человека, хотя бы даже и богочеловека.
Итак, произносящий речи Христос отождествляется вначале с Премудростью Божией, произносящей речи в Ветхом завете и апокрифах; потом александрийские образованные иудеи, знакомые с Платоновой и стоической философией, обращают Премудрость в понятие божественного Логоса, которое затем во II веке стало проникать в образованные слои всего христианского населения, — так появились и развивались постепенно те идеи, которые мы находим в Иоанновом евангелии, где Иисус в речах своих сам прославляет и восхваляет себя как начало спасения и жизни, подобно тому как Премудрость Притч Соломоновых и Книги Сираховой прославляла и восхваляла себя, и где он (как в прологе), прямо по Филону, претворяется в Логос, или мирозиждительное слово Божие.
III группа мифов: Иисус — второй Моисей.
I. Опасность, грозившая жизни Иисуса, и его спасение благодаря мессианской звезде
§62.
Весьма полезно прочесть внимательно Светония, чтобы отчетливо уразуметь, как следует смотреть на чудеса евангельской истории. Для всей жизни Иисуса — от сверхъестественного рождения до вознесения на небо можно отыскать и проследить в истории Светония параллели. Правда, в некоторых ветхозаветных рассказах о чудесах мы тоже находим много сходных и однородных черт и эпизодов, но всё же преимущество на стороне Светония. Его рассказ о чудесах и знамениях, не поддающихся естественному объяснению, всякий безоговорочно признает сказкой, а в наше время уже не легко внушить человеку, что сообщения Светония о сотворенных императорами чудесах пустая сказка, миф, а современные ему евангельские рассказы о сходных чудесах Иисуса — правдивая историческая повесть.
Основная тема этой группы мифических рассказов — опасность, грозившая жизни младенца, который призван был свершить великий подвиг, — является одной из главных тем всех героических сказаний, она встречается в легендах еврейских, персидских, греческих и римских, не говоря уже о таких мифах, которые создались не столь очевидно и бесспорно самою жизнью народных масс. Оставляя в стороне опасность, которая грозила жизни юного Зевса и Геракла, мы видим, что эта тема встречается неоднократно в рассказах о детстве Моисея (в Пятикнижии Моисеевом), Авраама (в позднейших легендах иудейских), Кира (в истории Геродота) и Ромула (в трудах Ливия); затем та же тема одновременно разработана Светонием в истории детства первого римского императора и евангелистом Матфеем (гл. 2) — в рассказе о детстве христианского Мессии, причем разработана она в этих рассказах столь схожим образом, что невозможно не признать взаимодействие означенных легенд при общности и единстве психологического их источника, то есть того закона фантазии, который побуждает усиленно подчеркивать ценность блага или великой благодатной личности указанием на возможность ее утраты, с одной стороны, и на попечение Божественного Промысла о ее сохранении — с другой. Что же касается взаимодействия легенд, то влияние Моисеевой легенды на христианский миф совершенно очевидно, влияние греко-персидской легенды правдоподобно, а влияние римской легенды по меньшей мере допустимо.
Оригинальную черту истории детства Иисуса составляет рассказ об опасности, грозившей жизни Иисуса: ко времени рождения Иисуса на небе появляется звезда, которая приводит восточных магов (волхвов) в Иерусалим, где их расспросы об имеющем родиться царе иудейском возбуждают опасения у старого царя Ирода. Таким образом, мессианская звезда создала вышеозначенную опасность, но она же была важна для легенды и в другом отношении. Поверье в то, что появление новой звезды, и, в частности, неожиданное появление быстро исчезающей кометы знаменует грядущий переворот в делах человеческих, рождение или смерть великого человека, предстоящую войну или, в лучшем варианте, урожай винограда — это поверье неизменно сохраняется с глубокой древности до наших дней. При этом исходят из того, что необычному небесному явлению должно соответствовать земное событие в жизни и взаимоотношениях людей; если в одном случае из ста предположение подтверждается, тогда совпадение событий принимается за доказательство истинности предположения или поверья: человек суеверный игнорирует все остальные 99 случаев, когда явление природы не сопровождалось никаким историческим событием, и в то же время историческому происшествию, признаваемому важным, старается приписать несвойственный ему характер чрезвычайного явления природы средствами свободного поэтического творчества. Вопрос о том, действительно ли случилось то явление природы, о котором идет речь в данном сохраненном традицией рассказе, и было ли оно повествователем поставлено в непосредственную связь с определенным историческим происшествием произвольно и вопреки действительности или, наоборот, это явление сплошь представляется поэтическим вымыслом рассказчика, — этот вопрос приходится решать на основании других, благонадежных сообщений о данном явлении, а также на основании характера рассказа и его источников. Светоний рассказывает[191], что во время первых игрищ, устроенных Октавианом в честь убитого дяди, в течение недели видна была комета, которую народ принимал за душу боготворимого им Цезаря. Тут, оставляя в стороне суеверное истолкование данного явления, можно признать, что сообщение историка о появлении кометы в указанное время справедливо, ибо в этом сообщении нет ничего противного природе подобного светила, и сам историк, по условиям времени и места, мог об отмеченном им явлении иметь достаточно правдоподобное известие, тем более что и Плиний сообщает[192], что в собственных записках Августа тоже отмечено вышеупомянутое явление. Но если мы в одном из раввинистских сочинений читаем, что в день рождения Авраама на востоке появилась звезда, которая пожрала другие четыре звезды, светившиеся в четырех странах неба, то мы не признаем такое сообщение за пустую сказку, так как оно слишком фантастично по своему содержанию, да и момент составления рассказа слишком удален от момента сообщаемого происшествия. Наконец, если Юстин сообщает, что в год рождения Митридата и в год вступления его на престол появлялась большая комета, что в обоих случаях она видна была в течение 70 дней и ярко светилась в продолжение четырех часов ежедневно и что она занимала четвертую часть неба и сияла ярче солнца, то в этом сообщении всё представляется нам сказкой. Чтобы признать правдой сообщение о том, что в тот или другой из указанных автором моментов действительно появлялась комета (появление ее в оба из указанных моментов крайне сомнительно), нам пришлось бы предварительно обследовать источники, которыми при составлении рассказа пользовался Юстин (или, точнее, Трог, которого цитирует Юстин).[193]
Рассказ Матфеева евангелия о звезде, появившейся при рождестве Иисуса, составлен в момент времени, не слишком удаленный от того события, о котором в нём повествуется, и не может быть отвергнут лишь на этом основании. Спустя 80 или 100 и более лет в Палестине могла столь же прочно сохраниться весть о чрезвычайном появлении звезды, как в Риме сохранялась весть о комете Цезаря во времена Светония или Траяна. Но в данном случае наблюдается отличие, которое умаляет значение евангельского рассказа. Комета Светония появилась во время игрищ, устроенных в честь Цезаря, то есть в момент такого происшествия, которое обращало на себя всеобщее внимание; поэтому небесное явление, которое совпало с этим происшествием, должно было прочно засесть в памяти народа и отразиться также в произведениях современников-писателей. Но год рождения Иисуса ничем особенным не ознаменовался для людей соответствующей эпохи, если оставить в стороне евангельский рассказ, историческую достоверность которого в данном случае требуется доказать; следовательно, по прошествии ста лет местное население едва ли могло точно знать и помнить, появилась ли звезда именно в означенном, а не ином году.
Далее, из описания звезды, данного Матфеем, мы узнаем, что маги (волхвы) увидали ее на востоке и, решив (неведомо почему), что это — звезда новорожденного царя иудейского, то есть Мессии, отправились в Иерусалим. Из евангелия не видно, имели ли они во время путешествия перед собой звезду; но когда они по указанию Ирода отправились в Вифлеем, звезда вдруг снова появляется и уж не только ведет за собою волхвов, но, дойдя до Вифлеема, останавливается столь явственно над жилищем родителей Иисуса, что волхвы тут же заходят в дом с дарами. Какая то была звезда, мы не знаем, но во всяком случае естественная звезда не могла бы совершить то, что совершила эта мессианская звезда по свидетельству Матфея. Но если то была сверхъестественная, самим Богом посланная и руководимая звезда, то она должна была бы совершить нечто большее — отвести волхвов прямо в Вифлеем, минуя Иерусалим, чтобы напрасно не подводить под нож Ирода-злодея бедных младенцев вифлеемских. Поэтому всё то, что в звезде этой было сверхъестественного, например ее поступательное движение и остановка, мы в любом случае должны отбросить как сказочную подробность; но вместе с тем возникает вопрос: не следует ли вообще отбросить появление звезды как факт неисторический?
Насколько известно, другими историческими документами появление звезды в указанное время не подтверждено, но знаменитый астроном Кеплер, пытавшийся определить истинный год рождения Христа, вычислил, что в 748 году от основания Рима, за два года перед смертью Ирода, три планеты (Юпитер, Сатурн и Марс) находились в соединении, и в этом выводе сам Кеплер, а за ним и ряд новейших астрономов и теологов усматривали историческое подтверждение Матфеева рассказа о звезде волхвов. Но Матфей говорит не о группе звезд, а лишь об одной звезде; затем соединение двух или трех планет случается не так уже редко (соединение Юпитера и Сатурна происходит каждые 20 лет), чтобы восточные астрономы-мудрецы увидели в таком явлении событие столь необычайное, как повествует о том Матфей. Поэтому сам Кеплер не придавал соединению планет особенно большого значения и полагал, что это явление, вероятно, осложнилось появлением какой-нибудь новой необычайной звезды, как то случилось и в его время, когда (в 1604 г.) снова наблюдалось соединение упомянутых трех планет и появилась сверх того другая, новая звезда, которая сияла в течение некоторого времени подобно постоянным звездам первой величины, потом стала меркнуть и наконец совсем исчезла. Но между появлением подобной звезды и соединением означенных планет не существует никакой внутренней связи, поэтому предположение о том, что в момент рождения Христа имело место такое же астрономическое явление, какое наблюдалось в 1604 году, долго считалось догадкой спорной и неосновательной, пока гёттингенскому профессору Визелеру не посчастливилось вычитать из китайских летописей, что в 4-м году до начала нашего летосчисления (а рождество Христа, по нашему летосчислению, опоздало ровно на четыре года) появилась яркая звезда и была видима в течение продолжительного времени.
При всём нашем почтении к древним летописям Небесной империи и к теологии, с усердием раскапывающей доказательства истинности христианского учения даже у Великой стены китайской, мы всё же признаемся, что так далеко ходить за доказательствами не собирались, и полагаем даже, что идти такими окольными путями нет необходимости, так как искомое можно найти скорее и удобнее поблизости. А именно, допустим, что в год рождения Иисуса появилась комета или необычайная, однако же естественная звезда, но тогда мы всё же не получим такой звезды, какую описывает Матфей. Его звезда не мнимо, а действительно идет впереди путников-волхвов; она, в противоположность прочим звездам, останавливается не тогда, когда стоят путники, а раньше, и останавливается там, где следует им остановиться, а наша звезда была бы настоящей и заурядной звездой, небесным телом, которое существует для самого себя и ради иных целей и задач, а не для нас и наших земных дел. Звезду, необходимую и желательную для данного случая, могущую оказать мессианским паломникам все те услуги, какие оказала волхвам Матфеева звезда, мы обретаем в четвертой книге Моисея (Чис. 24:17), звезда, возвещенная Валаамом и долженствующая взойти от Иакова, не есть звезда обыкновенная, существующая сама по себе; она — звезда Мессии и, как таковая, должна оказывать услуги, которых от нее вздумает потребовать иудео-христианин во славу исповедуемого им Мессии-Иисуса.
Рассказ о Валааме и его премудрости, как известно, является одной из самых поэтических картин Ветхого завета и создан был фантазией поэта в ту благословенную эпоху, когда самосознание иудейского народа успело развиться в высшей степени благодаря победам, одержанным над соседними народами врагами, особенно над моавитянами и идумеянами. Это чувство национальной гордости автор облек в форму рассказа, в котором против Моисея, победоносно выступающего из пустыни, испуганный царь моавитский Валак призывает из-за Евфрата певца-волхва Валаама проклясть Израиль, но Валаам, по внушению Иеговы, не только не проклинает народ Божий, но и благословляет его и предрекает ему победу и благоденствие. Между прочим он предсказывает следующее:
«Вижу Его, но ныне еще нет; зрю Его, но не близко. Восходит звезда от Иакова и восстает жезл от Израиля, и разит князей Моава и сокрушает всех сынов Сифовых.»
В данном случае один и тот же предмет именуется то «звездой от Иакова», то «жезлом от Израиля», а в следующем (19) стихе добавляется:
«Происшедший от Иакова овладеет и погубит оставшееся от города.»
Всё это нас убеждает в том, что о звезде здесь говорится аллегорически, и под звездой разумеется славный и могущественный властитель.
В то же время ясно, что под властителем здесь разумеется не Мессия, а кто-то из исторических царей израильских, быть может, тот царь, при котором жил поэт и о подвигах которого он в целях вящего их прославления заявляет, что они были предсказаны прорицателями времен Моисея, хотя и трудно указать, о каком именно царе идет здесь речь: о Давиде или ином, более позднем царе.
Но в халдейской парафразе Пятикнижия, которая признаётся более древним произведением, чем наши евангелия, слово «звезда» заменено словом «царь», а слово «жезл» — словом «помазанник». Таким образом, всё вышеприведенное пророчество могло быть истолковано в смысле указания на Мессию, хотя всякий царь мог называться «помазанником», или Мессией, Христом. Несомненно, многие из позднейших раввинов понимали это прорицание в смысле указания на Мессию, но весьма возможно, что такое толкование было обычным явлением и в более ранний период, так как Лжемессия, поднявший иудейское восстание при Адриане, видимо, на основании означенного пророчества именовал себя «Сыном Звезды» (Бар-Кохба). Таким прозвищем он мог назвать себя, принимая слово «звезда» за фигуральное обозначение Мессии, но буквоедство книжников и астрологическое суеверие того времени весьма способствовали тому, чтобы под «звездой от Иакова» масса разумела настоящую звезду, которая должна появиться во времена Мессии, появление которого она предвозвестит. В апокрифическом завещании 12 патриархов (кон. I века по Р.X.) о Мессии говорится следующее: «Взойдет звезда его на небе звездой царской и распространит она свет познания», — и вообще у иудеев стало складываться убеждение, что если рождение Авраама было предвозвещено звездой, то и рождение Мессии будет ознаменовано появлением звезды.[194] Но раз все стали ожидать, что ко времени рождения Мессии появится звезда, то, разумеется, и христианин, разделявший это ожидание и убеждение, мог в качестве автора евангельского повествования рассказать, что при рождении Иисуса звезда появилась, независимо от того, знал ли он о чрезвычайном небесном явлении, совершившимся в то время, или нет: в своем описании звезды он мог держаться не исторических известий о явлении, а исключительно собственных представлений о звезде Мессии.
Итак, автор евангельского рассказа заимствовал звезду из четвертой книги Моисея, а волхвов он вывел на сцену вследствие появления звезды, ибо заметить и распознать звезду Мессии ранее других могли, разумеется, лишь волхвы или маги, посвященные в таинства природы и главным образом, звездоведения, притом волхвы с Востока, традиционной родины сокровенных знаний, волхвы из Вавилона или с Евфрата, откуда явился и сам Валаам, предсказавший появление в далеком будущем той самой звезды, которую увидели теперь вблизи его потомки.
Но эти маги приносят мессианскому младенцу дары. Валаам даров не приносил: наоборот, Валаку пришлось послать ему дары, чтобы побудить его прийти из-за Евфрата (Чис. 22:7). Валаам пришел, подкупленный дарами, и тотчас увидел звезду, «восходящую от Иакова», волхвы же пришли, ведомые звездой, и сами принесли дары. Здесь в деле подражания заметна перемена, которая объясняется воздействием какого-то иного прототипа, и этот прототип найти не трудно. Мессия был не только «звездой, восшедшей от Иакова», он был также «Востоком свыше» (Лк. 1:78; Мф. 4:16) — «светом», который, по пророчеству Исаии (60:1 и сл.), взойдет над Иерусалимом и которому народы и цари принесут богатые дары. Под этим «светом» сам пророк, по собственному признанию, разумел славу Иеговы, то есть самого Иегову, который обетовал вернуться по окончании вавилонского изгнания в Иерусалим, покинутый им из-за грехов Израиля (52:7), чтобы возродить к славе прощенный и покаявшийся народ свой и утвердить над ним свою державу. Но так как по возвращении из вавилонского плена и восстановлении служения Иегове в Иерусалиме не видно было признаков той славы, которую обетовал пророк, стало слагаться убеждение, что обетованная слава осуществится впоследствии, то есть во времена Мессии. Поэтому к Мессии стали приурочивать и те дары (золото и ладан), которые народы языческие должны были принести в Иерусалим. Точно так же в псалме 71 было сказано о царе, который будет праведно управлять народом израильским, сокрушит его угнетателей, поможет нуждающимся и будет грозен, доколе светят солнце и луна, то есть о таком властителе, под которым впоследствии разумели Мессию, что цари савский и меройский принесут ему дары, именно золото. Смутное воспоминание об истинном происхождении этой детали в евангельском рассказе, видимо, сказалось также и в том, что по церковному преданию к Христу-младенцу являлись в образе волхвов восточные цари.
Таким образом, рассказ первого евангелиста о волхвах и звезде есть результат сочетания двух мессиански понятых пророчеств Валаама и второго Исаии. Из первого пророчества заимствована звезда и указание на то, что люди, узревшие ее, были звездословы; из второго пророчества взято указание на то, что волхвы последовали за небесным светом или, по сочетании обоих прорицаний, были ведомы звездой и что новорожденному Мессии, к которому их привела звезда, они дарят, по прорицанию Исаии, золото и ладан и, по словам евангелиста, который, видимо, имел перед глазами псалом 44 (9), тоже приуроченный к Мессии, еще и смирну (Мф. 2:11). В прорицании Исаии, лица, приносящие дары Мессии, именуются иноплеменниками, среди которых иудеи проживали во времена вавилонского пленения, поэтому волхвы Матфея были, очевидно, не иноземными евреями, а иноплеменниками-язычниками, о чём свидетельствует также и церковное предание, которое увидело в волхвах восточных первых прозелитов-язычников, обратившихся к вере Христовой; оно, стало быть, в данном случае проявило больше такта и исторического понимания, чем многие новейшие теологи, которые признали волхвов за иноземных иудеев, чтобы вразумительнее объяснить тот факт, что волхвы (маги) осведомлялись в Иерусалиме, где именно родился младенец Мессия.
§63.
Евангелист рассказывает, что волхвы восточные, отыскивая новорожденного царя иудейского, прежде всего явились в Иерусалим (Мф. 2:1) Это сообщение могло покоиться на прорицании Исаии, в котором сказано, что дары будут принесены в Иерусалим. Но главная причина в том, что в Иерусалиме тогда проживал злодей Ирод, ибо весь эпизод со звездой и волхвами, как было сказано, хотя и сохраняет самостоятельное мессианское значение, но вместе с тем имеет целью показать, какой опасности подвергалась жизнь новорожденного Мессии и каким чудом он был спасен, чтобы таким образом наглядно подчеркнуть высокую ценность его жизни и попечение о нём божественного промысла.
Выше отмечалось, что прототипом и образцом для описания детства Иисуса служила история детства национального спасителя евреев Моисея. Ирод — второй фараон, он тоже велел умертвить младенца — избранника среди других младенцев, и он успел бы это сделать, если бы младенца не спасла от гибели воля Всевышнего. Отличие, однако, в том, что фараон, согласно второй книге Моисея (гл. 1), велел умертвить множество младенцев, а не одного лишь избранного, о рождении и предназначении которого он ничего не знал, так как своим повелением об избиении всех младенцев-мальчиков израильских он рассчитывал прекратить опасное для его царства размножение израильтян, а Ирод, наоборот, замыслил умертвить лишь мессианского младенца, о рождении которого ему сообщили восточные волхвы, но так как он не знал, где именно родился Христос-Мессия, то приказал убить всех младенцев мужского пола моложе двух лет в Вифлееме, где, по словам книжников, надлежало родиться Мессии. Впрочем, как многие ветхозаветные сказания, так и рассказ о злодейском повелении фараона впоследствии был приукрашен разными деталями, благодаря чему переработка его в евангельский рассказ облегчилась. Казалось неправдоподобным и для избранного младенца неприличным, чтобы фараон не знал и не догадывался о высоком и для него столь роковом предназначении обреченного младенца, когда он отдавал приказ об истреблении израильских детей. Поэтому Иосиф Флавий[195] на основе древнейшего предания утверждает, что фараон приказал истребить израильских младенцев, потому что узнал от своих книжников (как Ирод от явившихся к нему волхвов-астрологов) о предстоящем рождении младенца, который спасет израильтян и сокрушит египтян.
Таким образом, рассказ о Моисее относится к разряду тех сказаний, какие сложились в свое время о Кире, Ромуле и Августе; то же приходится сказать и о рассказе об Иисусе… Роль фараона или Ирода в истории Кира сыграл его дед Астиаг, в истории Ромула и Рема — дядя их Амулий, а в истории Августа — сенат римский[196]. Астиаг увидел сон, и маги (волхвы) истолковали его в том смысле, что дочь его родит сына, который станет царем вместо него. Амулий, естественно, страшился мести братьев-близнецов за то, что сверг с престола их деда[197]. Рождению Августа в Риме предшествовало знамение, указывавшее на то, что сама природа готовится произвести на свет царя для римского народа[198]. Как склонна была народная фантазия евреев создавать такого рода поэмы, явствует уже из того, что в произведениях позднейших иудейских авторов рассказ об опасности, грозившей жизни законодателя Моисея, воспроизводится также и в истории родоначальника иудейского Авраама. В этом случае роль фараона сыграл Нимрод, который, по словам одного сказания, увидел во сне (а по словам другой легенды, наяву) звезду на небе и узнал от своих мудрецов-толковников, что она знаменует рождение у Фарры сына, от которого произойдет могущественный народ призванный унаследовать мир настоящий и грядущий.[199] Та же деталь была внесена также в историю детства Иисуса и как бы в pendant к ней отразилась также в истории детства Иоанна Крестителя, который при избиении вифлеемских младенцев тоже подвергался смертельной опасности и тоже избавился от гибели чудесным образом.
В легендах о Кире, Ромуле и Аврааме тираны приказывают умертвить именно данных, для них опасных младенцев; а рассказы о Моисее, Августе и Христе сходятся между собою в том, что тираны в них замышляют устранить им лично неизвестного врага — младенца — путем повального массового избиения. В рассказе о Моисее фараон, как мы сказали, не знает, что надлежит родиться данному младенцу; в позднейшей легенде у Иосифа Флавия он, как Ирод у Матфея и как римский сенат у Светония, это уже знает, но ему, как Ироду и сенату, неизвестно, который из родившихся младенцев его соперник; поэтому фараон велит утопить всех израильских мальчиков. Сенат римский воспрещает выкармливать всех мальчиков, родившихся в данном году, а Ирод велит убить всех младенцев в Вифлееме от двух лет и ниже. Сначала Ирод хотел извести врага — младенца — непосредственно, подобно тиранам легенд о Кире, Ромуле и Аврааме, и с этой целью наказывает волхвам пойти в Вифлеем, найти младенца и известить его о результате разведки по возвращении своем в Иерусалим, но, когда волхвы, получив во сне откровение свыше, не возвратились к Ироду в Иерусалим, он решил прибегнуть к вышеуказанной мере, и тут-то мы начинаем понимать, почему он осведомлялся у волхвов о времени появления звезды: оно давало сведение о предполагаемом возрасте младенца. Если приказ о поголовном избиении младенцев характеризует престарелого Ирода со стороны его жестокосердия и безумия, то фактом историческим его всё-таки нельзя признать, так как ни Иосиф Флавий, подробно повествующий историю Ирода, ни кто-либо другой из писателей древности ни словом не упоминает о вифлеемском избиении младенцев, и только один автор IV века по Р.X. связал рассказ о казни одного из сыновей Ирода, очевидно, состоявшейся по повелению последнего, с рассказом об избиении младенцев, изложенным в Евангелии от Матфея (Макробий. Сатурналии. II 14).
В вопросе о том, как был спасен от смертельной опасности чудо-младенец, наши евангелисты между собой расходятся. В легендах о Моисее, как и в древнеримской легенде о Ромуле, младенцам грозила смерть от утопления ввиду той географической роли, которую играли Нил в Египте и Тибр в Лации, и их спасают корзина, в которой они плыли по реке, и сострадание тех лиц, которые их в этом положении находили; в легенде о Кире младенца спасают находчивость и добросердечие людей, которым было поручено умертвить его; в легенде об Августе младенца спасает то обстоятельство, что сенаторы, у которых в указанном году родились мальчики, сами воспротивились исполнению сенатского постановления (заметим, впрочем, что о таком постановлении римского сената, как и об Иродовом избиении младенцев, никто из других писателей не упоминает). Автор первого евангелия в данном случае прибегает к фактору, который очень часто фигурирует в иудейских и древнехристианских легендах вообще и который он очень любит выдвигать на сцену: к божественному откровению, полученному во сне. По словам евангелиста, ангел Божий явился Иосифу во сне и велел ему не смущаться беременностью обрученной ему Марии (1:20). Затем волхвы явившиеся поклониться Мессии, тоже получили откровение во сне (от ангела ли Божия евангелист не поясняет, но откровение, очевидно, шло от Бога) не возвращаться из Вифлеема к Ироду (2:12). Далее, когда Ирод замыслил избиение младенцев вифлеемских, ангел господень является во сне Иосифу и велит ему бежать вместе с младенцем Иисусом и Марией в Египет (2:13), а после смерти тирана Ирода ангел снова является во сне Иосифу в Египте и велит ему идти обратно в землю израилеву (2:19–20). Наконец, придя в «землю Израилеву», Иосиф дополнительно получил откровение во сне — идти не в Вифлеем и не в Иудею, где после Ирода воцарился не менее жестокий сын его, Архелай, а в «пределы Галилейские».
Итак, чудесная звезда и пять чудесных сновидений за сравнительно короткий период времени, причем четыре сновидения и откровения пришлись на долю лишь одного лица! Такое изобилие чудес у первого евангелиста прямо поражает, тем более что вполне возможно было обойтись без некоторых чудес. Например, можно было, очевидно, опустить последнее откровение, полученное Иосифом во сне, если бы в предпоследнем откровении ему было указано идти не в «землю Израилеву», а прямо в Галилею. Впрочем, наличие двух последних откровений никому и ничему не повредило. Вредным моментом представляется то, что звезда, столь толково указывавшая путь волхвам, привела их сначала в Иерусалим, а затем и в Вифлеем и что повеление миновать Иерусалим волхвам не было открыто раньше, когда они шли поклониться новорожденному Мессии, ибо тогда Ирод не впутался бы в дело и не велел бы избивать младенцев вифлеемских. Можно мириться с мыслью, что Бог допускает такое злодеяние в сфере обычных процессов и явлений природы и истории, но трудно поверить тому, чтобы Бог сам стал способствовать совершению злодеяний своим сверхъестественным вмешательством, ибо младенцы вифлеемские остались бы в живых, если бы волхвы, приведенные в Иерусалим звездой, не возбудили тревоги в царе Ироде и во всём населении Иерусалима.
Стало быть, в данном случае мы имеем дело не только с событием неисторическим, но и с таким, в котором немыслимо признать чудесное вмешательство Бога; но оно вполне соответствовало представлениям и настроению благочестивого иудео-христианина конца I века по Р.X. Такому христианину необходимо было организованное тираном избиение младенцев, от которого второму — величайшему спасителю народа иудейского удалось спастись благодаря чуду, потому что первый спаситель иудейского народа тоже избежал убиения младенцев волей Всевышнего и потому что изречение Иеремии о Рахили, оплакивающей Детей своих (31:15; ср. Мф. 2:17–18), хотя и относилось, по мысли самого пророка, к пленению народа вавилонянами, но всё же могло быть истолковано в смысле мессианского избиения младенцев. Обилие чудесных сновидений тоже не смущало его: ведь такие сновидения бывали также у ветхозаветных угодников Божиих, и, кроме того, отличительным признаком «последних (мессианских) дней» считалось то, что вследствие излияния духа Божия на всякую плоть в эти дни «будут пророчествовать сыны ваши и дочери ваши; старцам вашим будут сниться сны, и юноши ваши будут видеть видения» (Иоил 2:28; Деян. 2:17).
Как на средство спастись от злодеяний Ирода ангел Божий во сне указывает воспитателю мессианского младенца на бегство или эмиграцию. В Откровении Иоанна (12:1–6) жена, облеченная солнцем, попирающая ногами луну и увенчанная диадемой из 12 звезд, родив младенца, которого хотел пожрать красный семиголовый дракон, убежала от него в пустыню, а младенец ее был вознесен на небеса к Богу и престолу его — Кир, Ромул, вырастают среди пастухов; Моисей воспитывался в доме дочери фараоновой, пока его не вынудило эмигрировать в зрелом возрасте совершенное им убийство египтянина (Исх. 2:15). Что именно это бегство первого спасителя еврейского народа евангелист имел в виду в своем повествовании о жизни последнего спасителя Иисуса, явствует из того, что возвращение Иосифа после смерти Ирода он мотивирует таким же выражением, каким ветхозаветный повествователь мотивировал возвращение Моисея после смерти фараона. Здесь Иегова говорил: «Пойди, возвратись в Египет, ибо умерли все, искавшие души твоей», после чего Моисей взял жену свою и сыновей своих, сел на ослицу и вернулся в страну Египетскую (Исх. 4:19–20). А в евангелии ангел сказал Иосифу, который спал (Моисею же Иегова явился наяву и потому начать речь свою должен был иначе): «Встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву, ибо умерли искавшие души Младенца», после чего Иосиф встал, взял младенца и матерь его и пришел в землю Израилеву (Мф. 2:20–21). Ясно, что в евангельском рассказе место Моисея занял Иосиф, место жены его — Мария, а детей его — Иисус, а церковная легенда, как бы в подтверждение происхождения евангельского рассказа от рассказа Моисеева, добавляет еще ту деталь, что Иосиф «сел на осла» и отправился на родину.
Первый спаситель народа иудейского, выросший и воспитавшийся в Египте, бежал из Египта в «землю Мадиамскую»; последний же спаситель Иисус, родившийся в Палестине, бежит в Египет и затем оттуда возвращается на родину. В этом обстоятельстве евангелист видит осуществление пророчества Осии (11:1): «из Египта вызвал сына Моего». Под «сыном» сам пророк отнюдь не разумел Мессию; в его прорицании Иегова начинает речь так: «когда Израиль был юн, Я любил его»; затем продолжает: «из Египта вызвал сына моего»; и наконец добавляет, что Ефремово колено он водил, как младенца, на помочах, но оно стало служить и приносить жертвы идолам. Стало быть, в данном изречении разумеется под «сыном» (как в других изречениях под «слугой Иеговы») народ Израильский. Правда, Иегова говорит о сыне «своем», а сыном Иеговы (сыном Божиим) экзегеты из иудео-христиан считали Мессию-Иисуса; стало быть, если Бог вызвал сына своего из Египта, то Иисус тоже когда-нибудь да должен был находиться в Египте, и притом именно в детстве, так как у Осии говорится о помочах детских. В представлении древнейших христиан такое умозаключение было вполне логично и правильно, и оспаривать его во всяком случае не приходилось иудеям, у которых христиане переняли логику. Кроме того, избрать Египет местом поселения бежавшего Мессии понуждали также события древнейшей истории.
Хотя законодатель иудейский, Моисей, бежал не в Египет, а из Египта, однако же Египет неоднократно являлся прибежищем и житницей для праотцев Израиля во время неурожаев и вздорожания припасов. Беря народ израильский в целом (как Осия), можно сказать, что детство свое (период патриархов) он провел в Палестине, а юношество — в Египте, а потом был призван Богом в землю обетованную; поэтому биограф Иисуса вполне естественно приходил к той мысли, что в истории жизни индивидуального сына Божия сказалась история жизни коллективного сына Божия.
Насколько велико было усердие первого евангелиста в отыскивании мнимых прорицаний ветхозаветных и как велик был произвол его в деле насильственного, неестественного истолкования надерганных им прорицаний, это мы видим, наконец, из его утверждения, что, поселившись в Назарете, Иосиф будто бы осуществил сказанное через пророков (Суд. 13:5), что он «Назореем наречется» (Мф. 2:23). Этим Матфей, видимо, хотел сказать, что у пророков Мессия нередко именуется «отпрыском Иессея», тогда как Исаия (11:1) именует его еврейским словом «нэзер», а другие пророки, например Иеремия (23:5; 33:15) и Захария (3:8; 6:12), называют его равнозначащим словом «цемах». Отсюда евангелист произвольно заключил, что словом «нэзер» пророк таинственно предуказал на город Назарет как на родину грядущего отпрыска Давидова.
§64. Добавление: Представление Иисуса во храм
Если рассказ евангелиста Матфея мы сравним с рассказом третьего евангелиста, который тоже повествует о детстве Иисуса, то увидим, что рассказ Луки значительно отличается от Матфеева рассказа по содержанию и по основной идее (Лк. 2:22–40). У Матфея прославление рождения мессианского младенца звездой и поклонением волхвов создает опасность для жизни Мессии, который избегает гибели благодаря тому, что по Божьему повелению выселяется в Египет и остается там до смерти своего врага-гонителя. У Луки мессианского младенца в указанный законом срок, то есть на 40-й день после рождения, относят в Иерусалим, чтобы представить его как перворожденного младенца мужского пола Иегове, причем мать его совершает обряд очищения, установленный для родильниц, а младенцу поклонение приносят не восточные волхвы (как сообщал Матфей), а благочестивые израильтяне в лице священника Симеона и вдовицы Анны; об опасности, грозящей жизни мессианского младенца, евангелист Лука не упоминает, но говорит, что родители Иисуса, исполнив долг благочестия, «совершив всё по закону Господню», с миром возвратились в Назарет Галилейский. Следовательно, прославление Иисуса у Луки получает более скромный вид, чем у Матфея, но зато и не приводит к каким-либо трагическим осложнениям и завершается вполне мирно. О грозных испытаниях, предстоящих Иисусу в будущем, говорится лишь в пророческой речи старца Симеона, который сказал Марии: «Се, лежит Сей… в предмет пререканий, — и Тебе Самой оружие пройдет душу» (Лк. 2:34–35).
Далее, в рассказе Луки не видно никакого желания подражать жизнеописанию Моисея; напротив, евангелист трижды отмечает, что родители Иисуса исполняли закон Моисея, соблюдая обряды обрезания младенца, очищения и представления младенца-первенца Господу, затем еще раз подтверждает, что они «совершили всё по закону Господню» и возвратились с миром восвояси. Таким образом, мы видим, что Лука всё более старался показать, что относительно христианского Мессии уже и в раннем детстве было соблюдено всё, что предписывал закон Моисея, не исключая и обряда обрезания. Иудаисты-фанатики (зелоты) ненавидели в лице Иисуса человека, который собирался разрушить закон Моисеев и храм Иеговы (Мф. 26:61; Деян. 6:14). Поэтому естественно, что они не останавливались и перед измышлениями, позорящими Иисуса, и, например, в своих памфлетах позднейшего времени утверждали, что Иисус родился «незаконно» и воспитывался не по законам Моисея. Поэтому приходилось усиленно доказывать, что Иисус был членом благочестивой и законопослушной семьи, что мнимый разрушитель храма Божия своевременно был представлен в храм Иеговы, где его приветствовали благочестивые и богоугодные представители храмового духовенства в качестве издавна обетованного Спасителя-Мессии. Поэтому Лука и отмечает, что младенца Иисуса в храме приветствовали Симеон и Анна, после того как при рождении его приветствовали ангелы Божии, и с иудаистской точки зрения такое изобилие приветствий не было излишним: иудею мало было знать, как относился Иисус к Иегове или к религии вообще, ему хотелось еще знать, как он смотрел на иудейство, на Закон Моисеев и на храм Божий. Кроме того, приветствие мессианского младенца благочестивыми израильтянами могло быть использовано и в другом отношении. Иудеев более всего смущало в христианском Мессии то, что он умер смертью, позорной в гражданском смысле: распятый на кресте Христос был иудеям «соблазном» (1 Кор. 1:23). Но если такой человек, как Симеон, муж праведный и благочестивый, чающий утешения израилева (пришествия Мессии) и преисполненный Святого Духа (Лк. 2:25), при виде мессианского младенца предсказал ему грядущие «пререкания», а матери его — оружие, которое пронзит душу ее, то есть предсказал насильственную смерть, которая постигнет его в будущем, то в этом прорицании можно было почерпнуть весьма своевременное и неоспоримое указание на то, что идея Мессии не исключает, а включает признание страданий и смерти. И если Симеон при этом заявлял, что сей младенец родился «на падение и на восстание многих в Израиле и в предмет пререканий», то в этом можно было видеть указание на то, что Промыслом Божиим уже была предусмотрена неприязнь иудеев к Иисусу и что произволению каждого иудея предоставлено повести себя так, чтобы Богом посланный Мессия послужил ему не на «падение», а на «восстание».
Рассказ Луки о представлении Иисуса во храм Божий многими своими чертами напоминает рассказ Матфея о волхвах. Симеон является в храм по указанию Бога-Духа, так как ему предсказано было Святым Духом, что он «не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня» (Мессию), а волхвы явились в Иерусалим по указанию звезды, которая им возвестила о рождении Мессии. Затем, когда звезда указала волхвам дом Мессии, они тотчас, пав, поклонились Ему; и, открыв сокровища свои, «принесли Ему дары»; а Симеон, по внушению Святого Духа, тотчас признал в младенце Иисусе обетованного Мессию, взял его в объятия свои и поклонился ему Богом вдохновенной речью. Прибытие и расспросы волхвов в Иерусалиме о Мессии встревожили царя Ирода и «весь Иерусалим с ним», а пророчица Анна «славила Господа и говорила о нём (о Мессии-Иисусе) всем, ожидавшим избавления в Иерусалиме». Такое сходство, может быть, случайность и объясняется естественным тождеством основных черт истории детства Мессии. Однако можно предположить и то, что автору третьего евангелия был известен рассказ первого евангелиста, которому он преднамеренно противопоставил свои собственный, несходный с ним рассказ. По свидетельству Юстина Мученика,[200] ранние противники христианства между прочим утверждали, что чудеса Иисуса были чародейством и обманом, что сам Иисус был одним из многих волшебников и обманщиков, ходивших по различным областям и выдававших себя за сверхъестественные существа. Что такого пода нарекания основывались на рассказе первого евангелиста о бегстве Иосифа с Марией и Иосифом в Египет, об этом свидетельствует языческий философ Цельс, который в одном из антихристианских сочинений своих устами иудея утверждает, что Иисус в молодости был очень беден и потому нанимался на работы в Египте и там научился волшебству и магии, которыми и стал заниматься по возвращении на родину.[201] При наличии подобных нареканий щекотливым моментом могло казаться евангелисту не только бегство Иисусовой семьи в Египет, классическую страну чародеев и волшебников, но также соприкосновение с волхвами восточных стран; и Лука предпочел заменить восточных волхвов правоверными израильтянами, преданными не звездословию и звездочетству, а храму Божию и Святому Духу. Поэтому и заключительная формула Луки о том, что младенец Иисус «возрастал и укреплялся духом, исполняясь премудрости, и благодать Божия была на Нем» (2:40), составлена в древнееврейском вкусе и живейшим образом напоминает собой соответствующую заключительную формулу в истории Самсона (Суд. 13:24).
Что повествование Матфея и Луки о детстве Иисуса есть рассказ не исторический, а поэтический, явствует из того, что, во-первых, многие элементы этого повествования совсем немыслимы или явно тенденциозны и, во-вторых, многие детали этого рассказа противоречивы и несовместимы друг с другом. Выше уже было показано, что оба евангелиста расходятся во взглядах на первоначальное местожительство родителей Иисуса; Матфей таковым считает Вифлеем Иудейский, а Лука — Назарет Галилейский. Сообразно этим предположениям, у Матфея родители Иисуса после его рождения остаются спокойно жить в Вифлееме, так же принимают явившихся на поклонение волхвов и покидают резиденцию свою, лишь когда узнали о предстоящем избиении младенцев вифлеемских и ангел Божий велел им переехать в Египет; но когда они узнали о смерти Ирода-злодея, они снова вернулись было в Вифлеем, но во сне им было открыто, что в Иудее воцарился Архелай, достойный сын своего отца Ирода, поэтому благоразумнее вернуться в Галилею, минуя Иудею. Таким образом, у Матфея основной резиденцией родителей Иисуса является Вифлеем, который они покидают только по силе внешних обстоятельств; у Луки же основной резиденцией их является Назарет, из которого они отлучаются в Вифлеем лишь ради переписи, затем остаются сорок дней в Вифлееме после рождения Иисуса ввиду положения родильницы, потом приезжают в Иерусалим для представления Иисуса в храм и наконец по завершении всех дел они снова возвращаются в свой отдаленный Назарет.
Если бы эти рассказы евангелистов были рассказами историческими, то их можно было бы так или иначе согласовать. Можно было бы предположить, что волхвы явились до или после представления Иисуса в храм, что представление Иисуса в храм произошло до появления волхвов или после него, но перед бегством в Египет или после возвращения Иосифа с семьей из Египта. Но рассказы евангелистов не подходят ни под одно из этих предположений. Если допустить, что представление Иисуса в храм предшествовало прибытию волхвов, то евангелист нам сообщает, что после представления Иисуса в храм семья его вернулась в Назарет и, стало быть, волхвы, явившиеся тем временем на поклонение, не могли застать их в Вифлееме вопреки свидетельству Матфея. Затем, если по случаю представления Иисуса в храм пророчица Анна всем чающим пришествия Мессии в Иерусалиме уже успела сообщить весть о рождении Мессии, то, вопреки словам Матфея, весть о рождении Мессии, позднее занесенная волхвами, не могла уже встревожить жителей Иерусалима.
С другой стороны, если предположить, что прибытие волхвов и последующее бегство Иосифа в Египет предшествовали представлению Иисуса в храм, тогда нас повергают в недоумение 40 дней, протекшие, по словам Луки, от дня рождения Иисуса до представления его во храм, ибо Ирод, осведомлявшийся у волхвов о моменте появления звезды, видимо, предполагал, что младенец мессианский родился в день появления звезды, и если он на основании указания волхвов велел избивать всех вифлеемских младенцев моложе двух лет, то он, очевидно, полагал, что таков именно возраст мессианского младенца. Но даже по рассказу самого Матфея, свыше 40 дней должно было пройти от дня рождения Иисуса до прибытия волхвов из их далекой родины, поэтому немыслимо предположить, чтобы за те же 40 дней волхвы успели вернуться, а родители Иисуса успели вместе с Иисусом побывать в Египте и после смерти Ирода оттуда вновь явиться в Палестину; для подобных переездов и событий шести недель, очевидно, слишком мало, а потому мы попытаемся построить новое предположение: игнорируя связь и порядок Матфеева рассказа, предположим, что после отбытия волхвов родители Иисуса отвезли младенца в Иерусалим, прежде чем явился им ангел и, указав на злодейский умысел Ирода, велел им бежать в Египет. Однако мыслимо ли, чтобы ангел не удержал их своевременно от столь опасной для них поездки в резиденцию злодея Ирода? А если они всё-таки приехали в Иерусалим и весть о прибытии мессианского младенца была уже распущена там всюду словоохотливой пророчицей Анной, то почему же Ирод не попытался схватить Мессию-Иисуса тут же в Иерусалиме? Ведь это его избавило бы от необходимости устроить бойню вифлеемскую, которая при сомнительных результатах всё же представлялась несомненно гнусной мерой. Наконец, рассказ Луки о представлении Иисуса в храм отнюдь не предполагает таких событий, как прибытие и разведка волхвов; напротив, он констатирует, что весть о рождении Мессии стала лишь в то время распространяться в Иерусалиме и что жизни младенца Иисуса никакая опасность ниоткуда не грозила.
Итак, оба евангельских рассказа по существу своему являются не историческими, а их несходством и несовместимостью подтверждается их антиисторический характер, поэтому мы должны к ним относиться как к произведениям поэтическим и предположить, что их создали либо сами авторы первого и третьего евангелий, либо другие авторы, а евангелисты лишь включили их в свои труды. Но тут на нас находит новое раздумье. Если признать, что первое евангелие есть евангелие иудаистов, а третье евангелие паули, и если вспомнить, что рассказ о звезде и волхвах помещен в первом евангелии, а рассказ об обрезании и представлении Иисуса в храм приведен в третьем, то мы невольно начинаем недоумевать и спрашиваем: почему же рассказ третьего евангелиста не помещен в Евангелии от Матфея, а рассказ первого евангелиста не вошел в Евангелие от Луки? Ведь рассказ о звезде и волхвах восточных явно указывает на языческий мир и на то, что язычникам предуказано войти в Царство Христово, а в рассказе об обрезании Иисуса и представлении его во храм содержится не менее очевидное указание на святость
Моисеева закона и религии иудейской. Но в Матфеевом евангелии мы находим кроме чисто иудейских, партикуляристских элементов также указание на то, что и язычникам предуготовлено спасение, а в рассказе о волхвах нет указаний, каким путем и при каких условиях язычники могут обрести спасение. С другой стороны, сам же апостол язычников, Павел, подтверждает, что Христос, сын Божий, родившийся от жены, подчинялся закону (Гал. 4:4), так что рассказ Луки представляет собой как бы конкретную иллюстрацию к этому замечанию апостола Павла. Правда, Павел тут же добавляет, что Христос подчинялся закону, чтобы искупить подзаконных и таким образом положить конец закону, ибо конец есть Христос (Рим. 10:4), а этой мысли мы не находим в рассказе Луки о детстве Иисуса. Напротив, как данный рассказ, так и рассказ о Крестителе по форме и содержанию своему являются рассказами иудаистскими. Но иудаистский элемент вообще присущ Евангелию от Луки, и лишь местами ему противопоставляется тенденция универсалистского характера. Такого рода элементы, нейтрализующие и обесцвечивающие иудаистскую основу Евангелия от Луки, находим мы и в данном рассказе, в котором они представляются результатом соответствующих направлений и приписок. Если Симеон называет Иисуса «светом к просвещению язычников» (Лк. 2:32; Ис. 42:6), то этими немногими словами выражено всё содержание рассказа о звезде, хотя в дальнейших замечаниях Симеона о «падении и восстании многих в Израиле» и об обнаружении «помышлений многих сердец» (Лк. 2:34–35) содержится прямое указание на то, что иудеям предстоит серьезное испытание, которого весьма многие из них не выдержат.
II. Иисус, подобно Моисею и Самуилу, уже в юношестве обращается к своему высокому призванию
§65.
Светоний рассказывает об Августе,[202] что его в детстве нянька однажды вечером уложила в колыбель в комнате, расположенной в нижнем ярусе дома, но утром он исчез и после долгих поисков был найден на башне дома смотрящим на восток.
Нас могут спросить: какое отношение этот рассказ Светония имеет к рассказу евангелиста о выступлении 12-летнего Иисуса в храме Иерусалимском (Лк. 2:41–52)? Конечно, в том и другом рассказе речь идет о лицах неодинакового возраста, но общая черта этих рассказов заключается в указании на то, что ребенок, предназначенный для высших подвигов и целей, вдруг исчезает из глаз окружающих людей и после долгих поисков отыскивается уже не в обыденной обстановке, а в освященном месте. Правда, в рассказе об Августе последний отыскался не в храме, но восток считался священной страной света, и та вышка дома (или «башня», как выражается Светоний), на которой найден был младенец Август, очевидно, указывает на близкое общение с богами, которого он был удостоен в данном чудесном случае. У Августа, как у Христа, высокое призвание совмещалось с высоким их происхождением, ибо и приведенный нами эпизод едва ли не имеет отношения к легенде о происхождении Августа от Аполлона, а бог солнца, Аполлон, бесспорно, имел близкое отношение к Востоку, как в евангельском рассказе указание Иисуса на то, что храм Божий есть дом отца его, напоминает об истории его сверхъестественного зачатия. Как Иисус был сыном Божиим в образе человеческом, так Кир воспитанный в качестве сына пастуха, был внуком царским в образе раба, но, по словам сказания, царское происхождение и призвание проявилось в нём весьма рано, уже на десятом году жизни: будучи во время игры избран в цари, десятилетний Кир отправлял свои обязанности царя столь серьезно, что по этому признаку в нём и признали царского внука.[203]
У Моисея его призвание стать спасителем народа своего сказалось в более позднем возрасте, когда он заступился за еврея, соплеменника своего, и убил египтянина, который истязал еврея; а это случилось тогда, когда он вырос, как сказано во второй книге Моисея (Исх. 2:11), или «когда исполнилось ему сорок лет», как говорит автор Деяний апостолов (7:23), основываясь на позднейшем иудейском сказании. Но как известно, некоторые раввины утверждают, что Моисею тогда было не более 20 лет, и если сила воли и энергии могла сказаться в нём лишь в более или менее зрелом возрасте, то благоразумие законодателя он проявлял уже в молодые годы. По свидетельству Иосифа Флавия,[204] он был разумен не по летам, а по словам Филона,[205] Моисей уже ребенком любил не детскую забаву и игру, а лишь серьезный труд, и к нему пришлось рано приставить учителей, которых он, однако, скоро превзошел врожденной силой духа.
Самуил был еще младенцем, когда мать принесла его в скинию Силомскую на служение Иегове (1 Цар. 1:24–25), и, будучи отроком, он уже услышал ночью приветствие и речь Иеговы (3:1). Возраст его в Ветхом завете точно не указан, но как о Моисее свидетельствуют Деяния апостолов, так о Самуиле свидетельствует Иосиф Флавий[206] (основываясь, вероятно, на сказании позднейшего происхождения), что он, Самуил, начал пророчествовать уже на 12-м году жизни. Дело в том, что, по словам Талмуда, отроки 12 лет уже считались у израильтян зрелыми юношами, каковыми у нас признаются 14-летние мальчики, поэтому в одном христианском сочинении, видимо, со слов иудейского предания, говорится, что мудрые изречения Соломона и Даниила составлены были их авторами в возрасте 12 лет. О том, что история детства Самуила служила нашему евангелисту (Луке) образцом или прототипом, свидетельствует также следующее обстоятельство: во-первых, свой рассказ он начинает с замечания о том, что родители Иисуса каждый год ходили в Иерусалим на праздник Пасхи (2:41), подобно тому как в истории Самуила говорится (1 Цар. 1:3, 21; 2:19), что его родители ежегодно приходили в Силом принести жертву Иегове; во-вторых, заключительное замечание Луки о том, что Иисус «преуспевал в премудрости и в возрасте и в любви у Бога и человеков» (2:52), очевидно, тождественно с заключительным же замечанием об отроке Самуиле, что он преуспевал в возрасте и в благоугождении Богу и человекам (2:26).
Затем переходя от этих общих замечаний о героической легенде вообще и еврейском сказании о пророках — в частности, к собственно христианской легенде о Мессии, мы прежде всего должны принять во внимание то, что вначале предполагалось, что Иисус-человек был наделен силами, необходимыми для мессианского призвания, в момент его крещения Иоанном, то есть уже в зрелом возрасте, и лишь впоследствии создалось представление о том, что высшие мессианские силы были всегда присущи ему как существу, зачатому и рожденному сверхъестественным образом. Но первый евангелист в своем рассказе переходит от рождения и отрочества Иисуса прямо к его крещению; таким образом, получается большой пробел в жизни Иисуса, и мы, естественно, задаемся вопросом: если Иисус уже от рождения был преисполнен Святого Духа, то почему же он так долго медлил показать себя? Почему он только в зрелом возрасте впервые начал проявлять свою силу и мудрость? Такой вопрос тесно соприкасался с воззрениями эбионитов, которые отрицали сверхъестественное зачатие Иисуса, и потому апокрифические евангелия старались предрешить этот вопрос, утверждая, что Иисус и в детстве творил чудеса, что он уже младенцем произносил речи и именовал себя сыном Божиим, что он учителю своему разъяснял мистический смысл алфавита и что наставники затруднялись отвечать на многие вопросы, которые им задавал Иисус, когда ему не было еще и 12 лет от роду. С подобными нелепо фантастическими рассказами ничего общего не имеет рассказ Луки, который представляет собой сравнительно зрелый продукт древнехристианского поэтического творчества. Прежде всего, Лука совершенно умалчивает о чудотворениях Иисуса-отрока. Правда, относительно премудрости Иисуса он переходит грань человечески возможного: 12-летний Иисус, по словам евангелистов, сидит не «при ногах» наставников, как того требовал от отроков обычай (Деян. 22:3), а «посреди учителей», как равный им по достоинству; кроме того, отрок Иисус именует Бога «отцом» своим, что мыслимо лишь при предположении, что он знал историю своего сверхъестественного зачатия или успел достичь такой ступени религиозного развития, какой не наблюдается у отроков обыкновенных. Однако и тут евангелист не столь явно нарушает естественную правду, как вышеприведенная апокрифическая сказка, ибо (за исключением наименования сыном Божиим) Иисус Луки в данном случае заходит не дальше тщеславного Иосифа, который о самом себе заявлял, что уже 14-летним юношей он возбуждал в людях изумление своим умственным развитием и познаниями.[207] Кроме того, евангелист ведет рассказ весьма планомерно и рационально, ибо пробел между рождением Иисуса и зрелым возрастом его заполняет эпизодом, характеризующим именно стадию перехода от отрочества к юности.
Рассказ начинается с замечания, составляющего основную мысль всего повествования о детстве Иисуса в третьем евангелии, что родители Иисуса «каждый год… ходили в Иерусалим на праздник Пасхи», то есть они были законопослушны и благочестивы. Затем евангелист отмечает, что родители Иисуса покинули Иерусалим, а отрок Иисус остался в городе, и они его искали три дня; стало быть, уже тогда Иисус вступил на путь, необычный для заурядного человека, и начал следовать некоторому высшему указанию. Далее отрок Иисус задает вопрос родителям, когда они его нашли в храме: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том (доме), что принадлежит Отцу Моему?» В этом заявлении Иисус довольно резко подтверждает родителям своим, что он идет не обычным путем и следует высшему велению. Впрочем, резкость замечания Иисуса несколько смягчает сам евангелист, заявляя, что Иисус вернулся с родителями в Назарет и «был в повиновении у них» (Лк. 2:51). В данном случае Иисус был гораздо менее резок, чем в другом случае, на свадьбе в Кане Галилейской, когда он матери своей, по словам Иоанна (2:4), бросил такое замечание: «Что Мне и Тебе, Жено?», то есть что общего между тобою и мною?
Насколько низменно и ограниченно было человеческое разумение родителей Иисуса сравнительно с разумением Иисуса, сына Божия евангелист отмечает замечанием (2:50), что в данном случае они «не поняли сказанных им слов», как прежде они «удивились» тому, что сказал Симеон о младенце Иисусе (2:33). Однако если еще до рождения Иисуса его матери Марии и отцу Иосифу было возвещено ангелом, что будущий младенец зачат от Святого Духа и будет именоваться сыном Божиим, то они должны были понять, что разумел Иисус под домом, принадлежащим Отцу его, а если евангелист всё-таки утверждает, что они не поняли слов Иисуса, то, стало быть, он повествует не об исторических, действительно случившихся событиях, а о чудесах, что, между прочим, проявляется и в неоднократных его замечаниях о том, что окружающие чудо-Иисуса люди не понимали его или дивились ему. Наконец, евангелист как раньше, в связи с рассказом пастухов (2:17–19), так и в настоящем случае заявляет, что матерь Иисуса «сохраняла все слова сии, слагая в сердце Своем». Это заявление показывает, что, повествуя о мессианском чудо-младенце, евангелист имел перед глазами прототип ветхозаветного чудо-младенца Иосифа, который часто говорил о дивных сновидениях и слова которого отец его тоже складывал и сохранял в уме своем (Быт. 37:11).
III. Мессия-Иисус выдерживает искус, которого не выдержал в пустыне ведомый Моисеем народ израильский
§66.
Геркулесу, по словам Ксенофонта,[208] довелось выдержать испытание сделать выбор в таком возрасте, когда юноша уже начинает владеть собой и обнаруживает, пойдет ли он стезей добродетели или порока. Аврааму пришлось выдержать испытание веры и послушания — исполнить повеление Божие о заклании единородного сына своего — в преклонном возрасте (Быт. гл. 22). Но народ израильский, по словам пророка Осии (11:1), был еще молод, когда Иегова наименовал его сыном своим и вызвал из Египта и затем испытывал его послушание в течение 40 лет, заставив его пространствовать по пустыне и претерпеть всякие лишения и напасти (Втор. 8:2). Давиду при начале его общественной деятельности, когда он был помазан Самуилом и преисполнился Святого Духа (по свидетельству редактора книг Царств), довелось выдержать испытание — единоборство с Голиафом, филистимлянским великаном (1 Цар. гл. 17). Все испытания благополучно и успешно выдержали Авраам, Давид, а также Геркулес, но народ израильский испытания не выдержал: он возроптал на Иегову и предался сластолюбию и идолослужению, хотя он в данном случае поступил так, как поступила первая чета человеков, которая тоже послушалась льстивых речей змия и потому была изгнана из рая и лишена благ древа жизни.
Как вся история Моисея вообще, так, в частности, и повесть о том, как народ израильский не выдержал испытания в пустыне и был за то наказан Богом, крепко засели в памяти израильтян в качестве предостерегающего примера или «образа». Апостол Павел, рассказав об испытаниях Израиля, говорит (1 Кор. 10:6, II): «Всё это происходило с ними, как образы (для нас); а описано в наставление нам, достигшим последних веков». Он же в другом месте (1 Кор. 11:3) предостерегает христиан Коринфа не слушать льстивых речей лжеапостолов и напоминает им, что и Еву прельстил змий хитростью своей. Назначение Мессии — восстановить нарушенное, исправить зло и ошибки, содеянные другими; стало быть, он должен также выдержать успешно и испытания всякого рода, а потому и Иисус-Мессия не мог не выдержать испытания успешнее, чем народ израильский в пустыне или чета праотцев в раю. Правда, вся жизнь Иисуса и, в частности, период страданий, которым он подвергся, является сплошной цепью напастей или испытаний (Лк. 22:28; Евр. 4:15), но читатель поймет и сам, как соблазнительна была для евангелистов возможность выдвинуть какой-нибудь отдельный и торжественный акт искушения и драматически развить и описать его по наличным образцам — рассказу об искушении Авраама и обоих первочеловеков (Мф. 4:1–11; Мк. 1:12–13; Лк. 4:1–13).
На эту мысль евангелистов наводило также следующее обстоятельство. Испытание, которому подверглись Авраам и народ израильский в пустыне, было предрешено самим Богом, и притом с благою целью, ибо от самого народа зависело столь же успешно выдержать это испытание, как выдержал его родоначальник Израиля. Но потом многих стала смущать мысль о том, что искушения подстраивал сам Бог, ибо такой искус доводил до падения многих, которые, быть может, и не пали бы без искушения, а другим подобный искус причинял страдания, которых они не заслужили; поэтому Бог, подстраивавший такие испытания, мог показаться существом завистливым и злорадным. О Боге, соблазнявшем на злое, можно было подумать, что он — существо злое или ко злу причастное (Иак. 1:13). Поэтому многие авторы уже давно пытались выставить виновником искушений какое-нибудь другое существо. В книге Бытие Еву соблазняет воспротивиться заповеди Божией змий, хитрейшее и умнейшее из земных животных, но такое объяснение скоро оказалось неудовлетворительным. Во время изгнания израильтяне ознакомились с религией Зороастра[209], которая признавала два начала: добро и зло и на историю развития Вселенной смотрела как на борьбу этих враждебных начал. Такое мировоззрение весьма понравилось народу иудейскому, переживавшему в то время кризис, и он усвоил себе персидское представление об Аримане, но оговаривался, что «злой» бог Ариман хотя и противоборствует «доброму» Богу, но всё же подчинен ему. Этот «злой» бог стал сатаной (противником Бога), дьяволом (клеветником), доносившим и лгавшим на людей перед Богом; он же побудил Бога своей клеветой и ложью испытать верность благочестивого Иова тяжкими страданиями; он же, приняв образ змия, обольстил чету первочеловеков в раю и, доведя их до грехопадения, внес смерть и погибель во Вселенную (Прем. 2:24; 2 Кор. 11:3; Апок. 12:9).
Крайне поучителен и характерен для этого переворота в мировоззрении иудеев сравнительный обзор того, как древние книги Царств и поздний Паралипоменон мотивируют ту народную перепись, которую предпринял Давид и за которую Иегова так сурово наказал его и народ израильский. Во Второй книге Царств (24:1) по этому случаю говорится: «Гнев Господень опять возгорелся на израильтян, и возбудил он в них Давида сказать: пойди, исчисли Израиля и Иуду». Наоборот, в Первой книге Паралипоменон (21:1) говорится: «И восстал сатана на Израиля, и возбудил Давида сделать счисление израильтян». Если бы история праотцев и странствия израильтян в пустыне в позднейшую послевавилонскую эпоху тоже была переработана, то мы, быть может, узнали бы что искушения, которым подвергались Авраам и народ израильский тоже подстроены были сатаной. По крайней мере, в Талмуде именно так и говорится. В Гемаре Вавилонской сказано, что искушение Авраама произведено Богом по наветам сатаны, который даже самолично покушался испытать Авраама, когда он шел заколоть сына своего, а в прологе Книги Иова сказано, что сатана побудил Бога испытать Иова.[210] По позднейшим представлениям иудеев, тот же сатана соблазнил народ израильский в пустыне поклоняться тельцу, уверяя, что Моисей, удалившийся на гору Синайскую и замешкавшийся там, умер.
После того как иудеи стали сатане приписывать всё злое и вредное во Вселенной и, в частности, все бедствия израильского народа, сама собой родилась мысль о том, что Мессия, призванный очистить народ от грехов и избавить его от угнетающих его бедствий, является противником и победителем сатаны. Христос, сын Божий, явился для того, чтобы разрушить цепи дьявола (1 Ин. 3:8); он видел сатану, «спадшего с неба, как молния» (Лк. 10:18), и заявлял, что «ныне князь мира сего (сатана) изгнан будет вон» (Ин. 12:31). Но чтобы побороть и победить дьявола, сам Христос должен быть таков, чтобы сатана, князь мира сего, «не имел в нём ничего» (Ин. 17:30). Тем не менее сатана стал искушать его, как искушал многих ветхозаветных праведников, ибо и среди христиан дьявол, противник их, «ходит, как рыкающий лев, ища, кого поглотить» (1 Пет. 5:8). В обыкновенных случаях сатана довольствуется внушением злых помыслов и желаний (Лк. 22:31; Ин. 13:2), но по отношению к Мессии ему пришлось выступить самолично и вызвать его на единоборство. Как Давид принужден был принять вызов филистимлянского великана, так и Мессия был вынужден сразиться с князем мира сего, сатаной; как Давид сразил противника своего камнем, брошенным из пращи, так и Мессия обращает в бегство сатану Словом Божиим. Тот и другой одерживают победу при помощи Святого Духа, который сообщен был Давиду через помазание от Самуила, а Христу — через крещение от Иоанна.
Если момент искушения Иисуса сатаной определялся в рассказе евангелистов прообразом Давидовым или желанием подвергнуть силу духа Иисуса наивысшему испытанию, то место искушения и продолжительность его, а также форма и содержание искушения и отражения его определялись, очевидно, Моисеевым прообразом. Местом действия является пустыня, и не только потому, что иудеи всегда считали безводную пустыню обителью злых духов (Лев. 16:8–10; Тов. 8:3; Мф. 12:43), но, главным образом, потому, что и народ израильский искушаем был в пустыне. Это испытание народа в пустыне продолжалось 40 лет, а искушение Мессии длилось 40 дней, что, между прочим, зависело и от характера того первого испытания, которому сатана его подверг.
Первое испытание, которому подвергнут был народ израильский в пустыне, сводилось к голоду, но этого испытания он не выдержал и даже возроптал против Моисея и Аарона, то есть, в конечном счете, против самого Иеговы (Исх. гл. 16), и, не довольствуясь даже дарованной ему манной, стал требовать мясной снеди (Чис. гл. 11). Поэтому и Мессию надлежало испытать сначала голодом. Чтобы алкать, ему приходилось подвергать себя посту; но Моисей во время странствия по пустыне постился на Синае 40 дней (Исх. 34:28; Втор. 9:9), подобно тому как впоследствии столько же времени постился и Илия (3 Цар. 19:8); поэтому Христос тоже пропостился 40 дней в пустыне, после чего он стал алкать, и сатана решил его на этом обольстить. Заставить взалкавшего Мессию возроптать было немыслимо, так как он пропостился 40 дней и ночей добровольно; поэтому дьявол напоминает ему о том, что он — Сын Божий, и пытается толкнуть его на путь самоуправства и самосохранения. С этой целью он говорит ему: «Если Ты Сын Божий, скажи чтобы камни сии сделались хлебами». Эта форма предложения определялась отчасти каменистым характером пустыни, отчасти же обычным для Нового завета, общим способом выражения. Так, Иоанн Креститель, проповедуя в пустыне, тоже говорил, что «Бог может из камней сих воздвигнуть детей Аврааму» (Мф. 3:9). Так и сам Иисус по другому случаю вопрошал (Мф. 7:9): «Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень?» Поэтому злорадствующему сатане могло казаться весьма целесообразным указать алкающему на камни вместо хлеба и предложить ему обратить их в хлеб, не дожидаясь соответствующих повелений от Бога. Главным прототипом рассказа об искушении Иисуса дьяволом послужил рассказ об испытании народа израильского в пустыне, что видно, между прочим, из того ответа, которым Иисус отражает первую вылазку искусителя. В конце странствия израильтян в пустыне Моисей, по словам Второзакония, предлагал народу вспомнить о тех путях, которыми водил его Иегова по пустыне для испытания, и между прочим говорил (8:3): «Он (Бог) смирял тебя, томил тебя голодом и питал тебя манною, которой не знал ты и не знали отцы твои, дабы показать тебе, что не одним хлебом живет человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа…» Именно такой ответ дает сатане и Иисус, ссылаясь на Святое Писание (Мф. 4:4): «Не хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Божиих», — и этим ответом поражает дьявола, который вслед за тем производит новую вылазку.
Чтобы понять второе искушение, необходимо обратиться к его финалу — к возражению Иисуса, который сказал дьяволу: «Написано также: не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7). Эти слова взяты Иисусом из 5-й книги Моисея (6:16), где изречение сформулировано так: «приидя в землю Ханаанскую», «не искушайте Господа Бога вашего, как вы искушали Его в Массе», то есть когда, страдая от жажды в пустыне, возроптали против Моисея и Аарона (Исх. гл. 17), ибо тот ропот был искушением Иеговы и обусловливался недоверием к заступничеству и благости Иеговы. Апостол Павел такое искушение Бога (или, по его выражению, Христа) тоже относит к числу деяний, которых христиане должны избегать, дабы не подвергнуться таким же карам, какие постигли израильтян в пустыне (1 Кор. 10:9; ср. Исх. гл. 17; Чис. гл. 21). Главу 7-ю книги пророка Исаии древние христиане внимательно читали и перечитывали, приписывая ей мессианский смысл, а там царю Ахазу пророк предлагает требовать доказательного знамения, но царь ему отвечает: «Не буду просить и не буду искушать Господа». Смысл этих слов таков же, как и в предыдущих случаях, но, может быть, и тот, что царь не желает тревожить Бога своей просьбой, как в псалме 77 (18). Относительно израильтян, возроптавших из-за мясной снеди (Чис. гл. 11), говорится: они «искушали Бога в сердце своем, требуя пищи по душе своей». С каким же предложением мог обратиться сатана к Мессии? В псалме 90 (9-12) говорится о том, кто пользуется покровом Всевышнего, то есть о Мессии, что Бог заповедовал ангелам своим о нём, и понесут они на Руках, дабы не преткнулся он ногой о камни. Эти слова могли быть истолкованы в том смысле, что состоящий под покровом Божиим может броситься с высоты без всякого вреда для себя, так как ангелы Божии подхватят его и не дадут ему упасть на землю. Поэтому сатана и предлагает Иисусу, встав на крыше храма, сброситься оттуда вниз, если он Сын Божий, ибо в других псалмах (14 и 23) говорится, что обладающий чистым сердцем и незапятнанными руками (то есть опять-таки Мессия) может взойти на гору Иеговы и его святую обитель. Но эту атаку искусителя Иисус отражает кратким изречением Писания: «Не искушай Господа Бога твоего» (Мф. 4:7).
Одним из главных наставлений апостола Павла в Первом послании к коринфянам (10:7) является наказ: не служить идолам, то есть не подражать тем идолопоклонникам-израильтянам, которых вел по пустыне Моисей (Исх. 32:6). Павел, в духе воззрений позднейших иудеев, утверждает (там же), что идолослужение есть поклонение бесам, а не Богу (10:20), а главным из бесов, или князем бесовским, иудеи признавали вельзевула, то есть сатану (Мф. 12:24). Иудеи видели давно, что владычество над миром сосредоточивалось в руках языческих идолопоклонствующих народов, поэтому они считали, что князь бесовский или сатана есть «бог века сего», или «князь мира сего» (2 Кор. 4:4; Ин. 12:31; 14:30; 16:11). Поэтому на предложение поклониться и служить идолам люди позднейшей эпохи смотрели как на предложение служить и поклоняться бесам или дьяволу, и такого рода предложение сатана делает Мессии-Иисусу, заявляя, что он предаст ему все царства мира, если он ему поклонится (Мф. 4:8–9), ибо власть над всеми сими царствами предана ему, князю мира сего (Лк. 4:6). Чтобы усилить соблазн, дьяволу пришлось показать Иисусу мир сей во всей его красе и славе, поэтому он приводит Иисуса на высокую гору и оттуда показывает ему все царства мира, как Иегова возвел Моисея перед его смертью на гору Нево и показал ему оттуда землю, обетованную народу израильскому (Втор. 34:1). Что и на это искушение Мессия не поддался, это разумеется само собою, и отражает он эту вылазку дьявола-искусителя опять-таки изречением из Святого Писания — наказом Моисея, данным народу израильскому в конце странствия в пустыне: «Господа, Бога твоего, бойся, и ему одному служи» (Втор. 6:13).
Так были отражены три вылазки сатаны, и он вынужден признать себя посрамленным и отойти прочь; но, добавляет Лука (4:13), дьявол отошел от Иисуса только «до времени», чтобы при более благоприятных обстоятельствах снова подвергнуть его испытанию. Если под новым испытанием Лука разумел страдания Иисуса, то, по словам Матфея, оно позднее действительно произошло и вновь повторилось трижды: в саду Гефсиманском Иисус трижды отходил от спящих учеников просить Бога-Отца, чтобы минула его грядущая чаша страданий (Мф. 26:36–45); затем трижды Петр отрекается от учителя своего (Мф. 26:69–75), из-за чего последний трижды высказал свое недоверие к его любви. Троекратность действий во всех этих случаях объясняется естественным пристрастием иудеев (и не их одних) к числу «три» (троице), и оно казалось весьма удобным для создания таких драматических сцен, как история искушения Иисуса. Поэтому, согласно Гемаре, сатана трижды искушал Авраама, тогда как многие раввины, в подражание рассказу о десяти казнях египетских, уверяли, что Авраам был искушаем десять раз.
Троекратность искушения отсутствует в рассказе Марка, который заявляет (1:12): «Немедленно после того (то есть после крещения Иорданского) Дух ведет Его (Иисуса) в пустыню. И был Он там в пустыне сорок дней, искушаемый сатаной, и был со зверями; и Ангелы служили Ему». Быть может, о зверях здесь упомянуто лишь в целях наглядного изображения пустыни (как во II Мак. 5:27) или затем, чтобы представить Иисуса вторым Адамом; но тем не менее деталь эта производит странное впечатление и в сочетании с чрезмерно кратким, конспективным изложением прочих событий отнюдь не свидетельствует о первичности данного рассказа, да и всего второго евангелия вообще. Однако рассказ Луки по сравнению с Матфеевым рассказом тоже представляется произведением вторичного характера, и это проявляется в том что Лука сначала говорит о 40-дневном искушении Иисуса, потом, еще о трех отдельных актах испытания, и рассказ его об этих последних искушениях является искусственной переработкой соответствующего Матфеева рассказа. «Искусственность», «деланность» рассказа Луки выражается в том, что предложение сатаны о поклонении бесовскому князю поставлено на второе место, а предложение сброситься с кровли храма — на третье. По содержанию своему предложение о поклонении бесам является важнейшим из всех предложений дьявола, и потому оно, естественно, и должно было бы заключить собой историю искушений. Перестановку Лука произвел, вероятно, по тому соображению, что-де сатана скорее мог на пути в Иерусалим прийти из пустыни на гору и затем в город, чем из пустыни в город и затем обратно на гору. Но таким соображением нельзя было руководствоваться в рассказе, в котором всё совершенно невероятно. О произвольной переделке свидетельствуют далее различные добавления или приписки, например о том, что дьявол показал Иисусу «все царства Вселенной во мгновение времени» (Лк. 4:5); что передачу власти над всеми сими царствами дьявол мотивировал тем, что власть эта дана ему, а он волен передать ее, кому хочет (4:6); что дьявол после искушения отошел от Иисуса лишь «до времени», хотя впоследствии он более уже не является Иисусу самолично и в зримом образе. Поэтому у Луки мы не находим того заключительного замечания, которым рассказ об искушении Иисуса заканчивается у Матфея и которое (отчасти) сохранилось даже в конспективном изложении Марка; «тогда оставляет Его (Иисуса) дьявол, и се, Ангелы приступили и служили Ему» (Мф. 4:11). Ангелы напитали Иисуса после искушений, как и Илию напитал ангел в пустыне (3 Цар. 19:5), но не земной, а, без сомнения, небесной снедью, хлебом ангельским, как стали иудеи позднейшего времени называть манну, которой питались израильтяне во время странствия по пустыне (Пс. 77:25; Прем. 16:20), и таким образом на самом Иисусе оправдалась высказанная им уверенность в том, что не хлебом единым (то есть чувственным простым хлебом) живут праведники Божии.
В четвертом евангелии рассказ об искушении Иисуса сатаной отсутствует; мало того, автор этого евангелия как бы умышленно умалчивает об искушениях, ибо подробно перечисляет отдельные события от крещения Иисуса Иоанном до сотворения им первого чуда, отделяя их короткими и точно обозначенными промежутками времени: «на другой день», «на третий день» (1:29, 35, 43; 2:1), так что для искушения, продолжавшегося 40 дней, не остается у него ни времени, ни места. Таким образом, в Евангелии от Иоанна мы находим меньшее число невероятных рассказов, чем у синоптиков, но четвертый евангелист умолчал об искушении Иисуса не потому, что признавал этот эпизод недостоверным исторически, а просто потому, что догматически он не соответствовал его воззрениям. Правда, в его догматике дьявол, как источник зла в делах человеческих и как противник или противоборик Христа, тоже занимает видное место, но осязательно чувственное выступление его претило евангелисту, получившему эллинистическое образование, и ему казалось что единоборство Иисуса с дьяволом, о котором повествуют синоптические евангелия, лишь умаляет достоинство сына Божия, Христа. Поэтому автор четвертого евангелия в данном случае, как в других аналогичных случаях, решил сохранить лишь содержание и вывод истории искушений, отбросив его форму, и разделяет мнение третьего евангелиста, что страдания, постигшие Иисуса, являются возобновлением сатанинских искушений. В этом смысле он, как и Лука (22:3), считает, что дьявол вложил в сердце Иуде Искариоту предать Христа (13:2), но он избегает формулировать эту мысль словами Луки, который говорит: «Вошел сатана… в Иуду… и он пошел Его предать», ибо в этих словах можно было усмотреть намек на то, что сатана или бес действительно вселился в Иуду (впрочем, в другом месте — 6:70 — евангелист устами Иисуса именует Иуду «дьяволом», и именно за то, что он умыслил предать Христа). Затем евангелист предпосылает рассказу о страданиях Христа замечание, в котором формулируется всё догматическое содержание и значение рассказов об искушениях, устами Иисуса он заявляет (14:30), что «идет князь мира сего (дьявол) и во Мне (Христе) не имеет ничего».
Таким образом, вся повесть об искушении Иисуса дьяволом нам представляется лишь мессианским мифом, и этот взгляд избавляет от необходимости решать традиционную и трудно разрешимую задачу — во что бы то ни стало совместить рассказ о 40-дневном искушении Иисуса с Иоанновым рассказом, хронологически столь точно размеренным. Пытаясь разрешить эту задачу, апологетическая теология подробно перебирала и пересматривала всю хронологию четвертого евангелия от начала первой главы до конца четвертой, но все эти изыскания были безуспешны, так как рассказ евангелиста Иоанна, очевидно, задавался не включением, а исключением эпизода искушений. Но и помимо этого несовпадения четвертого евангелия с евангелиями синоптиков, которое при нашем взгляде на четвертого евангелиста не является аргументом против синоптиков, этот рассказ сам по себе представляет такую массу неодолимых трудностей, что читатель, несомненно, может лишь приветствовать такой подход, при котором все эти трудности отпадают, ибо в наше время лишь весьма немногие осмелятся, подобно Эбрарду, утверждать, что достоинство Иисуса, как второго Адама, требовало того, чтобы сатана ему, как и первому Адаму, явился не под личиной животного (змия), а в своем подлинном виде, самолично и в чувственно-осязаемом образе. С другой стороны, достаточно напомнить о нереальности видений, снов, аллегорий и так далее, чтобы читатель убедился, что такого рода толкование неуместно в отношении рассказа, повествующего о несомненно внешнем происшествии, и, таким образом, мы снова приходим к тому выводу, что и данный рассказ есть, бесспорно, миф.
Рассмотрев рассказы о крещении и искушении Иисуса, мы исчерпали всю ту группу сказаний, которая знакомит нас с воззрением евангелистов на прошлое Иисуса и которая, по признанию новейших теологов, заключает в себе элемент мифический. Целая школа теологов, примыкающая к идеям Шлейермахера, устами представителей своих, де Ветте и Газе, признаётся, что повествование о рождении и детстве Иисуса — не историческая повесть, а свод древнехристианских сказаний и поэм, сложившихся вокруг исторически реального ядра, которое уже невозможно установить. В этом случае означенная школа теологов подражает примеру умных и решительных полководцев-стратегов, которые не колеблясь сжигают или уступают надвигающемуся противнику плохо укрепленные внешние позиции в предместьях города, чтобы иметь возможность лучше укрепиться и успешнее обороняться в цитадели. Таким же ненадежным форпостом, не могущим устоять против обстрела и атаки критики, в последнее время оказалась евангельская повесть о прошлом Иисуса, и этого не признает лишь тот, кто с упрямством и тупоумием Тюбингенской школы теологов[211] или с крючкотворской наглостью новоцерковников решается, подобно Шмидту и Эбрарду, утверждать, что эта часть евангельской истории имеет вполне исторический характер. Тем не менее следует признать, что эти теологи в известном отношении правильнее смотрят на дело, чем многие новые богословы. Сжигать форпост полезно, лишь если он настолько удален от цитадели или цитадель построена из столь огнеупорного или несгораемого материала, что не приходится бояться, что пожар от аванпоста перейдет на цитадель, в противном случае лучше не поджигать аванпостов и стараться отстоять их сколько возможно, чем рисковать ускорить гибель цитадели поджогом аванпостов. Правда, по мнению теологов первого разряда, евангельский рассказ об общественном служении Иисуса от опасности застрахован: защитным рвом и валом ему служит, по их мнению, свидетельство апостольское (Деян. 1:22; 10:37; Мк. 1:4), которое начинается с крещения Иоанна. Но апостольским свидетельством эти теологи не признают свидетельства синоптиков-евангелистов, а свидетельство евангелиста Иоанна они не прочь всячески дискредитировать и называть иллюзорным, если он повествует о чём-либо таком, что им представляется невероятным. Что же касается «огнеупорного и несгораемого» материала, из которого будто бы сооружена повесть об общественном служении Иисуса, то подле самих стен цитадели стоят: история крещения с голубицей и гласом небесным, которую рассказывает сам очевидец Иоанн, а затем история искушения Иисуса с самоличным появлением дьявола, а все эти рассказы, очевидно, представляют столь же горючий материал, как и любой из рассказов о детстве Иисуса, а потому пожар, начавшийся на форпостах, может в данном случае легко перекинуться и на цитадель. Или возьмем конец евангельской истории: рассказ о вознесении на небо Иисуса вполне аналогичен рассказу о сверхъестественном зачатии Иисуса, а история преображения Иисуса вполне аналогична истории его крещения, и затем далее вся биография Иисуса наполнена рассказами о чудесах его, так что и здесь мы видим целую гору горючего огнеопасного материала. Но при таком положении нашей цитадели, разумеется, весьма нецелесообразно поджигать и аванпосты, и если бы мне лично довелось очутиться, на мое несчастье, в такой цитадели, то я стал бы советовать отстаивать и цитадель, и аванпосты, дабы не подвергать опасности цитадель поджиганием аванпостов. Действительное отличие истории детства Иисуса от истории общественного служения, изложенной в евангелиях, заключается лишь в том, что в первой исторический элемент вовсе отсутствует (не считая некоторых общих замечаний), а во второй неисторический элемент перемешан с элементом историческим, огнеупорным. Но историческое есть вместе с тем естественное, а сверхъестественное в истории общественного служения Иисуса столь однородно со сверхъестественным в истории детства
Иисуса, что признающий исторический характер за одной должен признать его и за другой.
Глава вторая. Мифическая история общественного служения Иисуса
§67. Общий обзор
История рождения и детства Иисуса (за исключением немногих исторических замечаний) сплошь создалась на почве догматических представлений и потому целиком входила в круг наших изысканий задача которых сводится к тому, чтобы генетически представить развитие мифической истории Христа, тогда как в предыдущей (первой) части нашего труда мы говорили о действительной, а не мифической истории Иисуса. Но изыскания, произведенные в нашей первой части показали, что в истории общественного служения Иисуса многие факты и, главным образом, речи Иисуса имеют исторический характер, и потому здесь мы займемся только тем, что в историческую конструкцию не входило. Сюда относится по преимуществу всё чудесное, то есть чудеса, сотворенные самим Иисусом, и чудеса, сотворенные над ним или ради него. Затем сюда же относится всё то, что противоречит не законам природы, как настоящие чудеса, а законам исторической правды, то есть всё то, что можно легко понять и допустить как произведение благочестивого сказителя или поэта, но трудно признать действительно случившимся событием. Здесь, разумеется, всё спорно и гадательно, а потому мы ограничиваемся рассмотрением лишь тех эпизодов из истории общественного служения Иисуса, мифический генезис которых может быть указан с достаточной наглядностью. К числу подобных эпизодов принадлежит: в начале общественной истории Иисуса его отношение к Предтече и к ученикам, а в конце — история преображения Иисуса и въезд его в Иерусалим, тогда как весь означенный период от начала до конца наполнен беспрерывным рядом многочисленных чудес.
I группа мифов: Иисус и его Предтеча
§68.
История свидетельствует, что Иоанн крестил Иисуса, а догматика утверждала, что Иоанн своим крещением как бы помазал Иисуса на мессианское подвижничество, — отсюда появился и выше рассмотренный рассказ о крещении Иисуса Христа.
Но далее история свидетельствует, что Иоанн Креститель, окрестив Иисуса, не примкнул к нему, а по-прежнему продолжал самостоятельно свое крестительство. Разумеется, этот факт не соответствовал догматическому интересу христиан, которым хотелось показать, что Креститель сам признал Мессию в Иисусе. Выше мы видели, как синоптическое предание старалось достичь этого изображением истории крещения. Обратив Иоанна в свидетеля-очевидца чуда, будто бы совершившегося при крещении, предание как бы указывало на то, что это чудо убедило Иоанна и он признал Иисуса сыном Божиим, о котором говорил небесный глас. Уже и раньше он говорил, что за ним придет сильнейший его и будет крестить Святым Духом. Разумел ли он при этом именно Иисуса Назорея, об этом предание ясно не высказывается, но история его рождения, рассказанная Лукой, заставляет предполагать, что Иоанн под Сильнейшим разумел Иисуса, а из рассказа Матфея видно, что Иоанн, желая воздержаться от крещения Иисуса, говорил ему: «Мне надо креститься от Тебя», — стало быть, он признавал Сильнейшего в Иисусе еще до его крещения и чуда, ознаменовавшего последнее. Эту догадку прямо подтверждает Евангелие Евреев, в котором говорится, что Иоанн Креститель, услыхав глас небесный, упал к ногам Иисуса и стал просить у него крещения.
Тем не менее открытым остается вопрос: почему же Иоанн Креститель не прекратил тотчас свою крестительскую деятельность и не примкнул сам к Иисусу, если признал в нём того Сильнейшего, к встрече которого он подготовлял крещаемых людей, и если в этом его убедил сам Бог чудесным знамением? На этот вопрос синоптическое предание отвечало сначала указанием на 40-дневное пребывание Иисуса в пустыне, где надлежало пребывать Мессии в одиночестве, затем у Матфея и Марка говорится, что в продолжение этого пустынножительства Иисуса или в конце его Креститель был взят под стражу и таким образом лишен возможности примкнуть к общине последователей Иисуса. Но было всем известно или, по крайней мере, все полагали, что Иоанн не тотчас был умерщвлен, а пробыл в темнице некоторое время, и, так как тогда же началось общественное служение Иисуса, Креститель об этом не мог не знать (Мф. 11:2; Лк. 7:18). Широко распространившийся слух о чудесах, творимых Иисусом, мог и сквозь стены темницы дойти до Крестителя, и, так как он уже давно предрекал о грядущем Сильнейшем, он, естественно, мог задать себе вопрос: тот ли это, который должен был прийти и о пришествии которого он говорил давно? Если Креститель видел, как при крещении Иисуса над ним витал Святой Дух в образе голубицы, и если он сам слышал, как глас небесный признал Иисуса сыном Божиим, то он мог и без разведок и запросов знать, что грядущий за ним Сильнейший есть Иисус и только Иисус, и в этом убеждении его мог вящим образом утвердить слух о чудесах, творимых Иисусом.
Однако, по словам синоптиков, Креститель послал двух учеников своих к Иисусу сказать ему: «Ты ли Тот, Который должен прийти, или ожидать нам другого?» (Мф. 11:3) Такой вопрос свидетельствует о том, что Креститель сомневался; предлагать такой вопрос Иисусу он мог лишь в том случае, если он усомнился в положительном значении крещенского чудесного знамения или если крещение Иисуса никаким чудом не ознаменовалось. Евангельский рассказ не допускает и мысли о том, чтобы Креститель во время заточения в темнице утратил веру в то чудесное знамение, которое он сподобился увидеть, поэтому необходимо предположить, что евангельский рассказ в данном случае не исходит от известной нам истории крещения или что рассказ о том, как Иоанн Креститель из темницы посылал учеников к Иисусу с вышеотмеченным вопросом, составлен первоначально другим автором, который ничего не знал о чуде, совершившемся при крещении Иисуса. Поэтому Креститель наказывает ученикам спросить Иисуса о том же, о чём его спросил бы всякий иной человек: так как чудеса творили и простые пророки, то правда ли, что чудеса, которые молва приписывала Иисусу, действительно знаменуют пришествие ожидаемого Мессии или, быть может, следует и в данном случае опять признать, что Мессия еще не пришел, но придет позднее? На этот вопрос Иисус, по словам евангелистов, ответил речью, которая, как мы сказали выше, отмечает лишь, что его деятельность творит чудеса в моральном смысле, но евангелисты усмотрели в этом ответе Иисуса указание на то, что он действительно творил чувственные чудеса (См. §42).
Евангелисты нам не сообщают, как этот ответ подействовал на Крестителя, убедил ли он его в том, что Иисус действительно есть тот (Мессия), которому надлежало прийти. Вместо того евангелисты говорят, что Иисус произнес речь об Иоанне, которая могла быть сказана и независимо от упомянутого вопроса Крестителя; но евангелисты поместили ее в данном месте потому, что она, как им казалось, могла рассеять недоумение, которое порождалось тем историческим фактом, что Креститель не примкнул к Иисусу. В этой речи (Мф. 11:9 и сл.; Лк. 7:26–28) Иисус, с одной стороны, подтверждает, что Креститель — это обетованный Предтеча Мессии и величайший из представителей старого времени, но, с другой стороны, замечает, что «меньший в Царстве Небесном больше его (Крестителя)», то есть что Креститель не принадлежит к числу представителей новой эпохи, мессианского царства небесного, и далеко ниже каждого из них; поэтому неудивительно и то, что Креститель недостаточно уразумел и оценил того, кто создал эту новую эпоху.
О том, что Иоанна заключил в темницу Ирод, кратко сообщает и Лука (3:20), но он не говорит, когда это случилось, и не повествует также о том, о чём мы узнаем со слов Матфея, — что Креститель, услыхав в темнице о делах Христа, послал к нему учеников с вышеозначенным вопросом; а так как о результатах этой разведки у Луки тоже не говорится, то весь этот рассказ остается для нас непонятным. Если Креститель знал, что предвозвещенный им Сильнейший уже выступил публично, и если все сомнения в нём рассеялись от полученного им ответа Иисуса, то почему он не явился поклониться ему, когда он еще не был заточен в темницу? Он, без сомнения, так именно и поступил, но при этом не отказался от крестительства и не примкнул к последователям Иисуса: его кружок учеников продолжал существовать и действовать отдельно от кружка последователей Иисуса. Он поклонился Иисусу в том смысле, что не усомнился в тождестве Грядущего с Иисусом и не задавал ему соответствующих вопросов, а твердо верил в это тождество и не обинуясь говорил о том другим. Такой смысл придал рассказу о Крестителе четвертый евангелист (1:19–28), который в данном случае примыкает к взглядам Луки и договаривает лишь недосказанное им.
Указание Крестителя на грядущего за ним Сильнейшего уже Лука мотивировал предположением народной массы, что он, Креститель, есть Христос-Мессия; поэтому Креститель у Луки вполне категорически и определенно заявляет народу, предполагавшему в нём Христа, что за ним идет Сильнейший, у которого он не достоин развязать ремней обуви его (3:16; Деян. 13:25). Но четвертый евангелист в этом отношении пошел еще дальше. По словам Луки, народ только «помышлял в сердцах своих», не есть ли Креститель — Мессия, Христос, а по словам Иоанна, народ задавал Крестителю вопрос «кто он?» формально, и спрашивали его о том не простолюдины, а присланные из Иерусалима священники и левиты (1:19), то есть иудейские власти, дабы на показание, данное Крестителем по этому случаю, Иисус мог впоследствии сослаться (5:33) как на официальное и доказательное свидетельство истины. Но при таких условиях получалось новое затруднение: что было мыслимо со стороны простодушной и импульсивной народной массы, то было немыслимо со стороны иудейских иерархов и фарисейских посланцев, людей, которых проповедь Крестителя о покаянии возмущала и которых вылазки Крестителя против фарисейства больно задевали; поэтому посланцы упорно допытываются у Крестителя, кто он: Мессия, Илия или простой пророк (1:20–23). На все эти вопросы фарисеев Креститель отвечает отрицательно. Евангелист при этом не поясняет, не со злым ли умыслом они задавали эти вопросы Крестителю, и не намеревались ли они его (как впоследствии Иисуса) поймать на слове, ибо если бы он назвал себя Мессией, Илией или пророком, то они могли бы оговорить его пред римлянами и наказать. Напротив, евангелист рассчитывал на то что Креститель отклонит от себя все вышеупомянутые почетные звания, а если он их отклонял, значит, они ему были приписаны. Лука свидетельствует, что Креститель отклонил от себя титул Мессии в пользу Иисуса, тогда как прочие синоптики утверждают, что сам Иисус называл его в известном смысле Илией и прямо говорил, что Креститель «больше Илии-пророка» (Матф. 17:12; 11:9–14). Но четвертый евангелист уверяет, что Креститель не признавал себя ни Илией, ни даже простым пророком, очевидно, для того, чтобы еще больше возвеличить Иисуса, и потому, что взгляд на Крестителя как на второго Илию ему казался взглядом иудаистским.
Однако четвертый евангелист подтверждает, что Креститель посылал двух учеников своих к Иисусу, но этому эпизоду он сообщил иной смысл и характер. Он говорит (1:25–43), что Иоанн Креститель с двумя учениками своими однажды увидал «идущего к нему Иисуса» и указал его своим ученикам и при этом не только не выразил сомнения в тождестве его с Грядущим, но даже прямо заявил: «Вот Агнец Божий», то есть агнец, который возьмет на себя и искупит грехи мира сего. Затем, в противоположность сообщению синоптиков о том, что посланцы Крестителя вернулись к своему учителю и сообщили ему о виденном и слышанном ими, четвертый евангелист повествует, что оба ученика Крестителя пошли за Иисусом вослед и что на вопрос их: равви, где ты живешь? — Иисус ответил им: «пойдите и увидите», после чего оба ученика Крестителя, пробыв день у Иисуса, вопреки синоптикам, не вернулись уже к Крестителю, а последовали за Иисусом и затем привели к нему других, новых учеников.
Запрос Крестителя, о котором сообщали Матфей и Лука и который эти два евангелиста отнесли ко времени, последовавшему за крещением Иисуса, мог возбудить соблазн: он мог быть истолкован в том смысле, что Креститель усомнился в мессианстве Иисуса; поэтому четвертый евангелист предпочел изменить и обезвредить этот эпизод. Таким образом, по его рассказу, получилось, что не Креститель, а ученики его «соблазнились» об Иисусе, что не Крестителя, а учеников его смущало, что Иисус, когда-то являвшийся на реке Иордан к Крестителю и числившийся последователем его, стал привлекать к себе гораздо больше последователей, чем Креститель, что не Иисус давал Крестителю разъяснение о себе, а сам Креститель разъяснял ученикам своим сан и призвание Иисуса (3:22–31). По словам четвертого евангелиста, у Иоанновых учеников произошел спор с иудеями об «очищении», то есть об очищающей силе крещения, и когда они пришли к Крестителю за разъяснением по этому вопросу, он в своем ответе сравнил Иисуса с женихом, а себя с другом жениха (3:29). Эта подробность напоминает нам о том, что, по словам Матфея (9:14 и сл.), ученики Иоанновы однажды пришли к Иисусу и спросили: «Почему мы и фарисеи постимся много, а Твои ученики не постятся?», на что Иисус им ответил: «Могут ли печалиться сыны чертога брачного, пока с ними жених?» Это изречение Иисуса у четвертого евангелиста тоже переделано и получило тот смысл, что в данном сравнении Иисуса с женихом противопоставляется не отсутствие жениха присутствию его, то есть не земная жизнь Иисуса, а сам жених, то есть пришедший с неба сын Божий, земнородному предтече его. При этом Креститель говорит о самом себе (Ин. 3:30); что Иисусу надлежит расти, а ему — уменьшаться, и, стало быть, он высказывает о своих отношениях к Иисусу то же, что автор книг Самуиловых высказывал об отношении Саула к Давиду (2 Цар. 3:1), а чтобы такое самоумаление Крестителя представлялось вполне добровольным актом, евангелист поясняет, что в то время Иоанн еще не был заключен в темницу (3:24), то есть что Креститель без всякого внешнего понуждения слагал оружие перед Иисусом.
Евангелист Матфей утверждает, что публичная деятельность Иисуса началась после заточения Крестителя в темницу, и в этом отношении четвертый евангелист явно противоречит Матфею. Впрочем, четвертый евангелист и самого Крестителя обрисовывает такими чертами, которые несовместимы ни с описанием трех первых евангелистов, ни с исторической правдой вообще, и которые объясняются лишь индивидуальной самобытностью евангелиста. Что он не говорит при этом ни о суровой наружности Крестителя, ни о простоте его одеяния и образа жизни, это еще неважно, ибо, подобно синоптикам, он всё же замечает (1:23), что Креститель был «гласом вопиющего в пустыне». Важнее другой пробел в характеристике Крестителя, составленный евангелистом. По свидетельству синоптиков, проповедь Крестителя сводилась к следующему двухчленному вещанию: покайтесь, ибо близится Царство Небесное. Евангелист Иоанн вовсе опускает первый член этого увещания («покайтесь»), но зато подробнее и возвышеннее развивает его вторую часть. Как у синоптиков, так и у четвертого евангелиста Креститель возвещает о грядущем за ним Сильнейшем, но обрисовывает его такими чертами, которые совершенно чужды синоптическому Крестителю, да и самим синоптикам. Он заявляет (Ин. 1:29, 36), что Иисус есть Агнец Божий, берущий на себя грехи мира, и таким образом относит к Иисусу пророчество Исаии (53:4, 7). Правда, у синоптиков Иисус, умирающий за грешных людей, именуется жертвой «для искупления многих» (Мф. 20:28; Мк. 10:45), но им не приходит в голову приписать Крестителю ту мысль, до которой начали додумываться ученики Иисуса лишь после его смерти. Затем Креститель, по словам четвертого евангелиста (1:15, 30), заявляет, что Иисус, пришедший после него, стал «впереди него» лишь потому, что «был прежде него», и что Иисус выше всех лишь потому, что он пришел с небес и на земле свидетельствует о том, что видел и слыхал на небесах (3:31–32). Мысль о небесном предсуществовании Иисуса до его вочеловечения чужда не только синоптическому Крестителю, но и самим синоптикам; она присуща только четвертому евангелисту, который со свойственным ему субъективизмом приписал ее Крестителю и, чтобы подчеркнуть сильнее эту подтасовку, заставляет Крестителя отчасти выражаться теми же словами, какими у него выражается Иисус в речи, обращенной к Никодиму. Так, Иисус говорил Никодиму (3:6, II): «Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от Духа есть дух… Мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства Нашего не принимаете». Так и Креститель говорит об Иисусе (3:31–32): «сущий от земли земной и есть и говорит. как сущий от земли; Приходящий с небес есть выше всех, и что Он видел и слышал, о том и свидетельствует; и никто не принимает свидетельства Его». Впрочем, в четвертом евангелии вообще заметно полное сходство идей и выражений у Крестителя и Иисуса, с одной стороны, и самого евангелиста, высказывающего собственные размышления, — с другой.
Поэтому в данном случае можно предполагать, что либо Иисус и евангелист научились мыслить и говорить у Крестителя, либо Креститель и евангелист усвоили себе взгляды и способ выражения Иисуса, либо, наконец, евангелист внушил свой образ мыслей и свой слог Иисусу и Крестителю. Но первое предположение идет вразрез не только с уважением, с которым мы относимся к Иисусу, но также и с исторической правдой, ибо синоптики-евангелисты подобных мыслей и выражений Крестителю не приписывают, да и его точке зрения вообще такого рода заявления не соответствуют. Второе предположение, которое высказывал например, Генгстенберг, тоже неправдоподобно: трудно поверить, что апостол Иоанн усвоил себе способ выражения Иисуса и сообщил своему бывшему учителю, Иоанну Крестителю, находившемуся близ Иисуса (3:22–23), о вышеупомянутой недавней беседе Иисуса с Никодимом и что Иоанн Креститель заимствовал из этой речи Иисуса свои главные лозунги. Гораздо правдоподобнее третье предположение, что евангелист приписал Крестителю и Иисусу свои собственные речи и религиозные убеждения, в частности заставил Крестителя высказывать те мысли, которые высказывал в беседе с Никодимом Иисус.
У первых трех евангелистов Креститель тоже использован для подкрепления тенденции их произведений, он тоже изображен Предтечей Мессии-Иисуса, но в их описании проповедь Крестителя о покаянии всё-таки сохранила некоторые своеобразные, оригинальные черты, а в четвертом евангелии Креститель совершенно обезличен, он изображен чисто пассивным свидетелем и указателем Грядущего, он напоминает нам героев наших новейших тенденциозных драм, которых произвол авторов лишил всякой естественной человеческой индивидуальности и превратил в каких-то чучел, набитых субъективным авторским пафосом.
II группа мифов: Иисус и его ученики
§69.
История свидетельствует, что некоторые из главнейших учеников Иисуса были прежде рыбаками, а один был некогда мытарем. По отношению к первым сохранилось даже изречение Иисуса, что из рыболовов он их обратит в ловцов человеков. Далее из ветхозаветной легенды о пророках было известно, как, например, Илия призвал своего слугу и преемника Елисея: последний пахал поле и погонял 12 пар волов, когда пророк Илия подошел к нему и осенил его своею милостью, тогда Елисей оставил волов своих и последовал за Илией (3 Цар. 19:19).
В связи с этим рассказом невольно вспоминается тот эпизод из римской истории, когда по случаю войны посланцы явились к Л. Квинкцию Цинциннату в его поместье за рекой Тибром, где он, сбросив свою тогу, занимался полевой работой или проведением канавы, и тут же облекли его диктаторской властью.[212] Это так именно и могло произойти действительности; возможно, что человек знатный занимался лично левой работой, ибо обычаи и нравы древних римлян были очень просты; естественно и то, что сенат такого человека взял прямо от сохи и возвел в сан диктатора, ибо он был известен своим согражданам и занимал прежде разные почетные должности. Однако и здесь можно допустить легендарное происхождение рассказа, так как контраст между низменным материальным трудом и высоким призванием не только обаятельно действует на воображение, но и создается им в потребных случаях. Точно так же и в библейских рассказах вполне правдоподобно сообщение о том, что, например, Елисей был прежде простым пахарем а Петр и Иоанн были некогда рыбаками; такого рода детали в истории призваний правдоподобны. Различие лишь в том, что библейские деятели призываются не так, как Цинциннат, то есть не вследствие проявленной ими раньше дееспособности, а в силу непосредственного Божия веления, как Елисей, или в силу мессианского избрания, как рыбаки-апостолы, характер которых Иисус, со свойственной ему высшей прозорливостью, определил с первого же взгляда. Призвание Цинцинната хотя и изумляет нас сначала, но всё же представляется делом естественным и ясно обоснованным; наоборот, необоснованным и неестественным нам представляется призвание ученика пророка и апостолов, и если римское сказание о Цинциннате нам кажется правдоподобным, то на библейское сказание о пророках и апостолах мы смотрим как на сказку или миф.
Возможно, некоторые из выдающихся учеников Иисуса раньше были рыбаками и Иисус из-за прежней их профессии назвал их ловцами человеков; ведь и Царство Небесное он уподоблял неводу, закинутому в море и захватившему рыбы всякого рода (Мф. 13:47); поэтому он мог и их назвать ловцами, хотя они давно уже покинули свое прежнее ремесло; он мог назвать их также ловцами человеков, когда, узнав их ближе, признал их годными для апостольской миссии, а для этого отнюдь не надо было рисовать ту драматическую сцену, которую нарисовали нам Матфей (4:18–22) и Марк (1:16–20). Сцена эта есть продукт легенды, что явствует не только из ее сходства с ветхозаветным призванием пророков, но также из присущей ей достопримечательной отличительной черты. Елисей попросил, чтобы призвавший его Илия позволил ему проститься с родителями, и, получив разрешение, последовал за Илией после того, как побывал у себя дома. Такой детали мы не находим в евангельском рассказе. Желая показать наглядно, насколько Иисус-Мессия выше простого и скромного пророка, евангелисты отмечают, что призванные Иисусом немедленно и беспрекословно следовали за ним. Так, призванные им рыбаки тотчас повиновались его приказу следовать за ним: они не обинуясь бросают даже ту работу, за которой их застал Иисус, или, подобно сыновьям Зеведеевым, покидают беспрекословно своих родителей, но только Марк добавляет, что по уходе сыновей Зеведеевых при их беспомощном отце остались наемные работники (этим замечанием евангелист, видимо, хотел смягчить черствость, проявленную Зеведеевыми детьми). Вообще в евангельских рассказах о призвании апостолов отмечается, что призываемые следовали за Иисусом незамедлительно, а если ими предъявлялась просьба об отсрочке, то таковая отклонялась Иисусом категорически. Матфей передает (8:21–22), что один из призванных учеников просил Иисуса позволить ему прежде похоронить отца своего, но Иисус ему сказал: «иди (тотчас) за Мною и предоставь мертвым погребать своих мертвецов». Затем, по словам Луки (9:61–62), другой из призванных учеников просил у Иисуса позволения проститься с домашними своими, но Иисус ответил: «Никто, возложивший руку свою на плуг и озирающийся назад, не благонадежен для Царствия Божия».
Однако столь простые, чудесами не прикрашенные рассказы, как рассказ Матфея (или со слов Матфея повествующего Марка) о призвании учеников, скоро перестали удовлетворять воображение древнейших христиан. Нас, правда, ныне удивляет даже то, что Иисус призывал людей которых видел впервые и, судя по евангельским рассказам, не успевал узнать ближе, и что призываемые следовали за ним беспрекословно и немедленно. Но благочестивых слушателей евангельского благовествования такие сообщения не удивляли и вместе с тем не удовлетворяли. Заявление Иисуса о том, что призываемых учеников он сделает ловцами человеков, представлялось пустой фразой, если оно не подкреплялось делом или очевидным чудом, которое соответствовало бы важной роли призываемых и оттеняло бы успешность призвания первоапостолов. Выше мы видели, что Иисус уподоблял людей, приобретаемых для царства небесного, пойманной неводом рыбе, а царство небесное уподоблял неводу, заброшенному в море. Стало быть, если изловленная неводом рыба обозначает обращенных ко Христу людей, то и чудесно прибыльный улов рыбы, обетованный Иисусом, являлся прообразом тех многочисленных обращений к христовой вере, которые предстояли в будущем его ученикам. Таков именно смысл рассказа об улове рыбы, приведенного у Луки (5:1–11), который изменил простую историю призвания апостолов, имеющуюся у двух первых евангелистов. Лука относит данный эпизод к сравнительно позднему времени и приступает к повествованию о нём своеобразно. По словам Матфея и Марка, Иисус, шествуя по берегу моря Галилейского, увидал, как братья Симон и Андрей закидывают невод в море, и приказал им последовать за собой, после чего они оставили свой невод и тотчас пошли за ним. Потом Иисус видит там же, как братья Иаков и Иоанн с отцом своим Зеведеем сидят в лодке и починяют невод, и когда он их призвал, они тоже немедленно последовали за ним. По словам Луки, Иисус поучал толпу народа на берегу моря и увидел две лодки Петра и сыновей Зеведеевых, которые у берега убирали свои неводы; Иисус вошел в первую лодку и велел Симону (об Андрее Лука умалчивает) отъехать немного от берега, продолжая поучать народ, стоявший на берегу. Окончив проповедь, Иисус велит Петру-Симону выехать дальше в море и выбросить невод; Петр заявляет, что прошлой ночью он ловил рыбу безуспешно, но всё же исполняет повеление Иисуса и при помощи других рыбаков захватывает такую массу рыбы, что разрывается невод и начинают тонуть обе лодки, когда часть улова была выгружена в лодку сыновей Зеведеевых. Рыбаки испугались, пораженные чудесным изобилием улова, а Иисус успокоил Петра замечанием, что отныне он будет ловцом человеков, после чего рыбаки бросили всё и последовали за Иисусом. Таким образом, Лука повествует о том же эпизоде, о котором повествуют Матфей и Марк, но он сдобрил его чудом, а с другой стороны, мы видим, что чудо это — символическое и, судя по вышеупомянутой притче Иисуса, наглядно обрисовывает в образе обильного улова рыбы последующий успех проповеднической деятельности апостолов.
В этом отношении можно пойти еще дальше и предположить, что и в деталях этого рассказа содержатся символические указания и намеки. Если на предложение Иисуса выехать в море и выкинуть сеть Петр возражает, что прошедшей ночью лов был безуспешен, а потом исполняет повеление Иисуса и получает обильный улов рыбы, то в этом можно усмотреть контраст между материальной непродуктивностью прежнего ремесла и изобилием духовных плодов той высшей профессии, к которой призывал Иисус. Точно так же в прорыве невода и дележе улова на две лодки можно усмотреть символизацию чрезмерно изобильного улова
У человеческих. Но, с другой стороны, встает вопрос, заслуживающий полного внимания и разъясняющийся при сравнении с другим рассказом, вопрос о том, не хотел ли автор третьего евангелия (он же автор Деяний апостолов) своим рассказом об улове безуспешном, а затем обильном намекнуть на безуспешность апостольской проповеди по отношению к иудеям и ее успех у язычников? Не хотел ли он рассказом о прорыве переполненного рыбой невода Петра намекнуть на раскол, который грозило произвести в общине христиан выступление апостола Павла? И наконец, не помышлял ли он о возникновении двух христианских общин, иудаистской и языческой, когда повествовал о разделе чудесно изобильного улова рыбы между двумя лодками ловцов?
О чудесно изобильном улове рыбы говорится также в добавочной главе четвертого евангелия (21:1–14). Правда, здесь этот эпизод, вопреки третьему евангелисту, отнесен не к начальному периоду общественного служения Иисуса, а к самому концу его жизни, к тому времени, когда Иисус уже воскрес из мертвых, но это отступление, подобно многим иным уклонениям в рассказах четвертого евангелиста, нас не должно смущать и заставлять думать, что этот рассказ не есть переделка соответствующей повести Луки. Автор в этот рассказ вплел отдельные детали из двух других рассказов — о чудесном шествовании Иисуса по водам и чудесном насыщении толпы народа, но в данном случае даже такие детали не удивляют, так как вся главная основа этого рассказа, повествующего о явлении воскресшего Христа, представляется сплошным чудом. В данном случае, правда, Иисус не ходит по водам (что было бы не дивом для существа, воскресшего из мертвых), а стоит на берегу моря Тивериадского; Петр тоже не пытается ходить по поверхности воды, а просто бросается в море с лодки и плывет к берегу, на котором стоит Христос. С другой стороны, появляются (неведомо откуда) хлеб и рыба, которые Христос раздает ученикам своим на берегу, но это чудо при данных обстоятельствах уже не кажется (как мы сказали выше) чудом. Однако, в общем, весь этот рассказ представляется вариантом вышеупомянутого рассказа о чудесном улове рыбы. В нём, кроме Петра и сыновей Зеведеевых, выступают еще Фома и Нафанаил и двое других, по имени не названных учеников. Повествование начинается не с того дня, который следовал за неудачным ночным ловом, а с описания лова, оказавшегося неудачным для Петра и его товарищей, и Иисус появляется на берегу моря не в разгар следующего дня (как у Луки), а рано утром, тотчас после ночного лова. Четвертый евангелист в своем рассказе сообщает (21:3), что ловцы не поймали в ту ночь ничего, — как в рассказе Луки Петр заявляет Иисусу, что ловцы трудились всю ночь и ничего не поймали (5:5). Далее Иисус, узнав, что у учеников его нет пищи, велит им утром закинуть сеть по правую сторону лодки (21:6), как и у Луки (5:4), он велит Петру-Симону отплыть на глубину и закинуть сеть для лова. Наконец, в том и другом рассказе получается чрезмерно изобильный улов рыбы, обременяющий учеников. Таким образом, мы убеждаемся, что в обоих рассказах различным способом разработана одна и та же тема.
Уклонения или отличия, имеющиеся в описании обильного улова, подтверждают, а не опровергают наше предположение. Лука просто отмечает (5:6), что ловцы поймали великое множество рыбы, автор 21-й главы Иоаннова евангелия сообщает, что Петр вытащил на берег сеть, наполненную большими рыбами, которых было 153 штуки (11). Лука передает, что от изобилия рыбы сеть у ловцов порвалась (5:6), а евангелист Иоанн заявляет, что сеть не порвалась даже при таком множестве рыбы (21:11). По словам Луки (5:7), пойманной рыбой ловцы наполнили обе лодки, так что они начали тонуть, а Иоанн заявляет (21:11), что Петр вытащил на берег сеть, переполненную рыбой. Относительно числа 153 ученый отец церкви Иероним сделал любопытное замечание:[213]
«Писатели, изучившие природу и свойства животных, и в том числе известный киликийский поэт Оппиан, утверждают, что существует 153 породы рыб; стало быть, апостолы поймали рыбу всех пород и уловили в свою сеть всю рыбу; так точно и из моря житейского уловлены будут для спасения все роды людей: знатные и простолюдины, богатые и бедные.»
Следовательно, Иероним, подобно тогдашним естествоиспытателям и, в частности, поэту Оппиану, считает, что числом 153 определяется количество пород рыбы, а в том обстоятельстве, что апостолы в вышеуказанном случае поймали именно 153 рыбы, он усматривает пророческий прообраз того, что впоследствии проповедь апостолов приведет в Царствие Божие все роды людей. Что касается Оппиана, то в одном стихотворном сочинении о рыболовстве, которое, по-видимому, было написано в конце царствования Марка Аврелия, следовательно, позднее четвертого евангелия, действительно перечисляются различные породы рыбы, но точно обозначенного общего числа всех пород мы не находим и при проверочном подсчете пород и разновидностей, поименованных у него. Нередко можно получить как число 153, так, по желанию, и большее или меньшее число. Впрочем, отец церкви Иероним упоминает об Оппиане только между прочим, и потому можно допустить, что в сочинении какого-нибудь ныне забытого естествоиспытателя действительно указано было упомянутое число пород рыбы.
На основании сказанного в евангельском рассказе об улове рыбы, по нашему мнению, следует видеть аллегорическое указание на приобщенных к Царствию Божию людей, и в этом нас убеждает еще одна деталь, которой рассказ евангелиста Иоанна отличается от повести Луки. По словам Луки, сеть ловцов прорвалась, а по словам Иоанна, сеть их не прорывалась даже при таком множестве рыбы. В данном случае можно, конечно, предположить, что это замечание имело целью усилить или дополнить эффект чуда указанием на то, что пославший множество рыбы придал и сетям сверхъестественную прочность. Но замечание о непрорвавшемся неводе сделано в добавочной главе того евангелия, которое отмечает (19:24), что хитон Христа при его распятии не был разодран воинами, и которое так дорожило тем, чтобы овцы разных дворов (то есть иудеи и язычники) составили единое стадо Христово при едином пастыре (10:16); поэтому весьма возможно, что, говоря о сети, не порвавшейся от множества пойманной рыбы, евангелист хотел аллегорически отметить, что приобщение язычников к царству Христову не должно вызвать раскола или схизмы (слова «хитон» и «схизма» произошли от одного корня) или, выражаясь словами автора Послания к колоссянам (3:11), что здесь не должно быть «ни Еллина, ни Иудея, ни обрезания, ни необрезания, варвара, скифа, раба, свободного, но всё и во всём Христос». В связи с этим стои́т и то, что в рассказе Иоанна говорится лишь об одной лодке и поэтому улов рыбы не разделяется между двумя лодками, о которых говорит Лука, и весь улов в единой сети вытаскивается Петром на берег и складывается у ног Христа. В промежуток времени, который протек от времени написания третьего евангелия и Деяний апостолов до написания четвертого евангелия с добавочной главой, отношения успели развиться в такой мере, что христианский мир перестал уже довольствоваться мирным сожительством двух отдельных общин — иудейской и языческой и стремился создать единую и нераздельную церковь в ожидании второго пришествия Христа.
Далее, известно, что к числу приближенных учеников Иисуса кроме рыбаков принадлежали также один или два мытаря и что приветливое обращение Иисуса с людьми этой категории возмущало фарисейски мыслящих иудеев.
Возможно, рыбаки забрасывали свое ремесло и присоединялись к общине учеников Иисуса постепенно и различными путями и Иисус их вовсе не призывал к себе, понуждая бросать немедленно работу; но легенда ухватилась именно за эту форму призвания как наиболее наглядную и распространила ее с рыбаков на мытарей. Поэтому из евангельских рассказов мы узнаем (Мф. 9:9; Мк. 2:14; Лк. 5:27), что Иисус, увидев человека, сидевшего «у сбора пошлин» (то есть мытаря) по имени Матфей (Левий Алфеев), сказал ему: «Следуй за Мною», и тот, оставив все, встал и тотчас последовал за ним, подобно рыбакам, сидевшим у лодок и сетей своих, которые тотчас бросили всё и пошли вослед Иисусу. Правда, об отношении будущей миссии призываемых мытарей к их прежней профессии в евангелиях не сохранилось таких изречений Иисуса, какие сохранились относительно «ловцов», но легенда всё-таки использовала исторически удостоверенный факт приветливого отношения Иисуса к мытарям, столь возмущавшего фарисеев, и, обратив его в своеобразный символ, прикрасила весь рассказ о призвании мытарей. Вполне возможно, что Иисус сближался с мытарями, воспринимавшими его учение, и даже трапезовал у них, но ему отнюдь не надо было отзывать их прямо от их «столов мытарских», хотя такие изречения Иисуса, как то, которое было сказано им за трапезой у мытаря Левия: «не здоровые имеют нужду во враче, но больные; Я пришел призвать не праведников, а грешников к покаянию» (Лк. 5:31), — могли послужить весьма яркой иллюстрацией истории призваний.
Призванный Иисусом мытарь в первом евангелии именуется Матфеем и в соответствии с рассказом о призвании там же занесен в перечень апостолов под наименованием Матфея-мытаря (10:3). У Марка и Луки он именуется Левием, но в приведенном ими перечне апостолов лиц с таким наименованием мы не встречаем, зато мы находим там Матфея, который, однако, не назван мытарем, так что нет основания отождествлять мытаря Левия, о котором упоминается в их рассказе о призвании, с апостолом Матфеем. Впрочем, в рассказах о призвании учеников имена часто варьируются или вовсе опускаются (Лк. 9:59), так как собственным изречениям Иисуса в них отводится главное место, а в данном случае это тем более естественно, что рассказ о призвании Левия-мытаря является лишь подступом к рассказу о том, что делал и говорил Иисус за трапезой в доме мытаря.
В третьем евангелии имеется еще один оригинальный рассказ о посещении мытаря Иисусом. Евангелист относит этот эпизод к последнему периоду земной жизни Иисуса, ко времени его путешествия в Иерусалим через Иерихон, где, по словам всех синоптических евангелий, произошло чудесное исцеление слепого. В рассказе Луки (19:1–10) речь идет не о простом мытаре, а о начальнике мытарей и богатом человеке, о Закхее, который не сидит за мытарским столом в ожидании призыва Иисуса, а сам идет к нему, чтобы увидеть прославленного чудотворца Иисуса, когда тот проходил через Иерихон; но будучи мал ростом, он в толпе народа не мог протиснуться вперед и потому взлез на смоковницу, чтобы взглянуть на Иисуса. Заметив его, Иисус велел ему скорей сойти с дерева и сказал, что намеревается зайти к нему в дом, а Закхей, обрадованный этими словами, не только радушно принял Иисуса в доме но и заявил, что половину своего имения отдаст нищим и воздаст вчетверо всем тем, кого когда-либо обидел. По этому поводу Иисус замечает, что «ныне пришло спасение дому сему», а иудеям, возроптавшим на Иисуса за то, что он зашел к грешнику, заявляет, что мытарь Закхей — «сын Авраама», а сын человеческий пришел «взыскать и спасти погибшее». Упоминание о «сыне Авраама» некоторыми истолковывалось в том смысле, что данный эпизод взят Лукой из иудео-христианского источника, однако тенденция евангелиста допускает также и то предположение, что «сына Авраама» он разумел в смысле паулинистов (Гал. 3:7), которые полагали, что и язычники, уверовавшие в Христа (как в данном случае Закхей-мытарь), становятся «сынами Авраама».
§70.
В четвертом евангелии тоже имеется рассказ о смоковнице и о том, что Иисус призвал ученика к себе из-под смоковницы, но в данном случае призываемый сидел не на смоковнице, а под нею. Как у Луки мытарь Закхей, сойдя со смоковницы, отрекся от неправедно нажитого имения и за то получил от Иисуса наименование «сына Авраама» и спасение, так и у евангелиста Иоанна (1:47–48) Иисус назвал Нафанаила, замеченного под смоковницей, «подлинно Израильтянином, в котором нет лукавства». Правда, увидал его Иисус в данном случае не тем естественным образом, как Закхея, а сверхъестественным, что и понуждает Нафанаила признать в Иисусе «Сына Божия, Царя Израилева». Впрочем (Закхей к тому же не был призван в число учеников Иисуса), этим и ограничивается сходство между рассказом о призвании трех первых евангелистов и рассказом четвертого евангелиста. В четвертом евангелии тоже повествуется о том, как Иисус познакомился с Петром и Андреем и с третьим непоименованным лицом, вероятно Иоанном. Но во всём евангелии (за исключением добавочной главы) не упоминается Иаков, зато о Филиппе, который числится также в перечне апостолов у синоптиков, а также о Нафанаиле, который выступает лишь в четвертом евангелии, автор сообщает, как с ними сблизился Иисус; впрочем, подробностями его рассказы отличаются от синоптических рассказов.
Прежде всего следует заметить, что, если бы у нас было одно только четвертое евангелие (опять-таки за исключением добавочной 21-й главы), мы никогда не узнали бы, что некоторые из учеников Иисуса прежде были рыбаками или мытарями. Зато мы узнаем из этого евангелия, что один из учеников (по мнению четвертого евангелиста, важнейший) был знаком первосвященнику (18:15), о чём в трех первых евангелиях не говорится ни слова. Не ведают и ничего не сообщают синоптики-евангелисты также о том, о чём повествует далее четвертый евангелист, а именно, что Никодим, один из фарисеев и начальников иудейских, был тайным последователем Иисуса (3:1 и сл.) и что вообще многие из начальников уверовали в Иисуса, но из-за фарисеев не исповедовали открыто своей веры, чтобы не быть отлученными от синагоги (12:42).
То, что проповедь христианства вначале больше прививалась в низших слоях народной массы, что среди первых последователей Христа было «не много… мудрых по плоти, не много сильных, не много багородных», истолковывалось в том смысле, что христианское учение, в противоположность «мудрости мира сего», есть учение, от Бога откровенное (1 Кор. 1:26). Но, с другой стороны, противники христианства, например Цельс (живший в середине II века по Р.X.)[214], смущали христиан укором, что Иисус призывал к себе в ученики людей «опороченных» а также мытарей и грубых рыбаков, и этот упрек стал ощущаться тем сильнее, чем более христианское учение проникало в высшие слои общества. Поэтому вполне естественно, что евангелие, составленное человеком образованным и стремившееся удовлетворить запросы образованных христиан из высших слоев общества, своеобразно отнеслось к вышеотмеченному факту. Автор его, правда, признаёт, что не начальники и фарисеи, а необразованные простолюдины уверовали в Иисуса, о чём с укоризной говорили фарисеи (7:48); но, уверяет он, внутренно, в душе своей в Иисуса всё же веровали многие старейшины народа (за исключением фарисеев), и, только опасаясь фарисеев и отлучения от синагоги, они скрывали свою веру и, подобно Никодиму, являлись на собрания Иисуса только ночью (12:42; 19:38). Поэтому четвертый евангелист и отмечает, что с первосвященником-аристократом был знаком «любимый» ученик Иисуса, а о простом происхождении прочих апостолов, бывших рыбаков и мытарей, старается не вспоминать.
Таким образом, для четвертого евангелиста сама собой устранялась необходимость говорить о том, что Иисус призывал к себе учеников прямо от рыболовных сетей и столов мытарских, но зато евангелист усиленно подчеркивает роль и значение Крестителя в деле ознакомления и сближения Иисуса с первыми учениками. Репутация самих учеников выигрывала, если они изображались не с точки зрения их прежней низкой ремесленной профессии, а с точки зрения их принадлежности к кружку, или школе, Крестителя. Сам же Креститель, согласно четвертому евангелию, лишь подготовлял людей для Христа, и потому вполне естественно было предположение, что к Иисусу он направлял не только массу простолюдинов, коснеющих в неверии или несовершенной вере, но также таких истинно верующих людей, как первые апостолы. Поэтому Креститель, по словам четвертого евангелиста (1:29–35), сначала указывает собравшейся вокруг него толпе народа на идущего Иисуса как на Агнца Божия, который принял на себя грехи мира сего, затем на следующий день повторяет те же слова в присутствии двух учеников своих, когда Иисус снова проходил мимо, после чего ученики последовали за Иисусом, спросили его, где он живет, и, получив приглашение пойти к нему в дом, пробыли у него «день тот», а потом, видимо, присоединились к группе учеников Иисуса. От такого первичного ствола позднее отрастают всё новые и новые ветви, и таким образом группа последователей и учеников Иисуса возрастает численно. Один из двух вышеупомянутых учеников Крестителя Андрей, и он приводит к Иисусу брата своего, Симона-Петра; Филиппа, земляка означенных двух братьев, Иисус призывает сам, а Филипп в свою очередь приводит к Иисусу Нафанаила (1:40–46).
С устранением эпизода о ловле рыбы устранялось и изречение о ловцах человеков; вместо этого эпитета, отнесенного у Матфея и Марка к обоим сыновьям Иониным, а у Луки — лишь к Симону, четвертый евангелист оставил за Симоном прозвище Петр (камень), которое, по словам древнейших евангелистов, было присвоено ему значительно позднее, когда Иисус успел ближе узнать своих учеников, а по словам четвертого евангелиста — раньше, уже при первой встрече Иисуса с Симоном, что представляется весьма невероятным, тем более что, по рассказу евангелиста, Иисус уже при первом взгляде на него, то есть сверхъестественным образом, определил не только твердость характера его но и родство его с Ионой (1:42). Таким же сверхъестественным образом Иисус уже издалека определяет, что в приближающемся к нему Нафанаиле нет «лукавства», и как бы в доказательство своей прозорливости Иисус утверждает, что видал Нафанаила под смоковницей, прежде чем узрел его (телесными) глазами и прежде чем призвал его Филипп (1:48). Смешна попытка объяснить эти сверхъестественные факты предположением, что характер Симона-Петра Иисус определил благодаря умению своему определять людей по чертам их физиономии, а характер Нафанаила он будто бы определил благодаря тому, что наблюдал незаметным образом за ним при случайных встречах. Смешна подобная попытка потому, что сам евангелист категорически утверждает что Иисус «знал всех», что он «не имел нужды, чтобы кто засвидетельствовал о человеке, ибо Сам знал, что в человеке» (2:24–25). По свидетельству евангелиста, Иисус видел Бога прежде сотворения Вселенной а такому существу не трудно было увидеть вдали под смоковницей Нафанаила, прежде чем Филипп привел его к Иисусу.
Особого внимания заслуживают изменения, произведенные четвертым евангелистом в порядке или последовательности примыкания первых учеников к Иисусу. По словам Матфея и Марка, Иисус призвал сначала обоих сыновей Иониных (притом Андрея после Симона), затем обоих сыновей Зеведеевых (притом сначала Иакова, а потом Иоанна). В Евангелии от Луки сначала призывается и вообще играет главную роль Симон; Андрей здесь даже не упоминается, а Иаков и Иоанн впоследствии выступают в роли помощников Симона. Но в четвертом евангелии сначала говорится о двух безымянных учениках Крестителя, которые, по указанию учителя своего, «пошли за Иисусом» (1:37); потом оказывается, что один из них был Андрей (1:40), а другой всё ещё остается неизвестным, и лишь впоследствии мы узнаем, что это был Иоанн. Стало быть, Петр, фигурирующий на первом плане во всех старейших евангельских рассказах, в четвертом евангелии не причисляется даже и к первозванным ученикам Иисуса, каковыми здесь оказываются Андрей и предполагаемый Иоанн, и только при помощи Андрея, который во всех отношениях ничтожнее своего брата и который в рассказе Луки о призвании учеников даже не упоминается, Петр наконец знакомится и сближается с Иисусом; зато здесь, как и в четвертом евангелии, отсутствует Иаков, брат Иоанна, который упоминается и ставится впереди брата своего во всех прочих евангелиях. Правда, четвертый евангелист тоже наделяет Симона традиционным прозвищем Петр (камень) и тем самым восстанавливает его почетное звание первоапостола, но первородством апостольским он его не наделяет, передавая таковое его брату и тому анонимному ученику, который на протяжении всего евангелия сопутствует последнему и местами незаметно наделяется даже первенствующей ролью. Тут мы имеем одну из черт тонко задуманного плана, который весьма характерен для четвертого евангелиста и который не компрометирует его лично только при том предположении, что сам он, евангелист Иоанн, не тождествен с апостолом Иоанном и что, выдвигая и восхваляя всюду апостола Иоанна, он выдвигает и восхваляет не себя самого, а тот принцип, носителем которого он считает апостола Иоанна.[215] Поэтому теперь необходимо подробно разобраться в вопросе о взаимоотношении между евангелистом Иоанном и апостолом Иоанном.
Во времена апостола Павла главными «столпами» древнейшей общины христиан в Иерусалиме являются три мужа: Иаков, Кифа-Петр и Иоанн (Гал. 2:9). Этот Иаков не мог быть братом Иоанна, или сыном Зеведеевым, ибо был «убит мечом» гораздо раньше, еще при царе Ироде (Деян. 12:2). Стало быть, Иаков, числившийся в списке 12 первоапостолов, был Иаковом, сыном Алфеевым. Но был ли Иаков сын Алфеев, действительно апостолом, этого не выясняет двусмысленное замечание, имеющееся в Послании к галатам (1:19); здесь говорится, что Павел виделся в Иерусалиме с Иаковом, братом Господним; а если Иаков, брат Господень, тождествен с апостолом Иаковом, сыном Алфеевым, то он был не родным, а двоюродным братом Иисуса. Но на основании изложенного ранее я полагаю, что этот Иаков действительно был братом (а не кузеном) Иисуса и что поэтому он не мог быть одним из 12 первоапостолов, а при таком предположении становится понятным следующее явление. В рассказах первых трех евангелистов, равно как и в Послании к галатам, мы во главе учеников Иисуса находим одних и тех же трех лиц: Петра, Иакова и Иоанна; но в синоптических евангелиях говорится не об Иакове, брате Господнем, а об Иакове, брате Иоанна, или сыне Зеведея. Возможно допустить, что этих трех лиц Иисус считал наиболее преданными и дееспособными учениками и, доверяя им по преимуществу, образовал из них как бы особый комитет в составе всей 12-членной коллегии апостолов. Правда, те примеры, которыми синоптики подкрепляют эту догадку, исторически весьма сомнительны. Например, они заявляют, что только эти три ученика (Петр, Иаков, Иоанн) сопровождали Иисуса при его преображении на горе Фавор, молении и скорби в саду Гефсиманском и воскрешении дщери Иаира, то есть присутствовали при таких таинственных деяниях Иисуса, при которых, по мнению евангелистов, могли присутствовать лишь наиболее развитые и приближенные ученики. По этому случаю невольно вспоминается рассказ Климента Александрийского о том, что Господь после воскресения своего посвящал Иакова, Иоанна и Петра в таинства гностики, то есть секретного, эзотерического учения.[216] Правда, тот Иаков, о котором в данном случае упоминает Климент, — это не Иаков, сын Зеведеев, а так называемый Иаков Праведный, или брат Господень. Но как тесно эти два Иакова сближались в древнейшем предании церковном, как часто они обменивались между собой ролями, это мы видим из другого рассказа того же Климента, где он восхваляет трех апостолов — Петра, Иакова (сына Зеведеева) и Иоанна за то, что после вознесения Иисуса они проявили благородное смирение и самоотвержение, избрав епископом Иерусалимским Иакова Праведного, а не кого-либо из собственного кружка. Таким образом, евангельский триумвират, составленный Петром, Иаковом и Иоанном, является как бы отражением триумвирата исторического, состоявшего из тех же самых лиц, с тою лишь разницей, что Иаков, брат Господень, не принадлежал к числу прижизненных учеников Иисуса, и этот общеизвестный факт понуждал подменить этого Иакова другим, причисленным к коллегии 12 апостолов.
Вышеозначенный исторический триумвират, как известно, держался строго иудаистских взглядов, и лишь с большим трудом удалось Павлу добиться, чтобы триумвират подал ему «руку общения» и признал его апостолом язычников, то есть разрешил ему идти с проповедью к «необрезанным» язычникам (Гал. 2:1–10), да и позднее Павлу приходилось нередко сталкиваться и воевать с приверженцами этого триумвирата и, в частности, с Иаковом (Гал. 2:12). Триумвират представлял собою центр и опору иудео-христиан, и сам, в свою очередь, опирался на привилегированное положение, которое, по преданию, занимала та же апостольская троица при жизни Иисуса. Сколько ни иронизировал апостол Павел по адресу этих воображаемых «столпов» церкви Христовой, однако же и после смерти своей они продолжали тормозить прогресс, пока евангельское предание продолжало отводить главные места в обшине Иисуса первым двум лично, а третьему, Иакову, в лице его однофамильца или тезки. Чтобы дать ход прогрессу, приходилось подточить устои этого апостольского триумвирата, и этот подвиг принял на себя четвертый евангелист.
Он прежде всего решил использовать Иоанна в интересах защищаемой им тенденции. Но такое предприятие было шагом крайне дерзновенным ввиду наличия Откровения Иоанна и разных исторических воспоминаний, и потому евангелист приступил к делу очень осторожно. В своем евангелии он прямо нигде не называет Иоанна его настоящим именем, а только намекает на него. Сначала он как бы вскользь упоминает о том, что Андрею сопутствовал некий незнакомец-аноним (1:35–40), который тем не менее не мог быть ни Петром, ни Филиппом, ни Нафанаилом, потому что этих лиц он прямо отмечает дальше в качестве последователей, явившихся к Иисусу позднее. Затем, после рассказов о Петре, Андрее, Филиппе и Фоме, евангелист при описании последней вечери Иисуса упоминает о некоем (опять-таки по имени не названном) ученике, которого «любил» Иисус, который «возлежал у груди» Иисуса и которого Симон-Петр просит узнать у Иисуса, кого он считает предателем (13:23–24). После пленения Иисуса тот же безымянный ученик, по словам евангелиста, помог Петру войти во двор первосвященника, с которым он был знаком лично (18:15). Далее, у креста с распятым Иисусом снова появляется ученик, которого «любил» Иисус (19:26) и попечениям которого Иисус поручает матерь свою; он же свидетельствует затем в качестве очевидца, что воин пронзил копьем ребра распятого Иисуса (19:35), и затем (20:2) мы узнаем, что «любимый» ученик и второй безымянный ученик, который упоминался вместе с Андреем, — одно и то же лицо; наконец, в добавочной (21) главе четвертого евангелия в числе семи поименованных и отчасти анонимных учеников снова выступает ученик, которого «любил» Иисус, ученик-наперсник Иисуса, и в заключение он-то и оказывается автором четвертого евангелия (21:7, 20, 24). Но имя его не указывается даже и тут, и предположение о том, что упомянутый таинственный ученик Иисуса именуется Иоанном, на основании четвертого евангелия не может быть доказано. В этом отношении нам могло бы помочь взаимное сравнение трех первых евангелий, если бы какое-нибудь деяние или изречение, приписанное автором четвертого евангелия ученику — любимцу Иисуса, казалось в синоптических евангелиях деянием или изречением Иоанна; но этого мы нигде не обнаруживаем. Тем не менее церковное предание, очевидно, правильно уловило мысль четвертого евангелиста, отождествляя анонимного ученика с Иоанном. Чтобы читатели евангелия уразумели, кто автор его, необходимо было изобразить дело так, чтобы автором оказался тот апостол, который был весьма известен и популярен в той местности, где само евангелие возникло; но внешние и внутренние свидетельства удостоверяют, что четвертое евангелие возникло в Малой Азии, а именно в Эфесе, а там популярен и известен был апостол Иоанн. Что анонимный ученик Иисуса — автор евангелия, об этом прямо говорится только в добавочной главе евангелия, однако же на это намекают и другие замечания евангелия (19:35). Но Иоанн четвертого евангелия не есть тот «столп» апостолов-иудаистов, с которым приходилось Павлу так много воевать, он любимец и наперсник Иоаннова Христа, он — автор или вдохновитель Иоаннова евангелия, и, как таковой, он представляется носителем одухотворенного универсального христианства, далеко опередившего даже и павликианское течение. Именно такой одухотворенный Иоанн и был исключен из синоптического триумвирата и возведен на степень первенствующего ученика — любимца Иисуса в таком смысле, в каком не разумели его три первые евангелиста.
Из двух остальных членов вышеозначенного триумвирата Иаков вовсе исчезает со страниц четвертого евангелия. Что касается Иакова, брата Господня, вошедшего в состав исторического триумвирата, то в четвертом евангелии вполне определенно говорится, что братья Иисуса не веровали в него (7:5). Что они уверовали в Иисуса позднее, на это автор не обратил внимания или он хотел, быть может, намекнуть на то, что их иудаистская вера в него была ничем не лучше их неверия. В евангелии говорится (19:26), что распятый Иисус, увидя матерь свою и любимого ученика своего у креста, сказал матери: «Жено! се, сын Твой», а ученику сказал: «се, Матерь твоя», и что с того времени этот (любимый) ученик «взял Ее к себе». По остроумному замечанию Баура, цель этого рассказа — показать, что сам Иисус предпочел единоутробным братьям своим и, в частности, Иакову любимого ученика своего Иоанна и провозгласил его истинным духовным братом Господним. Устранив иудаиста Иакова, брата Господня, четвертый евангелист мог игнорировать также его тезку, Иакова, сына Зеведеева, которого так выдвигали и возвеличивали синоптики; этим обстоятельством объясняется то, что четвертое евангелие умолчало об Иакове, и такое умолчание не в силах объяснить апологетическая теология, исходящая из того предположения, что автор четвертого евангелия есть Иоанн, брат вышеозначенного Иакова.
Итак, автор четвертого евангелия мог совершенно умолчать об Иакове, ибо Иаков, брат Господень, при жизни Иисуса не принадлежал еще к числу его последователей, а Иаков — сын Зеведеев подвергся рано казни и был забыт, по крайней мере, внепалестинскими христианами. Относительно Петра, который заведомо был приближенным учеником Иисуса, а затем стал главой иудео-христиан и, связав свое имя с мировой столицей, Римом, созидал церковь Христову и даже после смерти своей продолжал жить в церковном предании, автор четвертого евангелия поступить так не мог. Евангелие, умалчивающее о Петре, не было бы настоящим евангелием, а евангелие, в котором Петр был бы обрисован не традиционными, давно известными чертами, встретило бы сочувствие лишь в очень ограниченном кругу окраинных христиан. Это отлично понимает четвертый евангелист, поэтому он воздает первоапостолу Господню традицией присвоенную ему почесть, упоминает и о том, что сам Иисус почтил его известным прозвищем «Кифа» (камень), или «Петр» (1:42), он отмечает также и тот факт, что Петр прежде других апостолов уверовал в мессианское призвание и достоинство Иисуса (6:68–69; Мф. 16:16); он столь же часто, если не чаще, чем прежние евангелисты, выдвигает его на авансцену в почетной роли главного персонажа. Но вместе с тем он постоянно, и в особенности в конце повествования, умаляет и урезывает достоинство и заслуги Петра разными оговорками или таким сопоставлением его с Иоанном, что в выигрыше остается Иоанн. Он хвалит, например, Петра за то, что при последней вечере он сперва противился умовению ног его со стороны Иисуса, но потом попросил умыть не только ноги, но также руки и голову (13:6–9), но в подобном резком переходе от одной крайности к другой Петр, по рассказу четвертого евангелиста, проявил не только невоздержность и стремительность, но и непонимание глубокого смысла совершаемого Иисусом омовения. У всех евангелистов имеется рассказ о том, что при взятии Иисуса под стражу один из учеников отсек мечом ухо у первосвященнического раба Малха, но лишь четвертый евангелист сообщает, что сделал это Симон-Петр (18:10), и таким образом евангелист еще раз отмечает, что Петру была присуща плотская горячность, мешавшая ему полнее проникаться духом или идеей учителя.
Эта тенденция четвертого евангелиста особенно рельефно сказалась в тех случаях, когда он сопоставляет Петра с другим, «любимым» учеником Иисуса. Выше мы уже отметили один из таких случаев: четвертый евангелист, подобно трем синоптикам, сообщает, что Петр находился в числе первых лиц, примкнувших к Иисусу, но отмечает, что он был не первым, а третьим призванным учеником, а предполагаемый Иоанн был вторым, и что Петр не был призван самим Иисусом непосредственно, а примкнул к Иисусу при посредстве одного из двух первых учеников, и в данном случае посредником является Андрей, а в прочих случаях — «любимый» ученик. Эллины, пришедшие на праздник Пасхи и пожелавшие увидеть Иисуса, обращаются со своей просьбой не к Петру, а к Филиппу, а Филипп к Андрею, и уж затем Андрей и Филипп вместе докладывают о желании эллинов Иисусу (12:20–23). На последней вечере Петр, желая узнать, кого считает Иисус предателем, просит выведать это ученика, «которого любил Иисус» и который «возлежал у груди Иисуса» (13:23). После пленения Иисуса во двор первосвященника, по свидетельству четвертого евангелия, вошел за Иисусом также Петр, но «другой» ученик (о котором умалчивают прочие евангелисты) не только вошел туда первым, но и доставил Петру пропуск, благодаря своему знакомству с первосвященником (18:15–16). При распятии и кончине Иисуса присутствовали, по словам Матфея и Марка, лишь женщины, пришедшие с ним из Галилеи, а по словам Луки, — также все знавшие Иисуса, но они все смотрели и стояли вдали (Мф. 27:55; Мк. 15:40; Лк. 23:49); но, по свидетельству четвертого евангелиста, «при кресте Иисуса (то есть вблизи распятого) стояли Матерь Его и сестра Матери Его, Мария Клеопова, и Мария Магдалина», и тут же присутствовал ученик, которого «любил» Иисус и сыновним попечениям которого Иисус поручил матерь свою (19:26). Но характернее всего рассказ четвертого евангелиста о воскресении Иисуса (20:2–9): узнав от Марии Магдалины, что гроб Иисуса опустел, Симон-Петр и «другой ученик, которого любил Иисус», побежали «оба вместе» ко гробу, но «другой ученик бежал скорее Петра и пришел ко гробу первый». Наконец, по словам автора добавочной главы того же евангелия, оказывается, что тот же ученик — любимец Иисуса — ранее Петра и других учеников догадался, что незнакомец, стоявший на берегу Тивериадского озера во время чудесной ловли рыбы, был сам Господь Иисус (21:7). Окинув взглядом всю историю призвания учеников Иисусом, мы теперь уже признаем невозможным согласовать или примирить рассказы синоптиков и Иоанна о том, как призывал Иисус своих первых учеников, ибо убеждаемся, что рассказ Иоанна есть переделка рассказа синоптиков, произведенная в духе и интересах тенденции четвертого евангелиста. И мы можем поздравить себя с этим открытием, так как оно избавляет нас от тех ухищрений и хлопот, при помощи которых апологеты пытались объяснить, почему людей, уже примкнувших к Иисусу по указанию Крестителя и, в частности, Петра, примкнувшего к Иисусу по указанию брата, Иисус позднее снова призывает как незнакомцев следовать за ним. Если Иисус (как свидетельствуют Матфей и Марк) говорил Симону и Андрею: «следуйте за мной», и если словами этими он приглашал их оставаться при нём безотлучно, то, очевидно, тот же смысл имели также и слова: «следуй за мной», которые (по свидетельству Иоанна) Иисус сказал Филиппу; а если оба, Андрей и Иоанн (как сообщают первый, второй и четвертый евангелисты), действительно последовали за Иисусом, то, очевидно, с той поры они оба стали учениками-спутниками Иисуса; поэтому нельзя предполагать, что после состоявшегося присоединения означенных лиц к Иисусу (как говорит евангелист Иоанн) им было предложено вновь примкнуть к нему (как говорят Матфей и Марк); также немыслимо предполагать, что после состоявшегося присоединения означенных лиц к Иисусу их будто бы привел к нему Креститель.
III группа мифов: Иисус-чудотворец.
§71. О чудесных исцелениях. Исцеление слепых
Чудотворения Иисуса, о которых повествуют наши евангелия, можно разделить на два или, если угодно, на три класса: на чудеса, сотворенные над людьми, и чудеса, сотворенные над внечеловеческой природой, причем чудеса первого класса можно еще подразделить на две группы: на чудеса, сотворенные над больными, и чудеса, сотворенные над мертвецами.
Относительно чудес первой группы, то есть чудесных исцелений, мы уже раньше заявляли,[217] что, по нашему мнению, такого рода мнимые чудеса Иисус мог действительно сотворить в известных случаях и вполне естественным путем. Народ иудейский веровал, что всякий пророк, и тем более Мессия, может и должен творить чудеса и, в частности, чудесным образом исцелять людей, а так как Иисус считался пророком, а позднее даже и Мессией, то — говорили мы — не удивительно, если некоторые из больных в его присутствии, от его речей и прикосновения чувствовали облегчение и даже исцелялись совершенно или временно. Подобные явления мы находили вполне возможными, если больные, обращавшиеся к Иисусу, поддавались психическому воздействию (внушению) с его стороны, то есть если то были люди, одержимые душевной или нервной болезнью, или даже мышечным страданием (за исключением больных, страдавших кожной болезнью, и умалишенных). Но мы утверждали, что такого рода объяснение совершенно неприложимо к чудесам, сотворенным Иисусом над мертвецами или предметами внечеловеческой природы: за объяснением подобных чудес, по нашему мнению, следует обращаться не к психологии и физиологии, а к истории религий и, в частности, к тем упованиям и надеждам, которые возлагались на Мессию иудеями и древнейшими христианами. Но мы уверены, что даже те из приписанных Иисусу чудесных исцелений, которые мы признаем вполне естественными и правдоподобными, он мог успешно совершить лишь постольку, поскольку сам народ считал его пророком и твердо верил, что он может сотворять подобные чудеса. Поэтому различие сводится к тому, что на почве мессианских упований иудеев Иисус, считавшийся Мессией или хотя бы пророком, действительно успел сотворить лишь небольшую часть вышеозначенных чудес, и что всю остальную, несравненно большую часть их ему впоследствии произвольно приписала народная легенда.
Выше мы уже указывали ту предначертанную пророчествами программу, которая лежит в основании чудес, приписанных Иисусу. Программа эта изложена в изречении Исаии: «Тогда откроются глаза слепых и уши глухих отверзутся. Тогда хромой вскочит, как олень, и язык немого будет петь» (35:5–6). Это изречение содержится в первой части прорицания Исаии, которая, подобно второй части, относится к концу вавилонского пленения, и в нём говорится, как бедные изгнанники, получив позволение вернуться к себе на родину, от радости позабывают о своих страданиях и чувствуют себя исцеленными от всех болезней. Но после возвращения из плена вавилонского иудеи убедились, что предсказанный пророками период благоденствия не наступил, и потому такого рода предсказания они стали приурочивать к позднейшему грядущему пришествию Мессии, о котором у них стало постепенно складываться сверхъестественно преувеличенное представление. Поэтому и прорицание пророка о прозревающих слепцах, быстроногих хромых и т.д. стало утрачивать свой первоначальный аллегорический смысл и было понято в буквальном смысле как указание о чудесах, которые сотворит грядущий Мессия. На почве такого понимания означенных пророчеств создались и евангельские рассказы о чудесах Иисуса. Впрочем, в евангельских рассказах чудеса, содеянные Иисусом, отличаются от чудес, предсказанных пророком. По словам Матфея (11:5), Иисус велел посланцам Крестителя передать ему, что они слышали и видели из содеянного им: «слепые прозревают и хромые ходят, прокаженные очищаются и глухие слышат, мертвые воскресают и нищие благовествуют». Итак, во-первых, Иисус умолчал в своей ответной речи о немых, которые упоминаются в изречении пророка, но это умолчание, быть может, объясняется тем обстоятельством, что под глухими Иисус подразумевал также и немых, так как немые часто бывают также и глухими, вследствие чего мы и в евангелиях находим указание на то, что большинство глухих, исцеленных Иисусом, были также немы (Мф. 9:32; Мк. 7:32). Во-вторых, в ответе своем Иисус говорит об очищении прокаженных и воскрешении мертвых, о чём в пророчестве Исаии не упоминается. Однако такого рода чудеса встречаются в ветхозаветной легенде о пророках. Например, Елисей исцелил одного прокаженного и, подобно учителю своему Илии, воскресил одного мертвеца. Об изгнании бесов из бесноватых многократно повествуется в евангельских рассказах о чудесах Иисуса, но о таком чуде не упоминают ни пророк Исаия, ни легенда о пророках, так как в те отдаленные времена бесноватость еще не была явлением обычным, однако о бесноватых и исцелении их не упоминается и в ответе Иисуса, так как он, видимо, перечислял лишь те деяния, которые отмечены были ветхозаветными пророчествами и прообразами в качестве деяний мессианских.
Стало быть, созданию евангельских рассказов о чудесах способствовали по преимуществу два фактора: идеальный и реальный. Всё, что в изречении Исаии сказано об исцеленных слепых, глухих, хромых, Следует понимать не в смысле чудесного восстановления здоровья, а в смысле несобственном, или идеальном; наоборот, о деяниях Илии и Елисея говорится как о действительных, реальных чудотворениях, и именно такого рода подвигов народ иудейский ожидал и требовал от грядущего Мессии. Точно так же и в вышеприведенном ответном изречении Иисуса (Мф. 11:5) о содеянных им чудесах первоначально говорилось, вероятно, лишь о моральных и идеальных исцелениях и воскрешениях как результате евангельской проповеди, но евангельская легенда поняла их в смысле реальных, действительно содеянных телесных чудес хотя временами в последующих мистико-художественных переработках легенды, например в повествовании четвертого евангелиста, вновь проявляется идеальный характер чудес.
Если затем мы обратимся к чудесным исцелениям и рассмотрим их сначала по отдельным группам и в том порядке, в каком чудеса эти перечислены в ответе Иисуса, то мы увидим, что евангелисты повествуют об исцелении слепых в одних случаях суммарно, в связи с другими исцелениями (Мф. 15:30; Лк. 7:21), а в других случаях детально, в форме специальных рассказов. У первых трех евангелистов имеется более или менее одинаковый рассказ о том, как исцелил Иисус слепых близ города Иерихона при последней, главной своей остановке на пути в Иерусалим (Мф. 20:29–34; Мк. 10:46–52; Лк. 18:35–43). По словам Матфея и Марка, исцелил он их по выходе из Иерихона, а по словам Луки — при входе в Иерихон, и уже это разногласие нам показывает, сколь мало внимания евангелисты обращали на такие подробности и частности происшествия, которыми так дорожит всякий писатель историк. Единственный мотив, заставивший Луку заявить, что Иисус чудесно исцелил слепого при входе в Иерихон, заключается в том, что ему хотелось, вероятно, приурочить к проезду Иисуса через этот город рассказ о Закхее, неизвестный Матфею и Марку. С середины 18-й главы своего евангелия Лука пожелал вести свой рассказ снова в порядке повествования Матфея и (отложив рассказ о матери сыновей Зеведеевых до другого случая) рассказать об исцелении слепого после предвозвещения о страданиях Иисуса, поэтому он решил предпослать исцеление слепого въезду Иисуса в Иерихон, ибо в противном случае ему не удалось бы рассказать историю Закхея, с которым Иисус не мог бы уже столкнуться в Иерихоне. Другое отличие состоит в том, что у Матфея говорится об исцелении двух слепых, а у Марка и Луки — одного и что у Матфея Иисус прикоснулся к очам слепцов, тогда как у двух прочих евангелистов он исцеляет слепца словом. Точно так же, по словам Матфея (9:27–29), поступил Иисус и с двумя другими слепцами, которых он исцелил тоже прикосновением руки, о чём ничего не сообщают остальные евангелисты. Таким образом, мы видим, что Матфей дважды рассказал один и тот же эпизод о двух слепцах и исцелении их через прикосновение, но приурочил свой рассказ к различным отношениям времени и места, а с другой стороны, мы видим, что евангелистам было безразлично, сколько слепцов и при каких обстоятельствах были исцелены Иисусом, им было важно установить лишь самый факт чудесного исцеления.
В указанных евангельских рассказах об исцелении слепцов неизменно отмечается, что слепцы, призывая Иисуса, называли его «сыном Давидовым». По этому поводу среди новейших богословов возникло предположение, что их слепота символизирует то ослепление иудео-христиан, вследствие которого они усматривали в Иисусе лишь сына Давидова, пока он сам не разъяснил их заблуждение. Мы, в свою очередь, тоже показали уже, что Иисус понимал произведенные им чудесные исцеления слепцов аллегорически, и подтверждается это предположение тем, что, явясь Павлу (Деян. 26:18), он говорит, что посылает его к язычникам «открыть глаза им, чтобы они обратились от тьмы к свету и от власти сатаны к Богу». Но мы не можем не усомниться в том, чтобы Матфей или другие синоптики-евангелисты в свои рассказы об исцелении слепцов влагали только аллегорический смысл. Идея Христа — открывателя духовных очей во времена евангелистов была заслонена чувственным представлением о телесном чуде, а потому и детальные черты означенных рассказов приходится объяснять именно таким представлением о чуде. Только в рассказе о чудесном лове рыбы проступает вновь идейный элемент, которого мы не замечаем в синоптических рассказах об исцелении слепых.
Прежде всего следует заметить, что процесс образования этих рассказов шел не по линии идеального направления. Уже в рассказе об исцелении слепого в Иерихоне Лука и в особенности Марк проявляют большое пристрастие к живости и чувственной наглядности изложения; например, в рассказе Марка (10:46–52) упоминается, что слепой назывался Вартимеем, сыном Тимеевым[218], что, подходя к Иисусу, он сбросил с себя верхнюю одежду и что толпа народа его ободряла. Кроме того, Марк, как бы недовольный соответствующими рассказами своих предшественников, сообщает собственную историю исцеления слепого (8:22–25), которую он поместил между рассказом о фарисейской закваске и об исповедании веры Петра и которую он дополнил своеобразным рассказом об исцелении глухонемого. В рассказе об исцелении слепого Марк сообщает, что в Вифсаиде к Иисусу привели слепого и что Иисус, взяв слепого за руку, вывел его вон из селения, словно то чудо, которое он собирался сотворить, было мистерией, которой не должны были видеть непосвященные; по этой же причине Иисус после исцеления велит слепому не заходить в селение и никому не рассказывать там о совершившемся над ним чуде (такое запрещение отмечается иногда также у Матфея и Луки, но чаще всего у Марка). Потом Иисус, по словам Марка, плюнул слепому на глаза, совершенно так же, как угодливый прокуратор Египетский заставил Веспасиана, провозглашенного императором, плюнуть на глаза мнимому слепому, так как в процессе волшебных исцелений глазных болезней, по убеждению суеверного народа, слюна мага играла первенствующую роль. Далее оказывается, что слепой от «плюновения» Иисуса не сразу прозревает совершенно: когда Иисус плюнул ему на глаза, возложил на него руки и спросил, «видит ли что?» — слепой ответил: «Вижу проходящих людей, как деревья» (то есть неясно). Тогда Иисус еще раз возложил руки на глаза его, и после того слепой уже стал ясно видеть все. Эта деталь как бы умаляет данное чудо, ибо наводит на мысль о том, что исцеляющая сила чудотворца действовала не абсолютно, но должна была как бы вступить в борьбу со злым недугом; вот почему сторонники естественнонаучного объяснения чудес свои догадки утверждали по преимуществу на отмеченной детали. Однако же сам Марк глядел на дело иначе; он хотел только живее и нагляднее представить чудо, разложив его на два последовательных момента, и отнюдь не думал умалять его значение и сущность. Но, разумеется, такой прием оказался нецелесообразным и не привел к желаемому результату; как вмешательство абсолютной причины в цепь конечных причинностей чудо по существу своему есть акт мгновенный, и разложение его на несколько отдельных моментов противоречит его существу.[219] К Марку примыкает автор четвертого евангелия, который по пути наглядного изобретения чудес и усиления их эффекта идет даже дальше Марка. Вместо двух пар рассказов об исцелении слепых, имеющихся у Матфея и Марка, он (как и Лука) приводит лишь один рассказ (9:1–41), но этот рассказ стоит многих. По словам евангелиста Иоанна, Иисус исцелил слепого не в Вифсаиде или Иерихоне, а в столичном городе Иерусалиме, и слепой этот был не простой слепец, а слепорожденный, то есть абсолютно безнадежный слепой, который мог быть исцелен лишь соответствующим абсолютным чудом; и эту мысль евангелист влагает даже в уста самому слепому, который после своего исцеления заявлял неверующим иудеям: «От века не слыхано, чтобы кто отверз очи слепорожденному» (9:32). Далее евангелист отмечает, что внешним наглядным средством для исцеления слепого Иисусу в данном случае служила слюна, но Иисус при этом сначала плюнул на землю, потом сделал «брение из плюновения» и помазал этим «брением» глаза слепому (9:6).[220] Эта деталь, по-видимому, отмечена евангелистом для того, чтобы акт чудотворения представить актом труда, то есть нарушением субботнего покоя. Далее, евангелист, видимо, был убежден, что это «брение» следовало тотчас смыть, дабы слепой мог воспользоваться дарованным ему зрением, поэтому он говорит, что Иисус, помазав брением глаза слепому, велел ему умыться в «купальне Силоам» (9:7) и что слепой, исполнив это повеление, пришел оттуда зрячим, как Нееман, которого пророк Елисей послал искупаться в водах Иордана (4 Цар. 5:10). Все эти детали, видимо, имеют целью усилить и нагляднее представить эффект и волшебный характер сотворенного Иисусом чуда, а фактический состав последнего устанавливается в рассказе евангелиста путем формального опроса свидетелей-очевидцев с таким педантизмом, которого мы не замечаем в рассказах старейших евангелистов. Сначала приводятся толки соседей и других людей, которые видели, что исцеленный нищий был прежде слепым; но эти толки могли показаться простыми догадками, покоящимися на обманчивом наружном сходстве, поэтому далее приводится показание самого исцеленного, который благодетеля своего не знал и потому мог о нём и о сотворенном им чуде свидетельствовать довольно беспристрастно. Однако же и собственные показания исцеленного слепого евангелист счел нужным заверить официально и потому рассказывает далее, что фарисеи (власти иудейские) призвали на допрос родителей исцеленного, которые окончательно удостоверяют, что исцеленный сын их действительно родился слепым. Наконец, чтобы рассеять всякие следы сомнения и недоверия, евангелист упоминает, что фарисеи (власти) решили отлучать от синагоги всех, кто признаёт Иисуса за Христа-Мессию, и затем рассказывает дальше, что, несмотря на это решение властей, исцеленный продолжал на допросе утверждать, что он чудесно исцелен Иисусом, и, рискуя быть отлученным от синагоги, открыто заявлял, что считает Иисуса посланником Бога, то есть пророком. По убеждению евангелиста, исцеленный не стал бы так говорить, если бы не верил твердо в то, что над ним совершилось воистину великое чудо.
Таким образом, четвертый евангелист доводит чудеса до крайнего предела реализма, завершая в этом отношении дело, начатое Марком. Но вместе с тем он более других предшественников своих оттеняет идеальное значение чудес Иисуса. Так, в данном случае он мотивирует сотворенное Иисусом чудо не мольбой слепорожденного о помощи и исцелении, а спорным догматическим вопросом, который возбудили и обсуждали ученики Иисуса: «кто согрешил, он или родители его, что родился слепым?» (9:2). На этот вопрос учеников Иисус отвечает, что не согрешил ни сам слепой, ни родители его, но что он слеп лишь «для того, чтобы на нём явились дела Божии», то есть чтобы в его исцелении открылось Божие могущество. Но проявление и прославление Бога в сыне Божием, по представлению евангелиста Иоанна, состоит не только в том, что Иисус совершает подвиги, превышающие силу человеческую и по своей благости и человеколюбию приличествующие Богу, но также и в том, что каждое чудотворение Иисуса отражает собой какую-нибудь сторону деятельности Бога и его Слова. Божественное Слово (Логос), по учению александрийцев, есть принцип жизни и света для Вселенной, пища для души человеческой, каждое из этих свойств Логоса Иисус евангелиста Иоанна проявляет чудом. Что же касается данного чуда, то в прологе о Логосе (Слове) говорилось следующее (1:4, 12): «В Нём была жизнь, и жизнь была свет человеков. И свет во тьме светит, и тьма не объяла его… Тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». В конце данного рассказа о чуде исцеления фарисеи (власти) оказываются неисправимыми, а исцеленный исповедует веру свою в Иисуса, сына Божия, Иисус заявляет: «На суд пришел Я в мир сей, чтобы невидящие видели, а видящие стали слепы». Услышав это, некоторые из фарисеев, бывших с Ним, сказали Ему: неужели и мы слепы? Иисус сказал им: если бы вы были слепы, то не имели бы на себе греха, но как вы говорите, что видите, то грех остается на вас (9:39–41). Другими словами, Иисус заявил, что фарисеи, утверждая себя духовно зрячими, тем самым заявляют о своей неисправимости. Таким образом, мы видим, что слепорожденный, прозревший сначала телесно, а потом духовно, является представителем таких людей, которые хотя и привержены к миру сему, то есть ко тьме, но всё-таки хотят и могут восприять свет и стать чадами Божиими, а иудеи (фарисеи) представляют собой тех людей, которые замыкаются от света и сознательно пребывают во тьме или грехе. В pendant и в противоположность этому следовало показать, как люди, зрячие телесно и воображающие себя зрячими духовно, под конец не только уличаются в своей духовной слепоте, но и поражаются слепотой телесной, как в данном случае телесно слепой человек, сознавший свою духовную слепоту, прозрел не только духовно, но и телесно. Но подобная картина шла бы вразрез с собственным заявлением Иоаннова Христа (3:17; 12:47, 48), что он, сын Божий, пришел не судить мир, а спасти его, и что отвергающий и не приемлющий слов его «имеет судью себе», то есть осуждает сам себя. От Иисуса как творческого Слова Бога, по мнению евангелиста, могло исходить лишь начало утверждающее и положительное, лишь жизнь, свет и спасение; он не мог и не должен был творить карательные чудеса, и, чтобы наказать должным образом тварь, отвергающую его слово, ему достаточно оставить ее в том бедственном и безотрадном состоянии, в котором она уже фактически обретается.
Так у Иоанна чудо одухотворяется, во всех своих потребностях, идеальным освещением и пониманием, оно — чистейший символ и вместе с тем оно вполне реально, и было бы огромным заблуждением предполагать, что четвертый евангелист не считал столь знаменательное чудо вполне реальным фактом. Как мало у него одно исключается другим и как своеобразно у него слагается такое представление, это мы можем усмотреть из одной детали данного рассказа. Источник, в котором Иисус велит слепому омыться, называется купальней Силоам, а еврейское слово «силоа», от которого произошло название источника и которое в действительности означает «источник», евангелист сам переводит словом «посланный» (9:7). Стало быть, в слове «источник» (силоа) он усматривал как бы предзнаменование о Богом ниспосланном Иисусе или о том слепце, которого Иисус послал умыться в купальне Силоам.
§72. Исцеление хромых и расслабленных
Вторую категорию больных, находивших помощь у Иисуса и упомянутых в его ответе Крестителю, составляют хромые (Мф. 11:5). Хромые встречаются среди тех больных, которые к Иисусу обращались за исцелением перед вторым чудесным насыщением толпы, когда, по словам евангелиста (Мф. 15:30), к Иисусу приступило множество народа, «имея с собою хромых, слепых, немых, увечных и иных», и Иисус всех их исцелил, и когда «народ дивился, видя немых говорящими… хромых ходящими» и т.д. В иных случаях говорится о паралитиках, или «расслабленных» (Мф. 4:24; 8:6; 9:2), то есть о таких больных, у которых мышечная система расслаблена или односторонне парализована. Между тем из описания Матфея видим, что в одном случае (Мф. 9:2) расслабленный был принесен к Иисусу распростертым на одре, то есть был весь парализован или, по крайней мере, не владел ногами, а в другом случае (8:5–6) расслабленный (слуга сотника капернаумского) лежал в расслаблении и «жестоко страдал», то есть страдал ломотой или ревматическими болями. Что Иисусу надлежало исцелять больных такого рода, это вытекало из чувственного истолкования пророчества Исаии (35:6): «тогда хромой вскочит, как олень», которому предшествовало воззвание: «утвердите колени дрожащие», в котором греческий переводчик употребил такое же выражение, каким Лука (5:18) обозначает паралитиков, или «расслабленных». Что изречение Исаии легло в основание данных рассказов о чудесах Иисуса, это не так наглядно сказывается в них, как в одном рассказе, приведенном в Деяниях апостолов (3:1–11). Как известно, первым из чудес, сотворенных апостолами после сошествия на них Святого Духа, было чудесное исцеление Петром хромого нищего, сидевшего у Красных дверей храма Иерусалимского. По словам Деяний, Петр сказал нищему: «во имя Иисуса Христа Назорея встань и ходи. И, взяв его за правую руку, поднял; и вдруг укрепились его ступни и колени, и, вскочив, стал и начал ходить, и вошел… в храм, ходя и скача, и хваля Бога» (3:6–8). Здесь отмечается неоднократно тот факт, что исцеленный хромой «скакал», что нам напоминает пророчество Исаии о том, что люди будут «вскакивать, как олени», тогда как замечание об укрепившихся ступнях и коленях напоминает о вышеприведенном воззвании того же пророка Исаии.
Рассказ о слуге сотника капернаумского, которого Матфей назвал «расслабленным» (паралитиком), мы рассмотрим несколько позднее. Классическим рассказом об исцелении паралитика является в евангелиях рассказ о том человеке, которого в Капернауме принесли к Иисусу распростертым на одре и которому Иисус простил грехи его, а затем, когда этим смутились книжники, велел ему встать, взять одр свой и пойти домой (Мф. 9:1–8; Мк. 2:1–12; Лк. 5:17–26). Здесь нам уже не приходится решать вопрос: не исцелился ли больной естественным психологическим путем в силу доверия своего к Иисусу — пророку? Возможность подобных исцелений мы не оспаривали и в первой части нашего труда, но все евангельские рассказы переработаны в соответствии с представлением о Мессии-чудотворце так, что заключающаяся в них фактическая основа уже не поддается выделению. Тот произвол, с которым все подобные рассказы перерабатывались и изменялись, здесь проявился в форме многообразных отступлений и отличий в рассказах отдельных евангелистов. Матфей просто повествует, что к Иисусу, переправившемуся через озеро обратно в свой город Капернаум, принесли расслабленного на одре и что Иисус, увидев веру людей, принесших больного, сказал расслабленному: «дерзай, чадо! прощаются тебе грехи твои» (9:1–3). Веру расслабленного и принесших его лиц Иисус увидел, по свидетельству Матфея, из того, что они не усомнились затратить силы и труды на перенесение больного к Иисусу. Но Луке показалось такое испытание веры недостаточным; он счел нужным предпослать протесту и возражению книжников (а также и присочиненных им фарисеев) замечание, что в то время, когда принесли больного, сидели и слушали поучение Иисуса множество «фарисеев и законоучителей, пришедших из всех мест Галилеи и Иудеи и из Иерусалима». Поэтому, «за многолюдством» собрания, больного нельзя было внести в дом прямо через двери, а потому пришлось «сквозь кровлю» спустить его вместе с постелью перед Иисусом. Что в данном случае Иисус находился в каком-то доме, эту деталь Лука заимствовал не у Матфея, и она ему понадобилась, чтобы обставить надлежащим образом придуманное им испытание веры больного. Говоря о том, что больного спустили в дом сквозь кровлю, Лука, вероятно, имел в виду то обстоятельство, что в плоских кровлях иудейских домов, настланных камнем по обыкновению восточных народов, имелось отверстие, через которое можно было выходить на кровлю изнутри, и, так как постоянной лестницы в этом месте не имелось, а переносную лестницу при данных обстоятельствах ставить было неудобно, поэтому постель с больным, по словам Луки, пришлось спустить в эту комнату, где поучал Иисус, через кровельное отверстие на веревках. Автор второго евангелия (Марк) либо не знал устройства палестинских домов и кровель, либо пожелал еще рельефнее оттенить веру и усердие больного и принесших его лиц, но факт то, что он игнорирует отверстие, проделанное в кровле дома, и заявляет, что четверо человек, которые принесли на одре расслабленного, стали «раскрывать» или ломать кровлю дома, забывая о том, что при этом камнями, падающими с кровли, могло ушибить собравшихся в доме людей. Впрочем, подобная неосмотрительность вполне характеризует Марка вообще, и это подтвердит, вероятно, всякий, кто потрудится вспомнить его рассказ о бесплодной смоковнице, столь убедительно свидетельствующий о том, что Марк — не оригинальный писатель-евангелист.
Аналогичное чудесное исцеление, по свидетельству трех первых евангелистов, произведено было Иисусом в день субботний; поэтому как в предыдущем случае книжников смутило то, что Иисус присвоил себе право прощать грехи, так в данном случае их возмутило то, что актом исцелений Иисус нарушил закон о субботе. То обстоятельство, что все синоптики об исцелении сухорукого повествуют вслед за эпизодом о срывании колосьев в день субботний (Мф. 12:10–13; Мк. 3:1–5; Лк. 6:6 — 11), показывает, что в данном случае они не столько заинтересованы сотворенным чудом, сколько тем, что чудесный акт исцеления пришелся на субботу. Вопрос о характере и степени соблюдения субботы являлся вопросом спорным, который неоднократно обсуждался Иисусом и фарисеями-иудаистами и который поэтому неоднократно всплывает в той или иной форме и в евангелиях. Спор этот мог возгораться по многоразличным и вполне естественным поводам, например по поводу того, что ученики Иисуса, взалкав, стали в чужом поле рвать и есть колосья. По Закону Моисееву, такое деяние не считалось нарушением прав чужой собственности и было вообще дозволено (Втор. 23:25), и так как оно не могло считаться также работой в настоящем смысле слова и кроме того производилось вследствие голода, то по мнению Иисуса оно не нарушало и закона о субботе, и только педантизм позднейших законотолкователей стал в подобных деяниях усматривать преступление. По случаю того, что фарисеи усмотрели законопротивное деяние в срывании колосьев учениками Иисуса, последний указал, что и Давид, взалкав, вошел в храм Божий и ел «хлебы предложения», которых не следовало есть никому, кроме священников (Мф. 12:3–4). Тем более считал он позволительным нарушать субботу в таких случаях, когда речь идет не об удовлетворении собственных потребностей, а об оказании необходимой помощи другому человеку, и это мнение свое Иисус иллюстрирует примером единственной овцы, которую человек вытаскивает из ямы в день субботний (Мф. 12:11). Очевидно, что такая аргументация может вестись независимо от чуда и исходить из любого естественного акта благотворения и помощи, но столь же очевидно и то, что, привыкнув приписывать Иисусу чудеса, евангелисты не прочь были приурочить их к дню субботнему, хотя бы чудо сотворил Иисус не делом, а единым словом, так как, по учению некоторых раввинов, даже утешение больных в субботу являлось деянием противозаконным.
Впрочем, об овце, извлекаемой из ямы в день субботний, упоминает лишь Матфей, по словам же Марка и Луки, фарисеям, «наблюдавшим» за Иисусом, не займется ли он исцелением больных в субботу, Иисус (по случаю исцеления сухорукого) просто предложил вопрос: «должно ли в субботу добро делать, или зло делать? душу спасти, или погубить?» (Мк. 3:4). Лука же, как бы в подтверждение того предположения, что он подчеркивает не чудо, а нарушение субботы, использовал вышеприведенное изречение Иисуса об овце лишь с незначительным изменением для двух других рассказов о чудотворении Иисуса. В первом рассказе (Лк. 14:1–6) он говорит, что Иисус в субботу пришел в дом одного фарисея вкусить хлеба и там увидел больного, страдающего водянкой; спросив законников и фарисеев: «позволительно ли врачевать в субботу?» — и не получив ответа, Иисус, прикоснувшись, исцелил больного и, отпустив его, опять спросил фарисеев: «если у кого из вас осел или вол упадет в колодезь, не тотчас ли вытащит его и в субботу?» В другом рассказе (Лк. 13:10–12) говорится, что в субботу в одной из синагог Иисус заметил женщину, которая уже 18 лет «была скорчена и не могла выпрямиться»; он подозвал ее к себе и, возложив на нее руки, сказал: «ты освобождаешься от недуга твоего», и женщина тотчас исцелилась. По этому случаю начальник синагоги вознегодовал, что Иисус исцеляет в день субботний, а Иисус ему заметил: «лицемер! не отвязывает ли каждый из вас вола своего или осла от яслей в субботу и не ведет ли поить?» При этом следует отметить, что изменения в изложении Луки сделаны, вероятно, потому, что в болезни «скорченной» женщины он усматривал влияние «духа немощи» (сатаны), от власти которого ее и освободил Иисус.
Из всех вышеотмеченных случаев исцеления последний, будучи представлен в строго историческом рассказе, всего скорее мог бы быть изъяснен в смысле исцеления, произведенного психологическим путем, через воздействие речей и прикосновения Иисуса на веру больной женщины; вполне аналогичный случай из новейшей истории был представлен и документально подтвержден Паулусом (См. §42). Но мгновенное исцеление водяночной больной такому объяснению не поддается, а рассказ об исцелении сухорукого слишком очевидно скопирован с еврейской легенды о пророках, чтобы у нас оставались какие-либо сомнения относительно его происхождения. Здесь, как нередко и в других случаях, новозаветный рассказ о чуде отличается от ветхозаветного лишь тем, что в последнем болезнь сначала чудесным образом напускается на человека в виде наказания и затем столь же чудесно устраняется, тогда как в первом соответственно духу евангельского учения болезнь, уже фактически существующая, устраняется чудотворцем из человеколюбия. Так, по ветхозаветному рассказу (3 Цар. 13:4), идолопоклонствующего царя Иеровоама, дерзновенно простершего руку свою на пророка Иеговы, Бог наказал за это тем, что его протянутая рука мгновенно иссохла или окоченела, так что царь уже не мог притянуть ее к себе по произволу, и лишь тогда, когда по просьбе царя пророк вымолил прощение ему у Иеговы, чудесным образом снова исцелилась иссохшая рука Иеровоама. В евангельском рассказе (Мк. 3:5) рука у сухорукого, фактически уже пораженная болезнью, одеревенела так, что он не мог ее протянуть от себя (а царь Иеровоам не мог руку притянуть к себе), поэтому в данном случае сухорукий исцеляется Иисусом в том смысле, что одеревенелая рука его стала протягиваться, как и здоровая рука. Что евангельский рассказ о сухоруком построен по образцу ветхозаветного рассказа о царе Иеровоаме, это не трудно показать путем сравнения того и другого рассказа. О Иеровоаме говорится (3 Цар. 13:4): «и одеревенела рука его, которую он простер на него», а о сухоруком сказано (Мф. 12:10; Мк. 3:1): «и вот там (в синагоге) был человек, имеющий сухую руку». Под конец о Иеровоаме говорится: «и рука царя поворотилась к нему и стала, как прежде»; а о сухоруком сказано, что рука его «стала здорова, как другая». Что в те времена исцеления подобных страданий люди ожидали и требовали от человека, «угодного небесам и любимого верховными существами», об этом свидетельствует рассказ Тацита, по которому Веспасиану в Александрии было предложено проявить свою чудотворную силу над одним мнимым слепцом и над человеком, у которого болела рука (а по словам Светония, над хромоногим человеком)[222] .
Об этой категории чудес тоже следует заметить, что характеризующие их моменты, в старых евангелиях разбросанные по разным рассказам, в четвертом евангелии представлены в концентрированном, преувеличенном и одухотворенном виде, и что в описании этих чудес четвертый евангелист примыкает к евангелисту Марку. В рассказе о больном, явившемся к купальне у Овечьих ворот (Вифезде) в Иерусалиме (Ин. 5:5), идет речь о таком расслабленном, каков был паралитик капернаумский, но здесь говорится вместе с тем о нарушении субботы, как и в рассказах о сухоруком, о водяночной больной и о женщине «скорченной». При этом рассказ Иоанна превосходит первый из упомянутых рассказов громкой известностью места действия и продолжительностью страданий больного. Число лет страданий капернаумского паралитика не указано, а продолжительность «корчи» женщины определена в 18 лет, тогда как расслабленный у Иоанна проболел 38 лет. Что же касается рассказов о нарушении субботы, то рассказ Иоанна превосходит их углублением вопроса и стремлением одухотворить и символизировать весь акт чудотворения.
Купальня Вифезда, о которой, кроме Иоанна, не сообщает ничего ни Иосиф Флавий, ни целый ряд раввинов, по описанию евангелиста, имела пять крытых ходов и переполнена была всегда великим множеством больных: слепых, хромых, иссохших; словом, купальня эта представляла собой обширную лечебницу, где и появляется великий чудо-врач и намечает себе самого застарелого и безнадежного больного, чтобы на нём блестящим образом проявить могущество божественного Слова — жизнедавца. Правда, уже сама купальня эта обладает чудесной высшей силой, ибо, по словам евангелиста, «Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал» (5:4).[222] Но затем оказывается, что помощь ангела Господня миновала самого беспомощного человека (расслабленный не успевал первым войти в купальню), и это обстоятельство еще больше оттеняет значение и ценность того спасения, которое дарует Иисус больному; но вместе с тем эта деталь в связи с общим описанием чудесной купальни наводит на мысль о символическом значении всего данного эпизода. Возможно, что 38 лет страданий расслабленного символизируют собой те 38 лет блужданий по пустыне, на которые был обречен народ израильский, прежде чем достиг страны обетованной (Втор. 2:14). Возможно также, что пять крытых ходов купальни знаменуют собой пять книг Моисея, ибо их, очевидно, подразумевает сам Иисус, когда по поводу настоящего чуда замечает (5:39, 45), обращаясь к иудеям: «исследуйте Писания, ибо вы думаете чрез них иметь жизнь вечную», тогда как эту жизнь вечную, помимо Иисуса, им столь же невозможно обрести, как невозможно было исцелиться без его содействия расслабленному, лежавшему у купальни. По мнению правоверных толкователей Св. писания, символическое понимание рассказа не должно колебать исторического значения его; они полагают, в свою очередь, что Божьим произволением Иисусу предуказано было здесь (у купальни) натолкнуться на человека, который по многолетней болезни своей стал типом страждущего народа божия, или «больным человеком иудою», как выразился Генгстенберг, подражая слогу нынешних газетчиков. По нашему же убеждению, историческое значение рассказа уже давно поколеблено и сведено к нулю, да и предположение о символическом значении его имеет в наших глазах лишь ту ценность, что может уяснить нам отдельные черты и части всего произведения, ничуть не опровергая нашего мнения о неисторическом характере подобных повествований.
Что рассказ евангелиста Иоанна составлен по синоптическому рассказу о капернаумском расслабленном, это можно усмотреть из сходства деталей обоих рассказов. У Иоанна тоже отмечается прощение грехов; только синоптическую фразу: «твои грехи тебе прощаются», которая предшествует отпущению грехов, Иоанн превратил в последующую и несколько преобразованную фразу: «не греши больше, чтобы не случилось с тобой чего хуже» (5:14). Но всё более сходство это сказывается в формулировке обращенного к больному чудодейственного повеления Иисуса в том и другом рассказе. У синоптиков повеление это встречается дважды и в третий раз в форме предположения, в том вопросе, который Иисус задает фарисеям: что легче — сказать ли больному: твои грехи тебе прощаются, или: встань (у Марка: возьми постель твою) и ходи? — после чего Иисус, у синоптиков, действительно говорит больному: «встань, возьми постель твою, и иди». Четвертый евангелист не предпослал этому повелению Иисуса фразы о прощении грехов, поэтому он не приводит и указанного предварительного вопроса, но прямо формулирует повеление Иисуса, составив его по двум изречениям Иисуса, приведенным у синоптиков. При этом он придерживается первой формы, но, подобно Марку, заимствует из второй формы постель. Что в этом случае он придерживался Марка, это видно из того, что постель у обоих авторов обозначается одним и тем же характерным словом.[104] У Марка постоянно, то есть четыре раза, а у Иоанна пять раз встречается одно и то же слово «одр», которое, хотя вообще и употребляется в Новом завете, но весьма своеобразно, и, так как оно у Иоанна не встречается в других местах, а у Марка встречается часто, поэтому необходимо предположить, что Иоанн пользовался книгой Марка.
Характерным для четвертого евангелиста моментом в данном случае, как и в рассказе о слепорожденном, является то обстоятельство, что факт чудесного исцеления констатируется путем формального допроса. По словам евангелиста (5:10–14), иудеи (власти), увидев, что исцеленный несет постель свою, заявляют, что этого не следует делать в субботу; тот возражает, что сделать это разрешил ему тот человек, который чудесным образом исцелил его. Они допытываются, кто же тот человек? Он отвечает, что не знает его, так как Иисус, сотворив чудо, скрылся в толпе народа. Но потом Иисус встречает исцеленного в храме и наказывает ему не грешить: при этой встрече исцеленный, вероятно, узнал имя исцелившего его, потому что вслед за тем он сообщает иудеям, что исцеливший его называется Иисусом. В рассказе о слепорожденном допрос продолжается (хотя слепорожденный и сказал имя исцелившего его Иисуса), и к допросу привлекаются не только сам исцеленный, но и родные его, так как властям хотелось знать, от какой болезни и каким образом Иисус исцелил его, а в данном рассказе иудеи старались лишь установить тот факт, что Иисус велел нарушить закон о субботе, а потому, установив этот преступный факт, они заканчивают свой допрос, чтобы направить обвинение против Иисуса как главного виновника закононарушения. Но в этом пункте рассказ евангелиста весьма бледен и не нагляден: он говорит: «и стали Иудеи гнать Иисуса… за то, что он делал такие дела в субботу, а Иисус говорил им» и т.д. (5; 16, 17). Но «говорить», то есть возражать или отвечать, можно только на какой-нибудь вопрос, упрек или обвинение, а «гонение» (принимаемое не в буквальном чувственно-осязательном значении) есть длительный акт, от которого можно уклоняться или убегать, а не отмахиваться ответными словами. После приведенных слов Иисуса далее говорится: «и еще более искали Иудеи убить его за то» и так далее, на что Иисус им снова «отвечает», и при этом произносит пространную речь, которую иудеи, искавшие убить его, очевидно, преспокойно давали ему время и возможность произнести. Отсюда явствует, что евангелисту в данном случае было всего важнее показать, что иудеи, со слов исцеленного, признали Иисуса главным виновником нарушения закона о субботе, и, закончив на этом рассказ, он обращает уже главное внимание на речь Иисуса, которую он пристегнул к данному поводу и так неудачно мотивировал мнимым «гонением», то есть преследованием Иисуса со стороны иудеев.
Эту речь Иисуса евангелист себе наметил уже давно, тогда, когда решил отнести данное чудесное исцеление на субботу, чтобы дать повод Иисусу опровергнуть требование о бездеятельном почитании субботы и обнаружить свою вечно активную божественную природу Логоса. Поэтому в данном случае Иисус в своей речи опровергает обвинение иудеев не аргументами практического характера, не ссылкой на ослов и волов или Давида и освященные хлеба приношения, как у синоптиков (впрочем, такого рода аргументы встречаются также в четвертом евангелии, например 7:23), а аргументами метафизического характера, заявляя: «Отец Мой доныне делает, и Я делаю» (5; 17), то есть как Отец Небесный не прекращает своей творческой деятельности по субботам так и он, Иисус, подражая Отцу Небесному, не считает нужным бездействовать по субботам. Учение о беспрерывности творческой работы Бога было основной доктриной философии александрийских иудеев. Логосу, как посреднику между Богом и Вселенной, приличествовала такая же непрерывающаяся деятельность, и достоинство Иисуса, как воплотившегося Логоса, всего лучше могло быть обнаружено в данном случае, когда его противники иудеи попытались ограничить его божественную и беспредельную деятельность своими узконациональными законоположениями о субботе. Поэтому вполне правы теологи, которые утверждали, что в известном тезисе Иоаннова пролога (1; 4) «в нём (Слове, Логосе) была жизнь, и жизнь была свет человеков» — вторая половина фразы резюмирует рассказ о слепорожденном, а первая — наш, данный рассказ о расслабленном. При этом следует, однако, помнить, что сам евангелист в этих рассказах видел не только символы, но и рассказы о действительно совершившихся событиях.
Что настоящая речь Иисуса произвольно создана и придумана самим евангелистом, это явствует не только из сходства ее основной мысли с филоновой системой, но также из той антиисторической детали (для четвертого евангелиста весьма характерной), что всякий раз, как Иисус называет Бога отцом своим, иудеи неизменно воображают, что он «делает себя равным Богу» (5; 18). В действительности иудеи ничего подобного не воображали, так как не только Мессию, но и простых царей они обыкновенно титуловали «Сынами Божиими», то есть любимцами и наместниками Бога, и в подобном титуле ничего преступного не находили. Затем предположение о том, что означенная речь Иисуса придумана евангелистом, подтверждается еще и тем фактом, что многие из выражений этой речи встречаются в прологе (5; 37; 1; 18), а также и в других частях евангелия в качестве собственных выражений евангелиста (5; 32; 19; 35; 5:44; 12:43), или Крестителя (5:20; 3; 35); наконец, многие встречаются в первом послании Иоанна (ср. 5:24 и 1 Ин. 3; 14; 5; 34 и 1 Ин. 5:9; 5; 42 и 1 Ин. 2; 15; 5; 38 и 1 Ин. 1; 10; 5; 40 и 1 Ин. 5; 12). Впрочем, последнее указание, вероятно, убедительно лишь для того, кто верит, что первое Иоанново послание появилось ранее евангелия; однако же и первое указание достаточно убедительно подтверждает высказанное выше предположение об истинном происхождении речей Иоаннова Иисуса.
§73. Исцеление прокаженных и глухонемых
За хромыми в ответной речи Иисуса (Мф. 11; 5) следуют прокаженные, на очищение которых в ряду других исцелений Иисус в своем рассказе 12 апостолам (Мф. 10; 8) уполномочил своих учеников. Замечание о прокаженных Иисус не мог почерпнуть из пророчества Исаии, ибо здесь говорится только о хромых и слепых и не упоминается о прокаженных, что и понятно, так как в пророчестве шла речь о той радости, которой предастся народ израильский после окончания пленения вавилонского, забывая о пережитых страданиях и уповая на грядущее светлое будущее. Но в качестве программы мессианских чудотворений, как мы сказали выше, это изречение пророка было дополнено по другим пророческим прототипам. В легенде о пророках проказа играет очень видную роль, так как она является традиционной болезнью в Иудее и соответственно тому была отмечена также и в моисеевом законе (Левит. 13; 14). Проказа была страданием злокачественным, упорным, заразительным, она требовала полнейшей изоляции больного и, как болезнь крайне тяжкая, была вполне пригодна, чтобы фигурировать, как Божие наказание или Божие испытание (как в истории Иова), и чтобы исцеление прокаженного признавалось Божией милостью. Среди чудесных знамений, на которые Иегова уполномочивает Моисея, чтобы приобресть доверие народа, наведение и снятие проказы занимает одно из первенствующих мест (Исх. 4; 6). Иегова велит Моисею засунуть руку свою за пазуху, и, когда он вынул ее оттуда, она вся побелела от проказы, а когда он вновь засунул руку за пазуху, то она исцелилась и походила на здоровую руку. Если в данном случае Бог как бы играл чудотворением, то в других случаях он уже вполне серьезно наводил и снимал проказу. Когда Мариам, сестра Моисея, позволила себе восстать против брата, Иегова сильно разгневался на нее за это и поразил ее проказой, и только по ходатайству Аарона перед Моисеем и Моисея перед Иеговой она исцелилась от проказы после семидневной изоляции (Числ. 12; 1–15). Особенно замечательно то исцеление прокаженного, которое совершено было Елисеем; об этом исцелении в третьем евангелии (Лк. 4; 27) упоминает сам Иисус, да и вообще из истории пророка Елисея в историю Христа перешло немало различных детальных черт (4. Цар. 5; 1). Сирийский полководец Нееман, заболев проказой, просил исцеления у пророка Елисея; пророк заочно велел ему семь раз искупаться в Иордане, но полководец рассердился, вообразив, что пророк прописал ему простое омовение, и рассчитывал, что пророк сам придет к нему, призовет имя господа своего Иеговы и, возложив руки на него, снимет с него проказу, однако он послушался повеления пророка и после семи омовений в Иордане совершенно исцелился, а пророк вслед за тем перевел проказу Неемана на своего лукавого слугу Гиезия.
В данном случае мессианские упования христиан понуждали их отбросить отрицательный, карательный элемент ветхозаветных легенд о проказе, но благодетельный, спасительный элемент они полагали нужным приписать Мессии. Поэтому во всех синоптических евангелиях одним из первых больных, обращавшихся к Иисусу за исцелением, является прокаженный (Мф. 8; 2. Мк. 1:40. Лк. 5:12), который, поклонившись Иисусу в ноги, просит исцелить его, выражая убеждение, что он может очистить его, если только захочет. Иисус, простерши руку и коснувшись его, говорит ему: «хочу, очистись», и больной тотчас очистился от проказы, и притом исцелился столь радикально, что Иисус решается сказать ему, чтобы он показался священникам «во свидетельство» и принес дар, установленный законом Моисея.
Попытка объяснить этот рассказ рационалистическим предположением о том, что прокаженный уже был почти здоров и что Иисус не исцелил его, а только объявил ему о скором выздоровлении, — такая попытка не соответствует существу евангельского рассказа, а при нашей точке зрения она и не нужна. В данном случае мы имеем перед собой чистейший мессиански-пророческий миф, и он поддается не естественнонаучному, а генетическому объяснению, каковое мы и предлагаем в нашем труде.
Другой рассказ об исцелении проказы находим мы у Луки, причем разу десять прокаженных исцеляются от присущей Иисусу благодатной силы (17; 11–19). Идя в Иерусалим, Иисус проходил между Галилеей и Самарией, и, когда входил в одно селение, встретили его десять человек прокаженных, которые остановились (согласно закону) вдалеке и громко вопияли: «Иисус Наставник, помилуй нас!» Иисус в данном случае не прикоснулся к больным и даже не подозвал их к себе ближе, а прямо велел пойти и показаться священникам — и «когда они шли очистились». На этом рассказ о чуде, по-видимому, окончился, и мы сочли бы его вариантом предыдущего рассказа, хотя нас удивило, быть может, то обстоятельство, что в данном рассказе число больных сразу возросло до десяти. Но рассказ Луки на этом не кончается: из десяти исцеленных девять уходят к себе домой, а десятый возвращается к Иисусу, громким голосом прославляет Бога, падает к ногам Иисуса и благодарит его, и этот исцеленный оказывается самарянином. Ему, иноплеменнику, Иисус жалуется на то, что прочие исцелившиеся девять иудеев не вернулись воздать славу Богу за свое исцеление, и затем отпускает самарянина, сказав ему: «иди, вера твоя спасла тебя» (Лк. 17:19).
В этом замечательном эпизоде нельзя не видеть подражание рассказу о Елисее и Неемане, который был оставлен без внимания в предыдущем рассказе об исцелении прокаженного. Нееман после своего исцеления тоже вернулся к пророку, чтобы поблагодарить его и заявить, что «на всей земле нет Бога, как только у Израиля», и Нееман был тоже иноплеменником, как в данном случае самарянин. Недаром сам Иисус в Евангелии от Луки (4:27) заявляет: «Было много прокаженных во Израиле при пророке Елисее, и ни один из них не очистился кроме Неемана сириянина», то есть совершенно так же, как в данном случае из десяти исцеленных никто не оказался благодарным и достойным исцеления, кроме одного — самарянина. Неемана пророк Елисей отпускает, не приняв от него даров и сказав ему: «иди с миром». Вместо того Иисус напутствует благодарного самарянина фразой, которой вообще заканчиваются рассказы о чудесных исцелениях: «иди, вера твоя спасла тебя». Нетрудно заметить, что эта формула напутствия, вполне уместная в рассказе об исцелении кровоточивой женщины (Лк. 8; 48) или Иерихонского слепого (Лк. 18; 42), в данном случае была неуместна. В самом деле, если самарянин исцелился вследствие веры, изъявленной им при возвращении к Иисусу, то вследствие чего же исцелились прочие больные, которые подобной веры не изъявили? Стало быть, заключительная речь Иисуса взята и приписана евангелистом в форме вопроса: «как они (десять исцеленных) не возвратились воздать славу Богу, кроме сего иноплеменника?» — и которую Иисус в притче о милосердном самарянине (Лк. 10; 36) формулировал иным вопросом: «кто из этих троих… был ближний попавшемуся разбойникам?», причем и в этом случае ближним оказывается милосердный иноплеменник.
С этой притчей, характеризующей Евангелие от Луки, имеет большое сходство данный рассказ, тоже приведенный лишь одним Лукой; и притча и рассказ входят в состав той серии самарянских рассказов, которая стоит в тесной связи с общей тенденцией Евангелия от Луки. В одном случае самарянин является единственным благодарным из десяти исцеленных, а в другом — самарянин же является единственным милосердым из трех действующих лиц, а неблагодарными немилосердными в обоих случаях оказываются настоящие и правоверные иудеи. Числа десять и три суть числа круглые, для притчи весьма пригодные, и потому число десять мы встречаем неоднократно, например в притче о десяти девах (Мф. 25; 1). Мы не думаем, чтобы данный рассказ, как и рассказ о милосердом самарянине, первоначально представлял собой притчу Иисуса, впоследствии принятую за исторический рассказ. Если кто-то в целях назидания рассказывает что-нибудь о другом лице, например о некоем царе, деятеле, путнике, который, в свою очередь, упоминает о каком-либо третьем лице, хотя бы и поименованном, например о Лазаре, то такой рассказ нетрудно признать притчей; но если рассказчик повествует о самом себе, то всякий склонен, естественно, предположить, что он рассказывает о действительном происшествии; в противном случае необходимо предположить, что он нецелесообразно построил свой рассказ или обманывает слушателя. Ни в том ни в другом мы не можем обвинить Иисуса, а потому и данный рассказ приходится считать произведением позднейшего автора, которому захотелось вложить в старинную мессианско-пророческую тему об исцелении прокаженного иной, благоприятный для язычников смысл и который при этом исходил из притчи о милосердом самарянине или, быть может, сам же и составил эту притчу.
О чудесах данной категории четвертое евангелие умалчивает: о прокаженных в нём нигде не говорится. Причина этого, вероятно, заключалась в том, что в чистоплотном греческом населении Малой Азии, среди которого вращался автор четвертого евангелия, такого рода болезни встречались реже, чем среди иудеев Палестины; притом проказу было труднее символизировать, чем слепоту и расслабленность, которым легко было противопоставить свет и мрак или жизнь и смерть.
То же самое следует сказать о глухих, которые в ответе Иисуса, отосланном Крестителю, занимают следующее, четвертое место. В изречении Исаии, из которого они заимствованы, кроме глухих говорится также о немых; в греческом переводе евангелия одним и тем же словом обозначаются глухие и немые (глухонемые), и потому мы замечаем следующее явление: Матфей и Лука, в ответе Иисуса, отмечают, что Иисус исцелял глухих, а в других рассказах о чудесах Иисуса они свидетельствуют, что Иисус исцелял немых; только у Марка упоминается о глухонемых два раза: в одном оригинальном рассказе о чудесном исцелении и в другом рассказе, соответствующем рассказу остальных синоптиков об исцелении бесноватых.
Первые два рассказа представляются у Матфея дублетом. В одном (9; 32) говорится о том, что к Иисусу привели немого бесноватого, который стал говорить, когда бес из него был изгнан, и что народ по этому случаю дивился, говоря: «никогда не бывало такого явления в Израиле», а фарисеи говорили: «он прогоняет бесов силой князя бесовского». В другом рассказе (12; 22. Ср. Лк. 11; 14) говорится о том, что привели к Иисусу бесноватого слепого и немого, которого Иисус исцелил так, что он стал говорить и видеть, и что народ дивился, говоря: «не это ли Христос, сын Давидов», а фарисеи говорили: «он изгоняет бесов силой вельзевула, князя бесовского». Сравнение обоих рассказов показывает, что автор первого евангелия в одном из своих источников нашел рассказ об исцелении бесноватого немого, а в другом — рассказ об исцелении бесноватого слепого (а таких рассказов было много в обращении), и, считая, что в обоих рассказах идет речь о разных происшествиях, он и включил их в свое евангелие, один после другого. Лука же не разобрался в истинном соотношении рассказов, но всё же признал излишним включать в свое евангелие два сходных по существу рассказа. Что немые считались бесноватыми, это при всеобщей вере в демонов (бесов) было вполне натурально, так как немым свойственны непонятные, загадочные и ужасающие жесты. Менее понятна мнимая бесноватость слепых; однако если принять во внимание то обстоятельство, что бесноватыми считались все душевнобольные вообще и в том числе такие, которые страдали «корчей», то мы не удивимся, что влиянию злых демонов (бесов) приписывалась также слепота. Иное следует сказать о таком больном, которого Матфей называет лунатиком, но (как Лука) изображает бесноватым, и которого один лишь Марк признаёт вместе с тем глухонемым (9; 17, 25). Этот больной принадлежал к числу тех, которых не могли исцелить ученики Иисуса, и потому пришлось исцелять его самому Иисусу, и это обстоятельство показывает, что Марк, исходя, быть может, от бесноватого немого, представленного у Матфея, вздумал путем нагромождения нескольких болезней представить данный случай особенно сложным и данного больного трудно излечимым.
Марк в данном случае с явным удовольствием описывает состояние больного и сцену встречи его отца с Иисусом (об этом мы подробнее будем говорить ниже), но рассказ о косноязычном глухом (7; 32), как и рассказ об исцелении слепого около Вифсаиды (8:22), является типичным и классическим рассказом о чудесах во вкусе Марка. Тут Иисус таинственно отводит больного «в сторону от народа» и в заключение запрещает ему разглашать о совершенном над ним чуде; затем евангелист сообщает, каким именно словом (еффафа отверзись) Иисус повелел ушам и языку больного разрешиться, и так как это слово арамейское, которое сам евангелист счел нужным перевести для своих читателей, то своей странностью оно производит даже впечатление волшебного заклятия. Здесь постепенный ход исцелений не описан так, как он описан в рассказе об исцелении слепого, зато весьма подробно указана вся манипуляция Иисуса ввиду двоякого характера болезни, подлежавшей исцелению: плюновением (слюной), которым в рассказе о слепом Иисус смазал глаза больного, здесь он смазывает язык пациента, а в уши его влагает персты свои; затем он возводит очи к небесам и, вздохнув, говорит: еффафа. Все эти детали вносят момент аффекта в изображаемую сцену, какой мы вновь находим лишь в словах четвертого евангелиста о воскрешении Лазаря. В конце рассказа народ чрезвычайно удивлен и говорит: «Он (Иисус) всё хорошо творит: глухим он возвращает слух, а немым — дар слова». Смысл этого замечания тот, что Иисус творил всё то, что надлежало творить Мессии по разуму и букве соответствующих пророчеств, и что он, стало быть, и должен был творить, раз его признали Мессией по тем или иным основаниям.
§74. Исцеление бесноватых
Следуя тому порядку, в котором Иисус перечислял в своем ответе Крестителю сотворенные им чудеса, мы должны были бы рассмотреть теперь воскрешение мертвых. Однако Иисусу приписаны многие иные чудесные исцеления, которых в своей речи он не отмечает и которые нам теперь предстоит рассмотреть подробнее.
На первом месте среди таких чудес стоит изгнание бесов, о котором Иисус не упоминает вовсе, так как в своей речи перечислял лишь чудеса, которые надлежало сотворить Мессии согласно предсказаниям и прообразам ветхозаветных пророков, а в те времена еще не встречалось бесноватых. Мы говорили уже выше, что из всех видов исцеления, приписанных евангелистами Иисусу, наиболее естественным и исторически правдоподобным представляется исцеление людей, одержимых бесом, и что бесноватые, наверно, встречались среди больных, исцеленных Иисусом. Однако же из этого не следует, что евангельские рассказы о такого рода исцелениях суть рассказы исторически точные; наоборот, ни об одном из этих исцелений мы не можем заявить, что оно мыслимо с естественной точки зрения и совершилось именно так, как изображено в евангелии; да и было бы странно, если бы представление о личном присутствии злых духов и о столкновении их с Мессией не возбуждало Фантазии и не отражалось на обработке соответствующих сказаний. Кроме суммарных указаний, что Иисус или ученики его изгоняли бесов (по первому пункту см. Мф. 4; 24; 8; 16. Мк. 1; 34; 3:11. Лк. 4:41; 6:18. По второму пункту см. Мф. 10:1, 8. Мк. 3:15; 6:7, 13. Лк. 9:1; 10:17), и кроме рассказов, в которых бесноватость играет второстепенную роль в качестве причины других болезней (как в рассказах о немых и немых слепцах) или в которых сами больные отступают на задний план, так как они исцеляются вдали (как в рассказе о бесноватой дочери хананеянки), в синоптических евангелиях мы находим три случая такого рода, в коих первый представляется в рассказе случаем простым, а второй и третий — случаями трудными и сложными.
Уже в суммарных указаниях Лука и Марк особенно подчеркивают то обстоятельство, что демоны, обретавшиеся в бесноватых, признавали Иисуса Мессией. Марк говорит (3; 11, ср. Лк. 4:41), что духи нечистые, завидев Иисуса, падали перед ним и кричали: «ты сын Божий!», но Иисус, когда им позволял кричать (Мк. 1:34), всё-таки строго воспрещал им «делать его известным». Мессии предстояло некогда предать их, вместе с их главой, сатаной, проклятию вечному и погибели (Мф. 8; 29; 25:41. Мк. 1:24. Лк. 4:34. Откр. 20:1, 10), а потому бесы должны были отлично знать его и, по свойственной им прозорливости, они, наверно, не приняли бы за Мессию того, кто им не был; стало быть, если они признали Мессию в Иисусе, то это, с точки зрения иудейских народных представлений, служило доказательством того, что он, Иисус, действительно был Мессией. Вместе с тем в рассказе вырисовывался весьма эффектный контраст: в то время как Иисус тщетно старался уверить соплеменников, что он Мессия, на проницательных бесов ему приходилось даже налагать строжайшее запрещение, чтобы они не оглашали его Мессией свыше той меры, которая ему подсказывалась его скромностью. Но мы видим в бесноватых простых больных, страдающих естественным недугом, а потому не можем приписать им необычайную прозорливость, дававшую возможность разгадать сокровенную сущность Иисуса, то есть мы не можем, подобно евангелистам, предполагать, что такие люди при первом взгляде на Иисуса признавали в нём Мессию, не зная никаких подробностей о нём; и в случаях такого предугадывания мы должны предположить наличие каких-либо предшествующих актов, которые естественным путем и наводили больных на мысль о мессианстве Иисуса.
Такого рода поясняющие факты находим мы в евангельском рассказе о бесноватом, явившемся в синагогу капернаумскую (Мк. 1:21–28; Лк. 4:31–34). Здесь в синагоге, по словам евангелиста, Иисус учил «как власть имеющий, а не как книжник», и народ дивился его учению; поэтому под сильным впечатлением слышанного человек, «одержимый Духом нечистым», находясь там же, в синагоге, мог прийти в сильное возбуждение и в припадке истерии мог воскликнуть по адресу лица, приведшего его в такое тягостное «беснование»: «Оставь, что тебе до нас, Иисус Назорянин? Ты пришел погубить нас». Но евангелисты, разумеется, не связали причинного момента со следствием; они изобразили дело так, что демон (бес), обретавшийся в больном, сам от себя признал в Иисусе «божьего святого», а потому и в том случае, если бы Иисус сначала не говорил своей проповеди, он, демон, всё равно признал бы его тем, что он есть. Бесноватый, или бес, в нём обретавшийся, по словам евангелиста, признал в Иисусе не пророка, а «божьего святого» то есть Мессию, но эта подробность была немыслима в начальной стадии деятельности Иисуса, так как, согласно более правдоподобному преданию, даже и приближенные ученики Иисуса стали считать его Мессией значительно позднее; следовательно, в данном рассказе бесноватый величает Иисуса либо слишком преувеличенным титулом, либо слишком преждевременно. Тем впечатлением, которое произвел на больного Иисус своей проповедью, своей личностью и славой, приобретенной им в данной местности, вполне натурально объясняется и тот эффект, которого он достиг в данном случае, по свидетельству евангелистов. Даже если бесноватый признавал в нём лишь пророка, то и в таком случае он должен был, согласно иудейским представлениям, признавать, что этот пророк обладает высшей от Бога дарованной силой для борьбы против силы злого духа и всей державы бесовской; а если Иисус (как повествует евангелие) велел «духу нечистому» замолчать и выйти из бесноватого больного, то дух, сотрясши тело больного и вскричав громким голосом, действительно вышел из него (Мк. 1:26), то эта деталь тоже становится для нас понятной: Иисус использовал то мнение, которое о нём составилось в больном, и последний по слову «божьего святого» и пророка выздоровел после припадка сильных истерических конвульсий. Вполне ли и навсегда ли он исцелился, об этом евангелист не сообщает ничего ни в данном случае, ни в других аналогичных случаях: однако же возможно допустить, что подобные заболевания под влиянием психического воздействия (внушения) исцелялись на продолжительное время.
Иное следует заметить о том рассказе, который имеется во всех синоптических евангелиях и в котором идет речь о «пещерных» бесноватых страны Гергесинской или Гадаринской (Мф. 8:28. Мк. 5:1. Лк. 8:26). Этот рассказ представляется классически типичным евангельским рассказом о бесноватых, он щедро изукрашен фантастической, совершенно невозможной небылицей, производящей потрясающее впечатление на известный круг читателей. Правда, относительно деталей все три синоптических рассказа значительно разнятся между собой; черты, отмеченные у Марка и Луки, отсутствуют у Матфея, который повествует о двух бесноватых, тогда как у двух прочих синоптиков говорится об одном. Такие отступления в Матфеевом рассказе некоторыми истолковывались в неблагоприятном для Матфея смысле: его рассказ считали неудачным сколком с полузабытого и искаженного сказания, в котором первоначально говорилось о присутствии нескольких бесов в одном больном и которое под руками евангелиста превратилось в рассказ о нескольких бесноватых. Впрочем, с таким же основанием можно допустить и то, что именно в позднейших повестях стал фигурировать один больной, чтобы рельефнее представить присутствие нескольких бесов в одном лице. Во всяком случае, рассказ Матфея во всех отношениях гораздо проще рассказа остальных синоптиков. Матфей описывает характер пещерных бесноватых очень кратко; он говорит, что бесноватые, вышедшие из пещер могильных, были «весьма свирепы, так что никто не смел проходить тем путем» (Мф. 8:28), и этими немногими словами он обрисовал их не менее рельефно, чем Марк своим пространным описанием (по словам Марка, 5:3–6, пещерный бесноватый «имел жилище в гробах, и никто не мог его связать даже цепями, ибо он разрывал налагаемые цепи и разбивал оковы, и никто не мог укротить его, и всегда, днем и ночью, в горах и гробах, кричал и бился о камни»). Речь, с которой бесноватые обращаются к Иисусу, у всех трех евангелистов сформулирована по существу, совершенно так же, как и в предыдущем рассказе о бесноватом: все они вопрошают Иисуса, чего он от них хочет, и просят его оставить и не мучить их «до времени». Но такая просьба, конечно, правдоподобнее в устах того бесноватого, к которому подошел сам Иисус (как говорится у Матфея), чем в устах того бесноватого, который «прибежал издалека» к мучившему его Иисусу (как повествуется у Марка) Эту несообразность, по-видимому, заметил даже сам Марк, и как бы попытался сам исправить промах, поясняя дополнительно, что Иисус перед речью бесноватого уже повелел духу нечистому выйти из него. Однако это пояснение не исправляет промаха, ибо спрашивается: когда и как успел Иисус отдать приказ свой, если бесноватый еще находился вдалеке и не успел подбежать к нему? Конечно, рассказ Матфея более правдоподобен лишь с точки зрения чудотворства, ибо немыслимо, чтобы бесноватый (душевнобольной человек), проживавший на противоположном, не галилейском берегу озера, где Иисус не был еще известен мог с первого взгляда признать его Мессией. В Матфеевом евангелии не указано сколько, и вообще много ли бесов заключалось в каждом бесноватом. Во втором и третьем евангелиях говорится, что Иисус спросил бесноватого: как тебе имя? — и бесноватый ему ответил: «Легион имя мне, ибо нас много». Но диалог этот, очевидно, добавлен самими евангелистами и, видимо, умозаключен ими из замечания Матфеева рассказа о том, что бесы (обитавшие в двух гергесинских бесноватых) просили Иисуса послать их в стадо свиней, если он выгонит их из бесноватых людей; оба евангелиста отсюда заключили, что многочисленности свиного стада соответствовало множество бесов, и потому в своем рассказе число бесов, обитавших в бесноватом, определили словом «легион».
Рассказ о том, как бесы вошли в свиней по выходе своем из человека, весьма смущал даже наиболее доверчивых и правоверных толкователей писания. Даже те, которые допускали, что в человеческую душу может вселиться бес, не допускали этой мысли относительно души животного или, по крайней мере, выражали удивление по поводу столь непоследовательного и противоречивого образа мыслей и деяний «духов нечистых». В самом деле, евангельские бесы не хотят «до времени» ни попасть в ад кромешный, ни быть «высланными из страны» и потому просят Иисуса позволить им войти в свиней, но, получив желаемое разрешение и войдя в свиней, они почему-то тотчас бросаются в море и там со всем стадом свиным погибают. Надо полагать, что подлинные бесы не поступили бы так глупо. Поэтому необходимо допустить, что данное противоречие возникло вследствие того, что евангельский рассказ был составлен по легендам, которые сложились для различных целей и под различным углом зрения. Евангелисты задавались мыслью — представить классический пример чудесного изгнания бесов из одержимого ими человека и потому рассказывают, что бесы, покинув человека, переселились в другое обиталище, но самым подходящим обиталищем для «духов нечистых» представлялось «нечистое» животное, свинья, и так как свиней в стаде было много, то, стало быть, бесов было и должно быть тоже много, и, таким образом, рассказ всё более и более проникался элементом преувеличения. Просьба бесов о том, чтобы им было дозволено войти в свиное стадо, объясняется представлением иудеев о том, что подобные существа предпочитают жить паразитами, хотя бы и в зверином теле, чем бестелесными, бесплотными духами бродить в пустыне или обитать в аду. Но спрашивается: как убедить читателя в том, что бесы, покинувшие человека, действительно вошли в свиней? Говорить по-человечески они уже не могли бы, ибо они вошли в свиней; проявить себя конвульсиями и корчей они тоже не могли, ибо свиньи и без того нередко производят загадочные и странные телодвижения, и потому такого рода проявление бесов было бы не доказательно. Поэтому евангелистам оставался один выход: заставить свиней непроизвольно и вопреки инстинкту самосохранения сделать то, чего они не стали бы делать добровольно, то есть взбеситься под влиянием бесов и, бросившись в море, там погибнуть. Такой исход мог показаться тем более естественным и нормальным, что он вполне соответствовал предполагаемому нраву «злых духов», то есть бесов. О подобных изгнаниях бесов во времена евангелистов существовало вообще немало всяких рассказов. Иосиф Флавий рассказывает об одном иудейском заклинателе следующий анекдот.[223] Некий волшебник при помощи заклятого кольца и волшебных изречений Соломона извлекает бесов из носа бесноватых, и, чтобы убедить присутствующих лиц в том, что злой дух действительно покинул тело бесноватого, он ставил возле больного кувшин с водой и приказывал бесу опрокинуть занятый им сосуд, и бес приказание это исполнял в точности. При этом Иосиф уверяет, что сам был очевидцем такого исцеления бесноватых, хотя он лично усматривал в подобных исцелениях доказательство несравненной премудрости любезного ему Соломона. Нечто подобное рассказывает и Филострат об Аполлонии Тианском.[224] Последний, говорит он, велел бесу, обитавшему в одном юноше, выйти из него зримым для всех образом, и бес сам предложил опрокинуть статую, стоявшую поблизости; и статуя, к изумлению присутствующих, действительно опрокинулась в тот момент, когда бес выходил из тела юноши. Но если тот или иной предмет (кувшин, статуя), как говорится в этих двух рассказах, стоял поблизости, то чудо, отмечаемое в них, нетрудно было объяснить обманом. Но мыслимо ли предполагать обман в том случае, когда предмет, в котором поселились бесы (как, например, свиное стадо у Матфея), находился вдалеке?
Рассказ Матфея о взбесившемся стаде свиней заканчивается замечанием, что пастухи (свинопасы) побежали в город и рассказали жителям о бедствии, постигшем свиней, и что горожане, выйдя навстречу Иисусу, оказавшемуся столь неудобным для них чудотворцем, попросили его, в ограждение своих материальных интересов, чтобы он «отошел от пределов их» и ареной подвигов избрал себе другую местность. Об этом эпизоде упоминают и другие два синоптика, но у них находим мы еще одно, добавочное замечание: описав наружность бесноватого, исцеленного Иисусом (он был одет, и в здравом уме, и сидел у ног Иисуса), евангелисты сообщают дальше, что Иисус сел в лодку, чтобы вернуться на свой берег озера, но исцеленный бесноватый попросил позволения поехать вместе с ним, а Иисус велел ему идти домой к своим и рассказать им, «что сотворил над ним Господь и как помиловал его» (Мк. 5:15–20). Этот добавочный эпизод, а затем и весь данный рассказ евангелиста вообще некоторым новейшим критикам показался аллегорией: в исцеленном бесноватом, здравомысленно и скромно сидящем у ног Иисуса, они усмотрели указание на обращенный к Христу языческий мир, тем более что бесноватый был обитателем страны Гадаринской, то есть области, почти сплошь заселенной язычниками; затем в легионе бесов критики усмотрели намек на легион (множество) языческих богов, на которых древнейшие христиане смотрели как на бесов (1 кор. 10:20); в изъявленном бесами желании войти в свиней критики увидели намек на нравственную нечистоплотность язычества, и, наконец, в том обстоятельстве, что Иисус не принял и не ввел в коллегию 12 апостолов исцеленного им бесноватого-язычника и, наоборот, велел ему рассказать своим родным и соплеменникам язычникам, «что сотворил над ним Господь и как помиловал его», критики усмотрели намек на то, что сам Иисус учредил особое апостольство языческое и желал, чтобы евангелие возвещалось язычникам отдельно от иудеев. В данном случае такое толкование действительно правдоподобно, но остается лишь простой догадкой, а как легко дойти до крайностей на почве произвольных догадок и предположений, это мы видим из того, что те же критики вообразили, что тщетное накладывание оков и цепей на бесноватого знаменует будто бы тщету и бессилие языческих законов в деле насаждения в народах благонравия и нравственности.
Третий из вышеотмеченных рассказов о чудесных исцелениях (Мф. 17:18; Мк. 9:14; Лк. 9:37), именно рассказ о беснующемся лунатике, изложен у Матфея проще всего и имеет целью подчеркнуть чудесный характер данного исцеления не столько указанием на сложность данного страдания, сколько указанием на то, что в данном случае исцеление, непосильное для учеников Иисуса, было легко и быстро произведено самим Иисусом. Такое сопоставление и соизмерение сил учителя и учеников встречается также в еврейской легенде о пророках. Елисей, столь многократно служивший уже прообразом для рассказов об Иисусе, послал слугу своего, Гиезия, к знакомой сонамитянке воскресить скоропостижно умершего сына ее и дал слуге для этой цели свой посох; и хотя Гиезий возлагал на покойника посох пророка, но покойник не воскресал; тогда пророку самому пришлось пойти в дом сонамитянки, и после некоторых усилий ему удалось воскресить умершего (4 Цар. 4; 8; 20–37). Эта тема была разработана евангелистами применительно к чудотворениям Иисуса с тою лишь разницей, что вместо умершего отрока, сына сонамитянки, евангельский рассказ выдвинул беснующегося лунатика и подчеркнул то обстоятельство, что Иисусу достаточно «запретить» или пригрозить бесу, чтобы последний вышел из лунатика, тогда как Елисею пришлось долго молиться и простираться над умершим отроком, чтобы воскресить его из мертвых. Евангелисты отмечают, что лунатика ученики Иисуса не в силах были исцелить, и Матфей объясняет этот факт их «неверием», тогда как Марк упрекнул в неверии отца больного отрока и по этому случаю создал даже целый диалог между Иисусом и отцом больного. Кроме неверия Матфей отмечает также другую причину безуспешности усилий учеников; он говорит устами Иисуса, что «сей род бесов изгоняется лишь молитвой и постом» (Мф. 17:21). Последнее замечание, собственно, не вяжется с замечанием о неверии, ибо если данный род бесов можно изгнать лишь молитвой и постом, то, стало быть, неверие тут ни при чем, и единой верой нельзя Достичь намеченной цели. Поэтому Лука весьма благоразумно и тактично опустил фразу о неверии учеников и ограничился «молитвой и постом». Матфей, по-видимому, захотел в данном случае сопоставить, без ущерба для дела Иисусова, различные попытки объяснить неудачу и безуспешность тех изгнаний бесов, которые, вероятно, производились часто в общинах христиан. Необходимо было показать, что даже ученикам Иисуса не удавалось исцелять больных данной категории, и объяснить причину такой неудачи; поэтому симптомы, данного страдания Лука описывает подробнее Матфея, а Марк, сверх того, сильно осложняет страдание лунатика, уверяя, что больной был также глух и нем и страдал всеми своими недугами с младенчества. Из описания евангелистов видно, что больной этот страдал упорной формой эпилепсии (падучей) и невозможно предполагать, чтобы болезнь эта прошла у него сразу и навсегда от единого простого слова, хотя бы оно было сказано Иисусом, лицом авторитетным и внушавшим полное доверие больным: однако вполне мыслимо и то, что в менее трудных и сложных случаях подобного заболевания Иисусу удавалось достичь желаемых результатов, в то время как усилия учеников его оставались безуспешными.
Выше уже было сказано, что в четвертом евангелии вовсе отсутствуют чудесные исцеления Иисусом бесноватых. Правда, такие выражения как «бес», «бесовский», встречаются и здесь, но смысл, вложенный в них евангелистом, соответствует смыслу антично-греческого слова «демон» а беснование или бесноватость евангелист прямо отождествляет с безумием или сумасшествием (10:20). Когда в праздник Кущей Иисус вопрошал иудеев: «за что ищете убить меня?» — народ ему ответил: «не бес ли в тебе? Кто ищет убить тебя?» (Ин. 7:19), то есть народ возражал ему, что он «выдумывает» или подвержен мании преследования. Точно так же у Матфея (12:18) и Луки (7:33) говорится, что так как Иоанн Креститель «не ел и не пил», поэтому о нём стали распускать слух, что «в нём бес». Наконец, когда Иисус стал говорить иудеям: «кто от Бога, тот слышит слова Божии, а вы потому не слышите, что не от Бога, и кто соблюдет слово мое, тот не увидит смерти вовек», — иудеи опять заметили ему: «в тебе бес» (Ин. 8:48, 52), то есть сочли речь его нелепостью. Правда, в антично-греческом языке слово «демон» употреблялось не только иносказательно, но для прямого указания на то, что данное лицо находится во власти демона. Так точно в Евангелии от Иоанна (10:21) лучшая часть народа иудейского на замечание противников о том, что Иисус одержим бесом и безумствует, возражала: «Это не слова бесноватого, может ли бес отверзать очи слепым?» Но все эти речи о бесах еще не свидетельствуют о том, что лица, говорящие о бесе, считают беса (демона) причиной таких болезней, как слепота, немота и пр., или таких специфических заболеваний, как «бесноватость» в узком смысле слова. Такое представление отсутствует в четвертом евангелии, в котором мы поэтому и не находим ни суммарных, ни более подробных рассказов об исцелении Иисусом «бесноватых».
Это обстоятельство в свое время ставилось в заслугу Иоанну. Представление о бесноватости или одержимости бесами, столь характерное для библейского миросозерцания, вообще не мирится с идеями новейшего просвещения, и люди образованные были обрадованы тем, что у «любимого» ученика Иисуса такого нелепого и вульгарного представления не оказалось. Действительно, у Иоанна мы не находим ни такого представления, ни рассказов, отражающих его; но было бы лучше, если бы у него нашлись такие рассказы о бесноватых, какие мы находим у синоптиков, и если бы он осветил их иначе, то есть рациональнее, чем синоптики. Но у него таких рассказов нет, и это обстоятельство весьма прискорбно, так как, по имеющимся у нас сведениям, в тех областях, где развертывались события евангельской истории, бесноватость была своего рода «модной» болезнью. Во всех произведениях и трудах иудейских, христианских и даже греческих (языческих) писателей, начиная с Иосифа Флавия и кончая Юстином Мучеником и Филостратом, встречаются рассказы о бесноватых и их исцелении. Поэтому исторически правдоподобно замечание первых трех евангелистов, что к Иисусу приводили «много бесноватых»; и так как в этой болезни огромную роль играло воображение поэтому вполне вероятно, что эта форма заболевания скорее и легче исцелялась от «слова» (внушения) Иисуса, чем какая-нибудь иная болезнь. Тот факт, что именно о бесноватых и их исцелении умалчивает четвертый евангелист, свидетельствует, что он не был ни очевидцем жизни и деяний Иисуса, ни даже его соотечественником и сам не жил в ближайшую к Иисусу эпоху.
Насколько это обстоятельство опасно для четвертого евангелия, в последнее время едва ли не лучше других понял Эвальд. Он совершенно справедливо признаёт, что синоптические рассказы о бесноватых содержат вполне исторический элемент, и замечает, что поскольку элемент этот отсутствует в четвертом евангелии, постольку и само евангелие не может считаться историческим произведением. Отсюда логически следует, что так как означенный элемент действительно отсутствует в четвертом евангелии, то, стало быть, оно не есть и историческое произведение. Однако Эвальд рассуждает иначе; он говорит, что исторический элемент отсутствует в четвертом евангелии теперь, но не отсутствовал первоначально, что между пятой и шестой главой евангелия когда-то вставлена была глава, в которой содержался рассказ об исцелении бесноватых и которая потерялась и не дошла до нас. Однако же мы, грешные и маленькие люди, не дерзаем на крылах воображения залетать столь высоко, как вышеназванный Гёттингенский ясновидец, и потому мы скромно заявляем, что если четвертый евангелист не повествует об изгнании бесов, то, стало быть, он не слыхал о подобных происшествиях либо игнорировал их совершенно. Если он не слыхал о них, то это еще не значит, что такого рода происшествия не случались вовсе вопреки правдоподобному свидетельству синоптических евангелий это значит только то, что о фактах означенного рода ему не было известно. Но такое предположение совершенно неправдоподобно, если четвертым евангелистом был апостол Иоанн; оно неправдоподобно также и в том случае, если четвертому евангелисту были известны синоптические или им подобные евангелия, в которых исцеление бесноватых играет видную роль. Но синоптические евангелия ему были фактически известны, и, стало быть, ему были известны также и рассказы синоптиков-евангелистов об исцелении бесноватых, и если тем не менее он умалчивает о таких рассказах, то, стало быть, он предумышленно и нарочно их игнорировал. Баур предполагает, что четвертый евангелист не сумел использовать означенные рассказы в интересе усвоенного им взгляда на чудеса Иисуса как на доказательство того, что он по существу своему был Логосом, Словом Божиим. Однако же в четвертом евангелии проводится везде дуалистическая мысль о взаимной противоположности и борьбе света и тьмы, и в нём было бы вполне уместно представление о бесноватости и ее исцелении Христом, если бы такое представление вообще нравилось евангелисту и той публике, для которой он писал евангелие. В этом отношении Кестлин указывает на то, что вера в бесноватость и в то, что Мессия сильнее демонов (бесов), свойственна была иудеям и иудео-христианам, вследствие чего апостол Павел, перечисляя присвоенные Коринфской церкви Дары Святого Духа, вовсе не упоминает о даре изгнания бесов (1 Кор. 12:10, 28), тогда как автор третьего евангелия и Деяний апостолов сильно подчеркивает эту сторону деятельности Иисуса и тем обнаруживает присущий ему иудаизм. Ко всему этому необходимо еще добавить, что, по замечанию Бретшнейдера, во II веке по Р.X. мнимое исцеление бесноватых путем заклинания бесов было столь обычным явлением, что указание на то, что бесноватых исцелял сам Иисус уже не могло считаться доказательством высшей природы Христа ни среди простолюдинов, ни тем менее среди образованного греческого общества. Словом, говорить о демонах (бесах) и их изгнании уже считалось неуместным, «дурным тоном» в той среде и в ту эпоху, для которых составлялось четвертое евангелие. По свидетельству Лукиана, такого рода исцеления, благодаря кудесникам и разным обманщикам, были настолько уже дискредитированы, что четвертый евангелист признал за лучшее совершенно умолчать о том, что Иисус тоже исцелял когда-то бесноватых.
§75. Непроизвольные исцеления и исцеление отсутствующих больных
В основу нашего изложения мы полагали разделение болезней по их роду, но мы могли бы разделить чудесные исцеления Иисуса также по способу их совершения; можно было бы начать с таких исцелений, при которых Иисус пользовался каким-либо материальным пособием, вроде «плюновения» или «брения», и затем перейти к таким исцелениям, при которых он касался рукой больных, и, наконец, к таким, при которых больные исцелялись от единого слова. Далее, в этой последней группе исцелений можно было бы различать две категории: исцеления лично присутствующих больных и исцеления больных отсутствующих. Кроме всех упомянутых форм исцеления, при которых основной причиной излечения предполагается определенный, единичный акт воли Иисуса, можно было бы отметить также такие случаи, когда больные сами касались Иисуса и через то получали исцеление как бы независимо от воли или желания Иисуса. Все до сих пор рассмотренные нами чудеса Иисуса принадлежат к категории сознательных и преднамеренных исцелений лично присутствующих больных, которые исцелялись от применения материальных пособий, либо от прикосновения рукой, либо от слова Иисуса, а об исцелениях непроизвольных и об исцелении лично отсутствующих больных мы еще не говорили.
Судя по общим указаниям синоптиков-евангелистов (Мф. 14:36. Мк. 6:56), многие больные или их родственники просили Иисуса позволить им коснуться его одежды, надеясь исцелиться даже при одном прикосновении, и если Иисус, как надо полагать, им в этом не отказывал, то отрицать в подобных случаях наличие определенной воли к исцелению со стороны Иисуса не приходится. Но если больные (Мк. 3:10. Лк. 6:19) самовольно хватались за одежду Иисуса и даже дерзновенно набрасывались на него, то мы не знаем, успевал ли он в каждом отдельном случае обращать свое специальное внимание и волю на таких назойливых просителей. Лишь из рассказа о кровоточивой женщине, историю которой все три синоптика переплетают с воскрешением дщери Иаира, мы узнаем доподлинно, что исцеление совершилось, прежде чем Иисус узнал, кто именно воспользовался исходящей от него целебной силой (Мф. 9:20. Мк. 5:25. Лк. 8:43).
При этом между тремя повествователями замечаются отличия и уклонения, в которых отражается рост мифа и прогрессивное огрубение понятия чудесного. Матфей в указанных общих сообщениях заявляет (14:36), что все больные просили Иисуса, чтобы он позволил только прикоснуться к краю одежды его, и кто прикасался, тот исцелялся. Лука же заявляет (6:19), что народ стремился прикоснуться к нему, потому что от него исходила сила и исцеляла всех. По-видимому, то и другое я явление по существу тождественны, если Матфей тоже приписывал исцеление влиянию не силы воображения самих больных, а чудотворной силы, присущей Иисусу. Тем не менее нельзя не заметить того, что Матфей выражается гораздо осторожнее и неопределеннее, чем Лука, в заявлении которого замечается больше грубости и чувственности. Такое же отличие заметно и в деталях рассказа обоих евангелистов о кровоточивой женщине, причем Марк, разумеется, становится на сторону Луки и дополняет рассказ его некоторыми подробностями собственного изделия. По словам Матфея (9:18), Иисус шел с учениками к дому начальника иудейского, чтобы воскресить только что умершую дочь последнего; на пути подошла к нему сзади женщина, 12 лет страдавшая кровотечением, и прикоснулась к краю одежды Иисуса, твердо веруя в то, что она выздоровеет, если хоть дотронется до одежды Иисуса; в это время Иисус обернулся и, увидев женщину, сказал ей: «Дерзай, дщерь! Вера твоя спасла тебя», и женщина «с того часа стала здорова». В этом эпизоде всё достаточно правдоподобно, кроме замечания евангелиста об особом характере и продолжительности болезни женщины. Вполне возможно, что больная с беззаветной верой прикоснулась к Иисусу и вследствие того почувствовала облегчение, тем более что Иисус обратился к ней со словом ласки и успокоения. Правда, причиной выздоровления этой женщины евангелист считает сверхъестественную целебную силу, присущую Иисусу, но и сам он, и его Иисус в данном случае заявляют, что «вера» спасла (исцелила) женщину, и с этим заявлением мы можем согласиться. Чтобы дознаться, какой смысл влагал первый евангелист в свой рассказ, необходимо выяснить, отчего Иисус обернулся к женщине. Матфей нам этого не выясняет, но его рассказ наводит нас на мысль, что Иисус естественно почувствовал, как кто-то сзади прикоснулся к его одежде, ибо сопровождавшие его ученики, по словам Матфея, просто «пошли с ним», не теснясь около него и не касаясь его так, что он мог отчетливо заметить, как кто-то сзади дотронулся до него.
Однако такой простой рассказ Матфея недолго удовлетворял людей, жадно веровавших в чудеса. У них скоро сложилось убеждение, что не только женщина исцелилась от прикосновения к Иисусу, но сам Иисус почувствовал исхождение из него целебной силы, когда до него дотронулась женщина, а потому и обернулся к ней. Чтобы читатели евангелия не подумали, что Иисус обернулся к женщине по естественной причине, Лука и Марк дополнили рассказ Матфея замечаниями, что «народ теснил Иисуса» и что поэтому нельзя было естественным путем дознаться и почувствовать, что кто-то прикоснулся к его одежде. Но если Иисус и в тесноте почувствовал чье-то прикосновение, то, стало быть, причина ощущения заключалась в моменте сверхъестественном, и, по догадке означенных евангелистов, именно в том, что из самого Иисуса в это мгновение «вышла целебная сила». Чтобы подтвердить эту Догадку, евангелисты и рассказывают, что Иисус стал допрашивать учеников, кто прикоснулся к его одежде, что ученики отозвались неведением, что Иисус оглядывал толпу, чтобы увидеть ту, которая прикоснулась к нему, пока наконец не подошла к нему и не призналась женщина, которая дотронулась до него. Таким образом, рассказ означенных двух евангелистов наводил читателя на ту мысль, что от простого верой подсказанного прикосновения к одежде Иисуса в нём стала действовать присущая ему целебная сила, и, так как сила эта в нём стала действовать совершенно независимо от его сознания и воли поэтому необходимо заключить, что Иисус не только мог исцелять людей сознательно произнесенным словом, но сам представлял собой живой источник целебной силы и, следовательно, был тем существом в котором, как заявлял апостол Павел по другому случаю (Колос. 2:9), «обитает вся полнота божества телесно».
Отсюда было нетрудно перейти и к тем чудотворениям, о которых повествует, например, автор Деяний апостолов, говоря, что Павел исцелял на улицах больных возложением платков и поясов (19:1), а Петр исцелял на улицах больных, осеняя их своей тенью (5:15). Мы, впрочем не думаем оспаривать правдоподобие приведенных сообщений, мы допускаем, что некоторые болезни при известных обстоятельствах и хотя бы временно действительно удавалось исцелять также апостолам; более того, мы не оспариваем даже и таких рассказов, в которых говорится, что, например, в усыпальнице одного парижского аббата от прикосновения к его мощам верующие католики нередко исцелялись от своих недугов. Такого рода чудеса могли действительно случаться, хотя мощи, от которых исцелялись верующие люди, в действительности принадлежали не святым угодникам, а каким-нибудь преступникам. Так точно мог и Иисус творить в тех или иных случаях разные чудеса, если только ему удавалось внушить веру в себя современникам, хотя бы он и представлялся им не пророком в традиционно иудейском смысле, а просто тем глубоко религиозным человеком, каким он нам представляется теперь. Новейшие теологи охотно стали допускать, что Иисус исцелял больных присущей ему силой животного магнетизма; но они упускают из виду тот факт, что история животного магнетизма не знает таких примеров и случаев, чтобы сила магнетизма моментально и равномерно исцеляла болезни всякого рода и чтобы такой эффект получался независимо от длительного или прямого воздействия магнетизера на больных.
Если в подобных непроизвольных исцелениях целебная сила Иисуса проявляла себя чувственно, подобно электрическим флюидам, перетекающим из одного тела в другое, с ним соприкасающееся, то в исцелении отсутствующих больных, о котором тоже повествуется в евангелиях, она проявляла себя духовно, так как исцеляла телесно отсутствующих больных одна лишь воля Иисуса. Поэтому новейшие теологи, пытавшиеся объяснить исцеления первого рода действием животного магнетизма, предпочитают изъяснять исцеления второго рода воздействием духа, не связанного условиями пространства. Газе заявляет: «Исцеление отсутствующего мыслимо как результат деятельности духа»[225]. Разумеется, если бы чистые духи существовали, то можно было бы себе представить, что они воздействуют друг на друга независимо от пространственных условий, так как пространство мыслимо лишь в непосредственной связи с материальными или вещными телами. Но такие фантастические представления и догадки неуместны и бесцельны там, где, как в настоящем случае, мы имеем дело с «воплощенными», а не чистыми духами. Такие воплощенные духи, какими в данном случае представляются Иисус и его больные, могут воздействовать на окружающую среду лишь при посредстве тела своего, то есть пространственно, а потому и указание на природу духа, как на фактор исцеления отсутствующих больных является пустой и безыдейной фразой.
О подобных исцелениях имеются два рассказа: один — у Матфея и Марка, а другой — у Матфея и Луки и в измененном виде у Иоанна.
В первом рассказе говорится об исцелении дочери хананеянки (Мф. 15:21 Мк. 7:24), а во втором — об исцелении слуги (сына) сотника капернаумского (Мф. 8:5. Лк. 7:1. Ин. 4:46). В первом рассказе больной именуется у обоих евангелистов бесноватым, во втором Матфей говорит о расслабленном, а Лука и Иоанн — о больном, который лежал при смерти. В первом рассказе подчеркивается тот факт, что сначала Иисус отказывался проявить свою чудотворную силу для блага язычницы, затем уступил ее мольбе в силу ее непоколебимой веры, а во втором рассказе Матфей и Лука подчеркивают то обстоятельство, что Иисус уже готов был отправиться в дом сотника (язычника), чтобы исцелить слугу (сына) его, но сотник высказал уверенность в том, что Иисус может исцелить больного издалека. О первом рассказе мы уже говорили выше (см. §36), и нам теперь лишь остается рассмотреть его чудесный элемент, который его сближает со вторым рассказом.
На примере второго рассказа мы прежде всего ясно видим, как в процессе пересказа и последующей умозрительной переработки сюжет евангельской повести всё более и более разрастался. У Матфея сотник просит Иисуса помочь его больному отроку, и Иисус просто соглашается прийти и исцелить больного, но сотник потом заявляет, что он «недостоин» чести, которую окажет ему Иисус, войдя под его кров, и что Иисусу нет надобности лично являться в дом, а достаточно «сказать слово», чтобы выздоровел его отрок, подобно тому как и ему, сотнику, достаточно отдать приказ, чтобы подчиненным он был исполнен в его отсутствие. Такую веру сотника-язычника Иисус ставит в пример своим соотечественникам, а сотнику он говорит: «иди, и как ты веровал, да будет тебе», и отрок сотника «в тот час» выздоровел. У Луки отрок (сын) сотника превращен в слугу, причем евангелист добавляет, что слугой этим сотник дорожил, видимо, с той целью, чтобы мотивировать настоятельную просьбу сотника об исцелении слуги. Впрочем, это отличие несущественно, гораздо знаменательнее то обстоятельство, что у Луки к Иисусу приходят просить об исцелении слуги посланные сотником иудейские старейшины, а не сам сотник, как сказано у Матфея. Цель этого изменения выясняется из того, что говорили эти посланцы, изложив просьбу пославшего их сотника, а именно они заявляют Иисусу от себя: «Сотник достоин, чтобы ты сделал это для него, ибо он любит народ наш и построил нам синагогу» (Лк. 7:4). Думать, что этими словами евангелист как бы хотел извинить Иисуса за то, что он помог и расточал свою чудотворную силу язычнику, можно было бы в том случае, если бы слова эти встретились в евангелии иудаистского, а не паулинистского направления. Но евангелист Лука стремился примирить иудео-христиан с христианами-павлистами, и потому необходимо предположить, что цель вышеприведенных слов была иная; и что сводилась она к тому, чтобы отрекомендовать язычников в глазах иудеев, а именно Лука в данном случае как бы хотел сказать иудеям и иудео-христианам: поглядите, какие благомыслящие и добрые люди встречаются среди язычников, а потому не отталкивайте и не проклинайте их огульно. Точно так же и во второй части труда Луки, в его Деяниях апостолов (10:1, 22), мы находим другого римского сотника Корнилия, который признан был достойным восприять христианское крещение, так как весь народ иудейский одобрял его и свидетельствовал, что он человек благочестивый, добродетельный и богобоязненный, творит много милостыни и всегда молится Богу. По словам Матфея, сотник капернаумский просил Иисуса помочь его больному отроку и затем отклонил предложение Иисуса явиться к нему в дом, изъявляя твердую уверенность в том, что единого мессиански-мощного слова его достаточно, чтобы отрок заочно исцелился. По словам Луки, к Иисусу являются посланцы сотника, иудейские старейшины, и просят Иисуса пойти исцелить слугу сотника; затем, когда Иисус уже пошел с ними к дому сотника, последний выслал к Иисусу навстречу друзей своих, которые ему от лица сотника заявляют: «Не трудись, Господи, ибо я (сотник) недостоин, чтобы ты вошел под мой кров… Но скажи слово, и выздоровеет слуга мой» (Лк. 7:6). Этот рассказ Луки, в противоположность рассказу Матфея, исполнен внутреннего противоречия. Если сотник сначала просил Иисуса явиться лично к нему в дом, то спрашивается: что побудило его позднее отменить это приглашение и предупредить приход Иисуса через особых посланцев? Автор рассказа, видимо, и сам почувствовал в этом случае противоречие и старается примирить приглашение сотника с отказом замечанием, что сотник (устами вторых своих посланцев) говорил, что он «сам себя не почел достойным» прийти лично «к Иисусу для переговоров, а потому и отклоняет приход Иисуса в дом» (Лк. 7:7). Однако это заявление не объясняет причины, побудившей сотника отменить ранее посланное приглашение. В рассказе того же Луки и Марка о дочери Иаира мы тоже находим подобную отмену первоначально высказанного пожелания. По словам Матфея (9:18), начальник синагоги (Иаир) подошел к Иисусу и, кланяясь, сказал ему, что дочь его умирает, попросил его прийти в дом, чтобы возложить на умирающую руки, и «она будет жива», после чего Иисус прямо пошел в дом Иаира, чтобы воскресить дочь его, и т.д. Но, по словам Луки (8:41) и Марка (5:22), 12-летняя дочь Иаира была при смерти, когда отец ее явился к Иисусу и просил прийти к нему в дом, чтобы спасти дочь от смерти. Иисус согласился пойти к умирающей отроковице, но, пока он шел вместе с Иаиром, является им навстречу некто из дома Иаира и говорит, что дочь Иаира уже умерла и не следует уже «тревожить учителя». В данном случае можно предположить, что и отец умершей отроковицы, ранее просивший Иисуса посетить свой дом, более уже не пожелал утруждать его, ибо дома обстоятельства успели уже измениться, и ему уже незачем было настаивать на первоначальной просьбе. Но в рассказе о сотнике капернаумском обстоятельства не изменялись и отмена приглашения представляется деянием непонятным; поэтому необходимо предположить, что рассказ этот переделан из какого-то другого рассказа, тем более что отклонение личного прихода Иисуса в обоих вышеуказанных случаях сформулировано в одинаковых выражениях.[226]
В обоих синоптических рассказах наблюдается одна общая черта: проситель своей верой превосходит доброхотство Иисуса, то есть Иисус, видимо, соглашается сделать больше того, что у него просят, но проситель довольствуется меньшим, будучи уверен, что и малого, содеянного Иисусом, будет вполне достаточно. Такое соотношение между Христом-Логосом и Человеком противоречит основной схеме четвертого евангелия, согласно которой человек не может и не должен делать более того, чего требует от него богочеловек; наоборот, богочеловеку свойственно превосходить всегда всё, что представляет себе и ожидает человек, поэтому в четвертом евангелии Христос постоянно изумляет и превосходит человека, а человек неизменно оказывается маловерным и недомысленным существом. Именно в этом смысле и был изменен означенный рассказ, и, подвергшись переработке, он прекрасно подошел под общий тон четвертого евангелия, автор которого, видимо, подобрал из двух упомянутых рассказов все черты, необходимые для того, чтобы создать свой собственный рассказ и образ. «Отрок» Матфея, превратившийся в «слугу» у Луки, у четвертого евангелиста стал сыном самого просителя — царедворца; «расслабленный» больной, о котором повествует Матфей, у четвертого евангелиста, как и у Луки, обратился в больного, лежащего «при смерти». Как у Матфея, проситель и в четвертом евангелии лично обращается к Иисусу, но он не просто умоляет его о помощи, а просит прийти в дом и исцелить больного. Затем в рассказе евангелиста Иоанна всё своеобразно и оригинально. По синоптическому рассказу, Иисус охотно соглашается пойти с просителем к больному, но затем личный приход его отклоняется верующим просителем или посланцами его, а по рассказу четвертого евангелиста Иисус сначала с негодованием отвергает просьбу царедворца, который тем не менее продолжает настойчиво упрашивать Иисуса. По свидетельству синоптиков, проситель заявляет, что единого слова Иисуса достаточно, чтобы исцелить отсутствующего больного, и тем приводит в изумление Иисуса, да и нас в придачу; а по свидетельству евангелиста Иоанна, Иисус к удивлению просителя и нашему, сам по собственному почину и побуждению изрекает чудодейственное целительное слово, и лишь тогда у просителя является надежда и уверенность, что Иисус может единым словом исцелить отсутствующего больного.
Проситель в данном случае представляется человеком крайне ограниченным; его представление об Иисусе и его могуществе крайне грубо, поэтому в евангелии, считавшем мир язычников главной ареной для развития христианства, он не мог быть римским сотником — язычником, он превращен здесь в «царедворца», то есть служителя Галилейского четвертовластника (тетрарха) Ирода Антипы, который тоже именовался царем (Мф. 14:6. Мк. 6; 14). К нему Иисус и обращается с укоризненными словами: «Вы не уверуете, пока не увидите знамений и чудес», и таким образом царедворец этот оказывается вдобавок представителем грубоплотского и жадного до чудес иудаизма. Но так как он уверовал, что Иисус может исцелять единым словом, то он причислен не к закоснелым иудеям, а к галилеянам, которые в данном евангелии занимают среднее место между иудеями и самарянами, или язычниками. Для такого человека Капернаум, отмеченный синоптиками, является наиболее подходящим городом, но своего Иисуса четвертый евангелист водворяет в этом городе неохотно, хотя Капернаум и был главной резиденцией Иисуса по словам иудео-христианского предания (2, 12). Четвертый евангелист предпочитает считать Кану Галилейскую (4:46) главным пунктом и ареной галилейских чудотворений Иисуса, а в данном случае, поместив больного в Капернауме, евангелист достигал того, что расстояние между местом пребывания больного и местом пребывания Иисуса увеличивалось, и, следовательно, увеличивался также и размер и эффект сотворенного Иисусом чуда.
Что автор четвертого евангелия старался всячески подчеркнуть и засвидетельствовать сверхъестественный элемент в данном происшествии, это видно из следующей детали: Матфей говорит, что лишь только Иисус произнес чудодейственное слово, отрок сотника тотчас исцелился; Лука замечает, что вернувшиеся домой посланцы нашли слугу уже исцеленным; в этих случаях по самому существу дела можно было и не определять точнее момент исцеления: так как посланцы, в рассказе Луки, встретили Иисуса уже вблизи дома и так как сотник, по словам Матфея, встретил Иисуса на той самой улице маленького городка, на которой расположен был его дом, то, стало быть, исцеление совершилось в момент произнесения Иисусом чудодейственного слова, если сам сотник или посланцы его, вернувшись в дом, нашли больного уже исцеленным. Наоборот, у евангелиста Иоанна, ввиду большого расстояния между Каной и Капернаумом, отец больного возвращается домой на следующий день и потому естественно старается дознаться, в какой именно день и час выздоровел больной. Такое же дознание ведет отец и в настоящем рассказе, и он убеждается, что момент исцеления его сына совпадает с моментом произнесения Иисусом чудодейственного слова. Но мелочный характер этого дознания и следствия, в противоположность простоте заявления Матфея, свидетельствует о вторичном, позднейшем происхождении четвертого евангелия, которое и в данном случае оказывается умозрительной переработкой повествования синоптиков-евангелистов.
Настоящий рассказ особенно наглядно нам показывает, что тому, кто признаёт повествование евангелистов за исторический рассказ, остается только один выход: либо беззаветно веровать во все чудеса, либо присоединиться ко взглядам Реймаруса. В данном случае всякое естественнонаучное или полунатуралистическое изъяснение сотворенного Иисусом чуда уже потому исключается, что больного отделяло от чудотворца большое расстояние и нет возможности предположить, что в больном зародилась вера от непосредственного личного внушения со стороны чудотворца. Если Иисус сказал сотнику (в рассказе Матфея): «Иди, и как ты веровал, так тебе и сделается», или если он заявил царедворцу (в рассказе Иоанна): «Иди, твой сын жив», то одно из двух: либо Иисус знал заранее, что исцеление он может совершить и, стало быть, был чудотворцем в смысле отъявленного супранатурализма, либо он без всякого основания приписывал себе чудодейственную силу и был поэтому плутом и обманщиком. Эвальд пытается смягчить смысл слов «сын твой жив», предполагая, что Иисус, вероятно, говорил отцу больного, что сын его не умрет, а затем допускает, что слова Иисуса чудесным образом (то есть случайно) совпали с наступившим исцелением больного. Но рассуждать так значит ходить вокруг да около вопроса и ничего не объяснить, ибо уверять издалека и заочно, что отсутствующий больной, лежащий при смерти, не умрет, мог только тот, кто сознавал, что может помешать наступлению смерти, либо опять-таки обманщик и шарлатан. В данном случае только критика может указать нам, как выйти из затруднения, не предаваясь ни безотчетной вере в чудеса, которая нам теперь претит и не может быть уже навязана насильственно, ни натуралистическому прагматизму, который нас уже не удовлетворяет. В данном случае мы тоже имеем дело не с историческим рассказом, а с мессианским мифом, возросшим на почве ветхозаветного пророческого мифа. Древним пророкам приписывалось умение исцелять больных путем телесного прикосновения; именно такого рукоположения Нееман ждал от пророка Елисея (4 Цар. 5:11), а когда пророк не вышел к нему из дома и велел ему искупаться семь раз в Иордане, Нееман принял такой ответ пророка за насмешку, ибо не ожидал успеха от подобных купаний; однако он послушался совета и, исполнив повеление пророка, исцелился; стало быть, пророк сотворил чудо над отсутствующим, так как купание Неемана в Иордане, как и омовение Иоаннова слепого в купели Силоамской, представляется лишь формой, в которую повествователю заблагорассудилось облечь силу чудодейственного слова. По мнению евангелиста, Мессия не мог не выказать себя таким же мощным чудотворцем, а если он вдобавок был воплощенным Словом Бога творца Вселенной, то, разумеется, ему было достаточно произнести слово, чтобы исцелить и оживотворить всё и всех на самом далеком расстоянии.
§76. Воскрешение мертвых
От исцелений, которых нет в перечне Иисусовых чудес, помещенном у Матфея (11:5), мы снова возвращаемся теперь к перечисленным евангелистом чудесам Иисуса, и тут мы на последнем месте находим воскрешение мертвых. Это воскрешение, как и исцеление прокаженных, в противоположность прочим знамениям мессианства, отмечаемым Иисусом, не взято прямо из пророческого изречения (Исайя, 35:5), но было предуказано и внушено прообразом пророческим. Илия (3 Цар. 18:17) и Елисей (4 Цар. 4:18) воскрешали мертвых, и, опираясь на эти прообразы, иудеи полагали, что и грядущий Мессия будет воскрешать покойников. Христианство, в свою очередь, удержало и утвердило это представление по особым основаниям. Иисус Христос «явил жизнь и нетление через благовестие» (2 Тим. 1; 10): последователи Христа не были подобны «прочим, не имеющим надежд» после своей смерти (1 Фесс. 4:13); христианство было религией воскресения и бессмертия. Правда, по слову Даниила (12:2), в грядущее воскресение мертвых для новой вечной жизни уверовали также позднейшие иудеи, а в том числе и фарисеи (2 Макк. 7), но так как о воскресении ничего не говорилось ни в книгах Моисея, ни в писаниях древнейших пророков и так как приходилось это представление вносить в них нарочито, путем искусственного толкования, поэтому и саддукеи не верили в воскресение мертвых, и это представление оставалось спорным вопросом, над которым ломали себе голову сторонники обеих школ или сект. Одни предполагали, что мертвых воскресит сам Бог, а другие полагали, что Мессия, смотря по тому, насколько те или другие представляли себе Мессию существом сверхъестественным.
К тому же само понятие Мессии вплоть до Иисуса постоянно менялось, и только благодаря Иисусу получило более определенное и живое очертание. С момента выступления Иисуса всем его последователям стало ясно, как следует мыслить Мессию, а после кончины Иисуса они поняли (ибо искренно и горячо хотели понять), что Иисус-Мессия в скором времени опять придет и довершит недовершенное, то есть исполнит всё, что надлежало совершить Мессии, и между прочим будет воскрешать мертвых. Ввиду предстоящего всеобщего воскресения мертвых, которое должно было совершиться в ближайшем будущем, при втором пришествии Иисуса, сами христиане стали смотреть на смерть как на сон, и слова, высказанные Иисусом по случаю воскресения дочери Иаира (Мф. 9:24): «не умерла отроковица, а только спит», залегли в основании древнехристианского воззрения на смерть независимо от того чуда, которое сотворено было Иисусом после этих слов. Ручательство за наступление ожидаемого всеобщего воскресения мертвых христиане усматривали в воскресении самого Христа (1 Кор. 15:12), ибо они верили, что сам Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых; но христиан не удовлетворяло такое пассивное воскресение из мертвых, им хотелось, чтобы тот, кому предстояло в будущем воскрешать мертвых, показал на деле, что обладает соответствующей силой, чтобы Иисус не только воскрес из мертвых, но и воскрешал других.
Если вышеозначенный ответ действительно был сформулирован и послан Крестителю самим Иисусом, то, стало быть, он приписал себе не только исцеление слепых и так далее, но также воскрешение умерших, но последнее он, очевидно, понимал лишь в том смысле, в каком он говорил (Мф. 8:22) и человеку, пожелавшему похоронить сначала отца своего, чтобы он «предоставил мертвым погребать своих мертвецов», то есть чтобы погребение телесно умерших он предоставил духовно мертвым людям; иными словами, в своем ответе Иисус говорил о воскрешении умерших лишь фигурально, желая заявить, что он духовно перерождает или воскрешает людей, в которых умерло желание и понимание всего возвышенного, что он в них возрождает или воскрешает новые моральные стремления. В таком именно смысле высказывается Иисус по преимуществу в четвертом евангелии, где он в одном случае (11:25) заявляет: «я есмь воскресение и жизнь, верующий в меня, если и умрет, снова оживет», а в другом случае (5:21) говорит: «как отец воскрешает мертвых и оживляет, так и сын оживляет, кого хочет». Здесь в этих изречениях говорится не только 6 предстоящем воскресении телесно умерших людей, но также о духовном воскрешении человечества, исходящем от Иисуса Христа.
Однако при том воззрении, которого фактически придерживались общины древних христиан, подобное духовное возрождение не могло еще считаться гарантией для ожидаемого телесного воскрешения умерших; необходимо было показать, что Иисус в своей земной жизни тоже воскрешал уже людей телесно умерших, ибо лишь в таком случае люди убеждались, что он действительно сможет, при втором пришествии своем, воскресить всех телесно умерших людей. В этом отношении, крупную услугу могла оказать легенда о пророках. Если Илия и Елисей умели воскрешать мертвецов, то, разумеется, Мессия-Иисус подавно умел делать то же; поэтому Матфей и Марк довольствуются одним рассказом — о воскрешении дщери Иаира (Мф. 9; 18. Мк. 5; 23). Лука сообщает уже два рассказа — о воскрешении дщери Иаира (8:41) и сына вдовы Наинской (7:11), а Иоанн, хотя и ограничивается всего одним рассказом о воскрешении Лазаря (гл. 11), но форма этого рассказа так ярка, что он стоит множества других в том же роде.
Темой первого рассказа синоптиков о воскрешении служит, как мы уже сказали, изречение Иисуса: «Она не умерла, но спит», то есть христианский взгляд на смерть как на простой сон. Тема эта в данном случае воплотилась в форме рассказа о чудесном воскрешении мертвеца и всего проще разработана в Евангелии от Матфея. Некий «начальник» заявляет Иисусу, что у него умирает дочь, и просит его прийти и возложить руки на нее, чтобы она ожила; Иисус пошел за «начальником» в сопровождении своих учеников и по пути исцелил кровоточивую женщину; затем, придя в дом умирающей отроковицы, увидел там собравшихся свирельщиков и народ «в смятении» (ибо у иудеев существовал негодный обычай немедленно хоронить умерших и созывать на погребение свирельщиков и разный иной люд). Иисус велел «народу» выйти вон из комнаты и заявил: «Не умерла отроковица, но спит», а присутствующие стали смеяться, услыхав эти слова Иисуса. Итак, христианский, новый взгляд на смерть уже и тут расходится со старым, иудейским, а также и языческим воззрением и резко противополагается ему евангелистом. Иудеи старого покроя, с их неустойчивой, на книгах Моисеевых не обоснованной верой в воскресение мертвых, которое должно было вдобавок совершиться в далеком будущем, после продолжительного пребывания умерших в преисподнем царстве теней, в такой же мере принадлежали к категории «не имеющих надежд» людей, как и обыкновенные язычники; поэтому их не могли удовлетворять шумные похороны с игрой свирельщиков и так далее, но христианам такое торжество казалось чем-то нелепым и неуместным, хотя христианский взгляд на смерть, в свою очередь, казался смешным заблуждением как иудеям, так и язычникам. Христос положил конец безутешному оплакиванию умерших, отличающему древний мир; он вообще подал всем своим последователям надежду на то, что скоро вновь придет и воскресит умерших к новой светлой и блаженной жизни, а в данном случае он подтвердил свое обетование чудесным актом немедленного воскрешения отроковицы, смерть которой все уже стали оплакивать. Самый акт воскрешения умершей состоял в том, что, выслав из комнаты «народ», Иисус просто взял отроковицу «за руку» и она воскресла, тогда как ветхозаветному пророку приходилось прилагать много стараний и усилий, чтобы воскресить умершего.
Разумеется, наивен и доверчив был отец умершей, если он, как говорит Матфей, воображал, что Иисусу достаточно прийти и возложить руки на умершую, чтобы она снова ожила. Столь простодушным взглядом своим на такое чудесное и необычайное деяние, как воскрешение умершего, отец отроковицы как бы низводил чудо на степень обыденного явления. Казалось, что чудо возрастет, если воскресение умершего совершится неожиданно. Правда, если отец отроковицы обращался к Иисусу и просил его прийти к умершей своей дочери, то, стало быть, он верил, что она может еще ожить. Поэтому Лука и Марк заявляют, что отец отроковицы явился к Иисусу, когда она еще не умерла. Стало быть, Иисуса приглашали возложить руки на больного, но еще живого человека, и ничто не вынуждало думать, что от такого возложения рук может ожить умерший; но Иисусу надлежало во что бы то ни стало воскресить умершего, поэтому Марк и Лука замечают, что отроковица успела умереть в то время, пока отец ее беседовал с Иисусом и шел с ним к умирающей. Но тут уже могло показаться, что помощь чудотворца опоздала, и эту мысль высказывают посланцы, которые вышли навстречу Иаиру и, известив его о смерти его дочери, замечают, что уже не стоит «утруждать» учителя. Не потерял ли тут и сам отец умершей всякую надежду на ее воскресение, об этом евангельский рассказ умалчивает; мы знаем только, что Иисус, при вести о кончине отроковицы, заявил ее отцу: «Не бойся, только веруй, и тогда умершая снова оживет». Этими словами Иисуса слушатель как бы подготовляет к последующему заявлению о том, что «не умерла, а только спит» отроковица, которое поэтому и не производит такого ошеломляющего впечатления, как у Матфея. Вообще рассказ Луки и Марка, по сравнению с рассказом Матфея, представляется как бы позднейшим добавлением, нагроможденным на готовую основу. В том обстоятельстве, что Лука и Марк как бы подготовляют читателя к чудесному воскрешению покойницы, сказалась, видимо, та мысль, что исцеление больных рукоположением и словом хотя и представляет собою чудо, но всё-таки для человека постижимо, а воскрешение умершего есть уже деяние, которого человек постичь не может.
Матфей называет отца воскрешенной отроковицы просто «начальником» и не сообщает его имени, а Лука и Марк передают, что он был «начальником синагоги» и назывался Иаиром. Но эти подробности не составляют преимущества их рассказа, так как обозначение должности «начальника» могло быть продуктом собственных догадок евангелистов, а имя «Иаир» могло быть ими избрано из-за специфического смысла этого слова[227]. Лука, в свою очередь, добавляет, что умирающая была единственным ребенком Иаира. Это замечание, видимо, имело целью растрогать читателя, и, вероятно, взято евангелистом из его же собственного рассказа о «единственном» сыне вдовицы Наинской. Затем сообщение Луки и Марка о том, что отроковице было 12 лет от роду, видимо, заимствовано тоже из рассказа о кровоточивой женщине, которая, по словам евангелистов, болела 12 лет. Уже Матфей сообщает, что Иисус велел выйти вон из комнаты Иаира всем, праздно толпившимся в ней, но Матфей не говорит, что Иисус выслал вон также учеников своих, а Лука и Марк сообщают, что кроме родителей отроковицы Иисус оставил в комнате лишь трех приближенных учеников (Петра, Иакова и Иоанна) и что, оживляя отроковицу, он не только взял ее за руку (как повествует Матфей), но и сказал: «девица, тебе говорю — встань», причем Марк приводит даже ту арамейскую фразу (талифа куми), которую Иисус будто бы произнес. Эта деталь в данном случае, как и в рассказе того же автора (Марка) об исцелении глухонемого, по-видимому, имела целью представить настоящий акт чудотворения в таинственном виде: недаром (по словам того же Марка) Иисус выслал из комнаты умершей всех учеников (за исключением троих) и строго приказал им, «чтобы никто не знал об этом», тогда как у Матфея говорится, что слух об этом чуде «разнесся по всей той земле». Наконец, Марк и Лука сообщают, что Иисус велел накормить воскресшую отроковицу. Однако эта подробность, придавая много живости и наглядности рассказу, не может быть истолкована в смысле попытки представить данный эпизод в более естественном виде.
Создание такого рассказа о воскрешении, в котором вместо отроковицы фигурировал бы отрок или юноша, подсказывалось ветхозаветными прототипами, ибо пророки Илия и Елисей воскресили каждый по одному отроку, и в обоих случаях отрок был единственным сыном своей матери, которая в рассказе об Илии оказывается вдовицей. Все эти детали, рассчитанные на то, чтобы повлиять на чувство читателя, мы находим также в рассказе Луки о воскрешении сына вдовы Наинской, причем рассказ этот, в смысле воздействия на чувство, превосходит рассказ о дщери Иаира. Здесь на сцену выступает мать, притом вдова, которая хоронит своего единственного сына и потому гораздо больше возбуждает в нас к себе участие, чем отец Иаир, у которого умерла дочь (хотя и единственная, как уверяет Лука). В рассказе о дочери Иаира, смерть умершей оплакивает главным образом наемный люд, кривляния которого возбуждают только отвращение; а в рассказе о вдове Наинской смерть единственного сына оплакивает покинутая мать, слезы которой возбуждают в чудотворце глубокое сочувствие и сострадание. Вследствие того в отношении Иисуса к вдове, по существу сходном с отношением его к Иаиру, элемент субъективный преобладает над элементом объективным. Иисус заявлял Иаиру, что смерть есть сон, а потому вдове Наинской он (по словам Луки) заявляет, «не плачь», ибо оплакивать усопших (то есть спящих) не следует. Так же мысль о ненужности оплакивания умерших характеризует и общее миросозерцание древних христиан, которые веровали, что умершие телесно должны воскреснуть скоро, при втором пришествии Христа; но в рассказе Луки мысль эта мотивирована несколько иначе, именно тем соображением, что умершему предстояло тотчас воскреснуть. Столь усиленное подчеркивание момента чувства вполне соответствовало манере третьего евангелиста вообще, который в противоположность Матфею также и в подборе притч Иисуса оставался верен отмеченной манере.
С фактической стороны это воскрешение является более сильным чудом в сравнении с предыдущим. Дочь Иаира только что умерла и, вероятно, лежала на постели еще не остывшая, поэтому лицам, не верующим в чудотворную силу Иисуса, могло показаться, что отроковица не умерла, а лежит в глубоком обмороке и потому могла очнуться без помощи Иисуса. Подобное предположение было немыслимо относительно человека, которого уже несли погребать и который, значит, несомненно умер. Правда, у иудеев существовал обычай хоронить покойников немедленно, и не позднее четырех часов после кончины, но перед погребением покойников осматривали, чтобы убедиться, что они действительно скончались; поэтому и Филострат в жизнеописании неопифагорейца и чудотворца Аполлония использовал, по-видимому, евангельский рассказ о воскрешении и повествует, что Аполлоний, встретив однажды похоронную процессию, которая шла погребать его невесту, прикоснулся рукой к покойнице и, сказав несколько слов, воскресил ее из мертвых. Но Иисусу достаточно было просто сказать отроку: «Тебе говорю встань», а к его одру он прикоснулся лишь затем, чтобы остановить процессию. Затем, когда воскресший отрок поднялся и сел на одре и стал говорить, «отдал его матери его», то есть сделал буквально то же, что, по словам легенды, сделал Елисей, когда воскресил сына сонамитянки (3 Цар. 17:23).
Справедливым следует признать указание сторонников естественного объяснения евангельских чудес на то, что в данном случае, когда умершего несли уже хоронить, всё-таки возможно, что собирались хоронить мнимоумершего, так как иудейский обычай раннего погребения усопших не давал в этом отношении никаких гарантий. Однако всё поведение Иисуса в данном случае — его наказ матери не плакать, его отношение к похоронной процессии, его приказ умершему отроку встать — показывает, что он видел в покойнике не мнимоумершего, а подлинного мертвеца, которого он пожелал и был властен воскресить. Если бы в данном случае он оживил мнимоумершего, то народ не испугался бы и не стал бы славить Бога и говорить: «Великий пророк восстал между нами, и Бог посетил народ свой». Итак, рассказывая данный эпизод, евангелист был твердо убежден, что Иисус действительно воскресил мертвого. Но мы не можем поверить этому, и потому нам остается лишь признать, что данный рассказ не есть исторический рассказ, и элементы, из которых он создался, заимствованы не из истории, а из тех представлении о Боге и его проявлениях в природе и жизни человеческой, которые существовали у иудеев и древнейших христиан и существенно отличались от наших современных представлений.
§77. Воскрешение Лазаря
Что вышеприведенные описания чудесных воскрешений не совершенно устранили все и всякие сомнения и что они не обладали безусловно доказательной силой, это сознавали не только рационалисты новейшего времени, но и древнейшие противники христианского учения и даже сами христиане. Рассказы о воскрешении усопших имели целью доказать, что Христос при втором пришествии своем воскресит всех умерших. Сначала христиане думали, что второе пришествие Христа наступит скоро, так что апостол Павел даже выражал надежду, что доживет до этого момента (1 Кор. 15:51. 1 Фесс. 4:15). Но затем, когда с течением времени многие христиане успели помереть и даже истлеть в могилах, не дождавшись желанного момента, тогда у христиан живых стала колебаться вера в то, что и таких истлевших мертвецов сумеет воскресить Христос, который в период земной жизни успел оживить немногих, только что умерших и еще не погребенных покойников. Поэтому чудеса прошлого приходилось изображать и истолковывать так, чтобы они имели доказательную силу относительно чудес грядущих; и чтобы показать, что в будущем все находящиеся в гробах услышат глас сына Божия и изыдут из гробов своих (Ин. 5:28), необходимо было показать, что и в период земной жизни своей сын Божий, Иисус, громким властным возгласом воскресил из мертвых человека (Лазаря), который четыре дня пролежал в гробу и начал уже разлагаться (Ин. 11:17, 43). Таков корень Иоаннова рассказа о воскрешении из мертвых Лазаря, рассказа, столь характерного для Иоаннова евангелия вообще. Из всех трех евангельских рассказов о воскрешении умерших рассказ о дщери Иаира, приведенный всеми синоптиками, можно принять как бы за «положительную» степень, рассказ Луки об отроке Наинском — за степень «сравнительную» и своеобразный рассказ евангелиста Иоанна о воскрешении Лазаря — за степень «превосходную». Таково же и взаимоотношение евангелий от Матфея, от Луки и от Иоанна. У Матфея чудеса описываются просто и серьезно, как факты естественные и самодовлеющие; Лука выясняет те начала, из которых вытекают чудеса, и подробнее описывает то впечатление, которое производят чудеса на человеческую душу; наконец, у Иоанна принцип и акт чудотворения, моральный эффект и духовное, идейное значение чудес — всё возведено на высшую ступень и в то же время так искусно скомбинировано, что сильное и яркое впечатление получает даже тот, кто смотрит на рассказ евангелиста трезво и ясно видит его противоречия.
Чтобы произвести желаемое впечатление на душу, объектом чудотворения (по мнению евангелиста) должен быть не безразличный незнакомец, а друг детства Иисуса (Лазарь), и оплакивать смерть его должна не заурядная женщина — мать, а нежно любящая женщина — сестра, в данном случае Марфа, и в особенности Мария, которая одновременно восторженно любит и Иисуса. Автор четвертого евангелия не оставил также без внимания ту тонкость замысла, которой отличается рассказ Луки о воскрешении дочери Иаира в противоположность соответствующему рассказу Матфея. Соблюдая правило о постепенном восхождении от ничтожного к возвышенному, он начинает с сообщения о том, что Лазарь хворал, и не говорит сразу, что он умер. В рассказе о дочери Иаира отец умирающей отроковицы идет сам к Иисусу, а здесь евангелист заявляет, что сестры больного Лазаря послали вестника сказать Иисусу, что Лазарь, которого он любит, болен и, хотя при этом не говорится прямо, что они просили Иисуса прийти и исцелить больного брата, но это уже само собой подразумевается и, кроме того, явствует из дальнейшего рассказа (Ин. 11:21, 32). В противоположность рассказу о воскрешении дочери Иаира Иисус в это время находился не в том городе, где проживал больной (Лазарь), то есть не в Вифании близ Иерусалима, а за Иорданом, в области Пиреи, и пробыл там еще два дня, вместо того чтобы немедленно идти к больному другу.
Почему Иисус в данном случае так поступил, хотя по отдаленности его резиденции и по интимности его личных связей с Лазарем он должен был бы поспешить в Вифанию? В рассказе о дщери Иаира просто говорится, что Иисус поспешил к больной, но она померла, прежде чем он успел прийти к ней, и в том обстоятельстве, что больная умерла столь неожиданно для Иисуса, евангелист не усмотрел «соблазна»: он полагал, что подобное неведение будущего ничуть не роняло достоинства Мессии-Иисуса, так как он вслед за тем ведь воскресил из мертвых столь неожиданно умершую больную. Но относительно воплощенного божественного Слова, Логоса — Иисуса приходилось рассуждать иначе. Неведение ему не приличествовало, и потому Христос евангелиста Иоанна сознательно промедлил еще два дня в Перее, получив известие о болезни Лазаря: он знал и предвидел, что за это время умрет Лазарь, и он даже хотел, чтобы Лазарь умер. Получив известие о болезни Лазаря, Иисус заметил: «Сия болезнь не к смерти, но к славе Божией, да прославится через нее сын Божий» (11:4). Поэтому нелепо предполагать, что Иисус уже тогда не предвидел смертельного исхода болезни Лазаря. Напротив, следует предполагать, что Иисус именно рассчитывал на то, что смерть Лазаря подаст повод к вящему прославлению Бога и Христа — Логоса через воскрешение умершего. По истечении двух дней Иисус сказал ученикам: «Пойдем опять в Иудею» и прибавил: «Лазарь, друг наш, уснул, и я пойду разбудить его», ибо, не получив никаких дополнительных известий, Иисус по свойственной ему прозорливости и всеведению догадался, что Лазарь уже помер. При этом случае евангелист изображает одно из излюбленных им «недоразумений»: ученики Иисуса, по словам евангелиста, поняли вышеприведенное заявление учителя своего о «сне» Лазаря буквально и возразили ему: «Если Лазарь уснул, то выздоровеет», ибо они вообразили, что Иисус говорит об обыкновенном сне (11:12, 13), а не о смерти, которую он готовился побороть силой чудодейственного слова, как простой сон. Таким образом, в данном случае христианскому воззрению на смерть как на сон противополагается обычный взгляд, которого здесь придерживаются все, кроме Иисуса. Далее Иисус объясняет, почему он медлил пойти к умирающему Лазарю, он говорит: «Радуюсь за вас, что меня не было там, дабы вы уверовали» (11:15), то есть Иисус радуется, что раньше не пошел спасать от смерти друга Лазаря, потому что теперь ему придется уже не исцелять больного, а воскрешать умершего, а это укрепит в учениках веру гораздо сильнее, чем исцеление больного. Но, разумеется, нам нечего указывать на то, что только такому фантастическому существу, каков Христос евангелиста Иоанна, приличествует поступать так, как поступил в данном случае Иисус: дать умереть другу, которого еще можно было спасти от смерти, для того чтобы затем воскресить его; такой поступок мы признаем бесчеловечным и возмутительным, если его совершает настоящий человек, хотя бы и «божественный» по дарованиям и личным свойствам. Но Иисус медлил пойти в Вифанию не только для того, чтобы дать Лазарю умереть; он медлил ровно столько, сколько было нужно, чтобы умерший успел пролежать четыре дня в гробу (11:14), прежде чем явился к нему, и чтобы Марфа могла заявить Иисусу: «Он (Лазарь) уже смердит», то есть начал разлагаться. Действительно ли оказалось потом, при вскрытии гроба, что тело Лазаря тало уже разлагаться, об этом ничего не говорится в рассказе евангелиста. Но иудеи верили, что в продолжение трех первых дней душа умершего еще витает над его телом, а на четвертый день отлетает от него, и тогда тело покойника начинает «смердеть», то есть разлагаться. Следовательно, вышеозначенной деталью евангелист хотел отметить, что Лазарь, которого Иисус собирался воскресить, вполне походил на тех мертвецов, которым надлежит воскреснуть в последний Судный день.
Как в рассказе о дщери Иаира, Иисуса встречают подле дома умершей посланцы, которые сообщают о кончине больной отроковицы и заявляют, что более не следует «утруждать учителя», так и в данном рассказе к Иисусу навстречу вышла из селения Марфа, когда услыхала, что идет Иисус. Но о кончине брата она говорит ему не как о новости, а как о факте, ему уже известном, и заявляет: «Если бы ты, Господи, был здесь, не умер бы мой брат». Далее факт смерти брата не отнял у нее надежду на благоприятный поворот, тогда как посланцев Иаира факт смерти его дочери вполне обезнадежил. Даже ученики Иисуса сначала не хотели идти с ним в Иудею ради Лазаря, но Марфа предчувствует, что даже после смерти брата не всё ещё пропало «и что Иисусу стоит только попросить» у Бога, и Бог исполнит его просьбу (11:22). Но как ни прозорлива и понятлива была сестра Марии, Марфа, представительница вифанского кружка последователей Иисуса, однако и она пасует перед Иисусом и подает ему повод показать ей свое превосходство. Когда Иисус заметил ей, что брат ее воскреснет, Марфа возражает: «Знаю, что воскреснет — в последний день», то есть Марфа своим возражением свидетельствует, что ее надежды еще смутны и ее силы разумения еще слишком слабы, чтобы вместить учение и утешение Иисуса. Далее Иисус пытается принципиально обосновать свое замечание о воскресении Лазаря, заявляя: «Я есмь воскресение и жизнь, и верующий в меня оживет, если и умрет», а Марфа на это замечает: «Верую, что ты Христос, сын Божий, грядущий в мире», и тем показывает, что ее вера, хотя и глубока, но весьма смутна и несознательна. Впрочем, изречение «Я есмь воскресение и жизнь» в такой же мере является темой Иоанновых рассказов о воскресении мертвых, как изречение «Девица не умерла, но спит» является общей темой синоптических рассказов, и возглас «не плачь» — специальной темой рассказов Луки. Тема Иоанна отличается от прочих двух тем так же, как отличается Иоанново евангелие от синоптических евангелий. Она отличается, во-первых, тем, что Христос является существом, превращающим смерть в простой сон, и осушающим слезы у тех, кто оплакивает смерть близкого человека, и что в качестве сына Божия он обращает себя в объект веры и этой верой обусловливает участие людей в вечной жизни; во-вторых, тем, что под жизнью, даруемой Христом, разумеется не всеобщее или индивидуальное телесное воскресение, а совершенно новая, духовная жизнь.
Отысповедовав свою веру, Марфа идет домой, чтобы «тайно» вызвать сестру Марию к Иисусу, а Мария, услыхав о прибытии Иисуса, поспешно идет к нему в сопровождении иудеев, оплакивавших Лазаря вместе с нею и утешавших ее. Эти «плачущие» иудеи в истории Лазаря играют ту же роль, какую играло шумное сборище свирельщиков в истории дочери Иаира: они олицетворяют собой староиудейский и языческий взгляд на смерть, противоположный христианскому новому воззрению. Но Христос евангелиста Иоанна стоит на несравненно высшей точке зрения, чем синоптический Христос, и это сказывается во всём его поведении. Синоптический Христос признаёт шумливое изъявление скорби плакальщиков неуместным и потому велит им выйти вон из комнаты умершей; в рассказе же Иоанна собравшиеся иудеи не шумят, а только плачут, и Мария плачет вместе с ними, но Иисус не говорит им ласково, как говорил вдове Наинской: «Не плачьте!» Напротив, он в сердце своем возмущается их плачем и стенанием. Для нас не подлежит сомнению, что возмущаться Иисусу тут было нечего, если бы он встал на человеческую точку зрения, но из евангельского рассказа явствует, что Иисус как раз возмущался плачем Марии и иудеев.[228] Его, Христа — Логоса, возмущало то, что окружающие его люди, не исключая и Марии, оплакивают смерть Лазаря в присутствии его, воплощенного начала жизни; такое ослепление людей, такое непонимание того, что представляет собой он, присутствующий Христос, возбуждает в нём негодование, а вслед за тем и скорбь; Иисус, идя вместе с прочими ко гробу Лазаря, по словам евангелиста, прослезился, но то были не слезы об усопшем Лазаре, которого он шел воскрешать; а если некоторые из присутствующих иудеев и подумали, что Иисус скорбит о смерти друга Лазаря, то это — одно из тех «недоразумений», которые четвертый евангелист может приписывать иудеям в их встречах и беседах с Иисусом (11:36). Во всей евангельской истории мы вообще находим еще лишь один случай, когда прослезился Иисус, а именно в рассказе Луки (19:41) о том, как Иисус оплакивал грядущую судьбу Иерусалима, не подозревавшего, какие бедствия постигнут его за то, что он не познал даже испытания, которому он был подвергнут свыше; таким периодом испытания для иудейского народа был период земной жизни и служения Иисуса, завершившийся чудесным воскрешением Лазаря, но иудеи за весь этот период не уверовали в Иисуса и не признали его. Поэтому Христос и прослезился, шествуя ко гробу Лазаря; но это чувство скорби скоро сменяется в нём чувством возмущения и гнева, когда иудеи дерзнули заявить: «Не мог ли сей Иисус, отверзший (так недавно) очи слепому, сделать так, чтобы и Лазарь сей не умер» (11:37). В этом заявлении иудеев Иисусу мог послышаться как личный упрек за мнимобезучастное отношение к другу Лазарю, так и отрицательный их взгляд на него, непризнание той истины, что он, Иисус, есть «воскресение и жизнь».
Гроб Лазаря изображен почти таким же, каким позднее изображается гроб Иисуса: то была пещера, сверху заваленная камнем, а гроб Иисуса, по словам синоптиков, был пещерой, высеченной в скале, то есть искусственной пещерой, заваленной камнем спереди. В гробу лежал усопший Лазарь, обвитый по рукам и ногам погребальными пеленами, как был впоследствии обвит такими же пеленами труп Иисуса (20:6). Вообще чудесное воскрешение Лазаря Иисусом должно было служить гарантией для будущего воскрешения всех мертвых Христом и сверх того прологом собственного воскресения Иисуса.
Далее, хотя Марфа и заявила, что Лазарь уже «смердит», однако камень от гроба по приказанию Иисуса был отвален, и Христос евангелиста Иоанна пожелал не тотчас произнести чудодейственное воскрешающее слово (как делал синоптический Христос), а предпослал ему моление к Отцу небесному. Но это не моление просительное, с которым обращался Илия к Иегове, приступая к акту воскрешения умершего, а молитва благодарственная, благодарение за то, что Бог-Отец уже услышал и исполнил его просьбу. Стало быть, втайне Иисус уже молил Бога-Отца услышать его просьбу, но он заранее был уверен, или «знал», что Бог его услышит, да и вообще как просьбу, так и приказ и их исполнение во взаимоотношениях между Христом и Богом-Отцом, по убеждению евангелиста, надо мыслить не как отдельные единичные акты, а как постоянное чередование и непрерывный ряд личных обращений. Поэтому о благодарении в строгом смысле слова в данном случае тоже нельзя говорить, как не приходится здесь говорить и о прошении, и если Иисус всё-таки благодарит Бога-Отца за то, что он услышал его моление, то, собственно, лишь ради присутствующего народа, дабы народ поверил, что Бог послал его, Иисуса Христа, сына своего, и наделил его соответствующей силой чудотворения (11:42). Однако если Иисус в данном случае применялся или приноравливался к окружающей толпе и только «для народа» благодарил Бога-Отца, то ему не следовало говорить о том открыто при народе, чтобы действительно достичь поставленной цели; с другой стороны, моление, произнесенное для одной лишь видимости, является молением, неискренним и лицемерным. Некоторые остроумцы возражали критикам, которые считают Иоаннова Христа персонифицированной догматической идеей, что «идея» не стала бы ходить на свадьбу, высказывать и чувствовать сострадание и т.д. Но в данном случае мы могли бы заявить обратное: настоящий действительный человек не стал бы у гроба Лазаря говорить и поступать так, как говорил и поступал Христос евангелиста Иоанна: так говорит и поступает даже и не богочеловек, а воплощенная идея, притом идея сложная и противоречивая. Христос Иоанна, с одной стороны, есть вечное творческое Слово Бога, поэтому ему не нужно ни о чём просить Бога-Отца, ни благодарить его за что-либо, ибо вся деятельность его есть лишь осуществление беспрерывно истекающей воли Бога-Отца; но, с другой стороны, Христос подвизается как человек среди человеков, и потому обязан приводить людей к Богу-Отцу, и всегда и всюду указывать им на Бога, и этой обязанностью он не должен был пренебрегать в таком деле, как воскрешение умершего, которое могло прославить Бога-Отца. Итак, Христос вслух молится Богу-Отцу, но его молитва есть не моление просительное, могущее возбудить в народе сомнения и недоумения, а молитва благодарственная; но Христос есть в то же время вочеловечившийся, воплотившийся Логос, поэтому он молится лишь «для народа», а так как он желает, чтобы все его признали Логосом, поэтому он сам-де заявляет, что молится не для себя, а для народа. С точки зрения реальной человеческой, Христос четвертого евангелиста может показаться в момент подобного моления актером, притом актером весьма наивным и неумелым, ибо сам признаётся, что он актерствует, но, будучи персонифицированной идеей, он в данном случае нам представляется комплексом противоречивых и взаимно исключающих особенностей и свойств.
После моления Иисус, подойдя к гробу Лазаря, громким голосом воззвал: «Лазарь, иди вон!» Это громогласное воззвание является здесь, видимо, прообразом того «гласа сына Божия», который некогда услышат все находящиеся в гробах и по этому велению изыдут из гробов (Ин. 5:28). С другой стороны, оно напоминает о той «последней трубе», которая некогда вострубит и заставит мертвых воскреснуть нетленными (1 Кор. 15:52), и о том «гласе архангела», при котором некогда Господь сойдет с неба и воскресит всех мертвых (1 Фесс. 4:16).
История воскрешения Лазаря, подобно двум другим евангельским рассказам о воскрешении умерших, нам представляется неисторическим продуктом древнехристианской фантазии, причем рассказ о Лазаре является сознательным и искусным развитием догматической темы. Это мнение мы основываем на том, что рассказ этот немыслим исторически, тогда как его возникновение из догматических представлений и из особенностей Иоаннова евангелия объясняется легко и удовлетворительно. Затем, если четвертый евангелист умалчивает о двух других воскрешениях, то это понятно, и видеть в этом доказательство их неисторического характера нельзя. Предположим, что эти воскрешения действительно имели место: однако же в истории Лазаря всё то, что им придавало значение, уже вполне использовано и подчеркнуто, так что и надобности в других рассказах того же рода уже не было, тем более что евангелисту приходилось вообще быть очень разборчивым. Иное получается, если мы спросим: почему синоптики умолчали о столь выдающемся и доказательном происшествии, как воскрешение из мертвых Лазаря? Некоторые полагали, что от этого лишь проиграли сами же синоптики и что этот факт свидетельствует, что никто из синоптиков-евангелистов (ни даже евангелист Матфей) не был ни апостолом, ни очевидцем фактов жизни Иисуса, ибо апостол или свидетель-очевидец не мог бы не знать и не рассказать истории воскрешения Лазаря. Но если никто из синоптиков-евангелистов не был очевидцем, если все они пересказывали старые легенды, то о воскрешении Лазаря они могли действительно не знать. В их время сказание об этом происшествии могло уже утратиться или происшествие могло утратить свое первоначальное значение, которое сводится к тому, что это чудо оказало непосредственное влияние на судьбу Иисуса, возбудив против него врагов и склонив их к мысли о предании его суду и казни. Но выше (§40) уже было сказано, как несущественно это прагматическое значение чудесного воскрешения Лазаря. Чтобы казнить Иисуса, иудеям отнюдь не нужно было ожидать чудес, как грекам для осуждения на смерть Сократа не требовалось никаких чудес: естественных мотивов, в виде несходства взглядов и конфликта интересов, было для этого вполне достаточно. Затем не нужно было приписывать такое прагматическое значение акту воскрешения Лазаря, чтобы акт этот представлялся событием, о котором не могла бы не упомянуть любая мало-мальски подробная и планомерная евангельская повесть, если бы оно действительно имело место. Оно являлось чудом из чудес, и в таком виде и значении оно изображено четвертым евангелистом. Поэтому нельзя не удивиться утверждению Шлейермахера, что для учения Христова история Лазаря не имела будто бы серьезного значения. Как! Не имеет диалектического значения история, в которой Иисус яснее, чем в какой-либо другой истории, показал, что он есть «жизнь и воскресение»? И не только показал на деле, но и сформулировал словами? Впрочем, Шлейермахер отмечает в качестве причины, по которой сказание о воскрешении Лазаря рано утратилось в евангельском предании, следующее обстоятельство: у Матфея и Марка ничего не говорится ни о Лазаре и его родных, ни об отношении к ним Иисуса, а у Луки упоминаются лишь две сестры (Марфа и Мария), но ни о брате, ни о месте жительства их ничего не говорится; это, по мнению Шлейермахера, возможно объяснить предположением, что ко времени составления синоптических евангелий семья Лазаря уже не проживала в Вифании, вероятно, потому, что она подверглась гонению (Ин. 12:10) от фарисеев. Но разве в том селении не сохранилось бы известие о столь необычном происшествии (если только оно действительно случилось), хотя бы та семья, в которой оно случилось, эмигрировала или даже вовсе вымерла? А если предположить, что это сказание автор четвертого евангелия сам сочинил во 11 веке нашей эры, то для нас станет понятным, почему о нём не ведали и не сообщали старейшие евангелисты.
Тем не менее с указанием Шлейермахера на неодинаковое отношение евангелистов к вифанскому семейству Лазаря следует считаться, хотя оно приводит нас не к тем заключениям, к каким приходил сам Шлейермахер, поклонник евангелиста Иоанна. Действительно, три первых евангелиста ничего не сообщают о семье, которая проживала бы в Вифании и с которой Иисус состоял бы в интимно-дружеской связи. По словам двух первых евангелистов (Мф. 26:6. Мк. 14:3). Иисус за несколько дней до последней Пасхи был миропомазан в Вифании, но не в доме Лазаря, а в доме Симона-прокаженного, и миро изливала там на главу Иисуса не Марфа или Мария, а какая-то (по имени не названная) женщина. Лука сообщает, что раньше где-то в Галилее Иисус в доме фарисея Симона был миропомазан какою-то женщиной, которая была грешницей (7:36); затем Лука сообщает, что позднее, во время переезда Иисуса из Галилеи в Иерусалим, в каком-то (по имени не названном) селении Иисус зашел в дом женщины, именовавшейся Марфой, у которой была сестра по имени Мария и которая за свою суетливость получила от Иисуса замечание, завершившееся известным изречением: «одно только нужно» (10:38). Правда, некоторое сомнение возбуждает то обстоятельство, что этот рассказ, как и указание имен двух женщин — сестер, мы впервые находим у Луки, но это еще не опровергает исторического характера сообщения. О многом хлопочущая и суетливая Марфа, недовольная своей сестрой Марией, которая, видимо, «бездельничала», сидя у ног Иисуса и слушая слово его, и которая, по отзыву Иисуса, «избрала благую часть», живо напоминает собой энергичных и деятельных иудео-христиан в их противопоставлении представителям созерцательного и глубокого религиозного паулинизма.
Итак, у Матфея и у Марка мы находим указание, что в Вифании некая (по имени не названная) женщина миропомазала Иисуса; у Луки находим сообщение о том, что некая грешница миропомазала Иисуса, но не в Вифании, и что с Иисусом знакомы были две женщины — сестры (Марфа и Мария), но опять-таки не в Вифании, а в каком-то другом селении. Из этих элементов и отрывков составился связный рассказ евангелиста Иоанна (12:1). Женщина, помазавшая миром Иисуса, именуется здесь Марией, и так как это миропомазание, по словам предания, совершено было в Вифании, то в рассказе Иоанна говорится, что Мария с сестрой своей (Марфой) проживала в Вифании. Уже из описания Луки возможно заключить, что Марфа питала дружеское чувство к Иисусу, а Мария внимательно прислушивалась к его учению, но только Иоанн прямо свидетельствует, что между Иисусом и членами этой семьи существовала интимно-дружеская близость (11:3, 5. 11:36). Но, вообще говоря, обе сестры обрисованы в четвертом евангелии теми же чертами, какими их обрисовал третий евангелист. На вечери, ознаменовавшийся миропомазанием, Марфа «служила», как она служила и много суетилась в соответствующем рассказе Луки; ее суетливый нрав сказался также в том, что после кончины брата она вышла первая навстречу Иисусу и стала ему жаловаться, что умер брат. С другой стороны, Мария, преклоняющаяся в рассказе Иоанна перед Иисусом и изливающая дорогое и благовонное миро на ноги Иисуса, совершенно тождественна с той Марией, которая, по словам Луки, сидела у ног Иисуса и слушала слово его, позабыв о всех иных делах. Так вот спрашивается, какое из предположений правдоподобнее: то ли, что повесть Иоанна фактически верна, что, стало быть, Мария миропомазала Иисуса, что Мария и сестра ее проживали в Вифании близ Иерусалима, что именно в их дом Иисус заходил при своем последнем праздничном путешествии в Иерусалим, но весть об этом в предании не сохранилась, так что имя женщины, помазавшей Иисуса, забылось, и через несколько десятков лет никто в той местности уже не помнил ни сестер вифанских, ни их жилища в селении Вифании, которое, однако, даже после разрушения своего считалось освященным местом у христиан; или правдоподобнее то предположение, что по существу верна повесть синоптиков, которые свидетельствуют, что в Вифании, в доме человека, не состоявшего в дружбе с Иисусом, какая-то неведомая женщина миропомазала Иисуса и что в другом месте, в Галилее, проживали две женщины — сестры Марфа и Мария, которые охотно слушали проповедь Иисуса и принимали его в своем доме, но автор четвертого евангелия эти разрозненные и отрывочные данные искусно скомбинировал в один связный рассказ, так что Мария, сидевшая у ног Иисуса и слушавшая его слово, превратилась в Марию, миропомазавшую ноги Иисуса, а Марфа хлопотала и суетилась по хозяйству в доме, и обе сестры оказались проживающими в селении Вифании и состоящими в интимной дружбе с Иисусом? Разрешая предложенный вопрос, мы ввиду сказанного выше склонны считать неправдоподобным первое предположение, но, чтобы доказать это, мы должны подробнее рассмотреть взаимоотношение обоих евангельских рассказов.
Доселе мы игнорировали брата упомянутых сестер Лазаря, о воскрешении которого мы говорили выше. О нём синоптики тоже должны были бы умолчать в первом из вышеуказанных случаев, как это ни немыслимо при своеобразном характере того чуда, которое над ним было сотворено. Но синоптическое предание о нём не вовсе забыто: у Луки тоже говорится о некоем Лазаре. Правда, здесь речь идет не о действительном, а о гипотетическом Лазаре, о бедном Лазаре, который лежал у ворот богача в струпьях и питался крохами, падавшими со стола богача, и который после своей смерти отнесен был ангелами на лоно Авраамово и возбуждал зависть в богаче, попавшем после смерти в ад и мучившемся в адском пламени (16:19). Но оба Лазаря родственны друг другу, хотя Лазарь евангелиста Иоанна не беден — в противоположность гипотетическому Лазарю евангелиста Луки, но он тоже болен, и в начальных фразах того и другого рассказа замечается большое сходство: Иоанн начинает свой рассказ так (11:1): «был болен некто Лазарь из Вифании», а у Луки (16:20) притча о богаче и нищем начинается так: «был некоторый нищий, именем Лазарь». Далее, оба Лазаря помирают и предаются погребению, но один из них затем воскресает, а другой мог бы воскреснуть, но не воскресает вследствие особенных причин. В притче о богаче и нищем богач, мучаясь в аду, просит Авраама послать Лазаря в дом отца и образумить пятерых братьев, чтобы они тоже не попали в ад (Лк. 16:28). Но Авраам этой просьбы богача не исполняет, потому что он предвидит, что если братья богача не слушаются Моисея и пророков, то не послушаются и не «поверят» и тогда, когда к ним явится кто-либо из воскресших мертвецов. И праотец был в данном случае прав: разве не воскрес из мертвых сам Иисус и разве «поверили» ему иудеи? Разве не воскрес и Лазарь евангелиста Иоанна (как бы во исполнение желания богача) и разве иудеи поверили ему, разве иудеи не решили именно тогда убить Иисуса?
Как же теперь быть? Следует ли предположить, что исторический Лазарь в предании превратился в Лазаря гипотетического, что история чудесного воскрешения его превратилась в притчу, и действительно случившееся, фактическое событие (оживание умершего) превратилось в событие гипотетическое, мнимое? Но кто имеет представление о том, как подобные рассказы превращаются и изменяются в процессе своего развития, тот скорее остановится на противоположном предположении и подумает так: четвертый евангелист ввел в свой рассказ из третьего евангелия двух женщин — сестер, проживавших в одном селении и дававших у себя приют Иисусу, для того чтобы одна из них совершила знаменитое миропомазание, а другая «служила» на той вечери, на которой совершалось это миропомазание. Если же для этой цели ему пришлось переместить их в Вифанию, где, по словам предания, совершилось означенное миропомазание, то и для истории воскрешения умершего наиболее подходящим местом ему показалось то же селение Вифания. Этим чудесным воскрешением умершего евангелист предполагал завершить и увенчать всю чудотворную деятельность Иисуса; это чудеснейшее чудо должно было, по мысли автора, довести озлобленность иерусалимских иерархов и фарисеев до наивысшей степени, а потому оно должно было случиться в самое последнее время, и либо в самом Иерусалиме, либо в окрестностях его. Но переносить его в сам Иерусалим было неудобно, потому что прагматизм четвертого евангелия гласит, что Иисус в то время уже избегал появляться в Иерусалиме ввиду преследований, которым он подвергался со стороны своих врагов, а потому евангелист решил избрать местом совершения означенного чуда одно из близлежащих селений, именно Вифанию, где совершилось, по преданию, миропомазание Иисуса. Там же проживали и означенные сестры, и, следовательно, было естественно присовокупить к ним брата в лице того же Лазаря. Что именно путем таких соображений пришел четвертый евангелист к своему рассказу, что он сначала взял сестер из третьего евангелия и уж затем присовокупил к ним брата Лазаря, это явствует из первых слов евангелиста о сестрах (11:1): «Был болен некто Лазарь из Вифании, из селения, где жили Мария и Марфа, сестра ее. Мария же, которой брат Лазарь был болен, была та, которая помазала Господа миром и отерла ноги Его волосами своими». Так выражаются о брате лишь тогда, когда сестры его более известны, чем он сам, а о Марфе и Марии речь была в третьем евангелии, где говорилось, что к ним зашел Иисус, на что именно указывает и четвертый евангелист, заявляя, что Вифания есть то селение, «где жили Мария и Марфа»; у Луки же рассказ начинается с замечания о том, что во время странствий Иисус забрел в одно селение, где его приняла к себе Марфа; но четвертый евангелист добавляет, что Мария была та женщина, которая «помазала Господа миром», о чём он повествует лишь позднее, и это замечание, видимо, им сделано впервые. Очевидно также и то, что Лазаря он вводит в рассказ впервые, ибо «каким-то» Лазарем, братом известных сестер, не был тот Лазарь, над которым Иисус сотворил величайшее из чудес своих и которого он любил, как сестер его.
Итак, обеих сестер четвертый евангелист переместил в Вифанию и это селение он признал подходящим местом для сотворения заключительного чуда Иисуса, для воскрешения умершего. Ему представлялось вполне естественным к духовно воскресшим сестрам присовокупить телесно воскресшего брата. Для более подробного описания воскрешения умершего синоптические рассказы не годились. Евангелист хотел иметь действительно умершего и даже погребенного человека, а таковыми не были ни дочь Иаира, ни отрок вдовы Наинской; но у Луки упоминается покойник, который, хотя и был лишь героем притчи, но был уже погребен и несомненно мертв, так как душа его была отнесена ангелами на лоно Авраамово. Этот покойник тоже мог бы воскреснуть и вернуться на землю, если бы его возвращение не было признано бесцельным, ибо ему не удалось бы образумить братьев умершего богача. Но четвертый евангелист признал полезным воскресить и вернуть на землю мертвеца, чтобы констатировать и оттенить закоснелое неверие народа иудейского. Поэтому из всех героев синоптической традиции четвертый евангелист признал наиболее подходящим героем истории воскрешения того Лазаря, о котором говорится в притче Иисуса у Луки. Теперь мы ясно видим, откуда взял четвертый евангелист своего Лазаря и почему другие евангелисты умалчивали о Лазаре, которого воскресил Иисус из мертвых, и на этом мы можем наше изыскание закончить.
Однако мы еще посмотрим, как отнеслись к истории Лазаря другие исследователи. По этому вопросу новейшая теология тоже руководилась мнением Шлейермахера.
Как известно, Шлейермахер утверждал, что те два мертвеца, которых воскресил Иисус, по свидетельству синоптиков, были мнимоумершими. Относительно одного рассказа он, по примеру заурядных экзегетов, ловит на слове Иисуса, который сам-де заявлял, что «девица не умерла — но спит», а относительно другого рассказа Шлейермахер замечает, что, учитывая иудейский обычай хоронить умерших рано, можно предположить, что отрок Наинский, вероятно, был мнимоумершим. Но Лазарь успел пролежать в гробу четыре дня и, очевидно, уже начал разлагаться. На это Шлейермахер возражает: разлагаться он не начинал в действительности, то было только предположение сестры его, Марфы; с другой стороны, данное чудо Иисус не приписывает одному себе, да и не мог бы приписать себе такой творческий акт, не нарушая своего человеческого естества, он выпрашивает это чудо у Бога, и Бог сотворяет чудо в угоду Иисусу. Но что означает это возражение фактически? Оно равносильно заявлению о том, что Лазарь хотя и пролежал несколько дней в гробу, но был мнимоумершим, а не настоящим покойником и что он ожил благодаря вмешательству Иисуса случайно, хотя и произволением промысла Божия.
Теперь мы понимаем, отчего сам Шлейермахер не признавал назидательного характера или дидактического значения за евангельским рассказом о Лазаре: в том смысле, в каком он понимал этот рассказ, ни дидактического, ни какого-либо иного значения он действительно не имеет. От более подробного рассмотрения того, как вел себя при этом чуде Иисус, Шлейермахер благоразумно уклонился. Однако же невольно мы задаем себе вопрос: если Иисус возлагал надежды на случайность, на то, что Лазарь, пролежав четыре дня в гробу, всё же окажется лишь мнимоумершим, а не действительным покойником, то как же он не постеснялся у гроба Лазаря произнести речи, которые должны были казаться пустой болтовней, если бы он не был вполне уверен в том, что ему удастся вернуть к жизни друга? Швейцер по этому поводу замечает, что необходимо принять в данном случае во внимание прагматическое и психическое состояние Иисуса: то было время, когда Иисус выехал в Перею от преследований иерусалимских властей и чувствовал себя подавленным, хотя мессианское самосознание в нём уже вполне окрепло и развилось; при таких условиях Иисус, по мнению Швейцера, мог быть уверен, что Бог не оставит его. К этому Газе добавляет (дело известное — рука руку моет постоянно!): тому, кто видел собственными глазами, как очнулась (мнимоумершая) дочь Иаира, естественно было перейти от желания к надежде, а затем и к дерзновенной уверенности в том, что в данном случае, когда индивидуальное желание его совпадало с интересами прославления Царства Божия, Бог услышит его молитву о воскрешении друга. Затем Швейцер продолжает: если такой уверенности соответствует внешнее событие, которое не есть настоящее чудо, то всё-таки перед нами сотворяется некоторое чудо, именно чудо исполнения надежд, возложенных на Бога. Таким образом, фактом, нужным в данном случае, представляется, по мнению Швейцера, не оживание мнимоумершего человека, а совпадение этого события с надеждами Иисуса и с его приказом открыть гроб покойника. Да и почему же жизни Иисуса, вопрошает наш теолог-эстетик, не могло бы быть таких случаев, когда его слепые надежды исполнялись, если и поэт наш говорит, что «в жизни человека встречаются минуты, когда» и т.д. Но следует заметить, что теологи, наряжающиеся в перья наисовременнейшей поэзии, сплошь и рядом грубо искажают цитируемых поэтов. Им даже не приходит в голову, как сильно они вредят тому герою поэтического произведения, слова которого они цитируют, извращая подлинный их смысл. В данном случае герой про себя решил, что первый, кто завтра придет к нему и станет дружественно изливаться есть его вернейший и преданнейший друг, но в действительности пришедший «друг» оказался подлым предателем. Так будто бы и Иисус решил, что Бог ему в угоду не даст умереть его другу или воскресит его, и эта дерзкая уверенность Иисуса будто бы фактически оправдалась. По этому поводу Эбрард справедливо замечает: такое объяснение построено на том предположении, что Иисус дерзко искушал Бога, и потому оно менее понятно, чем недоумение всех противников критиков евангельских, взятых вместе. К этому необходимо лишь добавить, что такое объяснение позорит Иисуса так, как не позорит его критика натуралистов и насмешников.
Вопрос не разрешается также и тогда, когда Ренан утверждает, что воскрешение Лазаря есть не случайная удача Иисуса, а интрига сестер вифанских. По его словам, возмущенные дурным приемом, который встретил их обожаемый друг в Иерусалиме, сестры вифанские попытались будто бы «устроить» такое происшествие, которое заставило бы недоверчивых иерусалимцев уверовать в обожаемого ими Иисуса. Таким происшествием могло быть чудо и, в частности, чудесное воскрешение из мертвых человека, небезызвестного в Иерусалиме. И вот, когда Иисус находился в Перее, захворал Лазарь; перепуганные сестры послали звать на помощь друга Иисуса, но, прежде чем успел прийти к ним Иисус, больной выздоровел, и тогда сестрам его пришла в голову блестящая идея: бледного, еще не вполне оправившегося Лазаря они обвили погребальными пеленами, как покойника, и положили в могильную пещеру. Когда стал подходить к селению Иисус, навстречу ему вышла Марфа и отвела его к могиле брата; тут Иисус пожелал еще раз взглянуть на друга, и, когда был отвален камень от пещеры, Лазарь вышел из гроба живой, и все присутствующие уверовали в это «чудо». А Иисус? Ужели он тоже поддался на столь грубо задуманный обман? Или, быть может, он и сам принял в нём участие? Ренан отвечает: Иисус, как впоследствии св. Бернард и Франциск Ассизский, не в силах был обуздать ту жажду чудес, которая одолевала его сторонников. Он вынужден был нехотя творить чудеса, которых от него ждали и требовали окружающие; в этой борьбе с мирянством и благодаря людской испорченности он, наконец, и сам начал утрачивать чистоту помыслов и, доведенный до полного отчаяния, перестал уже владеть собою, и только смерть, вскоре постигшая его, освободила его от этой тягостной и ему несвойственной роли.
Действительно, тому, кто в истории Лазаря видит не истинное чудо, остается лишь одно из двух: либо отстаивать правдивость рассказа, в ущерб чести и достоинству Иисуса (как делают вышеупомянутые толковники), либо отстаивать честь Иисуса и здравый смысл в ущерб правдивости рассказа. Нельзя не одобрить Эвальда за то, что он, хотя и не без колебаний и оговорок, предпочел последний выход. Историческим он признаёт не весь рассказ Иоанна вместе со всеми его деталями, а лишь основное, общее содержание его. Он говорит:
«Не подлежит сомнению, что Лазарь был пробужден и выведен из гроба Христом (заметьте — Эвальд не говорит, что Лазарь был „воскрешен“ Христом из мертвых), но в то же время следует признать, что в данном случае рассказ апостола проникнут особым духом и возвышенной идеей. Воспоминание о некогда случившемся воскресении умершего ему служило знамением и гарантией всеобщего воскресения мертвых, которое должно произойти при кончине мира и начале новой жизни, наступления которой ждали радостно все современники апостола. Отдельные детали происшествия, воскресавшие в его памяти, представлялись ему составными элементами этой высокой истины, и, охваченный всецело безграничною надеждой, он обращал взоры свои к прошлому, некогда им лично пережитому и виденному, и написал живо и наглядно всё, что сохранилось в его памяти относительно знамения, внушавшего столь блаженную уверенность.»
Стало быть, апостол Иоанн, по мнению Эвальда, записал в преклонных летах всё, что ему помнилось о воскрешении Лазаря, и записал он это с тою горячностью чувства и воображения, которую в нём возбуждала твердая надежда на предстоящее всеобщее воскрешение умерших Христом, и его повесть прошлого была (как выражается сам Эвальд) просветлена отблеском грядущей славы. Но замечание можно и должно понимать лишь в том смысле, что перспектива будущего отразилась лишь на форме Иоаннова рассказа, сделав изложение живым и патетическим, а содержание его рассказа по-прежнему осталось основанным на действительных воспоминаниях. Но в таком случае исторически достоверным в рассказе евангелиста приходится признать не только то, на что указывает сам Эвальд, что Лазарь был действительно «пробужден и выведен из гроба» Христом, или, как Эвальд выражается в другом месте, что Христос «спас заблудшего от гибели»; ибо это последнее выражение при всей своей двусмысленности и неопределенности показывает, что в истории чудесного воскрешения Лазаря Эвальд видит просто указание на то, что Лазарь заблуждался или погибал и был спасен от гибели Иисусом, когда последний приказал (неведомо зачем и почему) открыть гроб Лазаря и тем самым дал ему возможность очнуться от смертоносного самозабвения и воскреснуть к новой жизни. Стало быть, всё то, что в поведении и речах Иисуса выходит за пределы такого естественного и, видимо, случайного факта, что обращает этот факт в чудесное событие, подтверждавшее божественное достоинство и происхождение Иисуса, — всё это, по мнению Эвальда, было лишь придатком или измышлением самого евангелиста, писавшего рассказ под впечатлением чарующих надежд и ожиданий. Но что сказать об евангелисте, который даже и в преклонных летах так сильно искажал события исторического прошлого? Какую ценность имеют показания такого повествователя-евангелиста? И если к его Христу действительный Христос относился так, как, по словам Эвальда, исторически достоверная основа в рассказе о воскрешении Лазаря относится к тому, во что ее превратил евангелист Иоанн, то что же остается нам от Иоаннова Христа? Нет! Лучше уж совсем отбросить этот жалкий обрывок мнимоестественного, нелепого происшествия, который в качестве мнимоисторической основы евангельского рассказа обращает Иисуса в какого-то безумца, а самого евангелиста — в брехуна; лучше совсем отбросить эту нереальную, фантастическую «вещь в себе» и откровенно сознаться, что в данном случае мы имеем дело с чисто идеальным произведением евангелиста или поэмой, из которой мы ничего не узнаем о действительном Иисусе и которая лишь нам показывает, как отражалось в уме образованного христианина-александрийца то представление о высокой божественной природе Христа — Иисуса, которое уже начинало слагаться у иудео-христиан и, главным образом, культивировалось в кругу христиан-паулинистов.
§78. Хождение по водам
Иисус обычно проживал у моря Галилейского, на берегах которого протекли почти все главные события его жизни и общественного служения; поэтому весьма естественно, что многие рассказы о сотворенных Иисусом чудесах отнесены к окрестностям того же моря Галилейского. Одни рассказы такого рода можно назвать рассказами о рыбаках а другие — рассказами о моряках, ибо в одних говорится главным образом о рыболовстве, которым занимались некоторые ученики Иисуса, а в других — о самом море Галилейском и о плавании учеников по этому озеру-морю. Из рассказов первой категории мы отмечали уже выше рассказ Луки о чудесном лове рыбы в связи с фактом наименования Петра и других учеников Иисуса «ловцами человеков», а также рассказ автора последней (добавочной) главы в Евангелии от Иоанна о чудесном лове рыбы на море Тивериадском. Теперь нам остается рассмотреть из той же группы «морских сказаний» только рассказ о статире, найденном, по указанию Иисуса, Петром в пасти рыбы (Мф 17:24–27).[229]
Этот рассказ, чрезвычайно характерный для Матфея, видимо, не допускает никаких толкований или объяснений: даже верующий в чудеса толковник не сумел бы объяснить, зачем нужно было Иисусу сотворить столь удивительное чудо — поимку рыбы, в пасти которой лежал статир, и как могло без нового, второго чуда случиться то, что эта рыба, хватаясь за крючок уды, не уронила изо рта статир? Некоторые объяснили это чудо в том смысле, что статир не был найден в пасти выуженной рыбы, а был просто выручен от продажи рыбы; но такому объяснению противоречит текст рассказа, повествующий, несомненным образом, о том, что статир фактически был найден в пасти рыбы. Другие толковники указывали на то, что в Матфеевом рассказе речь идет лишь о приказе Иисуса — пойти, бросить уду в море и извлечь статир из пасти первой попавшейся рыбы, но не говорится, что Петр фактически исполнил этот приказ и действительно нашел статир в пасти рыбы; поэтому в последнее время они стали утверждать, что упомянутый приказ Иисуса следует понимать иносказательно и приравнивать его к пословицам и поговоркам, вроде немецкой поговорки: die Morgenstunde hat Gold im Munde (дословно: «утренний час имеет во рту золото»). Но исполнение приказа и предсказание Иисуса — вещь сама собою разумеющаяся в евангелии. По-видимому, даже и мифически нельзя понять и объяснить данный рассказ о чуде, ибо он представляется не исполнением мессианских упований и не воплощением древнехристианских представлений, а произвольным порождением необузданной фантазии.
Однако, присмотревшись ближе к этому рассказу, мы увидим, что о чуде говорится в нём лишь под конец, а в начале и середине своей он напоминает собой те рассуждения и диспуты, какие в первых трех евангелиях встречаются нередко, в частности — рассказ о динарии (Мф. 22:15; Мк. 12:13; Лк. 20:20). В обоих случаях речь идет о подати: в одном рассказе — о подати для римского кесаря, причем возбуждается вопрос, следует ли иудеям платить эту подать, а в другом рассказе речь идет о подати на храм иудейский, и возбуждается вопрос, должны ли Иисус и ученики его платить этот церковный сбор. В первом случае на предложенный вопрос Иисус ответил утвердительно, велев подать себе монету, которой уплачивается подать кесарю (динарий), а во втором случае Иисус на заданный ему вопрос ответил отрицательно, но, чтобы не «соблазнять» или не озлоблять властей, он согласился уплатить требуемый церковный сбор монетой (статиром), чудесным образом извлеченной из пасти рыбы.
Спор по вопросу о том, не прегрешает ли народ божии против Бога, если кроме власти Бога над собой станет признавать еще власть римского кесаря, этот спор со времен Иуды Гавлонита продолжал постоянно волновать иудеев и потому возможно, что соответствующий вопрос был задан также Иисусу. Менее правдоподобно сообщение о том, будто бы уже при жизни Иисуса возбужден был вопрос об отношении Иисуса и учеников его к уплате сбора в пользу храма иудейского. Лишь значительно позднее, после смерти Иисуса, когда христианская религиозная община стала всё более и более обособляться от общины иудейской, мог появиться и вопрос о том, обязаны ли христиане уплачивать сбор в пользу храма иудейского. Тогда-то, с христианской точки зрения, и мог показаться наиболее корректным тот ответ, что Мессия «больше храма» (Мф. 12; 6), а его последователи суть «род избранный, царственное священство, народ святой» (1 Пет. 2; 9), а потому и не обязаны уплачивать означенную храмовую подать, но что ради мира и спокойствия они всё же соглашаются платить ее. Такой ответ, подобно многим иным идеям и положениям позднейшей эпохи, был впоследствии приписан самому Иисусу и сформулирован по трафарету, представленному в евангельском рассказе о динарии.
Но при чем тут чудо? Иисус, соглашаясь уплатить подать, которой не обязан был платить Мессия, не мог не показать при этом, что это не роняет его высокого достоинства, и потому пожелал добыть сумму сбора сверхчеловеческим и сверхъестественным путем, а при таких условиях чудотворение оказывается делом вполне уместным и даже необходимым.
Но отчего он сотворил именно данное чудо? Здесь, как и во многих других случаях, Петр выступает лидером и выразителем коллективного «общественного» мнения учеников Иисуса. К нему являются сборщики храмового сбора и спрашивают: «Учитель ваш не даст ли дидрахмы?» С ним же вступает в собеседование Иисус по данному вопросу и разрешает вопрос в том смысле, что «сыны царей земных», то есть ученики Иисуса, не обязаны уплачивать никаких пошлин и податей, поэтому и чудо, задуманное Иисусом в целях надлежащего освещения делаемой уступки, естественно, приурочивалось к личности того же Симона-Петра. Но Симон-Петр, по свидетельству древнехристианского предания, был рыбаком, его сам Иисус призвал прежде других учеников от промысла и снастей рыбацких прямо к делу уловления душ человеческих, и ему же ниспослан был чудесно изобильный улов рыбы в ознаменование успеха его будущей апостольской работы. Ему Иисус мог бы и в настоящем случае даровать чудесно изобильный улов рыбы, чтобы из вырученных за добычу денег мог уплатить требуемый храмовый сбор; но Иисус в данном случае не пожелал пойти таким далеким обходным путем. Чудесно изобильный улов рыбы был уместен и планомерен тогда, когда не приходилось добывать определенную сумму денег, а нужно было аллегорически изобразить успех апостольской работы; тогда и сеть могла наполниться обыкновенной рыбой, но только в необыкновенно большом количестве. Но в данном случае надлежало добыть деньги, необходимые для уплаты храмового сбора за двоих людей в размере двух дидрахм или одного статира, и так как Иисус решил Добыть эти деньги чудом, то отчего же не добыть их прямо чистоганом? И так как добывать их приходилось апостолу ловцу, то отчего же не Добыть их уловлением такой рыбы, у которой в пасти находился бы в готовом виде требуемый статир? Но в данном случае предполагалось поймать только одну рыбу, и потому Петру не надо было ставить невод или сеть, а довольно было забросить в море удочку, и так как при съеме рыбы с удочки приходилось открывать ей пасть, то в пасти рыбы и должна была лежать требуемая монета. Но евангелист облегчив задачу для Петра, очень осложнял задачу для пойманной Петром рыбы. Что рыбы часто проглатывают драгоценные предметы и хранят их у себя в желудке, это было всем известно уже со времен Поликрата[230]; но что у рыбы, поймавшейся на удочку, кроме крючка может поместиться в пасти также и монета, этому еще не было примера в истории Вселенной.
Однако это обстоятельство первого евангелиста нисколько не смутило: ведь и при въезде Иисуса в Иерусалим (Мф. 21:7) он, не задумываясь, усадил Иисуса на двух ослов сразу. Но было бы несправедливо полагать, что автор, создавший этот сказочный рассказ о статире, является позднейшим из евангелистов или синоптиком; напротив, тот факт, что этого рассказа нет у Луки и Марка, свидетельствует именно о том, что последние два евангелиста писали свои евангелия позднее, чем Матфей. Вопрос о том, обязаны ли христиане уплачивать сбор в пользу храма иудейского, мог занимать и волновать общество лишь до тех пор, пока существовал самый храм. Таким образом, мы видим, что рассказ о статире нельзя признать даже и новейшим элементом в Матфеевом евангелии. Когда это евангелие редактировалось окончательно, храм Иерусалимский уже был разрушен, но память о существовавших прежде отношениях в Палестине была еще жива. Позднее, когда за пределами Палестины составлялись Евангелия от Марка и Луки, тема Матфеева рассказа показалась авторам этих евангелий уже не интересной, а решение вопроса, данное в этом рассказе, быть может, представлялось слишком юдофильским, и потому они решили вовсе не включать этот рассказ в свои евангелия.[231]
Как все рассказы о рыбаках сводятся к тому, что Иисус дарует своим ученикам изобильный и ценный улов рыбы, так и рассказы о моряках сводятся к тому, что Иисус спасает их от гибели и бедствий, которым они подвергались в бурю, причем в одном случае он сам сидит вместе с ними в лодке, а в другом — является к ним с берега, по водам моря.
Первый рассказ (Мф. 8:23; Мк. 4:36; Лк. 8:22) выглядит правдоподобно. Вполне возможно, что после трудов дневных Иисус уснул, а в море началась буря, и что испуганные ученики разбудили его и просили спасти их, а он сделал им внушение за их малодушие и маловерие. Но, с другой стороны, весьма неправдоподобно то, чтобы Иисус «запретил» ветрам и морю, а ветры и море повиновались ему и наступила «великая тишина», если сам Иисус не считал себя неограниченным властелином природы или не был хвастуном и обманщиком. Но первое из этих предположений относительно Иисуса вполне немыслимо, а второе исключается всем тем, что нам известно об Иисусе и что мы признаем правдоподобным. Но относительно Иеговы в псалме 105 (9) действительно говорится, что он «запретил» Чермному морю, и воды его расступились, и народу Божию удалось пройти по дну моря среди расступившихся вод моря. Поэтому естественно, что и наместнику Божию, Мессии, приписана была власть над бурным морем и умение укрощать бурю.
Однако вполне уразумеем мы рассказ этот лишь тогда, если мы возьмем во внимание не только Иисуса лично, но также учеников его и самоё лодку. Поэты греческие и римские любили изображать общество, борющееся с различными опасностями и бедствиями, в виде корабля застигнутого бурей среди моря. Так и отцы церкви христианской усматривали в ладье, борющейся с волнами морскими, эмблему Христовой церкви, а в буре и в волнах морских — символ гонений, которым церковь подвергалась в мире. Что подобная символика не возникла в христианском мировоззрении самобытно, а была привнесена от иудеев — это весьма убедительно показал уже знаток иудейства, Генгстенберг; он обратил внимание на то, как в 106-м псалме возвращение народа израильского из плена вавилонского символизировано в образе мореплавателей, которых сам Иегова благополучно высаживает на берег моря после перенесенной ими бури и непогоды; в этом псалме говорится следующее: «Он речет, — и восстает бурный ветер, и высоко поднимает волны его (моря)… Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их. Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают. И веселятся, что они утихли, и Он приводит их к желаемой пристани». Правда, Генгстенберг полагает, что Иисус в соответствии с указанием псалма и его символикой действительно прекратил бурю, дабы этим чудом фактически ознаменовать ту защиту, которую он будет оказывать своей церкви до окончания веков во всех бедствиях и опасностях, постигающих ее; мало того, Генгстенберг утверждает вообще, что символические действия Христа, отмечаемые в Новом завете, всегда предопределялись ветхозаветными прообразами. Поскольку к категории подобных символических действий принадлежат и чудеса, постольку мы согласны признавать тезис Генгстенберга, сформулировав его иначе. Но мнение Генгстенберга сводится к тому, что прообразы, созданные ветхозаветными писателями, практически были осуществлены Иисусом, а наше мнение таково, что все вышеозначенные прообразы превращены были в деяния позднейшею легендой и что в действительности Иисус таких деяний не совершил.
Из посланий Павла мы знаем, что первые христиане на своих собраниях между прочим распевали псалмы и иные благочестивые гимны ради собственного «назидания» (1 Кор. 14:26; Ефес. 5:19; Колос. 3:16). В Деяниях апостолов (4:26) приведен один из подобных гимнов, но он представляет собой вольную переработку псалма 2: «восстали цари земные на Господа и на Христа Его». Так, вероятно, распевались и подлинные псалмы, если в них усматривали какое-либо отношение к положению Христовой церкви, и, в частности, 106-й псалом, отмеченный Генгстенбергом. Этот псалом составлен от лица людей, спасенных «от руки врага» десницею Господа и собранных воедино от всех земель и стран востока, запада и севера и от берегов моря. Но христиане признавали, что и они соберутся воедино с востока и запада, с севера и юга, чтобы возлечь в Царствии небесном (Мф. 8:11; Лк. 13:29), и что Христос и их избавил «от руки врага», то есть от руки дьявола и его прислужников (Лк. 1:71). Затем под бурей морской, от которой, по словам псалма, избавились спасенные, ныне разумелись уже не бедствия народа Божия, а те гонения, которым скоро стала подвергаться христианская община Мессии —— Иисуса, а Господом, к которому они взывали о спасении и который властно успокоил бурное море, ныне считался не Иегова, а Христос; но при таких условиях прообраз сам собою превращался в факт истории, и именно в чудесный факт. Иисус, как настоящий человек, некогда действительно жил на земле, поэтому и успокоение бури морской тоже стало признаваться его действительным деянием, а люди, которых он при этом спас от гибели, были, конечно, те апостолы и ученики, которые группировались около Христа во дни его земной жизни. С другой стороны, как мы уже сказали выше, вполне возможно, что Иисус когда—то действительно пережил бурю на море Галилейском вкупе с учениками своими и что при этом он обнаружил большое мужество и самообладание, однако исторический характер нельзя признать даже за той возможной основой или канвой, на которой древнехристианская символика создала — по трафарету вышеуказанного псалма и независимо от фактов жизни Иисуса — евангельский рассказ о чуде, сотворенном Иисусом: рассказ этот был и остался произведением поэтическим, подсказанным всем настроением древних христиан.
Как ни желателен и дорог был этот рассказ для древних христиан по своему успокоительному тону и символическому смыслу, но всё-таки он не свободен от многих недостатков. Бедствие постигло учеников тогда, когда при них находился в лодке сам Иисус. Но разве может грозить опасность и беда Христовой церкви в то время, когда в ней соприсутствует Господь? Правда, Иисус спал, когда начиналась буря, но пастырь Израиля не дремлет и не спит никогда (Пс. 120:4). Все и всякие беды постигают Церковь лишь тогда, когда Христос покидает ее. Правда, Христос пребудет со своей церковью во все дни до скончания веков (Мф. 28:30); но он пребывает с нею неразлучно лишь в духовном смысле, а телесно он удалился от нее и предоставил ее самой себе, дабы она в своей борьбе с мирянством всё более и более очищала и закаляла себя. Но христианам было желательно из рассказа о чуде почерпнуть уверенность в том, что Христос не вовсе оставил церковь без своей помощи и поддержки и что он придет к ней на помощь, когда опасность и беда достигнут высшей степени. Поэтому в другом евангельском рассказе (Мф. 14:22; Мк. 6:45; Ин. 6:16) говорится о том, как ученики однажды плыли по морю на лодке без Иисуса (причину отсутствия Иисуса евангелист объясняет весьма натянуто указанием на то, что Иисусу надо было «отпустить» народ после того, как он накормил его чудесно размножившимися хлебами). Отпустив народ, Иисус взошел на тру помолиться, и оттуда, по словам Марка, он увидел, что с наступлением вечера лодку учеников посредине моря настигла буря и что ученики «бедствуют в плавании», ибо «ветер им был противный» (по словам Матфея, буря поднялась не вдруг, а постепенно). Потом Иисус спокойно наблюдает, как борются ученики с «противным» ветром среди моря, и наблюдает долго, так как лишь «около четвертой стражи ночи», т.е. на рассвете, Иисус решил пойти к ним на помощь. 0 том, что никто не знает, в который час Господь придет, и что поэтому необходимо бодрствовать всегда в ожидании Божия суда, Иисус, по свидетельству евангелистов, говорил неоднократно (Мф. 24:42; 25:6). Затем однажды (Мк. 13:35) Иисус, в соответствии с обычным разделением ночи на четыре стражи, прямо заявлял, что необходимо бодрствовать, ибо никто не знает, когда «придет хозяин дома: вечером, или и полночь, или в пение петухов, или поутру». Вот почему и в данном случае евангелист отметил, что неизвестен час, в который Христос пожелает подать помощь погибающим, и что он мог прийти на помощь очень поздно — в четвёртую стражу ночи.
Но тогда спрашивается: как же Иисус подает помощь погибающим среди моря ученикам, если сам он стоит на берегу? Но для Мессии вопрос этот не представляет ни малейших затруднений, для него весь вопрос сводится к тому, чтобы прийти на помощь наиболее приличествующим образом. Летания по воздуху еврейская легенда не одобряла, а в легенде древнехристианской такой способ перемещения приписывался злому волшебнику Симону, который, по словам легенды, перелетал через моря и реки, как гипербореец Абарис[232]. Ветхозаветные чудотворцы переправлялись через реки, протягивая перед собою посох (Лев. 14:16) или ударяя плащом своим по водам (4 Цар. 2:14), а иногда носителям святыни достаточно было вступить в реку (Нав. 3:13), чтобы вода расступилась перед ними, так что они переходили по сухому дну реки. Но все эти способы переправы, известные из библейской истории со времен Моисея, Иисуса Навина и Елисея, в данном случае оказывались непригодными. Иисусу приходилось не переправляться через реку на другой берег, а добираться до лодки, плывшей посредине моря, поэтому было неудобно идти по дну моря среди расступившихся вод. Тут оставалось лишь одно —— идти прямо по самой поверхности воды, и этот способ переправы представлялся не только безусловно легким для Мессии, но и наиболее «приличным». Так именно ходил и сам Иегова. Когда израильтяне шли Чермным морем, Иегова следовал за ними в виде столба огненного, и это сообщение в поэтической переработке изъяснялось в том смысле, что Иегова шел по самому морю, а не посреди расступившихся вод моря. Когда Исаия заявляет (43, 16): «так говорит Господь, открывший в море дорогу, в сильных водах стезю», тогда мы еще остаемся на почве Моисеева рассказа; но когда псалмопевец заявляет (Пс. 76:20): «Путь Твой в море, и стезя Твоя в водах великих, и следы Твои неведомы», то отсюда был уже один лишь шаг до того представления, которое мы находим в книге Иова (9:8), где говорится, что Бог ходит «по высотам моря» (или по греческому переводу: «шествующий по морю, как по суше»). Поэтому и в данном случае могло показаться, что Мессии—Иисусу приличнее всего шествовать по поверхности воды — наподобие Иеговы.
Здесь будет нелишним показать, как в данном рассказе выразилась индивидуальность каждого из евангелистов. Марк, как мы знаем, заявляет, что Иисус, стоя на горе, увидел посредине моря лодку и на ней «бедствующих в плавании» учеников, и это заявление правдоподобно, хотя и нелегко понять, как мог Иисус увидеть лодку вечером и притом вдали. Но еще большее недоумение возбуждает дальнейшее сообщение евангелиста, что около четвертой стражи ночи Иисус подошел к ученикам «по морю», и особенно непонятно добавление, что Иисус «хотел миновать их». По мнению Эвальда, эти слова евангелиста означают только то, что Иисус хотел вслед за учениками перейти море, т.е. переправиться на другой порог; но такое толкование слов евангелиста произвольно, ибо Марк прямо говорит, что Иисус «хотел миновать» учеников, т.е. пройти мимо их лодки, и он действительно миновал бы их, если бы они не «вскричали», когда увидели его «идущего по морю», и не заставили его откликнуться и подойти к ним ближе. Вначале могло показаться, что Иисус, увидев издали, как «бедствуют в плавании» ученики, пожелал пойти к ним и помочь им, но вышеприведённое добавочное замечание Марка, что Иисус, идя по морю, «хотел миновать их», наводит на иную мысль: оно заставляет думать, что Иисус решил было и далее предоставить учеников себе самим, и хотел лишь сам перейти на другой берег моря, идя прямо по его поверхности. Избирая столь необычный способ перемещения, как хождение по воде, не ради чудотворения, а как обыкновенный и привычный способ переправы, Иисус тем самым показывал, что он — существо сверхъестественное и необыкновенное, а евангелист, подтверждающий подобное представление об Иисусе, не может быть признан первичным евангелистом.
Впрочем, такую же странность мы находим и в соответствующем рассказе Иоанна. Описав отплытие учеников, он продолжает (6:17): «Становилось темно, а Иисус не приходил к ним». Но как могли ученики надеяться, что Иисус придет к ним, когда они отплыли на середину моря? Они могли ожидать его в том случае, если он сам обещал им прийти, но в рассказе об этом ничего не говорится, да ученики и не «испугались» бы, увидев Иисуса, «идущего по морю», если бы знали, что он придет. Поэтому необходимо допустить, что ходить по водам было делом обыкновенным для Иисуса, как то заставляет думать добавочное замечание Марка, а это обстоятельство нам подтверждает, в свою очередь, что четвертый евангелист свои рассказы о чудесах Иисуса брал у второго евангелиста.
Когда Иисус приблизился к лодке и успокоил испугавшихся учеников, сказав: «Это Я, не бойтесь», тогда, по словам Матфея, между Иисусом и Петром произошел своеобразный разговор (14:28). Как бы желая убедиться, что Иисус, шествующий по воде, не есть призрак, Петр говорит ему: «Господи! если это ты, повели мне прийти к тебе по воде». Иисус сказал: «Иди», и, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу, но затем Петр испугался сильного ветра и, начав тонуть, закричал: «Господи! спаси меня». Тогда Иисус простер руки к нему и, поддержав его, сказал ему: «Маловерный! зачем ты усомнился?» В этом добавочном эпизоде, рассказанном у Матфея, по нашему мнению, заключается весьма глубокая мысль, которой не содержится в вышеупомянутом добавочном сообщении Марка. Эккерман передает о Гёте, что последний считал этот рассказ евангелиста одной из прекраснейших и драгоценнейших легенд, ибо в нём проведена та справедливая идея, что человек верующий и энергичный может преодолеть все трудности, а тот, кто теряет веру и поддается сомнениям, гибнет неминуемо. Но чтобы понять происхождение этого рассказа, мы должны вернуться к Ветхому завету, и именно к рассказу о том, как израильтяне шли Чермным морем. Израильтян, благополучно прошедших по дну моря, преследовали египтяне с тыла, но воды моря сомкнулись снова и поглотили их. Но почему постигла египтян такая участь? Автор Послания к евреям (11:29) говорит: «Верою перешли они (израильтяне) Чермное море, как по суше, на что покусившись, Египтяне потонули». Стало быть, они потонули оттого, что у них не было веры, как и в данном случае Петр чуть не потонул тогда, когда у него поколебалась вера. Параллель между евангельским и Моисеевым рассказом дополняется тем обстоятельством, что даже член общины Иисуса Петр готов был утратить веру в минуту опасности, и только потому не вовсе он ее утратил, что сам Иисус молился о нём, чтобы не оскудела вера в нём (Лк. 22:32). Поэтому Петр в данном случае и не погиб окончательно, как погибли египтяне, а только начал тонуть и был поддержан десницей Иисуса. Второй и третий евангелисты опустили этот эпизод, и вообще опускали многое, касавшееся Петра лично, и только автор дополнительной главы четвертого евангелия, по особым соображениям вновь уделивший внимание Петру, включил этот эпизод в свой (нами уже выше рассмотренный) рассказ, хотя и сильно изменил его.[233]
Далее, по словам Матфея и Марка, Иисус вошел в лодку учеников, а ветер стих, и лодка без всяких приключений доплыла до противоположного берега моря, хотя плыть приходилось, видимо, еще далеко, так как лодка находилась посредине моря, когда Иисус отправился к ней на помощь. Но, по словам четвертого евангелиста, ученики хотели принять его в лодку, а лодка тотчас пристала к берегу, и, таким образом, Иисусу, очевидно, не пришлось сесть в лодку. Стало быть, то, что, по словам Марка, Иисус намеревался сделать, то есть перейти море, минуя лодку учеников, то, по словам Иоанна, он действительно исполнил, то есть перешел море и дошел до другого берега, не садясь в лодку и, быть может, даже ускорив чудесным образом ход лодки. Стало быть, и тут четвертый евангелист подражает второму евангелисту в преувеличении размеров чуда, но опять-таки в итоге получает результат, противоположный результату предположенному, хотя бы и для нашего времени, ибо то обстоятельство, что, по словам Иоанна, Иисус присоединяется к ученикам близ самого берега, побудило даже расположенных к Иоанну теологов вспомнить Павла и предположить, что Иисус шел не по морю, а кругом моря берегом, и что ученикам в тумане утреннем лишь показалось, что Иисус идет по морю, потому-де Иоанн не говорит прямо (как прочие евангелисты), что Иисус шел по водам моря, а заявляет только, что ученики «увидели Иисуса, идущего по морю и приближающегося к лодке».[234] Но это ни в коем случае не означает, что ученикам лишь «показалось», будто Иисус идет по морю, и, кроме того, весь рассказ евангелиста теряет смысл и значение, если Иисус действительно пришел к ученикам путем и способом естественным.
Мнение и намерение четвертого евангелиста было как раз иное, это явствует из его дальнейшего рассказа о том, как народ, оставшийся на противоположном берегу моря, стал пересчитывать лодки, отплывшие в море, и убедился, что Иисус не входил в лодку с учениками и что ученики отплыли одни. А именно когда народ, который на восточном берегу моря был накануне чудесным образом насыщен Иисусом, на следующий день не нашел там ни Иисуса, ни учеников его, то стал он рассуждать так: 1) на лодке Иисус не мог переплыть на противоположный берег моря, потому что а) он не входил в лодку с учениками и б) кроме той лодки, в которую вошли ученики, у берега их не было иных лодок. Но 2) сушей или берегом Иисус тоже не мог перейти на противоположную сторону. Когда народ, ища Иисуса, сел на суда и переплыл на противоположный берег, то там действительно нашел Иисуса, а в столь короткий срок Иисус не мог бы прийти на это место сухим путем, обойдя всё море. Таким образом, перебрав все естественные способы переправы Иисуса, народ приходит к допущению сверхъестественного способа, и потому он с изумлением спрашивает Иисуса: «Равви, когда ты сюда пришел?», то есть на западный берег моря. Чтобы дать народу возможность скорее прийти к такому выводу, евангелист облегчает ему переправу, предоставляя в его распоряжение какие-то «другие» лодки, пришедшие из Тивериады (6:23), то есть лодки рыбацкие, которые евангелист, видимо, взял из рассказа Марка (4:36) об успокоении бури, хотя и целой флотилии лодок в действительности не хватило бы для скорой переправы толпы в 5000 душ, не считая женщин и детей. Стало быть, Иоанн сознательно подчеркивает и в данном рассказе чудесный элемент, и тому, кто не захочет вместе с ним увидеть в этом эпизоде чудо и всё же будет считать евангелиста очевидцем, тому остается лишь предположить (подобно Газе), что в данном случае евангелист опять «отсутствовал» или был в отлучке, но это значит вновь поколебать и опровергнуть сложившееся воззрение школы теологов на сущность и характер четвертого евангелия.
§79. Чудесное насыщение толпы
В псалме, в котором говорится о бедствиях, перенесенных израильтянами во время вавилонского изгнания, и который эти бедствия уподобляет морской буре, укрощенной лишь вмешательством Иеговы, мы находим следующую картину голодовки, от которой Иегова избавил свой народ (Пс. 107:4): «Они блуждали в пустыне… терпели голод и жажду, душа их истаивала в них. Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он избавил их от бедствий их, и повел их прямым путем, чтобы они шли к населенному городу. Да славят Господа за милость Его и за чудные дела Его…»
Говоря об искушении Иисуса сатаной, мы заметили, что в числе испытаний, коим народ израильский после исхода из Египта был подвергнут во время странствования по пустыне, значится и голодовка, притом не фигуральная, а подлинная голодовка, и то чудесное насыщение народа, которое совершено было Иеговой в этом случае, принадлежит к числу знаменитейших чудес, имевших место в древнейшей истории евреев. Иегова стал кормить народ сначала суррогатом хлеба — манной, но, когда народ потребовал мясной снеди, он стал посылать ему перепелов. Поэтому из рассказа Моисея (Втор. 18:15) раввины вывели то заключение, что последний спаситель народа, Мессия, будет тоже одарять народ благами вроде манны небесной.
Во время голодовок пророки тоже оказывали народу чудесную помощь и тем подтверждали мнение народа о их высокой миссии. Во время сильной засухи при Ахаве, когда Елисей проживал у бедной вдовы в Сарепте, Иегова по ходатайству Елисея сотворил чудо: запасы муки и масла в сосудах вдовы не истощались до тех пор, пока не прекратилась засуха (3 Цар. 17:7–16). Затем, когда у сотни учеников пророка Елисея наступил голод вследствие нового неурожая, Иегова снова сотворил чудо: запаса в 20 хлебов ячменных хватило на прокормление учеников пророка на всё время недорода (4 Цар. 4:38 и сл.).
Таким образом, мы видим, что в легенде о пророках с течением времени изменился характер повествуемых чудес: сначала весь необходимый запас пищи посылался прямо с неба, а позднее обыкновенная земная пища стала просто размножаться, или возрастать количественно. Поэтому в рассказах о Мессии мы тоже видим, что чудесное насыщение алчущих происходит путем размножения наличного запаса пищи и что в отличие от древнейших пророков Мессия успевает насытить малым запасом пищи гораздо большее число алчущих. Но Иисус — Мессия, чудесно насыщающий народ, не посылает с неба манны, а делит и раздает хлебы, и это обусловливается следующей причиной: важнейший из обрядов христианской церкви состоял в раздаче или преломлении хлеба; по словам Петра (Деян. 2:42, 46), последователи Христа «постоянно пребывали в учении Апостолов, в общении и преломлении хлеба и молитвах». По преломлении хлеба эммаусские ученики опознали и воскресшего Иисуса (Лк. 24:30–35): в Эммаусе, как и на последней вечери, Иисус взял хлеб, произнес молитву, преломил хлеб и раздал ученикам. И если Павел (1 Кор. 10:1–3) заявляет, что израильтяне при Моисее «все были под облаком, и все прошли сквозь море; и все крестились в Моисея в облаке и в море; и все ели одну и ту же духовную пищу; и все пили одно и то же духовное питие», то в манне и появившейся из камня воде он видел прообразы хлеба и вина, характеризующие таинство причащения, как в облаке и море он усматривал прообразы христианского крещения. В древнехристианской церкви утверждали, что Иисус учредил таинство евхаристии на последней вечери, но евхаристия считалась антитезой Моисеева насыщения народа манной и притом трапезой чудесной, поэтому евангелисты и создали своеобразный рассказ о чудесном насыщении народа. В этом рассказе всё рассчитано на то, чтобы сочетать и помирить прообраз Моисея и пророков с христианской евхаристией.
Особенностью Моисеева рассказа является то обстоятельство, что в книгах Моисея дважды повествуется о насыщении народа манной и перепелами (Исх. гл. 16; Втор. гл. 11). То же самое делают и евангелисты, из коих первые два сообщают по два сходных рассказа о чудесном насыщении народа (Мф. 14:13; 15:32; Мк. 6:30; 8:1). В одном случае Иисус ушел один в «пустынное место» на восточном берегу моря Галилейского, а в другом случае «взошел на гору» близ того же моря, причем и тут место оказывается пустынным. Там при Иисусе оставался целый день народ, последовавший за ним в пустыню, а здесь народ оставался при нём три дня. Там численность народа, не считая женщин и детей, доходила до 5000 душ, а здесь — до 4000 душ. Там ученики стали просить Иисуса отпустить вечером народ в селения купить себе пищи, а здесь сам Иисус заявляет ученикам, что ему жаль народ, которому нечего есть, и что он не хочет отпустить его голодным. Там при опросе учеников нашлось пять хлебов и две рыбы, а здесь — семь хлебов и немного рыбок. Там после насыщения народа остается хлеба 12 полных коробов, а здесь — семь полных корзин. Но всё остальное в обоих рассказах совершенно сходно: замечание о голоде, наступившем вследствие продолжительного пребывания народа в пустынном месте при Иисусе, возражение учеников, усомнившихся в возможности насытить народ в данном месте, запрос Иисуса об имеющемся у учеников запасе пищи, замечание о том, что Иисус велел народу возлечь на траву и, взяв хлебы, благословив и преломив их, роздал их народу через учеников, и что все ели и насытились, и затем собрали оставшиеся куски хлеба. Тем не менее в обоих евангелиях прямо отмечается, что в том и другом рассказе речь идет о двух различных случаях насыщения народа (Мф. 16:9; Мк. 8:19).
В этом едва ли можно видеть сознательное подражание ветхозаветному двойственному рассказу, но причина удвоения рассказа в том и другом случае, видимо, одна и та же: автор первого евангелия, как и составитель Пятикнижия, нашел один и тот же рассказ в двух различных источниках, и, так как в рассказе замечались некоторые отступления в деталях и в указании на время действия, евангелист принял двойной рассказ об одном и том же эпизоде за два различных эпизода и включил оба в свою повесть. В данном случае Марк прямо копировал Матфея; Лука приводит лишь первый рассказ (9:10 и сл.) и опускает второй, а Иоанн составил собственный рассказ из элементов двух предшествующих рассказов (6:1 и др.). Пять хлебов и две рыбы равно как 5000 душ и 12 корзин хлебов он заимствовал из первого рассказа о насыщении народа, но местом действия избрал гору (гора упоминается у Матфея и Марка в рассказе о втором насыщении народа), а началу сцены предпослал речь Иисуса, обращенную к ученикам, и заканчивается рассказ (как у двух первых синоптиков) испрошением знамения и исповеданием веры Петра (6:30–69; Мф. 16:1–16).
От этих предварительных замечаний мы переходим теперь к детальному разбору данного рассказа, и прежде всего мы должны заметить, что пустынная и безлюдная местность, в которой происходит действие и которая мотивирует собой чудо, в данном случае, как и в рассказе об искушении Иисуса сатаной, предопределялась Моисеевым прообразом. Время действия, вечер, тоже мотивирует собой грядущее происшествие, но имеет отношение не к Моисееву прошлому, а к христианскому будущему. Указание учеников на то, что день склоняется к вечеру и что пора уже отпустить народ или (как говорит Иисус) пора накормить его, напоминает собой то приглашение, с которым эммаусские ученики обратились к незнакомцу, прося его побыть у них ввиду наступившего позднего вечера, после чего незнакомец совершил вышеотмеченное преломление хлеба (Лк. 24:29–35); а затем оно напоминает о той вечери, когда Иисус с 12 учениками возлег вкусить пасхального агнца и учредить евхаристию; чудесная вечеря любви и представляет собой евхаристию Иисуса.
Пролог рассказа, отмечающий напоминание учеников о наступившем вечере (как изображено в первом рассказе синоптиков о насыщении) или сострадательное замечание Иисуса о том, что народ уже три дня провел при нём без пищи, не возбуждает никаких недоумений, но в рассказе четвертого евангелиста непонятно, как мог Иисус спросить Филиппа при виде собравшегося к нему народа: «Где нам купить хлебов, чтобы их накормить?» Ведь народ собирался к нему не затем, чтобы есть, а затем, чтобы он исцелял больных (как замечает сам евангелист), да и миссия Иисуса не состояла в том, чтобы насыщать народ телесной пищей прежде всего и во всякое время. Но евангелист добавляет, что вышеуказанный вопрос Иисус задавал Филиппу, желая испытать его, и это замечание напоминает собой речь Иисуса, сказанную при колодце Иаковлеве в Самарии, когда ученики навезли съестных припасов из города и приглашали его есть; тогда он им сказал, что имеет неведомую им пищу, вследствие чего ученики подумали, что в их отсутствие кто-то уже принес ему пищи, тогда как Иисус в действительности разумел исполнение воли Божией и совершение дела Божия (Ин. 4:31). Может показаться, что Иисус и тут имел в виду духовное насыщение народа и что замечание Филиппа: «Им на двести динариев не довольно будет хлеба» — является одним из обычных у Иоанна недоразумений, которое позднее разъясняется в том смысле, что Иисус есть Логос или хлеб жизни, волей Божией ниспосланный с небес. Однако же и тут духовному истолкованию противится изображение материального чуда, хотя и облеченного в идеальную форму. Впрочем, идеальную перспективу евангелист имел в виду уже изначала: зная, к чему сведется у него рассказ о насыщении, зная наперед, что повесть о реальном насыщении народа превратится в символ идеального, духовного насыщения Логосом человечества и что чувственное в этой повести является лишь внешней призрачной оболочкой, евангелист и говорит в самом начале своей повести, что Иисус задал вопрос, который может показаться нелепым лишь тому, кто не встанет на точку зрения самого евангелиста.
На предложение Иисуса, чтобы ученики накормили собравшуюся толпу (в первом рассказе), и на замечание его о том, что он не хочет отпустить народ голодным (во втором рассказе), ученики возражают (в первом рассказе), что у них запас пищи недостаточный и (во втором рассказе) что в данном пустынном и безлюдном месте невозможно достать хлеба. Такое возражение вообще свойственно всякой повести, трактующей о чудесах, но в данном случае оно подсказано прообразом, который мы находим в рассказах о насыщении народа Моисеем и пророками Когда Иегова заявил, что ропщущий народ израильский он будет до пресыщения кормить целый месяц мясом (перепелами), Моисей стал ему возражать, что народа слишком много и что для насыщения его понадобится громадное количество мяса (Чис. 11:21). Так точно и слуга Елисея на предложение пророка раздать ученикам имеющиеся 20 хлебов ячменных возражает: «Что тут я дам ста человекам?» (4 Цар. 4:43). В данном случае четвертый евангелист снова идет по стопам второго евангелиста и опять заходит дальше его. Только у этих двух евангелистов ученики говорят о сумме денег, которая потребуется для покупки пищи, и определяют сумму эту в 200 динариев, видимо, подразумевая, что этой суммой определяется наличность кассы общины Иисуса. Различие, однако в том, что у Марка ученики замечают, что придется купить хлеба на 200 динариев (6:37), а у Иоанна Филипп заявляет, что и на 200 динариев не довольно будет хлеба, чтобы каждому (в толпе) досталось хоть понемногу (6:7). Другое отличие состоит в том, что возражают (в рассказе четвертого евангелиста) не все ученики Иисуса вместе (как у остальных евангелистов), а лишь отдельные ученики — Филипп и Андрей, и что обладателем наличного запаса пищи (пять хлебов ячменных и две рыбки) оказывается какой-то отрок: подобная драматизация речей весьма обычна и характерна для четвертого евангелиста и его писательской манеры.
Что наличные запасы состоят по преимуществу из хлеба, эта деталь тоже подсказывалась прообразом церковным и отчасти прообразом Моисея и пророков. Манна израильтян тоже называлась и считалась хлебом, а ячменный хлеб, считавшийся (у евангелиста Иоанна) наиболее дешевым и плохим сортом хлеба, очевидно, взят из легенды о Елисее. Евангелист к ячменному хлебу в качестве приварка добавляет рыбу, подражая, видимо, рассказу Моисея о том, что народ израильский питался не только манной, но и мясом (перепелами); но рыбу в качестве приварка он избрал едва ли потому, что израильтяне, требуя мясной снеди от Моисея, вспоминали, что даровой рыбы у них было много в Египте, на что им Моисей возражал, что всех рыб моря не хватит для насыщения всего народа. Не мог евангелист избрать рыбу также и ввиду другого прообраза христианской евхаристии, так как для евхаристии не приличествовала ни рыба, ни мясная снедь вообще. Для евхаристии нужны были вино и хлеб, но ученики Иисуса во время своих странствий по безлюдной местности едва ли возили с собой вино, употребление которого вообще не соответствовало их образу жизни; поэтому в рассказе о насыщении народа отсутствует вино — второй элемент евхаристии, хотя замена его рыбой остается, с точки зрения евхаристического прообраза, делом весьма загадочным. Поэтому необходимо допустить, что рыба в данном рассказе фигурирует как национальная и местная особенность, благо и сказание возникло в Галилее, области приморской, где население питалось рыбой по преимуществу: недаром и в рассказах о явлениях воскресшего Иисуса часто фигурирует рыба, и, например, перед глазами сомневающихся учеников воскресший Иисус стал есть печеную рыбу. Но, с другой стороны, мыслимо и то, что сами апостолы, как бывшие рыбаки, питались преимущественно хлебом и рыбой.
Однако же и мысли об евхаристии нельзя отвергнуть безусловно, если принять в соображение ту часть рассказа евангелиста, где речь идет о том, как Иисус, взяв хлебы и воздав хвалу Богу, преломил их и раздал их ученикам, а ученики стали раздавать их народу. Можно подумать что в данном случае, как при учреждении евхаристии, Иисус благословил хлебы во исполнение иудейского обряда, а воздавал хвалу Богу ввиду имеющего совершиться чуда, что преломлял он хлеб ввиду особых свойств хлеба, а раздавал его ввиду условий ситуации, так что при внешнем сходстве действий никакой внутренней связи между раздачей хлеба и евхаристией не существовало. Но отчего же так подчеркивается сходство действий Иисуса? Отчего нам заявляют, что по этому признаку можно было опознать Иисуса? Как в данном рассказе говорится: «Иисус, взяв пять хлебов и две рыбы, воззрел на небо, благословил и, преломив, дал хлебы ученикам», так и в рассказе об учреждении евхаристии говорится: «Иисус взял хлеб и, благословив, преломил и раздал ученикам» (Мф. 26:26). Точно так же и в рассказе о явлении воскресшего Иисуса у моря Галилейского говорится, что «Иисус приходит, берет хлеб и дает им также и рыбу» (Ин. 21:13). Затем, после воскресения, Иисус перед учениками эммаусскими тоже «взял хлеб, благословил, преломил и подал им», и тогда по «преломлению» хлеба ученики признали в незнакомце Иисуса (Лк. 24:30–35). Стало быть, акт преломления хлеба община христиан считала характерным признаком умершего Иисуса и учрежденной им евхаристии, и этот акт позднейшие христиане стали приписывать Иисусу не только в период его посмертных явлений на земле, но и в период его земной жизни. Затем в рассказе о насыщении народа имеется черта, которая является прообразом христианской евхаристии даже в большей степени, чем рассказ об учреждении евхаристии. При учреждении евхаристии Иисус трапезовал с одними лишь учениками и только им раздавал преломленный хлеб и вино, но в древнехристианских общинах евхаристия совершалась двухстепенно: хлеб и вино от иерея передавались дьяконам, а последние раздавали их прихожанам, то есть в общинах производилось то же, что говорится и в рассказе о насыщении народа, где Иисус передает хлеб и рыбу апостолам, а те от себя раздают их народу.
Что в этом прообразе или прототипе евхаристии отсутствовало вино, это станет нам понятным, если обратим внимание на то, что древнехристианская вечеря, или причащение, тоже часто называлась просто «преломлением хлебов» (Деян. 2:42; 46; 20:7), ибо хлеб представлял главную основу обряда причащения; а что в данном случае (как и в добавочной главе Иоаннова евангелия) кроме хлеба фигурирует еще и рыба, а не вино, это, вероятно, объясняется тем обстоятельством, что в эпоху первых христиан обряд евхаристии завершался совместными трапезами, или агапами.[235] Рыба евангельской легенды и представляется нам отражением таких совместных трапез христианских, дополнявших собою обряд причащения, и, таким образом, рассказ о насыщении народа имеет отношение не только к евхаристии в собственном, узком смысле слова, но и к древнехристианскому обычаю совместных братских трапез. Общение христиан на почве братской любви, насыщавшее на этих трапезах также и беднейших членов общины, изображается в евангельском рассказе о насыщении народа как акт чудотворения Христа, который насыщает всех с избытком. Тем же обычаем древнехристианских совместных трапез, вероятно, можно объяснить и ту деталь, что насыщаемый Иисусом народ возлежал «рядами», в которых было, по словам Луки, по 50 душ, а по словам Марка — по 50 и 100 душ в каждом: в этом замечании евангелистов можно видеть указание на то, что и совместно трапезовавшие христиане во время агап рассаживались группами или рядами вышеозначенной численности.
Чудесный элемент в рассказе о насыщении народа сводится к тому, что Иисус кусками преломленных им пяти (семи) хлебов и двух (нескольких) рыбок насытил 5000 или 4000 человек, не считая женщин и детей, и что после насыщения такого множества людей набралось несъеденных остатков хлеба и рыбы — в одном случае 12, а в другом — 7 полных коробов или корзин, то есть осталось значительно больше того количества, которое имелось первоначально, до раздела. Но из рассказов мы не узнаем, в какой именно момент сотворилось чудо. Шлейермахер говорит: если бы рассказывал сам очевидец, то он нам сообщил бы, когда сотворилось это чудо. Но мы, со своей стороны, сомневаемся, можно ли быть очевидцем невероятного и невозможного происшествия. Пытаясь выяснить себе это дело и, в частности, определить момент чудесного размножения хлебов, мы прежде всего видим, что хлебы, предназначенные для насыщения народа, прошли до поступления в желудок алчущих людей три ряда рук: из рук Иисуса они перешли в руки алчущего народа, и чудо размножения хлебов могло сотвориться на любом из этих трех этапов. Если хлебы не размножились уже до перехода в руки алчущих, то раздавать их приходилось ученикам по малым крошкам, так как хлебов было пять штук, а народа было свыше 5000 душ. Но из рассказа евангелистов мы не видим, чтобы раздача хлеба производилась по маленьким кусочкам и расчетливо. Поэтому нам остается предположить, что чудо размножения хлебов произошло уже тогда, когда хлебы находились в руках Иисуса или апостолов. Но смысл евангельских рассказов именно таков, что хлебы стали размножаться в то мгновение, когда Иисус, воззрев на небо, благословил имевшиеся у него в руках хлебы. Затем размножение хлебов могло совершиться двояким образом: либо из-под рук Иисуса после благословения выходили всё новые и новые штуки хлеба и рыбы, либо под руками Иисуса взятые им пять хлебов и две рыбки дробились на всё новые и новые куски, так что, когда пятая часть толпы была наделена кусками одного хлеба и половина всей толпы получила куски одной рыбки, Иисус стал раздавать второй хлеб и вторую рыбку, и т.д. Но смысл рассказа Иоанна, да и других евангелистов тот, что после насыщения народа набралось 12 коробов «остатков» от пяти хлебов, розданных Иисусом, а потому необходимо допустить, что размножение хлебов происходило вторым путем, тем более что иначе после насыщения народа набралось бы 12 коробов цельных хлебов и рыб, а не «кусков и остатков» хлеба и рыбы, как сказано у евангелистов.
Однако как бы мы ни представляли себе это чудесное размножение хлебов, но чудом, и притом непонятным чудом, оно остается, и потому неудивительно, что новейшие теологи стараются любой ценой свести его на нет. Но им следовало бы делать это честно и открыто, им следовало бы признать, что евангелисты сами не верили в рассказанное им чудо, и так как все евангелия наполнены такими чудесами, то, стало быть, евангелия не могут и считаться историческими повестями. Но вместо того мы видим, как теологи по данному вопросу изощряются наперерыв друг перед другом в придумывании уверток и явно лживых толкований. Шлейермахер встал в данном случае на точку зрения Паулуса и утверждает, что в словах Иисуса (Ин. 6:26) о том, что люди шли за ним не вследствие знамения, а потому что поели от хлебов чудесных, заключается намек на то, что размножение хлебов было явлением естественным; но Шлейермахер подобно Паулусу отказывается объяснить подробно, в чём заключалось знамение, виденное народом, и размножение хлебов, насытивших народ. И это вполне естественно, так как при более подробном рассмотрении вопроса неизбежно оказалось бы, что сам «очевидец» Иоанн усматривает чудо в рассказанном им происшествии и что вышеотмеченное изречение Иисуса следует понимать в смысле указания на то, что люди дорожат не виденным ими чудесным знамением, доказывающим и отражающим могущество Христа, а лишь материальной стороной знамения, насытившего их хлебом. Газе находит, что лишь свидетельство Иоанна — «очевидца» мешает предположить, что в данном случае Иисус устроил просто угощение для народа, который слушал его проповедь, и что для этой цели Иисус употребил не силу чудотворную, а собственный запас съестных припасов, и что впоследствии народное предание превратило это «естественное» угощение в чудесное насыщение народа. Но что делать человеку, который подобно тому же богослову (Газе) признаёт, что «непосредственное размножение питательного вещества недопустимо для серьезного научного мышления»[236]? Мы, впрочем, уже знаем, что станет делать человек, научно обрабатывающий жизнь Иисуса: он отвергнет услуги неудобного для него «очевидца», который ставит его в затруднительное положение как данным рассказом, так и последующим рассказом о хождении Иисуса по водам. Правда, по свидетельству второго и третьего евангелистов (Мк. 6:30; Лк. 9:10), апостолы, то есть отосланные на проповедь 12 учеников Иисуса (Лк. 9:1; Мк. 6:7), незадолго перед тем вернулись к Иисусу, но мечтатель — Иоанн мог ведь где-нибудь замешкаться и опоздать, и затем, услышав о происшествии, случившемся в его отсутствие, он, может быть, не дал себе труда подробнее и точнее разузнать, как было дело. Согласно Эвальду, теперь уже нельзя точно указать, что послужило поводом к рассказу, в котором он усматривает воплощение того учения, что там, где истинная вера сочетается с истинной любовью, даже и ничтожными внешними средствами можно достигнуть огромных результатов. Даже там, где значение рассказа о чудесном происшествии понимается в столь отвлеченном, моральном смысле, всё равно бывает нужен особый внешний повод, чтобы понять возникновение евангельского рассказа, но в рассуждении Эвальда повод этот является каким-то неопределенным иксом и потому значения иметь не может, а нам его не нужно, потому что мы рассматриваем все детальные черты рассказа генетически.
Из деталей данного рассказа о насыщении народа нам остается еще рассмотреть собирание остатков и число наполненных ими коробов. Что остатки хлеба вообще были собраны вместе, это напоминает нам рассказ о манне, которую израильтяне тоже собирали, хотя они и собирали не остатки манны после трапезы, а самоё манну перед трапезой; но, с другой стороны, прообраз этого собирания остатков имеется в рассказе о Елисее, который велел раздать 20 хлебов своим ученикам, заявляя: «Так говорит Господь: насытятся и останется», после чего автор рассказа продолжает: «Он (слуга) подал им, и они насытились, и еще осталось, по слову Господню» (4 Цар. 4:43). Затем этот сбор остатков от чудесной трапезы, произведенный, по словам четвертого евангелиста, «чтобы ничего не пропало» (6:12), напоминает нам об опасении древней церкви, чтобы составные части святых даров не просыпались на землю и не пропадали. Что остатки хлебов и рыбы были собраны в корзины или короба, это опять-таки предсказывалось историей чудесного ниспослания манны, которую израильтяне собирали в «меры», а что корзин с остатками хлебов набралось ровно 12 штук, это надо, видимо, объяснить тем, что собиранием остатков занимались 12 апостолов. В другом рассказе говорится, что корзин с остатками хлебов набралось семь штук, и эта цифра, вероятно, указана потому, что и хлебов, поступивших в раздачу, было семь, или потому, что в древнехристианской церкви таинство евхаристии совершалось при участии семи дьяконов (Деян. 6:1; 21:8). Далее в 12 корзинах с остатками, как и в 12 апостолах, можно усмотреть намек на 12 колен или племен Израиля. Но на вопрос о том, не следует ли видеть в народе, насыщенном чудесными хлебами, язычников, а в сборе остатков трапезы в 12 корзинах — намек на нераздельность и неприкосновенность 12 колен израильских, на этот вопрос едва ли утвердительно ответит сам читатель.
§80. Превращение воды в вино
В истории Моисея говорится (Исх. гл. 17; Числ. гл. 20), что израильтянам были чудесным образом дарованы хлеб (манна) и вода, поэтому иудеи ожидали, что в этом отношении и Мессия, второй спаситель народа избранного, сотворит такие чудеса, какие творил первый спаситель, Моисей. Аллегорически, в смысле духовной пищи, хлебу разумения противопоставлялась вода мудрости (Сир. 15:3). В Апокалипсисе (4:17; 21:6; 22:1) вода жизни, или живой источник, к которому агнец водит пасомых и который исходит от престола Бога и агнца, играет важную роль, и даже в Иоанновом евангелии Иисус говорит о живой воде, которую он дарует людям и которая утоляет жажду навсегда (4:10–13). В других случаях Иисус уподобляет то, что он дарует людям, вину, притом вину молодому, которое не следует вливать в старые или ветхие мехи (Мф. 9:17). Вообще за свой образ жизни, за благосклонное отношение к еде и питью вина Иисус нередко противопоставлялся Иоанну Крестителю, который жил аскетом и пил одну лишь воду (Мф. 11:18). В обычных евангельских уподоблениях радостей царства Мессии веселому пиршеству (Мф. 8:11; 26:29; Апок. 3:20) или брачному пиру, на котором присутствует сам жених, Мессия (Мф. 22:1–14; 9; 15; Ин. 3:29; Апок. 19:7; 21; 2; 22; 17), говорится чаще о вине, веселящем сердце, чем о трезвенной воде.
Призвание Крестителя сводилось к крещению людей водой; после него надлежало прийти Мессии, крещающему людей Святым Духом и огнем (Мф. 3:11; Лк. 3:16; Ин. 1:26). Действительно, по свидетельству Деяний апостолов, после смерти и вознесения Иисуса, сошествие Святого Духа на его учеников ознаменовалось сошествием с небес языков огненных, причем наблюдались сцены, которые насмешникам давали повод утверждать, что ученики «напились сладкого вина» (2:13) — так опьянил их Святой Дух. Но если преисполненные Святого Духа ученики «пылали, как от вина», то и обратно — одарение вином могло тоже служить эмблемой наделения дарами Святого Духа.
Креститель был представителем Ветхого завета — старого союза Бога с человеками; его крещение водой было последней формой тех очищений, того законопослушания, посредством которых народ иудейский с времен Моисея тщетно добивался благоволения Божия. Противопоставить этой старине милость, а Моисею — сына Божия, притом противопоставить так, чтобы на стороне сына Божия оказалось удовлетворение и блаженство, а на стороне Моисея несовершенство и оскудение такова идея и задача четвертого евангелия. В конце пролога к этому евангелию говорится (1:17): «закон дан чрез Моисея; благодать же и истина произошла чрез Иисуса Христа»; а перед тем там было сказано, что «от полноты его (Христа) все мы приняли и благодать на благодать» (1:16). По справедливому замечанию некоторых критиков, рассказ о превращении воды в вино на свадьбе в Кане Галилейской фактически изображает или иллюстрирует лишь то, что в вышеприведенном изречении пролога говорится об отношении Христа к Моисею и милости, или благодати — к закону.
Все эти обстоятельства должны были способствовать тому, чтобы акт утоления жажды, который наряду с чудесным актом насыщения приходилось приписать Иисусу как второму Моисею или олицетворению премудрости Божией, произведен был Иисусом при помощи вина, а не воды, которой требовал прообраз. В том же направлении действовало еще и то соображение, в силу которого манна Моисеева превратилась у Иисуса в хлеб: Иисусу нельзя было приписать акт чудесного насыщения народа, не приняв в соображение хлеб евхаристии; по этой же причине нельзя было рассказывать об Иисусе, что он, подобно Моисею, чудесным образом утолил жажду народа, не приняв во внимание вино евхаристии; недаром и апостол Павел (1 Кор. 10:3) заявлял, что манна небесная и вода, извлеченная из камня в пустыне во время странствия израильтян, были прообразами двух элементов евхаристии. Если чудесное насыщение народа Иисус произвел и должен был произвести одним из элементов евхаристии — хлебом, то и чудесное утоление жажды народа он должен был естественно произвести при помощи другого элемента евхаристии — вина. Теперь для нас понятно, почему рассказ о чудесном напоении вином находим мы лишь в Иоанновом евангелии. Как прообраз евхаристии, первых трех евангелистов удовлетворяло чудесное насыщение хлебом, тем более что у них имеется еще особый рассказ об учреждении евхаристии, в котором фигурирует второй элемент евхаристии — вино. Но четвертому евангелисту, по некоторым указанным ниже причинам, пришлось отказаться от рассказа об учреждении евхаристии, поэтому он должен был заполнить чем-нибудь этот пробел в евангельском повествовании, и рассказ о насыщении хлебом решил дополнить рассказом об утолении жажды народа при помощи второго элемента евхаристии вина.
О происшествии, ознаменовавшем свадьбу в Кане Галилейской (2:11) — о превращении воды в вино, — евангелист наш замечает, что этим актом Иисус «положил начало чудесам… и явил Славу свою». Следовательно, евангелист сам сознается, что он желал осветить вышеотмеченное изречение об отношении Иисуса к Моисею и благодати к закону и иллюстрировать рассказом это основное положение своего евангелия, после того как тезисы пролога о призвании Иисуса он исторически иллюстрировал свидетельством Крестителя. Тем же мотивом, по-видимому, определялась также и форма, в которую евангелист облек повествуемое чудо. Евангельскому рассказу о чудесном насыщении народа, как и ветхозаветному рассказу об умножении запасов елея (масла) пророком Елисеем, вполне соответствовал бы такой рассказ, в котором было бы отмечено, что под руками Иисуса чудесным образом малое количество вина превратилось в количество большое, достаточное для продолжительного пользования или для напоения многих людей. Вместо того евангелист дает рассказ, в котором вода превращается в вино. С превращения воды начал и Моисей свою карьеру чудотворца, но у него вода всех рек и источников Египта превратилась в кровь, дабы покарать египтян. Но первое Иисусом сотворенное чудо не могло быть чудом карательным; «кровь», в которую он превратил воду, не могла быть кровью настоящей, она могла быть только кровью (соком) грозди виноградной (Быт. 49:11; Втор. 32:14), так как вино, употребляемое в евхаристии, в свою очередь представляет собой жертвенную кровь Мессии, за многих изливаемую в оставление грехов (Мф. 26:28), и кровь сошедшего с небес сына человеческого, подающего всем жизнь вечную (Ин. 6:53).
После этих предварительных замечаний мы переходим к Иоаннову рассказу о чуде, сотворенном Иисусом на свадьбе в Кане Галилейской (2:1–11), и прежде всего мы должны заметить, что замысел евангелиста представить Иисуса-чудотворца участником веселого свадебного пиршества определялся вышеотмеченными представлениями о радостях царства мессианского, аналогичных радостям какого-нибудь пира брачного. На подобном торжестве, отнесенном к загробной жизни или понимаемом аллегорически (как у Мф. 9:15; 22:2 или у Ин. 3:29), Иисус мог выступить даже в роли жениха (по аналогии с прообразом, представленным в Песни песней), а в роли невесты его могла выступить церковь или община христиан (Ефес. 5:25–32). Но относительно исторического Иисуса и периода его земной жизни такое представление было неуместно, поэтому роль жениха в рассказе приходилось передать другому лицу, а Иисусу предоставить роль простого гостя, приглашенного на свадьбу, хотя и подававшего веселие всем остальным участникам пира, ибо естественный, настоящий жених не догадался припасти достаточное количество вина веселящего, что и побудило Иисуса сотворить данное чудо.
На недостаточный запас вина указывает Иисусу мать его, как в рассказе синоптиков о первом насыщении народа ученики напоминали Иисусу, что следует отпустить народ, дабы он мог запастись пищей. Но мать Иисуса, отмечая недостаток вина, приглашает Иисуса показать свою силу чудотворную, что явствует и из ответа, который ей дает Иисус. Хотя последующее чудо, по признанию евангелиста, было первым из чудес, сотворенных Иисусом, и хотя о чудесах, ознаменовавших детство Иисуса, евангелист не сообщает ничего, однако он признал уместным показать, что мать Иисуса давно знала или хотя бы догадывалась, что сын ее есть существо возвышенное и необыкновенное. Но насколько мать Иисуса возвышает сына своим предложением — сотворить вино чудом, настолько сам Иисус унижает мать своим возражением, в котором резко подчеркивается высокое достоинство Иисуса и низменная природа его матери. Он заявляет: «Что Мне и Тебе, Жено?», то есть что общего у меня с тобою, женщина? Этим заявлением четвертый евангелист как бы хотел превзойти третьего евангелиста (Лк. 2:49), по словам которого 12-летний отрок Иисус заявлял своим родителям: «Зачем было вам искать Меня? или вы не знали, что Мне должно быть в том (доме), что принадлежит Отцу Моему?» Но этим резким тоном возражения Иисуса будет шокирован лишь тот, кто упустил из виду, что в данном случае речь идет не о естественно-человеческих отношениях, а о мнимом отношении воплощенного Логоса (слова Божия) к человеку, которого он ни в каком случае не может и не должен признавать за авторитет. Нежелание исполнить просьбу матери Иисус мотивирует, между прочим, тем соображением, что «еще не пришел час» его. Что день и час второго пришествия Мессии и светопреставления известен только Богу-Отцу, это единогласно подтверждают три первые евангелиста (Мф. 24:36; 25:13. Мк. 13:32. Деян. 1:7), причем второй евангелист добавляет, что о дне и часе, когда прейдут небо и земля, никто не знает, даже сын Божий (Мессия); в этих евангелиях только Бог-Отец является существом всеведущим, а люди, не исключая и Мессии, представляются существами ограниченного ведения. Напротив, в четвертом евангелии мы находим характерное противоположение неведающим людям всеведущего сына Божия, вочеловечившегося Логоса, и мысль о том, что ему, Логосу, надлежит прославить себя не при втором пришествии, а уже теперь различными чудотворениями, а затем и самой смертью своей. Смерть Иисуса евангелист подразумевает во всех тех случаях, когда он замечает, что гонения и козни врагов Иисуса успеха не имели, ибо «еще не пришел час Его» (7:30; 8:20), и когда впоследствии он заявляет, что Иисус знал о предстоящей ему участи и сказал, что ныне пришел час его (12:23; 13:1). Наоборот, братьям своим, по словам евангелиста, Иисус на предложение выступить публично в Иудее возражал, что его «время еще не настало» (7, 6–8), как в данном случае матери своей он заявляет, что для чудотворения «еще не пришел час». Однако в обоих случаях Иисус в действительности скоро передумывает и поступает сообразно сделанному предложению. Что и Мария, мать его, тоже знает, что Иисус скоро передумает, это видно из того, что, несмотря на отрицательный ответ его, она велит слугам исполнить то, что он им скажет, и этим замечанием достоинство Марии вновь восстанавливается, хотя ей было перед тем указано, что целая пропасть отделяет ее от того, «кто выше всех» (3:31), однако это указание ее нисколько не смущает, и она непоколебимо остается при своем желании и взгляде.
В доме пирующих, по словам евангелиста, стояло шесть каменных водоносов — «по обычаю очищения Иудейского», то есть для омовения рук перед всякой трапезой (Мф. 15:2; Мк. 7:2). Этим водоносам, видимо, приписано символическое значение. Приказав наполнить водой эти сосуды, Иисус создает себе базу для предстоящего чудотворения, а указанием на то, что эти водоносы вмещали по 2–3 меры (или по 8–12 ведер) каждый и что слуги наполнили их водой «до верха», евангелист, видимо, хотел сказать, что Иисус дарует благодать «от полноты» (1:16) и что подобно Богу-Отцу он «не мерою» дарует блага духа своего (3, 34).
Когда все водоносы были наполнены водою, Иисус велел слугам зачерпнуть этой воды и отнести к распорядителю пира, а распорядитель, отведав этой воды, признал, что она — вино, притом более хорошее, чем то вино, которым угощал жених гостей в начале пира. При этом евангелист свидетельствует, что вода «сделалась вином», а позднее (4:46) он отмечает, что в Кане Галилейской Иисус действительно «претворил» воду в вино; далее он подтверждает, что это превращение воды в вино послужило знамением, по которому ученики «уверовали» в Иисуса (2:11), и что после этого (первого) чуда Иисус сотворил второе, равновеликое чудо, исцелив отсутствующего сына Капернаумского царедворца (4:46–54). Этими замечаниями евангелист, видимо, хотел сказать, что настоящее деяние Иисуса было действительно чудом, и потому справедливо утверждают ортодоксальные толковники, что отрицать чудесный характер данного деяния Иисуса значит искажать слова и намерения евангелиста Иоанна, колебать доверие к его правдивости и компетентности и вместе с тем набрасывать двусмысленную тень на характер самого Иисуса. Кто верит Иоанну, тот должен верить также в чудеса, а кто не может верить в чудеса, тот должен отказать в доверии евангелисту — и не только в данном случае, но и вообще, так как евангелист Иоанн говорит о целом ряде неимоверных чудес и столь же неимоверных речей Иисуса и, наконец, возбуждает сугубое сомнение тогда и там, когда и где он выдает себя за апостола Иоанна. Обычный прием Газе — считать повествователя-евангелиста «отсутствующим» по мало-мальски «щекотливым» эпизодам — в данном случае представляется приемом сугубо смехотворным, так как евангелист прямо заявляет (2:2), что на свадьбу в Кане позван был Иисус с учениками своими, и так как сам Газе признаёт, что среди первозванных учеников Иисуса (1:35–41) находился также Иоанн — в лице ученика, по имени не названного. Указание Шлейермахера и его сторонников на то что рассказ евангелиста вообще не отличается достаточной наглядностью и в данном случае не отмечает того впечатления, которое на гостей жениха произвело чудо, представляется нам робким выпадом по отношению к рассказу, вполне понятному и ясному для всякого непредубежденного читателя, а попытка Неандера объяснить превращение воды в вино «потенцированием», то есть возвышением свойств воды до степени присущих вину свойств, нам кажется жалким продуктом неверия и недомыслия.
Далее евангелист приводит одно замечание распорядителя пира, которое сильно смущало всех толковников, тщетно пытавшихся подтвердить слова распорядителя о том, что-де везде существует обыкновение подавать гостям сперва хорошее вино, а потом худое (2:10). Напротив, так не поступает никто, такой образ действий противоречит природе человеческой, так как все органы чувства у человека требуют прогрессивно-возрастающего раздражения. Означенное «обыкновение» евангелист просто выдумал или, точнее говоря, создал на основании одного синоптического изречения Иисуса, в котором сравнивались блага, им человеку принесенные, с «молодым» вином; однако у Луки (5:39) означенное изречение Иисус дополнил следующим замечанием: «Никто, пив старое вино, не захочет тотчас молодого, ибо говорит: старое лучше». У третьего евангелиста (Луки) в это изречение вложен тот смысл, что люди склонны привязываться к старине (в данном случае — к иудаизму и обрядности иудаистской) и с недоверием относятся к новшествам (в данном случае к новому учению Иисуса), и эта мысль подкрепляется чисто эмпирическим наблюдением. Но нашему евангелисту захотелось показать, что новое, принесенное Иисусом, лучше старого, а потому в его рассказе о чудесном претворении воды новое, Иисусом созданное вино и было лучше старого вина, которым угощал гостей жених. Он пытается доказать это путем резкого контраста, но так как в его рассказе речь идет не о различии между старым (урожая прежних лет) и молодым (свежеприготовленным) вином, как у Луки, а о различии между вином, ранее и позднее выставленным для угощения, поэтому и натуральное изречение Луки о том, что старое вино лучше молодого, у четвертого евангелиста превратилось в мнимое, ничем не подтвержденное «обыкновение» подавать гостям сначала хорошее вино, а потом худое, и тот бесспорный факт, что старое вино вкуснее молодого, превратился у него в проблематическое «обыкновение» подавать гостям худшее (молодое) вино после хорошего (старого).
Против такой символизации сотворенного в Кане Галилейской чуда, которую сначала признал Гердер, не оспаривавший его исторической Достоверности, а затем и Баур, отвергавший его исторический характер, можно с критической точки зрения возразить лишь то, что сам евангелист не настаивал на историческом значении упомянутого чуда и потому не сопроводил его речами Иисуса, которые подчеркнули и осветили бы значением происшествия. В данном случае рассказ евангелиста о насыщении народа хлебом поможет нам распутать этот узел. Оба чуда — насыщение алчущих хлебами и напоение жаждущих гостей вином — по своей форме и содержанию и по прямому отношению к евхаристии столь неразрывно связаны друг с другом, что и определять значение каждого из них приходится совместно и потому вопрос в данном случае сводится к тому, чтобы значение чуда напоения изъяснить значением чуда насыщения. У синоптиков чудо насыщения рассказано в середине повести об Иисусе, а четвертый евангелист, по особым соображениям, поместил чудо напоения в начале своего евангелия, и потому понятно, отчего он не упоминает о первом чуде. Чтобы соблюсти правило о наращении движения в рассказе, он о первых двух чудесах (2:1; 4:46) сообщает кратко и просто, и лишь третье чудо (5:1) снабжает более пространной речью, а с четвертого чуда — с рассказа о насыщении народа (и о хождении по водам) — речи уже приобретают более серьезное значение, достигая апогея в рассказе о последнем чуде — о воскрешении Лазаря, хотя рассказу этому придана диалогическая форма. В речах, иллюстрирующих историю насыщения народа, естественно проводится та мысль, что Иисус олицетворяет собою духовную пищу для человеков, что плоть его есть снедь и кровь его есть питие, чем и подчеркивается значение и смысл чуда, сотворенного в Кане Галилейской, в его отношении к евхаристии, а соотношение между стариной и новизной, между иудаизмом и христианством, символизированное в превращении воды в вино, было разъяснено евангелистом раньше, в вышеуказанных частях пролога к четвертому евангелию.
§81. Проклятие смоковницы
Чудо проклятия смоковницы (Мф. 21:18; Мк. 11:12–14) мы приберегли для конца наших изысканий, потому что оно является единственным «карательным» чудом во всей евангельской истории (в Деяниях апостолов таких чудес указано гораздо больше). Как таковое оно не легко поддается и изъяснению, хотя и представляется чудом назидательным. При истолковании его нам удастся указать не только элементы, из которых создалось это сказание, но и формы, в которые оно облекалось в процессе своего развития, напоминающем естественный процесс превращения гусеницы в бабочку или головастика в лягушку.
Обозревая прошлую историю Израиля, пророк Осия, тот самый, который говорил позднее о любимом сыне Бога, призванном из Египта, устами Иеговы заявляет (9:10): «Как виноград в пустыне, Я нашел Израиля; как первую ягоду на смоковнице, в первое время ее, увидел Я отцов ваших, — но они пошли к Ваал-Фегору» и так далее, то есть отпадением к идолопоклонству они отблагодарили за попечения Иеговы о разрозненных и беззащитных племенах Израиля. В иной версии ту же мысль высказывает Михей (7:1): «Горе мне! со мною теперь — как по собрании летних плодов, как по уборке винограда: ни одной ягоды для еды, ни спелого плода, которого желает душа Моя. Не стало милосердых на Земле, нет правдивых между людьми… Лучший из них — наш терн…» и т.д. Здесь народ уподобляется уже не гроздьям виноградным или смокве, а смоковнице или лозе виноградной, которая после осенней жатвы уже не приносит никаких плодов, и народ израильский, который уже выродился и утратил всех своих праведников, уподобляется смоковнице бесплодной.
Что надо делать с таким бесплодным деревом, будь то народ или отдельный человек, это нам в Новом завете говорит Креститель (Мф. 3:10) и затем сам Иисус (Мф. 7:19): «Уже и секира при корне дерев лежит: всякое дерево, не приносящее доброго плода, срубают и бросают в огонь». Затем, как бы развивая изречение Матфея (а также и притчу Исайи о винограде), Иисус в другом месте (Лк. 13:6–8) рассказывает притчу о господине, посадившем в винограднике своем смоковницу: не получив в течение трех лет плодов от нее, он велит виноградарю своему срубить ее, чтобы она зря не истощала землю, но виноградарь просит обождать еще один год, чтобы окопать смоковницу и обложить ее навозом, а если и при столь тщательном уходе она не принесет плодов, то виноградарь соглашается срубить ее в последующем году. При этом следует заметить, что только у Луки находим мы эту притчу о неплодной смоковнице и что он не дает за то рассказа о проклятии смоковницы: Лука как бы сознавал, что главное содержание означенного рассказа уже исчерпано в приведенной им притче и что в форме притчи мысль о суровой каре, постигающей негодные элементы, более приемлема, чем в форме синоптического рассказа о проклятии смоковницы; недаром только у Луки (9:54) находим мы и сообщение о том, что Иисус воспротивился предложению учеников огнем небесным истребить селение, которое не пожелало приютить у себя Иисуса во время его странствия. Но толчок был уже дан, а слово или образ такого рода получали прочное существование в христианской традиции не раньше, чем они, насколько возможно, полностью развивались в историю чуда. Суровым господином виноградника в вышеизложенной притче был сам Бог, а долготерпеливым виноградарем — Мессия-Иисус; тот год отсрочки, о котором ходатайствовал виноградарь, был «летом Господним благоприятным» (Лк. 4:19) или периодом благодатной деятельности Христа в Израиле. Но, как известно, срок этот истек бесплодно, и сам виноградарь соглашался не пощадить смоковницу, если она даже при тщательном уходе не принесет плодов; с другой стороны, Мессии, по убеждению христиан, надлежало прийти на облаках небесных и сотворить суровый суд от лица Бога; поэтому казалось, что Иисус уже в период своей земной жизни мог или должен был сотворить суровый суд над бесплодной смоковницей — в виде прообраза для предстоящего мессианского суда над упорствующим в нечестии Израилем. Но вместе с тем казалось неприличным вложить с этой целью в собственные руки Иисуса ту секиру, которою, по словам изречения, будет срублено негодное дерево; поэтому евангелисты решили представить дело так, что негодная смоковница будто бы мгновенно засохла от единого слова чудотворца-Иисуса. Так именно и поступили Матфей и Марк, в рассказе которых можно проследить возникновение и развитие означенной легенды. По их свидетельству, бесплодная смоковница была наказана Иисусом в последние дни его земной жизни, по пути из Вифании в Иерусалим; это указание евангелистов исторически правдоподобно в том смысле, что в означенное время невосприимчивость Израиля по отношению к благодати и спасению, даруемым Иисусом, успела обозначиться вполне. Но та беседа, которую ведет Иисус с учениками по поводу означенного чуда у обоих упомянутых евангелистов, свидетельствует о том, что основная и первоначальная идея сказания ими была непонятна или умышленно искажена. На вопрос изумленных чудом учеников — как это вдруг засохла смоковница? Иисус отвечает: «Имейте веру Божию, ибо… если кто скажет горе сей: поднимись и ввергнись в море, и не усомнится в сердце своем… будет ему, что ни скажет» (Мк. 11:20). Такое изречение, затемняющее истинную мысль рассказа, могло попасть в рассказ только тогда, когда стали уже видеть исключительно рассказ о чуде.
Текст подлинных речей, сопровождавших это чудо первоначально, нам сообщает Лука в рассказанной им притче о смоковнице (13:1–5): оказывается, по его словам, что Иисус говорил о галилеянах, которых Пилат велел умертвить во время жертвоприношения, и о 18 человеках, которых придавила обрушившаяся башня Силоамская, и что наконец Иисус спросил иудеев: полагают ли они, что эти галилеяне и задавленные башней люди были грешнее прочих галилеян и обитателей Иерусалима? «Нет! — заявляет Иисус, если не покаетесь, все так же погибнете», и вслед за тем Иисус переходит к притче о виноградаре и смоковнице (Лк. 13:6–9). Таким образом, оказывается, что основная мысль рассказа о проклятии смоковницы сводится к тому, что иудеям следует покаяться, дабы не погибнуть наподобие смоковницы.
Итак, мы видим, что в данном случае, как и во всех тех случаях, когда Лука пользовался не одним только Матфеевым евангелием, он сохраняет чистую первичную форму рассказа — притчи. Но по сравнению с рассказом Марка, рассказ Матфея представляется первичным. У Матфея смоковница, проклятая Иисусом, засыхает мгновенно, и так именно и должно совершаться чудо, при наивном взгляде на чудесные события: если чудотворец может единым словом засушить дерево, то и дерево должно засохнуть тотчас. Но Марк оба момента обособил: по его словам, дерево, проклятое Иисусом, засохло лишь на следующий день, и было то замечено учениками Иисуса лишь на третий день. Но разделять акт чуда на несколько этапов значит вносить в рассказ неестественность и рефлексию. Марк, видимо, собирался придать чуду понятный и естественный характер, он хотел изобразить его нагляднее и драматичнее, но, разумеется, добился лишь того, что эффектная первичная форма рассказа о чудесном происшествии под его руками обесцветилась и поблекла.
Но гораздо больше навредил он своему рассказу сам, заметив, что «еще не время было собирания смокв», когда Иисус, «взалкав», подошел к смоковнице и стал искать на ней плодов (Мк. 11:13). Это замечание с календарной точки зрения было само по себе справедливо: в тот момент, за неделю до Пасхи, действительно нельзя было ждать плодов от смоковницы, ибо смоква поспевает не ранее июня месяца, а совершенно созревает только в августе; а если Иосиф Флавий сообщает, что на побережье моря Галилейского смокву собирают десять месяцев в году,[237] то это замечание не относится к пустынным и каменистым окрестностям Иерусалима. Марк сделал вышеупомянутое замечание, вероятно, с той целью, чтобы объяснить, почему Иисус не нашел плодов на смоковнице (отсутствие плодов на дереве могло зависеть и от чисто местных причин или от болезни, поразившей дерево ко времени поспевания плодов), но он забыл, что от замечания его утрачивался смысл карательного акта, задуманного Иисусом: если еще было рано собирать плоды смоковницы, тогда и проклинать или казнить ее за мнимое неплодие было нелепо. Поэтому гораздо лучше поступил в данном случае Матфей: он не пытался объяснить бесплодие смоковницы и не напоминал о том, что в это время года плодов на смоковнице быть не могло; поэтому поступок Иисуса в рассказе Матфея является деянием более понятным и уместным. В той притче, которая легла в основание данного рассказа, совсем не говорится ничего о времени года, и потому читатель, естественно, подразумевает сам, что плодов на дереве Иисус искал своевременно, то есть во время сбора урожая, но как рассказ о чудесном происшествии притча была отнесена к последним дням земной жизни Иисуса, в чём, видимо, сказалось смутное воспоминание о ее первоначальном смысле и значении; но то обстоятельство, что вопреки правде исторической действие рассказа отнесено к весне, когда смоковница еще не могла давать плодов, было упущено из виду повествователем, внимание которого было всецело обращено на то, чтобы изобразить сотворенное Иисусом чудо.
IV группа мифов: Преображение Иисуса и въезд в Иерусалим.
§82. Преображение
В одном еврейском сочинении[238] по поводу рассказа, помещенного во второй книге Моисея (34:29), мы находим следующее замечание:
«И вот Моисей, присно блаженной памяти учитель наш, будучи простым человеком, так просветлел лицом, когда беседовал с Иеговой, что израильтяне побоялись приблизиться к нему. Поэтому не следовало ли полагать, что лик Бога во много раз светлее и что лик Иисуса тоже просияет в мире от края и до края? Однако лик Иисуса не сиял, был подобен обыкновенному человеческому лицу, поэтому и веровать в Иисуса не следует».
Правда, вышеупомянутое сочинение написано в сравнительно позднейшую, христианскую эпоху, но его автор рассуждает так, как свойственно было рассуждать иудею времен первых христиан: так как лик Моисея, первого спасителя народа Божия, сиял, а лик Иисуса, последнего спасителя, не сиял, поэтому и веровать в Иисуса ему казалось неуместным. Действительно, об Иисусе не сохранилось известия о том, что лик его сиял и что подобно Моисею он принужден был прикрывать лицо пеленой, чтобы не пугать народ, беседовавший с ним; однако христианам показалось, что столь необычной черте в личности Моисея необходимо противопоставить что-нибудь аналогичное в личности Иисуса, и весь вопрос для них сводился лишь к тому, чтобы придумать соответствующий эпизод.
Апостол Павел в одном послании (2 Кор. 3:7) заявляет, что он гордится быть служителем нового завета, служителем духа животворящего, и затем продолжает так: «Если же служение смертоносным буквам, начертанное на камнях, было так славно, что сыны Израилевы не могли смотреть на лице Моисеево по причине славы (сияния) лица его преходящей, — То не гораздо ли более должно быть славно служение духа?» Правда, здесь Моисею противопоставляется не Христос, а лишь апостол, и «сияние» разумеется в духовном смысле — в смысле сияния славы. Но далее (3:13–17) апостол говорит, что они, апостолы, служители Нового завета, действуют не так, как Моисей, который полагал покрывало на лицо свое, а действуют иначе: «Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу». Таким образом, в сферу сравнения вовлекается уже сам Иисус Христос, как источник славы, просветляющей и преображающей его служителей, и потому читатель приходит к представлению о внешнем преображении или просветлении, которому подвергся воскресший Христос, и которого при втором его пришествии удостоятся его последователи (1 Кор. 15:43).
Но иудеи, противники христиан, продолжали возражать, что Иисус в период своей земной жизни не совершил много из того, что надлежало исполнить Мессии, поэтому некоторые из мессианских подвигов Иисуса приходилось отложить до времени его второго пришествия и, чтобы гарантировать последнее, приходилось создавать хоть немногие отдельные сказания соответствующего характера, например сказание о воскрешении умерших как о факте, будто бы имевшем место уже в период земной жизни Иисуса. Поэтому у христиан являлась также мысль о том, что Иисусу уже в земной период необходимо было просветлеть и просиять, хотя бы временно, в тех видах, чтобы показать, в каком сиянии славы придет впоследствии на облаках небесных ныне восхищенный к Богу Иисус Христос. Такова история возникновения новозаветного сказания о просветлении, или преображении Иисуса (Мф. 17:1; Мк. 9:2; Лк. 9:28). Это сказание автору вышеупомянутого еврейского сочинения, вероятно, было известно, но он им пренебрег, по-видимому, оттого, что «просиял» в нём Иисус не длительно, как Моисей ветхозаветного сказания, а временно, хотя новозаветная легенда постаралась превзойти ветхозаветное сказание интенсивностью того сияния, которым ознаменовалось преображение Иисуса.
Не подлежит сомнению, что евангельское сказание о преображении Иисуса составлено на основании деталей ветхозаветного сказания, изложенного во второй книге Моисея (24:1 и 34:29). Местом действия в новозаветном, как и ветхозаветном сказании является гора: в сказании ветхозаветном — гора Синай, а в сказании новозаветном — «высокая», но по имени не названная гора (как и в легенде об искушении Иисуса не названа была гора, на которой стоял бесом искушаемый Иисус). Чтобы увидели то, что имело совершиться на горе, Иисус берет с собою трех учеников, а именно уже известных нам трех приближенных членов апостольской коллегии (Петра, Иакова, Иоанна), как Моисей кроме 70 старейшин возвел на гору Синай вместе с собою трех приближенных ему лиц: Аарона, Надава и Авиуда (Исх. 24:1–9). Рассказ о преображении Иисуса начинается с замечания о том, что это событие произошло по прошествии шести (а по словам Луки — десяти) дней после предшествующих событий, как в рассказе о Моисее говорится, что облако скрывало гору шесть дней, а на седьмой день Моисей был призван на гору гласом Иеговы, исходившим из облака (Исх. 24:16). В дальнейшем изложении тоже замечается большое сходство. Когда Моисей сошел с горы в сопровождении вышеуказанных трех лиц (о просветлении лица его говорится лишь позднее), он прежде всего увидел, как народ пляшет вокруг золотого тельца, и гнев Моисея обращается на бесхарактерных наместников, оставленных им при народе (Исх. 24:14), из коих Аарон сам даже участвовал в сооружении идола (32:15). Когда же Иисус сошел с горы Преображения, он прежде всего увидал бесноватого лунатика, и его гнев обращается на учеников, которые не сумели изгнать беса из больного.
На горе в обоих случаях просветляются лица у обоих главных персонажей. У Моисея лицо просияло во время его беседы с Иеговой, хотя людям стало видно это сияние впоследствии, когда он уже вернулся с горы. Светлое облако, осенившее Иисуса и его собеседников и символизирующее славу Божию, тоже заимствовано из легенды о Моисее (Исх. 24:16–18). Но затем на стороне Иисуса оказывается некоторое преимущество: кроме лица, просиявшего как солнце, у него посветлела и одежда: «Одежды же Его сделались белыми, как свет», и, таким образом, просиявшие с ним вместе Моисей и Илия заняли при нём подчиненное место, уподобившись тем ангелам, которые сопутствовали Иегове в сказании об Аврааме.
Моисей восходил на гору Синайскую затем, чтобы получить от Иеговы заповеди и скрижали закона, которые он должен был передать народу. Но Мессии не приличествовало восходить на гору за наставлением и наказом: тот, при котором имел сойти на людей Дух Божий и начертать в их сердце закон Божий (Иер. 31:31; Иез. 11:19; 36; 26), должен был носить в сердце своем всяческий закон и научение; и он, Мессия-Иисус, восходил на гору лишь затем, чтобы его увидели ученики осиянным светом неземным и беседующим с самыми прославленными деятелями иудейской древности, и, наконец, затем, чтобы Бог признал и провозгласил его вторично сыном своим, коим он уже объявил его однажды при крещении. Сходство его ситуации и действий Иисуса и Моисея на горе определялось и подсказывалось сходством мессианского призвания Иисуса и законодательной работы Моисея. Мессия, по тогдашним представлениям (Деян. 3:22; 7:37), был тот, о котором некогда изрек сам Моисей (Втор. 18:15): «Пророка из среды тебя, из братьев твоих, как меня, воздвигнет тебе Господь Бог твой, — Его слушайте». Теперь, когда Моисей на горе сам собеседовал с Иисусом, он подтверждал тем самым, что видит в Иисусе не разрушителя законов, как утверждали фанатики-иудаисты, а исполнителя и завершителя закона.
Но кроме законодателя Моисея на горе Преображения находился пророк Илия. Его, по словам пророка Малахии (4:5; Сир. 48:10), намеревался послать Иегова, прежде чем наступит страшный день суда, чтобы призвать народ к покаянию. Поэтому книжники времен Иисуса утверждали, что сперва должен прийти Илия и всё предуготовить, и, пока не явится этот пророк предтеча, до тех пор не может прийти и сам Мессия (Мф. 17:10). Известно, что, по словам легенды, сам Иисус (или, вернее, древнехристианский догмат апологетов) пытался опровергнуть вытекавшее отсюда возражение против мессианства Иисуса, утверждая, что Иоанн Креститель и был тем пророком-предтечей, которому надлежало прийти (Мф. 17:10; Мк. 1:2; Лк. 1:17). Христиане удовлетворялись и не настоящим Илией, когда настоящий Илия не пожелал прийти. Но странным представляется то обстоятельство, что, по словам евангелиста, после пришествия настоящего Илии на горе Преображения Иисус всё-таки указывал ученикам на ненастоящего Илию, и именно лишь потому, что на отсутствие настоящего Илии они указали ему сами. Когда ученики вместе с Иисусом сходили с горы Преображения, они, по словам евангелиста, спросили Иисуса: «Как же книжники говорят, что Илии надлежит придти прежде?» — на что Иисус им заявил: «Правда, Илия должен придти прежде и устроить все; но говорю вам, что Илия уже пришел (в лице Иоанна Крестителя), и не узнали его, а поступили с ним, как хотели (то есть убили его); так и Сын Человеческий (Христос-Мессия) пострадает от них» (Мф. 17:10; Мк. 9:11). Вопрос учеников, видимо, имел такой смысл: если ты Мессия, в чём мы убеждены (Мф. 16:16), то как же отнестись к утверждению книжников о том, что прежде Мессии должен прийти Илия, который в действительности пред тобой не пришел? Но такого вопроса ученики не могли бы задавать Иисусу, если бы Илия действительно явился раньше (на горе), да и сам Иисус указал бы им не на Крестителя, а на подлинного Илию Фесвитянина, явившегося и виденного ими только что на горе. Но вопрос учеников был бы вполне уместен после рассказа об исповедании веры Петром, поэтому предполагают, что именно в таком последовании Матфей нашел в своих источниках рассказы, а эпизод преображения Иисуса он вставил от себя. Впрочем, наши синоптики вообще любят соединять рассказы и изречения на основании внешнего сходства темы, как бы ни отличались они по смыслу и содержанию. Но в данном случае рассказы исключают друг друга даже формально. Если Илия действительно был только что на горе Преображения, тогда ученики не могли задавать означенного вопроса Иисусу, а если они задали ему этот вопрос, то, стало быть, Илия на горе не появлялся. Соединять такие два рассказа вместе было большой наивностью, но евангелист Матфей действительно весьма наивный повествователь. В данном рассказе мы можем отличить два наслоения традиции. Аргумент, который выдвигался в опровержение мессианского достоинства Иисуса на основании прорицания Малахии, сохранился в рассказе в форме указания на то, что Креститель есть Илия — Предтеча; но затем, когда по точному буквальному смыслу прорицания понадобился настоящий Илия, тогда апологеты выдвинули на сцену подлинного Илию, но показали его не всему народу, а лишь немногим избранным ученикам, и таким образом получился рассказ о преображении Иисуса, совершившемся в присутствии Моисея (Мф. 17:3).
О чём беседовал Иисус с обоими великими покойниками, Моисеем и Илией, два первые евангелиста нам не сообщают, да это и понятно, ибо цель этого свидания сводилась, по их мнению, к тому, чтобы показать, что между Иисусом с одной стороны и Моисеем и Илией — с другой стороны существует полное согласие и солидарность. Лука сообщает, что Моисей и Илия «говорили об исходе Его, который Ему надлежало совершить в Иерусалиме»: но такое предсказание грядущего было излишне, так как сам Иисус уже раньше предсказал ученикам (Лк. 9:22), что ему, «Сыну Человеческому», «должно много пострадать… и быть убиту, и в третий день воскреснуть». Евангелист, видимо, старался показать, что крестная смерть Иисуса, столь сильно смущавшая иудеев, была предрешена промыслом Божиим и возвещена Иисусу даже обоими доверенными служителями Иеговы. По поводу предложения Петра соорудить там, на горе Преображения, три кущи — для Иисуса и для двух пришельцев с того света, то есть сверхъестественное видение фиксировать как явление естественное и чувственное, оба евангелиста, Лука и Марк, заявляют, что Петр «не знал, что говорил». При этом Лука поясняет, что в данном случае (как впоследствии в саду Гефсиманском) все трое учеников Иисуса «отягчены были сном». Этим замечанием евангелист, видимо, хотел указать на пропасть, отделявшую учеников от Иисуса: в то время когда с наставником их совершалось нечто высокое и таинственное, они предавались грубо чувственному сну и не разумели смысла совершающегося перед ними явления.
Далее, если и на горе Преображения явилось облако и осенило собеседников, как некогда и на горе Синайской появилось облако — отблеск славы Божией, то сцена не могла протечь безмолвно, и из облака должен был послышаться глас Божий. Но Моисею глас Божий сообщил те заповеди Иеговы, которые он должен был объявить народу, а в данном случае при изменившемся положении вещей глас Божий должен был засвидетельствовать истину об Иисусе ради присутствующих учеников его. Поэтому здесь глас Божий произносит те же самые слова (взятые из пророчеств Исайи (42:1) и псалма 2 (7), которые он произносил раньше, при крещении Иисуса: «Сей есть Сын Мой Возлюбленный»; но как бы в подтверждение предположения о том, что весь рассказ составлен по прототипу моисеевой легенды, глас Божий добавляет еще те слова, которые сказал Моисей народу, предвещая пришествие пророка: «Его слушайте» (Втор. 18:15).
Кроме того истолкования происхождения рассказа о преображении Иисуса которое здесь предложили мы, возможно еще только такое объяснение, какое предлагают ортодоксы, утверждая, что данный эпизод есть внешнее явление чудесного характера и что необходимо верить, что лик и одежда Иисуса действительно просветлели от сверхъестественного света что действительно явились к Иисусу два прославленных покойника что из облака действительно послышался глас Божий. Но в том, кто еще может серьезно веровать в такие чудеса, кто, стало быть, еще стоит на точке зрения евангелистов, в том, разумеется, и данный евангельский рассказ не возбудит никаких сомнений и недоумений. Такому верующему читателю мы лишь заметим, что мы сомневаемся в совершенной искренности его веры и думаем, что он лишь воображает себя верующим. Впрочем, такие объяснения, по которым данное происшествие представляется событием возможным и (вполне или отчасти) натуральным, такие объяснения слишком ничтожны и нелепы, чтобы на их рассмотрение стоило тратить время. Но трудно поверить, чтобы сам Шлейермахер в преображении или просветлении лика Иисуса видел «оптическое явление», хотя он затруднился точнее указать характер этого явления: но не вдавался в подробное рассмотрение его, вероятно, потому, что предвидел, что оно лишь обнаружит всю нелепость его исходных предположений. В двух собеседниках Иисуса, принятых евангелистами за Моисея и Илию, Шлейермахер признал каких-то «тайных» последователей Иисуса, членов высокого совета (синедриона), ибо они предсказали Иисусу тот «исход», который ему предстоял в Иерусалиме (казнь) и который мог быть известен им, членам синедриона, знавшим, как сильно ненавидит Иисуса верховный совет. Далее Шлейермахер изъясняет, что гласа Божия не слышно было в облаке, что данное «оптическое» явление ученики Иисуса, как все традиционно верующие иудеи, приняли за Божие свидетельство об Иисусе, а позднейшие евангелисты-греки неверно поняли явление и присочинили от себя глас Божий. Так точно смотрят на данный евангельский рассказ еще Паулус и Вентурини, которые путем указанного истолкования пришли к совершенному отрицанию всех главных пунктов легенды: они утверждают, что Иисус не «преображался», что Моисей и Илия не появлялись на горе, что глас небесный не был слышен в облаке. Поэтому остается предположить, что никакого преображения Иисуса, вопреки свидетельству евангелистов, не бывало. Так, очевидно, думает и Эвальд, который говорит, что ныне уже невозможно указать, на основании каких данных или «низших элементов» составлен был означенный евангельский рассказ, хотя «внутренняя правда» рассказа очевидна и хотя сомнения не возбуждают те «высшие элементы», из которых составилась эта «правдивая» повесть. На условном языке Эвальда «низшие» элементы означают естественную историческую основу рассказа; «высшие» элементы — ветхозаветные прообразы и представления, а «внутренняя правда» есть главная идея или мысль рассказа; стало быть, по мнению Эвальда, мы теперь уже не можем указать, в чём заключается историческая основа данного рассказа о преображении Иисуса, но «правда» его очевидна, а ветхозаветный прототип, по которому составлен был рассказ, совершенно не сомнителен для нас. Последнее утверждаем также и мы, но мы совершенно устраняем икс мнимо естественного мотива повести, а идеальную «правду» данного рассказа мы усматриваем в христиански-иудаистском указании на связь и солидарность Иисуса с Моисеем и Илией. Именно ввиду иудаистической тенденции рассказа четвертый евангелист и не поместил его в своем евангелии и придал ему совсем иную форму, что мы покажем ниже.
§83. Въезд Иисуса в Иерусалим
После рассказа о преображении Иисуса у всех синоптиков приводятся некоторые речи Иисуса, и затем идет рассказ о роковой поездке его в Иерусалим на праздник Пасхи. Выше мы уже заметили, что в описании этой поездки Иисуса синоптики расходятся друг с другом и с четвертым евангелистом, и теперь нам остается только рассмотреть конец этого рассказа — описание самого въезда Иисуса в Иерусалим (Мф. 21:1; Мк. 11:1;Лк. 19:29; Ин. 12:12).
Из антиномий, получающихся в результате взаимного сравнения различных ветхозаветных изречений о Мессии, следует отметить ту, которая касается пришествия Мессии. По словам Даниила (7:13), Мессия придет на облаке небесном, а по словам Захарии (9:9), он приедет на осле. Это последнее прорицание многие по преимуществу относили к Мессии, считая, что такому идеально миролюбивому князю, как Мессия, вполне приличествует приехать на осле. В одном раввинистском сочинении,[239] в котором Мессия противопоставляется Моисею, автор задает вопрос: что сказано в писании о первом спасителе народа? — и на вопрос этот дает такой ответ:
«Во второй книге Моисея (4:20) сказано: Моисей взял жену свою и сыновей своих и воссел на осла. Так точно и в книге Захарии (9:9) сказано о последнем спасителе народа: придет он нищим, восседая на осле».
Противоречие между словами Даниила и Захарии раввины пытались примирить предположением о том, что Мессия придет во славе и величии на облаках, если того заслужит народ израильский, а в противном случае Мессия является в образе нищего, восседающего на осле. Иначе взглянули на это дело христиане; они стали утверждать, что в первое пришествие Мессия-Иисус явится на землю, сидя на осле, а во второе, будущее пришествие свое он явится на облаке небесном. Но прорицание Захарии о том, что Мессия в качестве царя миролюбивого (а не нищего) прибудет восседающим на осле (эмблеме мира и миролюбия), шло вразрез с обычным национально-иудейским представлением о том, что Мессия будет могущественным и славным царем-воителем; поэтому вполне естественно возникла мысль, что Иисус сознательно решил явиться в Иерусалим, восседая на осле, чтобы напомнить иудеям о соответствующем прорицании Захарии и такой наглядной манифестацией протестовать против идеи воинствующего политического мессианства. Выше мы уже заметили, что Захария, назвав грядущего Мессию царем, отнюдь не влагал в этот титул политического смысла; поэтому, не отрицая исторической правдоподобности за сообщения евангелистов о въезде Иисуса в Иерусалим на осле, мы тем не менее убеждены, что евангельский рассказ об этом происшествии утверждается не столько на реальном факте, сколько на ветхозаветных прорицаниях и догматических соображениях. Убедительное доказательство этого предположения мы находим в рассказе первого евангелиста, который сообщает о въезде Иисуса в Иерусалим нечто совершенно невероятное, почерпнув свое сообщение не из рассказов о действительно случившемся происшествии, а из неверно понятого изречения пророка. Он говорит:
«Когда приблизились к Иерусалиму и пришли в Вифанию к горе Елеонской, тогда Иисус послал двух учеников, сказав им: пойдите в селение, которое прямо перед вами; и тотчас найдете ослицу привязанную и молодого осла с нею, отвязав, приведите ко Мне… Ученики пошли и поступили так, как повелел им Иисус: привели ослицу и молодого осла и положили на них одежды свои, и Он сел поверх их.»
Тут мы прежде всего недоумеваем, как мог Иисус сразу воссесть на двух ослов (до Иерусалима уже было недалеко и потому нельзя предполагать, чтобы Иисус ехал на двух ослах попеременно). Но мы поймем и непонятное, когда ближе всмотримся в то прорицание Захарии, которое по этому случаю цитирует евангелист; оно гласит так: «радуйся и веселися, дщерь Сионова (а у Матфея приведены собственно слова Исайи: „скажите дщери Сионовой“), се, Царь твой грядет к тебе кроткий, сидя на ослице и молодом осле, сыне подъяремной». Но всякий, кто мало-мальски знаком с поэтическим слогом еврейских авторов, согласится, что и в данной фразе говорится не о двух ослах, а об одном, который в одном предложении именуется просто ослом, а в другом — «сыном подъяремной (ослицы)». Автор первого евангелия, вероятно, знал и понимал это не хуже нас, но так как в цитированном им пророчестве Захарии усматривалось указание на Христа, поэтому он счел своим долгом понять слова пророчества буквально, то есть в смысле указания на двух ослов. Исполнив мнимый долг свой, евангелист уже не задавал себе вопроса, что может получиться из его неясного рассказа и как Мессия мог восседать на двух ослах одновременно.
Лука и Марк не повторяют указанного промаха Матфея: они довольствуются одним ослом, но это еще не означает, что их рассказ первичнее и древнее Матфеева рассказа; напротив, признак первичности и самобытности рассказа заключается в обосновании рассказа на вышеуказанном пророчестве Захарии, и Матфей это именно и делает слепо и буквально, тогда как другие два синоптика обосновывают свой рассказ на изречении пророка уже с некоторой оглядкой; они заявляют, что Иисус восседал при въезде в Иерусалим на «молодом осле… на которого никто из людей никогда не садился». Избрав для Иисуса не старую ослицу — мать, а молодого осленка, эти евангелисты руководились опять-таки не историческим соображением; недаром они оговариваются, что на осла, на котором ехал Иисус, никто еще не садился. В пророчестве Захарии такой оговорки нет, но слова пророка можно было понять в смысле указания на «молодого», еще не выезженного осла, и евангелист предпочел именно такое понимание: оно соответствовало тому представлению, что священную особу Мессии достоин был нести на себе лишь чистый и неезженный никем осел, как и пречистое тело Иисуса приличествовало схоронить впоследствии в таком склепе, в котором «еще никто не был положен» (Лк. 28:53). Очевидно, что подобным соображением мог руководиться лишь повествователь сравнительно позднейшей эпохи, и отнюдь не сам Иисус, который мог бы сообразить, что при езде на молодом, еще не выезженном осле мог нарушиться порядок торжественного въезда в Иерусалим и получиться нежелательный эффект.
Но христиан не удовлетворяла древняя легенда, гласившая, что Иисус в Иерусалим въезжал на осле во исполнение пророчества Захарии; им хотелось показать, что осел Мессии был заготовлен для Иисуса промыслом Божиим и что Мессия-Иисус знал, где находился заготовленный для него осел, тем более что в одном ветхозаветном прорицании было сказано, что Мессия сам «привяжет осла своего». Праотец Иаков, умирая, раздавал свое благословение и между прочим относительно Иуды произнес слова, которые впоследствии перетолковывались в мессианском смысле (Быт. 49:10): «Он привязывает к виноградной лозе осленка своего и к лозе лучшего винограда сына ослицы своей». В этом изречении Матфей снова усмотрел двух ослов, старого и молодого, а другие христиане обратили главное внимание на «привязанного» осла, а потому Юстин Мученик утверждает, что, согласно прорицанию, осла, предназначенного для Иисуса, ученики нашли в селении привязанным у виноградного куста. В евангельском рассказе о виноградном кусте не говорится ничего, там просто упомянуто, что два ученика, придя в указанное им селение, увидели осла, «привязанного у ворот на улице». Евангелистам было уже не так памятно благословение Иакова, как изречение Захарии, а Юстин Мученик вспомнил о благословении Иакова, вероятно, потому, что евангельский рассказ в своей первоначальной форме в такой же мере считался с изречением Иакова, как и с пророчеством Захарии. Собственно говоря, следовало ожидать, что, во исполнение пророчества Иакова, Иисус, сходя с осла, сам привяжет его к виноградному кусту; но если осел был привязан к виноградному кусту уже перед отъездом Иисуса, то это давало повод указать на сверхъестественное мессианское всеведение Иисуса, а также на мессианское достоинство его: ученикам стоило сказать только владельцу, что осел надобен для Господа, и владелец тотчас отпустил осла беспрекословно. У четвертого евангелиста мы не находим вышеотмеченных деталей, в рассказе своем он ограничивается заявлением, что Иисус, «найдя молодого осла», сел на него и поехал. Но это объясняется тем обстоятельством, что, указав на соответствующее прорицание Захарии (о грядущем на осле царе), он спешит отметить то впечатление, которое произвело на иудеев воскрешение Лазаря, о чём он вслед за тем и повествует в своем рассказе.
Но в прорицании Захарии речь идет не только о том, что Мессия-царь въедет в Иерусалим на осле, но также и о том, что по сему случаю «дщерь Сионова» будет радоваться и веселиться; а в пророчестве Исайи (почти тождественном с пророчеством Захарии) говорится сверх того, что следует сказать дщери Сионовой, что царь ее грядет и т.д. Поэтому в рассказе трех первых евангелистов сказано, что толпа, сопровождавшая Иисуса при его въезде в Иерусалим, возглашала: «осанна Сыну Давидову! благословен грядущий во имя Господне!» — и устилала ему путь одеждами и ветками деревьев, а жители Иерусалима, которым Иисус, по словам синоптиков, еще не был тогда известен, приходят по сему случаю «в движение» и вопрошают: «кто Сей?» и от народа узнают, что это — Иисус, «Пророк из Назарета Галилейского». Но, по словам евангелиста Иоанна, множество народа, пришедшего в Иерусалим на праздник, услыхав, что (им уже известный) Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветки и, выйдя к нему навстречу, восклицали: «осанна… царь Израилев» и т.д. Причину столь торжественной встречи Иисуса со стороны народа евангелист усматривает в том, что народ знал и свидетельствовал о чудесном воскрешении Лазаря Иисусом. За исключением этой последней детали, всё, что сообщают в данном рассказе евангелисты, не исключая гнева иерархов иерусалимских и речей Иисуса, нам представляется правдоподобным, и если в действительности ничего подобного не произошло, то всё-таки рассказ евангелистов являлся ценной иллюстрацией к ветхозаветному пророчеству о грядущем Христе-Мессии.
Глава третья. Мифическая история страданий, смерти и воскресения Иисуса
I группа мифов: Вифанская вечеря и пасхальная трапеза.
§84. Вифанская вечеря и помазание миром
Одно из древнейших евангельских сказаний гласит, что Иисус незадолго до страданий крестных присутствовал на одной трапезе в Вифании, и там его помазала одна женщина драгоценным миром (Мф. 26:6; Мк. 14:3; Ин. 12:1). Этим сказанием первые христиане очень дорожили, что, между прочим, явствует из слов самого Иисуса, приведенных у Матфея и Марка: «где ни будет проповедано Евангелие сие в целом мире, сказано будет в память ее (то есть женщины, помазавшей Иисуса миром) и о том, что она сделала». Поэтому можно было ожидать, что у первых двух евангелистов будет указано имя этой женщины или какое-нибудь более подробное известие о ней, но в действительности они этого не сделали и потому необходимо предположить, что первые христиане дорожили не столько личностью, помазавшей Иисуса миром, сколько фактом миропомазания Иисуса, вследствие чего в евангельском рассказе указано не только то селение (Вифания), но даже то жилище (дом Симона прокаженного), где было совершено миропомазание. Отчего христиане так дорожили фактом миропомазания Иисуса накануне его крестных страданий, это мы тоже узнаем из слов Иисуса, приведенных в евангельском рассказе: «возлив миро сие на тело Мое, она (женщина) приготовила Меня к погребению» или, как сказано у Марка: «она… предварила помазать тело Мое к погребению» (у евангелиста Иоанна мысль Иисуса искажена до неузнаваемости: Иисус здесь заявляет, что женщина-мироносица «сберегла это на день погребения» его). Значение такого «предварительного» помазания миром обусловливалось тем, что своевременное миропомазание, то есть миропомазание трупа распятого Иисуса, при погребении его в действительности не было совершено. Матфей и Марк прямо заявляют, что Иисус после кончины своей не был миропомазан, а Лука упоминает, что ученики предполагали помазать Иисуса миром, и только Иоанн свидетельствует положительно, что Иисус был миропомазан в гробе большим количеством снадобий (о разногласии евангелистов по данному вопросу речь будет ниже).
Однако приведенные изречения Иисуса представляют только заключение той сцены, сущность которой сводится к тому, что в доме, где трапезовал Иисус, «приступила к нему женщина с алавастровым сосудом мира драгоценного и возливала Ему возлежащему на голову»; увидя то, ученики Иисуса вознегодовали и говорили: «к чему такая трата? Ибо можно было бы продать это миро за большую цену и отдать нищим»; но Иисус стал защищать женщину-мироносицу, говоря: «Она доброе дело сделала для Меня: ибо нищих всегда имеете с собою, а меня не всегда». Вполне возможно, что все эти речи действительно были сказаны учениками и Иисусом, но последующая речь Иисуса, где говорится, что женщина, совершая «предварительное» помазание, предвосхитила миропомазание трупа Иисуса, слишком явно отражает мысли первых христиан и их скорбь по поводу того, что их Учитель погребен был без миропомазания; поэтому невольно начинаешь думать, что и предшествующие речи Иисуса были подсказаны теми же мыслями и сожалениями первых христиан. Вполне возможно, что древнейшие христиане, преувеличивая значение нищеты, считали добрым делом только помощь бедным или раздачу милостыни и отвергали как расточительность всё то, что служило к благолепию и украшению богослужения и молений. Против такого эбионитского и аскетического направления восставала потребность личного культа Христа, и знаменательно то обстоятельство, что в этом отношении всего далее заходит четвертый евангелист, который признаёт, что в данном случае ссылка на нищих есть только лицемерие и ложь, что истинный мотив такого возражения сводится к корыстолюбию и жадности; поэтому евангелист отмечает, что не все вообще ученики (как заявляет Матфей) и не некоторые ученики (как говорит Марк), а именно и только Иуда Искариот — «вор и предатель», восставал против помазания Иисуса драгоценным миром; и это вполне естественно: если неуместно было упрекать за трату денег для оказания почести и любви христиански-иудаистскому Мессии, то настоящим преступлением представлялось подобное возражение по отношению к вочеловечившемуся Слову Бога-творца.
Но если, по мнению четвертого евангелиста, негодовать по поводу помазания Иисуса могла не вся коллегия апостолов, а только одна личность, утратившая честь и совесть (Иуда Искариот), то, с другой стороны, столь прекрасное и сына Божия достойное деяние, как помазание драгоценным миром, могла совершить не всякая женщина, а только проницательная и преданная поклонница Иисуса. Такой поклонницей четвертый евангелист, со слов Луки, признаёт Марию, сестру Марфы. Правда, сам Лука не говорит, что Мария проживала в Вифании или совершила вышеупомянутое миропомазание Иисуса, но он сообщает (10:38), что сестра Марии, Марфа, приютив Иисуса, усердно хлопотала в доме по хозяйству, а Мария сидела у ног Иисуса и слушала поучения его и что, когда за это Марфа стала укорять свою нерадивую сестру, Иисус взял Марию под свою защиту. Поэтому четвертый евангелист решил, что женщиной, помазавшей Иисуса миром в Вифании, была Мария, сестра суетливой Марфы и воскресшего из мертвых Лазаря. Эта Мария некогда сидела у ног Иисуса и слушала его проповедь, а теперь, по словам евангелиста, она миропомазала даже не главу Иисуса (как говорили Марк и Матфей), а ноги Иисуса, отирая их своими волосами, и извела она на это помазание целый фунт драгоценного нардового чистого мира, стоившего не менее 300 динариев. В этом детальном указании качества и ценности употребленного на помазание мира четвертый евангелист, видимо, копирует и развивает рассказ второго евангелиста, питавшего особое пристрастие к «наглядности».
К двум сестрам (взятым из евангелия Луки) евангелист Иоанн, как мы уже сказали, присовокупил в качестве брата воскресшего из мертвых Лазаря, и таким образом в его рассказе и вифанской трапезе Иисуса Симон прокаженный заменяется Лазарем, чудесно воскресшим по слову Иисуса. Впрочем, Лазарь не совершенно вытеснил собой Симона прокаженного: в рассказе евангелиста Иоанна Лазарь является не хозяином или владельцем дома, как Симон, а только гостем или «одним из возлежавших» с Иисусом, причем Марфа и тут «служила» трапезующим, как она служила и в рассказе Луки. Мы видим, что четвертый евангелист не решался совершенно отбросить традиционный рассказ о помазании Иисуса в доме Симона прокаженного, поэтому он только умолчал о Симоне и доме его, и упомянул о Лазаре, не обращая его в хозяина и владельца дома. Но в таком случае читатель недоумевает: у кого же, собственно, трапезовал Иисус в Вифании? — и только замечание евангелиста о том, что за трапезой «служила» Марфа, заставляет думать, что, по аналогии с рассказом евангелиста Луки (10:38), трапеза происходила в доме Марфы или ее брата Лазаря.
Но в рассказе четвертого евангелиста замечается черта, которая приводит нас не к третьему евангелисту с его рассказом о Марфе и Марии, а к другому прототипу. В отличие от первых двух евангелистов четвертый евангелист говорит, что Мария помазала не голову Иисуса, а его ноги. Это отличие можно объяснить соображением о том, что у Луки Мария сидела у ног Иисуса, но вполне оригинально замечание евангелиста о том, что Мария волосами своими отирала ноги Иисуса, помазанные миром. Поэтому мы задаем себе вопрос: откуда и зачем приведена эта подробность евангелистом? Возможно допустить, что эта деталь придумана самим евангелистом, который пожелал отметить искреннюю преданность и беззаветное смирение Марии. Но если ту же деталь мы найдем в другом евангельском рассказе, то нам придется допустить, что между обоими рассказами есть внутренняя связь и что другой более самобытный и древний — рассказ послужил образцом и источником для нашего евангелиста. Действительно, вполне оригинальным и самобытным представляется рассказ Луки о том, как Иисуса помазала миром некая грешница (Лк. 7:36). Что этот рассказ не вовсе чужд данному рассказу, что в нём не идет речь о другом отличном происшествии, в этом убеждают многие черты рассказа. Прежде всего следует заметить, что Лука нигде в другом месте о миропомазании не упоминает и что данное помазание Иисуса грешницей вполне соответствует вифанскому миропомазанию, хотя оно и совершилось, по словам Луки, не в Вифании и не в последние дни жизни Иисуса, а в Галилее и в период первых галилейских выступлений Иисуса. Далее Лука говорит, что миропомазание Иисуса совершила грешница во время трапезы, которая происходила в доме фарисея Симона (а в рассказе Матфея и Марка хозяин дома именуется Симоном-прокаженным). Затем, как у Матфея и Марка, женщина-грешница приносит в дом миро в алавастровом сосуде и подвергается тоже нареканию — но не громкому нареканию со стороны учеников Иисуса, а мысленному, безмолвному нареканию со стороны домохозяина-фарисея и наконец тоже принимается под защиту Иисусом, причем содержание нарекания и защитной речи Иисуса в данном случае иное, так как и речь идет здесь о женщине иного сорта.
Как объяснить эти отличия? И вообще позволительно ли думать, что традиция или произвол писателя превратили женщину высокочтимую, помазавшую голову Иисусу миром из искреннего уважения к нему в опороченную женщину-грешницу, которая покаянно орошает ноги Иисуса обильными слезами, отирает их волосами головы своей, целует их и обливает миром! При этом следует напомнить, что повесть о много согрешившей женщине, как и рассказ о женщине-мироносице, принадлежит к числу древнейших евангельских легенд: уже еврейское евангелие содержало эту повесть, и Папий тоже отмечает ее у себя. Что этой грешнице прощаются грехи ее многие, об этом прямо заявляет евангелист Лука; кроме того, не Иисус осуждал ее за грехи, а фарисей-хозяин, который укорял ее не громогласно, а «сам в себе» и думал, что если бы Иисус был воистину пророк, то он знал бы, что эта женщина великая грешница, и прогнал бы ее прочь. Вместе с тем мы находим в четвертом евангелии весьма старинный (хотя, быть может, и апокрифический) добавочный рассказ о женщине-блуднице (8:1), которую книжники и фарисеи обвиняли в прелюбодеянии и которую Иисус тоже взял под свою защиту и «не осудил».
Вполне естественно, что, найдя вышеотмеченный рассказ в еврейском евангелии, павликианин Лука его облюбовал, но не признал удовлетворительной ту форму, в которой рассказ этот попал в Иоанново евангелие, где упомянутая женщина представлена лицом пассивным: не она является сама к Иисусу, а приводят ее книжники и фарисеи, и, стоя перед Иисусом, она ничего не делает и не говорит сама, а фарисеи и книжники, обвиняя ее, пользуются данным случаем, чтобы задать Иисусу «щекотливые» вопросы; впрочем, в конце концов они принуждены отказаться от обвинений и вопросов своих, так как Иисус апеллировал к их собственной совести («кто из вас без греха, первый брось на нее камень»), и, «обличаемые совестью», они отошли от Иисуса (что с точки зрения исторической весьма невероятно). Луке, при занятой им позиции, следовало резче подчеркнуть собственное стремление грешницы к спасению, ее активное самодеятельное желание приблизиться к Иисусу: ведь даже многогрешный блудный сын в притче Иисуса сам, по собственному побуждению вернулся в дом отца своего и покаялся ему в своих прегрешениях: ведь и начальник мытарей, Закхей, пожелав увидеть Иисуса, не обинуясь взлез на дерево, чтобы оттуда посмотреть на проходящего Иисуса; ведь мытарь, в храм пришедший, тоже с сокрушением бил себя в грудь, прося о прощении грехов; поэтому и женщине-блуднице надлежало так или иначе молить Иисуса о прощении и милосердии. Свое раскаяние она могла и должна была выразить актом приношения и излияния дорогого мира; и так как женщину, помазавшую Иисуса миром, старейшие евангелисты не назвали по имени и вообще не описали более подробно, поэтому ничто не мешало нашему евангелисту соединить оба рассказа вместе, тем более что, по убеждению его, раскаявшийся грешник не представляется уже лицом преступным или опороченным. Но грешнице, смиренно сознающей свою вину, не приличествует прикасаться к главе Иисуса, она может касаться только ног его, и орошать ноги Иисуса она должна прежде всего слезами покаяния; она не должна также и волосами своими дорожить настолько, чтобы не отереть ими орошенных ног Иисуса; она не должна ни гнушаться целовать ноги Иисуса, ни жалеть денег на покупку дорогого мира для помазания Иисуса, и все эти детальные черты кающейся грешницы гораздо резче выступят наружу, если рассказ отметит, что фарисей хозяин дома не оказал должного почтения своему высокому гостю. Поэтому в беседе, которую в данном рассказе Иисус ведет с хозяином-фарисеем, а не с учениками, речь идет не о расточительности женщины-мироносицы, а о характере и личности ее. Фарисей считает эту женщину существом погибшим и порочным и полагает, что своим прикосновением она пятнает и унижает Иисуса, а Иисус, наоборот, считает самооправдание и самодовольство фарисея причиной его бессердечия и черствости и видит в прощении грехов источник искренней любви и спасения, и эту мысль Иисус особенно рельефно выражает в притче о царе, пожелавшем расплатиться с работниками своими (Мф. 18:23). В этой притче, как и в притче, сказанной хозяину-фарисею (Лк. 7:41), речь идет о двух должниках с неравной суммой долга; но у Луки оба должника должны одному заимодавцу, а у Матфея один должник должен царю, а другой — рабу царскому. У Матфея раб, которому царь простил большой долг, не хочет простить своему должнику его малый долг, и потому в притче фигурирует как отрицательный пример, а у Луки, наоборот, должник, которому прощен большой долг, оказывается лицом, возлюбившим милостивого заимодавца больше, а о другом должнике, которому прощен был меньший долг, говорится, что он возлюбит заимодавца меньше, как и самодовольный фарисей, считающий себя безгрешным, возлюбит меньше Бога, простившего ему грехи.
Итак, мы имеем перед собою группу из пяти рассказов. В этой группе среднее место занимает 1) рассказ Матфея и Марка о женщине, которая на трапезе в Вифании помазала миром главу Иисуса и которую ученики Иисуса укоряли за расточительность, а Иисус взял под свою защиту. Левее этого рассказа стоит 2) рассказ еврейского евангелия о грешнице, которую обвиняли перед Иисусом и которую он, вероятно, тоже простил (оригинал рассказа до нас не дошел, поэтому мы говорим «вероятно»), внушив ей, чтобы она больше не грешила. Правее первого рассказа стоит 3) рассказ Луки о двух сестрах, Марфе и Марии, из коих первая дает у себя пристанище Иисусу и усердно служит ему, а вторая сидит у ног Иисуса, внимательно прислушиваясь к его проповеди, и, будучи за эту нерадивость порицаема сестрой, принимается Иисусом под защиту. Первый и второй рассказы Лука соединил вместе и получил новый 4) рассказ о грешнице, помазавшей миром ноги Иисусу. Наконец, Иоанн соединил первый и третий рассказы вместе и получил 5) рассказ о Марии, помазавшей Иисуса миром, причем из четвертого (сводного) рассказа Луки о грешнице он взял деталь (помазание ног Иисуса миром и осушение их волосами), которая ему показалась чертой вполне подходящей для экспансивной и впечатлительной натуры вифанской героини его, Марии.
§85. Пасхальная трапеза и учреждение евхаристии
Как вечеря или трапеза вифанская была важна для первых христиан совершившимся на ней миропомазанием Иисуса, которое заменило собой несостоявшееся в действительности миропомазание тела умершего Иисуса, так точно была важна для христиан и та пасхальная вечеря, которую устроил Иисус с учениками своими в Иерусалиме перед пленением и распятием своим, потому что с воспоминанием о ней была связана евхаристия, или тризна, которую периодически и повторно совершали христиане после смерти Иисуса и которая впоследствии обратилась в истинное средоточие древнехристианской церковно-общинной жизни.
Рассказу о столь важном акте приличествовало предпослать и соответствующее введение, чтобы показать, что основоположник Нового завета приступал и к учреждению евхаристии по указанию и полномочию, преподанному свыше (Мф. 26:17; Мк. 14, 12; Лк. 22:7). Как перед въездом в Иерусалим Иисусу стоило лишь послать учеников, чтобы у первого встречного обитателя селения получить ослов для Иисуса, так и теперь, по словам Матфея, Иисусу стоило лишь послать ученика к любому обитателю Иерусалима и известить его, что учитель со своими учениками желает совершить у него в доме пасху, чтобы тотчас получить желаемое помещение для трапезы. Уже в одном этом факте заключается чудесный элемент (ибо всякую мысль о предварительном уговоре или соглашении между Иисусом и владельцем помещения евангелист решительно отвергает), и чудо в данном случае сводится к волшебной силе слова Иисуса или к попечению промысла Божия об интересах Иисуса. Чудом представлялось то, что Иисусу без труда удалось получить желаемое помещение для трапезы, несмотря на то что при огромном наплыве иногородних паломников, явившихся на праздник Пасхи в Иерусалим, трудно или даже невозможно было получить в городе требуемое помещение, да притом на вечер первого пасхального дня. Но евангелистам захотелось еще усугубить чудесный элемент в рассказе, построенном по плану предыдущего рассказа о получении осла для въезда Иисуса в Иерусалим. Это желание сказалось и осуществилось у Марка и Луки в том, что, по их словам, Иисус послал занять помещение для трапезы не вообще учеников (так сказано у Матфея), а двух учеников (именно Петра и Иоанна по словам Луки), как и добыть осла для Иисуса было поручено двоим ученикам. Далее, как этим двум посланцам было сказано, что они увидят осла, привязанного у дома, и как однажды Самуил предсказал Саулу, что он встретится с людьми, несущими питье и кушанье (Цар. 10:2), так в данном случае Иисус, по словам Марка и Луки, тоже предсказал ученикам, что при входе в город они встретят человека, несущего кувшин воды, и что, придя в тот дом, куда войдет этот человек, они узнают от хозяина дома, где приготовлена для Иисуса «большая, устланная и готовая» горница, а посланные Иисусом ученики, придя в город, действительно нашли всё и всех, как сказал им Иисус.
У четвертого евангелиста такого введения мы не находим в данном случае, как и в рассказе о въезде Иисуса в Иерусалим, где наш евангелист тоже подробно не указывал, где и каким образом был добыт осел для Иисуса. Но говорит ли он действительно о той трапезе, о которой повествуют евангелисты-синоптики? По-видимому, нет, ибо синоптики прямо заявляют, что данная трапеза была пасхальной вечерей, а Иоанн заявляет, что та трапеза происходила перед Пасхой. Затем синоптики свидетельствуют, что на означенной пасхальной вечере Иисус учредил евхаристию, а Иоанн в свою очередь сообщает, что на означенной вечере Иисус только умыл ноги ученикам.
По словам Матфея, в первый опресночный день приступили ученики к Иисусу и спросили: «Где велишь нам приготовить тебе пасху?» Затем, когда Иисус указал им, где он желает вкусить пасхи, он вечером того же дня (26:20) «возлег» с 12 учениками и, по словам Луки (22:15), при этом заявил: «Очень желал Я есть с вами сию пасху прежде Моего страдания». Из этих сообщений явствует, что речь идет о пасхальной трапезе, которая, согласно Моисееву закону (Исх. 12), вкушалась иудеями вечером 14-го нисана.[240] Многие предполагали, что Иисус вкусил пасху накануне праздника, за день до Пасхи, так как он предвидел, что на следующий день его распнут на кресте, и так как это делалось обычно (мы, впрочем, такого обычая не знаем) ввиду огромного наплыва иногородних паломников. Но такое предположение опровергается, во-первых, свидетельством Луки, который заявляет (22:7), что Иисус велел приготовить пасху в день опресноков, когда надлежало заколоть пасхального агнца, и, во-вторых, свидетельством Матфея, который заявляет (26:17), что Иисус велел приготовить пасху в первый день опресночный, а таким первым днем опресноков, согласно Моисееву закону (Исх. 12:15, 18), признавался день 14-го, а не 13-го нисана.
У евангелиста Иоанна (13:1) мы не находим указания на то, что данная трапеза была пасхальной вечерей; напротив, он прямо говорит, что «перед праздником Пасхи» Иисус, зная, что пришел час «перейти от мира сего к Отцу» и так далее, совершил во время трапезы или вечери то-то; стало быть, то была вечеря не пасхальная, а допасхальная. Далее Иисус заявляет Иуде-предателю: «Что делаешь, делай скорее» (13:27). и ученики подумали, что он велел Иуде купить что нужно к празднику (13:29). Отсюда явствует, что «праздник», то есть пасхальный праздник, только предстояло еще праздновать, а что этот праздник не пришел, это видно из того, что иудеи на следующий день отказались пойти в языческую преторию, дабы «не оскверниться» и чтобы им можно было «есть пасху» (18:28).
По-видимому, отсюда можно заключить, что синоптики говорят об одной трапезе, а евангелист Иоанн — о другой; что на одной вечере (13-го нисана) происходило омовение ног, а на другой (14-го нисана) Иисус с учениками вкушал пасху. Но с другой стороны, многие черты евангельских рассказов наводят на ту мысль, что все евангелисты разумеют одну и ту же трапезу. У Иоанна, как и у синоптиков, говорится, что на этой вечере Иисус предсказал предательство Иуды и отречение Петра, причем у Иоанна Иисус добавляет, что Петр отречется трижды, прежде чем петух успеет пропеть однажды (13:38). Такое обозначение момента отречения показывает, что Иоанн, подобно синоптикам, намеревался в данном случае описать последнюю вечерю Иисуса, что видно также из введения к Иоаннову рассказу, где говорится, что, умывая ноги ученикам, Иисус хотел «явить делом, что, возлюбив своих сущих в мире, до конца возлюбил их»; то же явствует еще из последующих прощальных речей Иисуса и из замечания о том, что после вечери Иисус был взят под стражу. Но так как эта единственная и последняя вечеря Иисуса у синоптиков именуется пасхальной, а Иоанном отнесена к кануну Пасхи, поэтому следует признать, что тут имеется решительное противоречие и что неправа какая-нибудь из сторон.
Некоторые теологи утверждали, что тут нет никакого противоречия. Но это заявление показывает, что теология часто руководится не одною только правдой. Тот факт, что по этому вопросу упомянутые теологи действуют не солидарно, что одни стараются склонить Иоанна к мнению синоптиков, а другие — синоптиков к мнению Иоанна, и что третьи считают взгляды всех сторон вполне согласными, этот факт доказывает, что сами теологи свои толкования утверждают не на тексте евангельских рассказов, а на посторонних соображениях, и что им важно не выяснение истины, а согласование евангелистов, то есть признание за их повествованиями исторического характера и значения. Чтобы обе стороны оказались правыми, какая-нибудь из сторон должна подвергнуться насилию, то есть насильственному извращению слов и мнений. Но тут проходит уже грань, отделяющая теологов, с которыми возможно говорить и спорить, от таких теологов, с которыми препираться бесполезно. Этим мы, впрочем, не хотим сказать, что теологи, признающие наличность противоречия между синоптическим и Иоанновым свидетельством по данному вопросу, свободны от всяких предрассудков и предубеждений. Если им задать вопрос: какая из сторон права? — то приверженцы евангелиста Иоанна тотчас встанут на защиту своего любимца и будут уверять, что он не может быть неправ, ибо в противном случае будут неправы они сами с их «современной» верой, обоснованной на Иоанновом евангелии. Подобный взгляд, конечно, совершенно ложен и неоснователен; историческая критика — это суд присяжных, постановляющий свой приговор по совести, не смущаясь тех или иных последствий. Если четвертое евангелие не в силах доказать свою историческую достоверность своим собственным содержанием, то суд критики тоже выскажется против него, не считаясь с тем впечатлением, какое он произведет своим вердиктом на современных теологов.
Обращаясь к рассмотрению означенных противоречивых евангельских сказаний, мы прежде всего констатируем, что синоптический рассказ, считающий последнюю вечерю Иисуса вечерей пасхальной (14 нисана) и признающий день смерти Иисуса днем праздника пасхального (15 нисана), является рассказом древним. Не подлежит сомнению, что первые евангелисты все написали свои евангелия после разрушения Иерусалима, но они пользовались при этом такими источниками, в которых содержались древнейшие палестинские сказания об Иисусе. Далее из спора о праздновании Пасхи, который во второй половине II века по Р.X. вела церковь малоазийская с церковью римской, выясняется, что обычай праздновать день 14-го нисана, в который Иисус вкушал пасхального агнца вместе со своими учениками, совершением евхаристии есть обычай древний, который, по словам малоазийских христиан, установлен был апостолом Иоанном. Однако их противники ссылались на церковное предание, установившее их «правило», по которому пасхальную евхаристию надлежало совершать (независимо от дня месяца) в день воскресения Христа (в воскресенье). Спор этот, как всякий чисто церковный спор, носил догматический, а не исторический характер. Празднование Пасхи в день 14-го нисана, когда праздновалась Пасха иудейская, позднейшим христианам казалось иудаизмом, а отрицание этого обычая они считали освобождением христианской веры от веры иудейской; поэтому в восточной церкви скоро появляются такие «прогрессисты», как Аполлинарий Иерапольский и Клемент Александрийский, которые высказались за «правило» римской церкви. Чтобы прочнее обосновать это «правило», прогрессисты приводили следующий аргумент: вечеря Иисуса состоялась накануне Пасхи, а пасхального агнца он не вкушал, а когда его вкушали иудеи, Иисус уже страдал, ибо он сам представлял собою истинного агнца пасхального, Сына Божия, несущественным прообразом которого был агнец пасхальный. Так проводилась хронологическая мысль, вскользь брошенная уже апостолом Павлом (1 Кор. 5:7) и сводившаяся к тезису, что Христос — наш пасхальный агнец — заклан был ради нас, человеков. Та же мысль лежит в основе повести четвертого евангелиста. По его словам, Иисус уже не вкушал пасхального агнца перед началом своих страданий, он сам был заклан наподобие пасхального агнца, он сам был умерщвлен как истинный агнец Божий на Голгофе в тот же день и час, когда агнцов пасхальных закалывали на жертвенниках в храмовом притворе. Аполлинарий (170 г. по Р.X.) первый указал на эту мысль четвертого евангелиста и заявил, что противоположный взгляд, основанный на свидетельстве Матфея, вносит смуту и противоречие в евангельскую повесть. По-видимому, незадолго перед тем было написано Иоанново евангелие, и тут мы начинаем понимать мотивы его рассуждений, мы начинаем понимать, отчего четвертый евангелист отнес последнюю вечерю Иисуса к кануну Пасхи, а смерть Иисуса — ко дню пасхальной трапезы, опережая старейших евангелистов в этом отношении на один день: при той позиции, которую он занял, он опасался, чтобы Иисус, дойдя до апогея своей деятельности, не вкушал отжившей век свой иудейской Пасхи и желал, чтобы своей смертью, пришедшейся на Пасху, Иисус ознаменовал начало нового вероучения.
Как ни легко теперь указать причины, заставившие евангелиста в данном вопросе пойти вразрез с историей, однако нелегко доказать и то, что хронология синоптиков совершенно безупречна. Правда, их повесть о пасхальной трапезе не возбуждает в нас сомнений, но зато весьма сомнительно всё то, что, по словам их, произошло ночью и на следующий день. Весьма неправдоподобно сообщение о том, что в такую священную ночь, когда вкушался пасхальный агнец, и в такой священный день, как первый день пасхальных праздников, синедрион будто бы послал вооруженных слуг взять под стражу Иисуса, затем сам будто бы собрался для суда над Иисусом, сам обвинял Иисуса перед прокуратором и убеждал римлян казнить Иисуса в высокоторжественный день праздника. Правда, Иоанн сообщает, что первосвященники и фарисеи высылали служителей (быть может, безоружных) схватить Иисуса даже в последний великий день праздника, то есть праздника Кущей (7:45, 32), а по словам Деяний апостолов (12:3–4), Ирод взял под стражу Петра во дни опресноков, хотя и намеревался «вывести его к народу» (то есть судить и казнить его) после Пасхи. Как относился в те времена суд иудейский к субботе и иным праздникам, этого мы в точности теперь не знаем, так как по этому вопросу Иосиф Флавий не дает достаточно подробных указаний, а Талмуд высказывается весьма неясно и противоречиво. Так нам известно из Талмуда, что синедрион собирался также по субботам и другим праздникам, но не в обычном помещении, и мы не знаем, собирался ли он для суда, так как в другом месте говорится, что творить суд по субботам не разрешается. Что же касается казни осужденных, то нам известно следующее изречение раввина Акивы (современника императора Адриана), «кто прекословил книжникам, того приводят в Иерусалим в один из трех великих праздников и казнят в праздник ради назидания и устрашения народа». Казнили ли преступников и в главный праздник, мы не знаем, но так как казнь и вообще исполнение судебных приговоров поручались римлянам, то и вопрос о казни Иисуса не возбуждает в нас больших сомнений и не представляет важного значения.
Но далее нам говорят, что синоптики опровергают самих себя: день казни Иисуса они обозначают выражением, которое противоречит их же собственному предположению, что казнь свершилась в первый, величайший день Пасхи, и что, стало быть, вечеря, устроенная накануне, была пасхальной. Они утверждают, что Иисус был казнен в пятницу, то есть накануне субботы (Мф. 27:62; Мк. 15:42; Лк. 23:54), но в таком случае нельзя было указывать на первый праздник Пасхи, который, как всякий первый день многодневных праздников, равносилен был субботе, и это указание взято, стало быть, из более древнего сказания, в котором, как в Евангелии от Иоанна, днем казни Иисуса признавался не первый праздник, а канун его. На это, видимо, указывает также замечание Луки (23:56), что женщины галилейские, присутствовавшие при погребении Иисуса, возвратясь, приготовили благовония и масти, а в субботу «остались в покое по заповеди». Если бы казнь и погребение Иисуса состоялись в первый праздник Пасхи, то женщины эти не дерзнули бы ни в этот, ни в последующий день (субботу) заниматься приготовлением «мастей», поэтому лишь у Иоанна имеет смысл сообщение о том, что иудеи торопились снять тело Иисуса с креста вечером того же дня, дабы не нарушить святости последующего дня, ибо Иоанн считает днем казни Иисуса канун Пасхи, а первый последующий день — первым праздником. Однако у Иоанна сказано (19:14), что Пилат вывел Иисуса на судилище в «пятницу перед Пасхой», так что казнь Иисуса состоялась накануне субботы. Далее, по словам Иоанна, Иисус испустил дух в пятницу, и в тот же день иудеи просили Пилата перебить голени у Иисуса и снять его с креста, дабы не оставить тела на кресте в субботу, «ибо та суббота была день великий» (19:31). Таким образом, из слов его о том что «та суббота была день великий», следует, что та суббота была первым днем пасхальных праздников. Поэтому если и четвертый евангелист удостоверяет, что суббота была «великим днем», то есть праздником Пасхи, то он в этом вопросе становится на точку зрения трех синоптиков, которые из двух дней признают второй, субботу, более священным днем, и мы имеем основание предполагать, что в те времена так именно и поступили иудеи; недаром и позднее иудеи отдавали преимущество субботе. Во всяком случае, Баур справедливо замечает, что автор первого евангелия, стоявший еще близко к иудаизму (а также и к древнейшим источникам палестинским, которыми он пользовался), мог и должен был знать лучше иудейские обычаи и взгляды, чем мы, и потому мы можем ему поверить не обинуясь, что Иисус был осужден и казнен в первый праздник Пасхи.
В том обстоятельстве, которое побудило четвертого евангелиста заявить, что последняя вечеря Иисуса состоялась одним днем раньше и что она была не пасхальной, а допасхальной трапезой, следует искать также причину того, почему он умолчал, что учреждение евхаристии состоялось на этой же вечере (Мф. 26:20, Мк. 14:17; Лк. 22:14). Из шестой главы его евангелия явствует, что он глядел на евхаристию как на обряд христианский, но уже во времена апостола Павла среди христиан было распространено то мнение, что Иисус сам учредил этот обряд на последней вечере, и этого не мог не знать автор четвертого евангелия, помимо синоптических свидетельств. Но евангелист полагал, что последняя вечеря Иисуса не была пасхальной трапезой, поэтому он не считал возможным заявлять, что на той вечере была учреждена евхаристия, дабы последняя не представлялась пережитком иудейского обряда. Правда, на это можно было возразить, что таковым пережитком обряд евхаристии не казался уже потому, что последняя вечеря Иисуса состоялась накануне трапезы пасхальной, как о том свидетельствует сам евангелист, и что поэтому и учреждение евхаристии могло состояться на этой допасхальной вечере. Но из рассказов синоптических евангелий мы убеждаемся, что древнехристианская община веровала, что Иисус учредил евхаристию на пасхальной вечере, что последняя вечеря Иисуса была именно пасхальной вечерей и что отрицать учреждение евхаристии на означенной вечере значит отрицать самоё вечерю. Поэтому могло казаться, что евхаристия не была учреждена тогда как обряд, а имела лишь характер символа, и эта мысль проведена в шестой главе Иоаннова евангелия, которое также и в чудесном насыщении народа, и в претворении воды в вино видело одни лишь символы. Таким образом, оказывалось, что Иисус желал учредить и действительно учредил евхаристию, но не чувственно-реальным, а мистико-идеальным образом (то есть во вкусе четвертого евангелиста) и учредил ее вне всякой связи с иудейскими обрядами, как совершенно новый обряд, отмечавший собой гибель старины. Эту мысль четвертый евангелист облек в такую форму, которая, в свою очередь, наводила на предположение о тесной связи между евхаристией и обрядом иудейской пасхи. По словам евангелиста, Иисус был распят и скончался на кресте в такое время, когда «заклался агнец пасхальный, но у Иисуса как истинного агнца пасхального не были переломлены голени: один из воинов копьем пронзил ему ребра, причем истекла из тела Иисуса кровь и вода», и, по свидетельству евангелиста, «сие произошло, да сбудется Писание: кость Его да не сокрушится… воззрят на Того, Которого пронзили» (Ин. 19:33–39. Ср. Зах. 12:10). Воин копьем пронзил сына Божия, кровь которого есть «истинно питие» (Ин. 6:55), и пронзил не духовно, а телесно, в акте евхаристии, а воду, которая истекала из раны вместе с кровью, можно было поставить в связь с водой крещения и с той водой, которую древние христиане примешивали обыкновенно к вину евхаристийному. Итак, у евангелистов-синоптиков Иисус еще вкушает пасху иудейскую и учреждает евхаристию в тесной связи с обрядом иудейским, а у евангелиста Иоанна Иисус умирает, как истинный пасхальный агнец, как сын Божий, восприявший на себя грехи мира, и испускает из ран своих «питие жизни», которое было прообразовано кровавым жертвоприношением иудеев и которое воистину осуществилось только в христианской евхаристии.
§86. Омовение ног, предвозвещение о предательстве и отречении
По свидетельству евангелиста Иоанна, Иисус на последней вечере не вкушал пасхального агнца и не учреждал евхаристии; но тем самым евангелист свой рассказ лишил реального содержания, ибо одно предвозвещение о предательстве Иуды и отречении Петра, составляющее содержание рассказа, не могло сообщить вечере ее традиционно важное значение. Но евангелист не решался совершенно опустить рассказ о вечере — как потому, что сама вечеря уже успела приобрести важное значение в христианском предании, так и потому, что рассказ о вечере мог послужить базой для тех прощальных речей Иисуса, которые евангелист намеревался вставить в свой рассказ. Поэтому приходилось придумывать, чем бы заполнить получавшийся пробел в рассказе, и евангелист решил создать такой эпизод, который нашел бы характер символического действия (наподобие насыщения народа и претворения воды в вино) и который в то же время стоял бы в тесной связи с задуманными им прощальными речами Иисуса. Тут евангелист снова стал пересматривать синоптические повествования, отыскивая материал, который можно было бы переработать в задуманный рассказ, и наконец нашел искомое у Луки. Отметив тот факт, что на последней вечере ученики Иисуса размышляли, кто из присутствующих предаст Иисуса, Лука тут же по какому-то необычайному сцеплению идей констатирует, что ученики заспорили, кто из них должен почитаться наибольшим, тогда как у Матфея этот спор учеников был отнесен к другому, более подходящему моменту (Лк. 22:24; Мф. 20:20). В этот спор, по словам Луки, вмешался сам Иисус, и он заявил: «Цари господствуют над народами, и владеющие ими благодетелями называются; А вы (делайте) не так: но кто из вас больше, будь как меньший, и начальствующий, как служащий. Ибо кто больше: возлежащий, или служащий? не возлежащий ли? А Я посреди вас, как служащий». Эта мысль в другом месте того же евангелия (Лк. 12:37) разработана в целую притчу, в которой говорится, что Христос при втором пришествии наградит праведников так, как наградит господин рабов, которых он найдет ночью бодрствующими: «он препояшется и посадит их и, подходя, станет служить им». Эту картину четвертый евангелист переработал в драматическую сцену, рассказав, как препоясался Иисус полотенцем и стал умывать ноги своим ученикам (13:4–16) и как под конец он объяснил им смысл этого служения своего, сказав им: «Если Я, Господь и Учитель, умыл ноги вас, то и вы должны умывать ноги друг другу. Ибо… раб не больше господина своего, и посланник не больше пославшего его». Служение Иисуса в данном случае состояло не в подношении яств рабам возлежащим (как сказано в вышеприведенной притче), а в работе еще более презренной — в омовении ног ученикам, и этот подвиг (омовение или очищение грязной плоти) заключал в себе аллегорический смысл. Как бы в подтверждение того предположения, что евангелист пожелал дополнить пробел в рассказе, происшедший от умолчания об учреждении евхаристии, он изобразил сцену омовения Иисусом ног учеников так, что она могла быть принята за прямой наказ производить ту же операцию также и в общине, или церкви христиан, ибо Иисус, по словам евангелиста, прямо заявил: «Вы должны умывать ноги друг другу. Ибо Я дал вам пример, чтобы и вы делали то же, что Я сделал вам» (13:14). Правда, евангелист разумел этот наказ аллегорически (ср. 1 Тим. 5:10), но всё-таки в нём слышится такой же повелительный тон, как и в аналогичных изречениях Иисуса, приведенных у Луки и Павла (сие творите, когда будете пить, и т.д.).
Что за последние дни своей земной жизни Иисус стал подозрительно глядеть на ученика-предателя и даже прямо выражал ему свое недоверие, — всё это, разумеется, вполне возможно. Но евангелисты утверждают, что предательство Иуды Иисус предвидел и предвозвещал заранее, в силу сверхъестественного всеведения своего (Мф. 26:21; Мк. 14:18; Лк. 22:21; Ин. 13:18), и утверждают они это по тем же мотивам, которые их побуждали вообще идти вразрез с историей в своем рассказе. То догматическое основание, которое побуждало Иисуса предвозвестить предательство и говорить о нём именно за данной трапезой, нам изъясняет четвертый евангелист. По его свидетельству, Иисус изрек следующие слова (13:19); «Теперь сказываю вам, прежде нежели то сбылось, дабы, когда сбудется, мы поверили, что это Я». Этим изречением мотивируются все последующие предсказания Иисуса о предстоящих ему испытаниях и выясняется тот роковой конец, который постигал в мифической истории вообще всех высокочтимых деятелей. Несчастие и неудача в жизни Богочеловека всегда представляется моментом «соблазнительным», так как обыкновенным людям свойственно предполагать, что любимец и посланник Божий пользуется преимущественной защитой и особым покровительством Бога. Подобные «соблазнительные» моменты приходится так или иначе устранять, и отрицание высокой миссии, сказывающееся в несчастии и гибели посланника Божия, приходится подвергать отрицанию. Такое отрицание отрицания происходит именно в том случае, если сам Богочеловек заранее предвидит и предвозвещает, что его постигнет бедствие или гибель. Знать это может он от Бога, который этим сообщением показывает, что считает Богочеловека существом близким себе и что бедствие или несчастие, о наступлении которого он предупреждает, есть момент, свыше предрешенный промыслом Божиим, и потому не умаляет высокого достоинства Божия посланника. Затем, если Божию посланнику известно, какое бедствие его постигнет в будущем, и он не только не пытается избегнуть его, но даже спокойно идет ему навстречу, подчиняясь высшему произволению, то он является уже не пассивно страждущим, а активно действующим лицом, а бедствие представляется уже не чуждой внешней силой, угнетающей его, а страданием, которому он добровольно подвергает себя в сознании достигаемой им высшей цели.
Соблазном могло представляться и то обстоятельство, что бедствие, постигшее Иисуса, произошло от предательства, совершенного одним из собственных учеников его. Если даже приближенный ученик решился предать его врагам, то, стало быть, он не видел в Иисусе существо необыкновенное, а если Иисус сам призвал подобного лукавца и предателя в свой круг, то, стало быть, он не умел разгадать и понять его и, значит, не был всеведущ. Против таких умозаключений протестовали поклонники Иисуса Христа. Во-первых, они утверждали, что Иисус разгадал предателя, а четвертый евангелист даже уверял, что Иисус «от начала знал… кто предаст его» (6, 64). Во-вторых, христиане утверждали, что гнусная неблагодарность сотрапезника Мессии была предусмотрена уже житием Давида, родоначальника Иисуса (2 Цар. 15:16) и предсказана псалмопевцем (4:10); «Даже человек… на которого я полагался, который ел хлеб мой, поднял на меня пяту». В этом изречении, приведенном у четвертого евангелиста и послужившем темой для всего рассказа, заключается причина, почему Иисус предрек предательство Иуды за трапезой. Но изречение псалмопевца не безусловно вынуждено это делать; фраза, содержащаяся в этом изречении: «который ел хлеб мой», выражает отношение зависимости и признательности, которое нарушил «неверный» друг. Поэтому евангелист Иоанн цитирует означенное изречение иначе; он говорит: «ядущий со Мною хлеб поднял на Меня пяту свою» (13:18).
Традиция христианская полагала, что изречение псалмопевца предрекало нарушение предателем священного права сотрапезования. При подобных подражаниях и толкованиях всегда всё понималось в буквальном и прямом смысле. Если Мессия говорил: «ядущий со Мною хлеб», то, по мнению толковников, он говорил эти слова в тот момент, когда он физически ел хлеб вместе с кем-нибудь; а если он говорил эти слова за трапезой, то, стало быть, изрек он их за такою трапезой, которая непосредственно предшествовала исполнению предреченного. Но такой последней трапезой была пасхальная вечеря, когда трапезовавшие обмакивали хлеб в чашу с вином; поэтому Иисус не говорит прямо: «ядущий со Мною хлеб», а говорит: «тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам» (у Луки сказано неясно: «рука предающего Меня со Мною за столом»). В этих словах метафорически обозначалось сотрапезнование вообще; слова «со Мною» обозначали, что речь идет о той же самой трапезе и чаше, и не указывали в точности ни на кого из 12 сотрапезников Иисуса; Иисус мог «про себя» знать хорошо предателя, но не считал нужным прямо указать его и предоставил ученикам строить разные догадки и задавать вопросы по этому случаю. В таком неведении пребывают ученики Иисуса у Луки и Марка до конца; но Матфей идет дальше и свидетельствует, что предателем был прямо назван Иуда. Однако надо удивляться, что евангелист Матфей тут умолчал об обмакивании хлеба в чаше, хотя, по его словам, Иисус того назвал предателем, кто вместе с ним опустит руку в блюдо или чашу (26:23). По свидетельству евангелиста, Иуда тоже спрашивал Иисуса, не он ли предаст его, на что Иисус прямо сказал ему: «Ты». Но эта деталь является слишком грубым и явно неправдоподобным измышлением и, очевидно, не понравилась ни второму, ни третьему евангелисту. Зато четвертый евангелист изобразил данный эпизод с большим искусством. Само собою разумеется, что его Христос — Логос не мог не проявить свое всеведение точным указанием на личность ему давно известного предателя. В этом отношении евангелист идет рука об руку с Матфеем, но затем пошел дальше уже собственной дорогой. Он решил использовать тот повод к указанию предателя, который подавало «опускание Руки в блюдо». Но одновременное опускание рук в блюдо его не удовлетворяло как примета, он решил признать предателем того, кому Иисус подаст кусок хлеба, обмакнув его в чашу с вином. Эта подробность подсказывалась четвертому евангелисту многими соображениями. Данная, последняя трапеза казалась ему подходящим моментом, чтобы возвеличить того апостола, от имени которого он писал свое евангелие и в его лице прославить также ту доктрину, которую он проводил в своем произведений. Данный случай давал возможность показать, что его апостол Иоанн был наперсником и близким другом Иисуса, от которого Учитель ничего не скрывал. Как сын Божий покоится на лоне Бога-Отца, как бедный Лазарь после смерти своей вознесен был в лоно Авраама, так в данном случае Иоанн, ученик, «которого любил Иисус», возлежал у груди Иисуса (на Востоке существовал обычай «возлежать» за трапезой). Отсюда уже само собой вытекала мысль о том, что ученики, не знавшие, кого из них Иисус считает предателем, принуждены были обратиться к ученику-любимцу с просьбой узнать от Иисуса, о ком он говорит. Что с этой просьбой к ученику-любимцу обращается не кто иной, как Петр, что, стало быть, первоапостол этот принужден был так наглядно признать превосходство Иоанна над собою, в этом сказалась одна из основных тенденций четвертого евангелия. Четвертому евангелисту было очень важно обрисовать взаимоотношения обоих названных апостолов, представителей двух разных форм христианского вероучения, из коих первая приурочивала к личности Петра, а вторая — к личности Иоанна. Но так как, по убеждению четвертого евангелиста, только апостол Иоанн постиг истинный смысл учения Христа, он в данном случае и представляется учеником-наперсником, дерзавшим не в пример другим ученикам допытываться о секретах Иисуса.
Тот факт, что Иуда изъявил властям иерусалимским готовность предать Учителя в их руки, Матфей и Марк объясняют обещанной ему за то наградой, а Лука добавляет в пояснение предательства Иуды, что в Иуду «вошел сатана» (22:3). Это замечание евангелист Иоанн, видимо, истолковал в том смысле, что Иисус считал одного из учеников (Иуду) дьяволом (6:70); но в начале своего рассказа о последней трапезе евангелист заявляет уже в смягченной форме, что мысль о предательстве дьявол вложил в сердце Иуде Искариоту (13:2), а под конец рассказа говорит, что в Иуду вошел сатана, когда Иисус подал ему обмакнутый в вине кусок хлеба (13:27). Этот кусок хлеба послужил Иуде в проклятие и осуждение, и хотя тот хлеб в Иоанновом рассказе не был хлебом евхаристии, однако он напоминает о грозном предостережении апостола Павла (1 Кор. 11:27): «Кто будет есть хлеб сей или пить чашу Господню недостойно, виновен будет против Тела и Крови Господней… тот ест и пьет осуждение себе». Таким образом, идея евхаристии, которую евангелист игнорирует в данном случае сознательно и планомерно, невольно всё-таки проскальзывает у него в вышеуказанном замечании. Итак, по свидетельству четвертого евангелия, злой умысел предателя как бы поощряло поведение Иисуса, преследовавшего свою собственную цель. Более того, оказывается, что сам Иисус торопил предателя осуществить свое злоумышление, сказав ему (13:27): «Что делаешь, делай скорее». В этом изречении Бретшнейдер справедливо усмотрел «интенсификацию» синоптического рассказа: прочие евангелисты сообщали, что Иисус знал умысел предателя и не воспротивился его осуществлению, а, по словам евангелиста Иоанна, Иисус сам торопил предателя осуществить свое злоумышление. Цель автора ясна: личное мужество Иисуса, его пренебрежение к страданиям, которые ему могли причинить люди, проступали и освещались гораздо ярче, если он не только не уклонялся от занесенного над ним ножа убийцы, но даже сам подставлял себя под нож и смело говорил убийце: бей! И скоро мы увидим, что в таком же духе была переработана четвертым евангелистом и та сцена, которая разыгралась в саду Гефсиманском.
Из происшествий, случившихся на последней вечере Иисуса, нам остается рассмотреть еще предсказание об отречении Петра. По словам Матфея и Марка, оно произошло по окончании вечери, когда Иисус шел с учениками к горе Елеонской, а по свидетельству Луки и Иоанна, оно имело место на самой вечере (Мф. 26:30; Мк. 14:26; Лк. 22:31; Ин. 13:36). Но сущность происшествия во всех евангелиях представлена единообразно. Петр самонадеянно уверял, по словам двух первых евангелистов, что, хотя бы все «соблазнились» об Иисусе, он никогда не соблазнится; а по словам двух последних евангелистов, Петр говорил, что с Иисусом он готов идти в темницу и на смерть. На это Иисус ему заметил, что уже в эту ночь и прежде, нежели пропоет петух, он (Петр) трижды отречется от него. Что в то критическое время Петр мог действительно обнаружить малодушие и, по единогласному свидетельству евангелистов, отречься от Христа, это вполне правдоподобно, хотя такое малодушие и не соответствовало тому почтению, которое первоапостолу оказывали древнейшие христиане. Вполне возможно, что Иисус пытался сдерживать чрезмерную самонадеянность, которую Петр проявлял по различным случаям. Но представляется сомнительным, чтобы Иисус давал ему предостережение накануне своей смерти и притом в вышеотмеченной форме; это тем более невероятно, что в указании на пение петуха и отречение Петра ясно сказывается элемент легендарности. В рассказе Марка поэтическая фантазия рельефно проявилась в замечании о том, что прежде, чем петух пропоет в эту ночь дважды, Петр отречется от Иисуса трижды. Это сопоставление однократного пения петуха с троекратным отречением Петра — крайне неудачный вымысел и не заслуживает более подробного рассмотрения.
II группа мифов: Душевная борьба и пленение Иисуса.
§87. Душевная борьба в саду Гефсиманском. Рассказ четвертого евангелиста
По свидетельству трех первых евангелистов, Иисус не только знал и предсказал предательство Иуды и отречение Петра, но и предчувствовал предстоящие ему страдания и высказал это предчувствие в саду Гефсиманском (Мф. 26:36; Мк. 14:32; Лк. 22:39). При всём своем самообладании, смирении и покорности перед обязанностями своей миссии, Иисус мог всё-таки испытать и пережить тяжкую душевную борьбу, когда стал сознавать, что ужас грядущих испытаний неотвратим и может разразиться каждую минуту. Однако же не историческим, а поэтическим рассказом представляется повествование евангелистов о том, что борьба эта будто бы происходила в Иисусе только перед самым наступлением роковой минуты, и, во всяком случае, многие подробности в синоптическом рассказе отличаются безусловно антиисторическим характером.
В Послании к евреям тоже говорится о той борьбе душевной, которую испытал Иисус перед началом крестных страданий (4:15; 5:7). Здесь относительно Иисуса сначала говорится: в нём «мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но Который, подобно нам, искушен во всём, кроме греха». Но далее об Иисусе говорится: «Он, во дни плоти Своей, с сильным воплем и со слезами принес молитвы и моления Могущему спасти Его от смерти; и услышан был за Свое благоговение; хотя Он и Сын, однако страданиями навык послушанию». В данном месте автор послания, очевидно, намекает на ту сцену, которая разыгралась в саду Гефсиманском; в другом месте (2:18) он с меньшей очевидностью подразумевал синоптический рассказ об искушении Иисуса сатаной; однако же и там виден зачаток того эпизода, который впоследствии был развит и разработан евангелистами в форме обстоятельных рассказов об искушении Иисуса дьяволом и о душевной борьбе в саду Гефсиманском. Это явствует уже из того обстоятельства, что в первичном и старейшем рассказе Матфея, которому Лука подражает в описании искушений Иисуса, а Марк — в описании борьбы душевной, душевное борение Иисуса в обоих случаях слагается из трех этапов, или моментов.
Душевную борьбу на этот раз Иисус испытывает не в отдаленной пустыне, а в селении (Гефсимании), расположенном у горы Елеонской, в окрестности Иерусалима, где Иисус, по-видимому, часто ночевал во время праздников. Испытанию его подвергает уже не искуситель-дьявол самолично, а страшное предчувствие грядущих страданий и мучительной кончины. На сей раз Иисус не выступает одиноким, как тогда, когда его искушал в пустыне дьявол; хотя он и ушел в уединенное место, за черту селения, его сопровождают все ученики (за исключением предателя); затем большинство учеников, по словам Матфея и Марка, остаются, по приказу Иисуса, позади, а вместе с ним идут лицезреть таинство борения и скорби сына Божия лишь три приближенных члена апостольской коллегии (Петр и оба сына Зеведея), те самые ученики, которые присутствовали также при преображении Иисуса. Он им велит бодрствовать в минуту его душевного борения, но они не в силах исполнить это повеление: как только он отходит от них, чтобы помолиться, он убеждается при возвращении, что они уснули, и принужден опять внушать им, чтобы они бодрствовали, дабы «не впасть в искушение». Стало быть, ученики и в данном случае не в силах были уразуметь глубокий смысл того, что происходило перед их глазами, как они не понимали и того, что происходило на горе Преображения, где они тоже спали, по словам Луки.
Дьявол искушал в пустыне Иисуса трижды, и всякий раз Иисус отражал его атаки какой-нибудь цитатой из Святого Писания. Так точно и в данном случае на Иисуса нападает страх и скорбь три раза, и он умоляет трижды Отца Небесного отвратить от него чашу грядущих страданий, но всякий раз он оговаривается, что готов покориться воле Божией, и наконец действительно мирится с мыслью о неотвратимости страданий и мужественно идет грядущему навстречу. У Матфея мы при этом замечаем, что второе моление Иисуса сформулировано не так, как первое, и выражает полную готовность Иисуса подчиниться воле Божией, а третье моление было повторением второго (Марк это отмечает ухе относительно второго моления). Эта деталь показывает, что евангелист соображался не только с содержанием молений Иисуса, но также и со священной «тройкой», то есть троекратностью молений, и, стало быть, рассказ евангелиста возник не исторически, а догматически.
Лука умолчал о том, что с Иисусом пошли трое учеников и что Иисус молился трижды (как Марк умолчал о том, что сатана искушал Иисуса трижды). Но так он поступил лишь потому, что собирался сообщить читателю нечто совершенно необычное и интересное. А именно когда Иисус окончил моление (по содержанию сходное с молением, изложенным у Матфея и Марка), к Иисусу, по словам Луки, пришел с небес ангел и «укреплял» его, а Иисус, «находясь в борении», стал еще прилежнее молиться, так что «был пот Его, как капли крови, падающие на землю» (22:43, 44). Смысл этого замечания, видимо, таков, что ангел явился к Иисусу, чтобы «укрепить» его для предстоящих тяжких испытаний душевных. Затем, отметив три момента в молении Иисуса (моление, укрепление через ангела, борение и кровавый пот), третий евангелист, в согласии с первыми двумя евангелистами, сообщает, что Иисус, «встав от молитвы», пришел к ученикам, «нашел их спящими от печали» и стал их укорять за то, что они не бодрствовали.
В четвертом евангелии весь этот рассказ опущен, как нет в нём и аналогичных рассказов об искушении Иисуса сатаной и о преображении Иисуса. Причина этого умолчания, по-видимому, одна и та же: Христу-Логосу Иоаннова евангелия не приличествовало подвергаться подобным испытаниям. Иудейскому Мессии, князю будущего мира, еще можно было вступать в единоборство с дьяволом, князем сего мира, как с равносильным противником, но подобный поединок не приличествовал Христу-Логосу, существу высшему, пришедшему с небес. Просветление небесным светом лика и собеседование с великим законодателем и великим пророком иудейским могли вяще возвеличить и прославить синоптического Христа, но не Христа Иоаннова евангелия. Наконец, малодушный страх страданий и смерти и моление об отвращении грядущих испытаний, как и потребность в ангеле-утешителе в момент душевного борения, — всё это тоже не прославляло и не возвеличивало Иоаннова Христа, а скорее унижало и дискредитировало его.
Однако четвертый евангелист не преминул использовать всё то, что в синоптических рассказах ему представлялось ценным и утвержденным на евангельском предании. Что главную «суть» рассказов об искушении Иисуса он сохранил и что из рассказа евангелиста Луки он заимствовал взгляд на страдания Иисуса как на испытание сатанинское, на это мы уже указывали выше. Соблазнительный характер рассказов о преображении и душевном борении Иисуса он устранил весьма простым и духу четвертого евангелия вполне соответствующим приемом: он соединил два рассказа в один. Его Иисус «преображается» в самом страдании и путем страдания, но и страдая, он сознает и показывает себя преображенным, то есть просветленным. Таким образом, евангелисту удалось устранить иудаистский элемент «внешности» в синоптическом рассказе о преображении и элемент «страдальчества» и аффекта — синоптическом рассказе о душевном борении Иисуса.
У синоптиков рассказ о преображении непосредственно следует за рассказом о том, как Иисус предвозвестил предстоящие страдания и смерть и как он поучал учеников по поводу «прекословия» Петра (Мф. 16:25; Мк. 8:35; Лк. 9:24): «Кто хочет душу (жизнь) свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее». Ту же мысль высказывает и Христос евангелиста Иоанна, говоря о своем преображении или прославлении (12:25): «Любящий душу свою погубит ее, а ненавидящий душу свою в мире сем сохранит ее в жизнь вечную». Далее Иисус говорит: «Кто Мне служит, Мне да последует… И кто Мне служит, того почтит Отец Мой». Точно так же в синоптическом рассказе о том, что Иисус предвозвещал свои страдания перед преображением, мы находим следующее заявление Иисуса (Мф. 16:24; Мк. 8:34; Лк. 9:23): «Если кто хочет идти за Мною… следуй за Мною…» «Кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе своей и Отца и святых Ангелов». Но затем Иисус в другом месте (Мф. 10:32) заявлял: «Всякого, кто исповедует Меня пред людьми того исповедаю и Я пред Отцем Моим Небесным». Эти изречения в четвертом евангелии мотивированы тем обстоятельством, что при последнем посещении Иерусалима, после торжественного въезда Иисуса в город эллины, пришедшие на поклонение в праздник (то есть язычники, собиравшиеся перейти в иудейство, или так называемые прозелиты преддверий), пожелали увидеть Иисуса и попросили устроить им свидание апостола Филиппа, который совместно с Андреем докладывает об этом Иисусу (Ин. 12:20–23). Тогда Иисус, как бы игнорируя доложенную ему просьбу эллинов, сказал: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому», а в последующей речи указал на предстоящую кончину свою как на необходимую переходную стадию. В этих изречениях Иисуса всецело сказался своеобразный облик евангелиста Иоанна. У синоптиков преображение или прославление Мессии поставлено в непосредственную связь с появлением двух древних пророков иудейских, а у четвертого евангелиста — с появлением эллинов, или язычников. Уверовавшие во Христа язычники представляют собою те зрелые и обильные плоды, которые должно принесть «пшеничное зерно, пав в землю» (12:24); но зерно для этого должно сначала «умереть»; так должен умереть и сам Иисус Христос, и выяснению этой мысли посвящена вся последующая речь Иисуса, в которой говорится об утрате и сохранении души (жизни) и о «почтении» слуг и последователей Христовых (см. выше).
Мысль о том, что смерть Иисуса есть необходимое связующее звено между земной жизнью Иисуса и прославлением его в мире языческом, дает евангелисту повод ввести в рассказ об эллинах, пожелавших видеть Иисуса, главные черты рассказов о преображении и душевном борении Иисуса. По свидетельству евангелиста, Иисус сам признавался, что душа его «возмутилась» от мысли о грядущем «часе» (12:27); но как бы для того, чтобы загладить промах синоптических рассказов, удостоверявших, что Иисус просил Отца Небесного, чтобы его миновала чаша сия (или, по словам Марка, час сей), евангелист Иоанн в уста своему Иисусу влагает следующее изречение: «Что Мне сказать? Отче! избавь Меня от часа сего! Но на сей час Я и пришел» (12:27). Равным образом в другом месте евангелист, видимо, старается устранить тот «соблазн», который получался от синоптического рассказа о Гефсиманском молении Иисуса. Когда Петр мечом отсек ухо у раба первосвященника, Малха, Иисус укоризненно сказал ему: «Неужели Мне не пить той чаши, которую дал Мне Отец?» (18:11) Как уместна и важна была эта поправка в таком произведении, как четвертое евангелие, которое предназначалось для читателей, получивших греческое образование и усвоивших себе идеал стоического «бесстрастия», это показывают уже те насмешки и нарекания, какими осыпали Иисуса, «малодушествовавшего» в Гефсимании, многие языческие противники христианства, начиная с Цельса. Цезарь-философ Юлиан находил нелепым в рассказе о душевном борении Иисуса указание на то, что к Иисусу-Богу явился ангел «укреплять» его (Лк. 22:43). Естественно, что и четвертый евангелист решил опустить эту деталь в своем рассказе, тем более что ее приводит из всех евангелистов один только Лука; но для вящего посрамления противников евангелист счел также нужным показать, что «соблазнительная» деталь эта была продуктом недоразумения. Действительно, в минуту глубокой душевной скорби с Иисусом, по словам евангелистов, беседовало высшее существо, но то был не ангел, а сам Бог, и он явился не «укреплять» или утешать Иисуса: ведь не о том просил его Иисус, а о том, чтобы он, Бог-Отец, прославил имя свое в нём, и потому «глас», послышавшийся с неба, именно и прославлял его, но народ, слышавший этот глас, говорил: «Это гром», а другие более сообразительные и сознательные люди говорили: «То Ангел говорил Ему» (12:28–29).
У евангелиста Иоанна глас небесный соответствует тому явлению ангела в саду Гефсиманском, о котором говорится у Луки, но он аналогичен также тому гласу, о котором сообщают синоптики в своем рассказе о преображении Иисуса и который послышался из светлого облака или, как говорится во Втором послании Петра (1:17), «от велелепной славы принесся». У евангелиста Иоанна эта «слава», независимо от внешнего явления, включена в самоё речь «гласа», который говорил: «И прославил и еще прославлю» (12:28), и уже не называл Иисуса «возлюбленным» сыном Божиим, которого должны послушать ученики, как в истории преображения Иисуса. Однако же и это знамение, свидетельствующее о близости между Христом-Логосом и Богом-Отцом, кажется евангелисту моментом «внешним»; по его мнению, тут неуместно ни прошение о знамении, с одной стороны, ни дарование подобного свидетельства — с другой стороны, и только ради учеников при их неокрепшей вере могло понадобиться подобное внешнее знамение, что в данном месте (12:30) подтверждает сам Иисус, говоря: «Не для Меня был глас сей, но для народа», как и при воскрешении Лазаря он заявлял, что благодарит Бога-Отца за исполнение своей молитвы только «для народа, здесь стоящего».
Таким образом, в четвертом евангелии рассказы о преображении и душевном борении Иисуса соединены в один рассказ, и так как в раздельном виде они отсутствуют в евангелии, поэтому то место, которое они занимали в трех первых евангелиях, осталось здесь незаполненным. Но такого торжественного завершения галилейского периода деятельности Иисуса, каким является рассказ о преображении в синоптических евангелиях, не нужно было для четвертого евангелия уже потому, что безвыездное пребывание Иисуса в Галилее, по словам четвертого евангелиста, длилось сравнительно недолго и прерывалось путешествиями по Иудее и в Иерусалим. Помещать рассказ о душевном борении Иисуса там, где поместили его синоптики (между рассказом о последней трапезе и рассказом о пленении Иисуса), евангелист Иоанн счел неудобным: его Иисусу надлежало явиться на поле брани уже во всеоружии самообладания и мужества, а не вырабатывать эти качества и силы в процессе самой борьбы. Затем, пока враждебная сила еще не разлучила его с учениками, которые по силе разумения своего еще представлялись настоящими детьми, он должен был их посвятить еще подробными беседами в таинства своего учения, освоить их с мыслью о его смерти и ее спасительном значении и вообще помочь им созреть умственно, дабы из служителей и учеников они превратились в его друзей и сотрудников. Но этого нельзя было исполнить у подножия горы Елеонской, где следовало каждую минуту ожидать нападения врагов; это можно было сделать лишь в условиях спокойной последней трапезы; но с другой стороны, это было мыслимо лишь под условием душевного спокойствия Иисуса и готовности предаться без борьбы и колебаний во власть врагов. Душевная борьба к тому моменту уже Должна была окончиться, и, следовательно, изобразить ее надлежало раньше, до последней трапезы, и в самых общих и бледных чертах. Поэтому попытка вставить синоптическое изображение душевного борения Иисуса в те главы Иоаннова евангелия, где приведены прощальные речи Иисуса (гл. 14–17, вплоть до начала 18-й главы, где появляется предатель с толпою воинов и слуг первосвященнических), могла казаться попыткой принизить моральное величие Иисуса и умалить его мужество и самообладание. Если представление о грядущих страданиях в тот момент возбудило в нём душевное борение, которое он пережил, по словам синоптиков, в саду Гефсиманском, то, стало быть, он только бахвалился и слишком преувеличивал свои силы раньше, когда утверждал, что он победил мир и причиняемую миром скорбь (16:33). Очевидно, тот, кто составлял для Иоаннова евангелия прощальные речи Иисуса и, в частности, его первосвященническую молитву (гл. 17), в такой же мере не считал способным Иисуса на последующее душевное борение, в какой синоптики, повествующие об этом борении души Иисуса, не считали своего Иисуса способным встать на высоту идеи и настроения этой первосвященнической молитвы. Тот и другой рассказ составлены под различными углами зрения и несовместимы между собой, но в данном виде ни один из них не представляется рассказом историческим: оба рассказа представляются поэмами, легендами, и всё различие заключается лишь в том, что одна легенда более наивна, а другая — более продуманна и планомерна.
Однако же и в этих прощальных речах Иисуса четвертый евангелист лишь переработал и развил тот материал, который он нашел у своих предшественников, и это явствует из сходства изречений Иисуса, приведенных у четвертого евангелиста и у синоптиков. При этом наблюдается явление, характеризующее духовный облик четвертого евангелиста: где он приводит мысли и изречения Иисуса, измененные его собственными добавлениями и сближенные с его собственными взглядами и слогом, там речи Иисуса оказываются уместными и понятными, но где они приведены в своей первоначальной форме, там тотчас сказывается их отличие от мировоззрения евангелиста, и неспособность евангелиста примениться к воззрениям и слогу синоптического Иисуса часто приводит к тому, что изречения Иисуса оказываются приведенными некстати. Но это неумение евангелиста усваивать чужое ничуть не противоречит его умению самостоятельно и целостно творить; напротив, то и другое обусловливается субъективизмом его натуры и писательской манерой.
Прощальные речи Иисуса у четвертого евангелиста, видимо, составлены на основании материала, который заключается в напутствии апостолам, приведенном в главе 10-й Матфеева евангелия: эти речи у евангелиста Иоанна тоже представляются напутствием, которое дает Иисус своим ученикам, и разница лишь в том, что в данном случае оно дается не при отправлении апостолов на проповедь при жизни Иисуса, а на тот случай, когда ученики предадутся апостольской работе после его смерти. Уже в рассказе об эллинах, предшествующем рассказу о последней трапезе, мы находим цитаты и отрывки из означенной напутственной речи Иисуса; например, изречение о любящих и ненавидящих или теряющих и приобретающих «душу», которое имеется в рассказе Матфея (16:25) о предвозвещении страданий Иисуса, в немного измененной форме встречается также в напутствии (10:39); из этого напутствия взято затем и то, что говорит Иисус в четвертом евангелии за последней трапезой по случаю омовения ног: «Раб не больше господина своего, а посланник не больше пославшего его» (Ин. 13:16; Мф. 10:24). Эти синоптические изречения включены удачно в рассказ евангелиста Иоанна, но того же нельзя сказать о следующем изречении Иисуса, взятом из напутствия (Мф. 10:40; Ин. 13:20): «Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает, а принимающий Меня принимает Пославшего Меня».
Это изречение четвертый евангелист приводит вслед за предсказанием о предательстве, видимо, на том лишь основании, что пожелал во что бы то ни стало использовать другое аналогичное изречение, приведенное в 10-й главе Матфеева евангелия. Гораздо удачнее приведено у него следующее «утешительное» изречение Иисуса, взятое из Матфеева евангелия (10:19): «Когда же будут предавать вас (суду), не заботьтесь, как или что сказать; ибо в тот час дано будет вам, что сказать, ибо не вы будете говорить, но Дух Отца вашего будет говорить в вас». Это изречение у четвертого евангелиста обращено как бы в основную тему прощальных речей Иисуса, причем сам евангелист включил в него мысль о параклите (духе-утешителе) и эту мысль развил многообразно. Поэтому означенное изречение нигде не встречаем у него в первичной синоптической формулировке, а находим его в виде нескольких аналогичных синонимных изречений (Ин. 14:26, 16; 13). Одно из изречений Иисуса, взятое не из напутствия, а из синоптического рассказа о душевном борении Иисуса, четвертый евангелист решил сохранить в первоначальной форме, но, как всегда, он сделал это неудачно. Бодрое и энергичное воззвание Иисуса, которым у Матфея (26:46) и Марка (14:42) заключается вся данная сцена: «Встаньте, пойдем: вот, приблизился предающий Меня», евангелист пожелал сохранить, так как оно соответствовало его намерению показать, что Иисус страдал добровольно. Но самой сценой душевного борения, как мы знаем, он не мог воспользоваться, а что ему казалось пригодным в этой сцене, то приходилось отнести к более раннему моменту; поэтому вышеотмеченное «воззвание» евангелист приводит раньше, в другом месте. Всего естественнее было закончить им прощальную беседу и сформулировать его как приглашение закончить вечерю и пойти вон из города к горе Елеонской; именно в таком смысле Иисус в рассказе евангелиста говорит, не упоминая о предательстве (14:31): «Встаньте, пойдем отсюда». Однако прощальная речь Иисуса у четвертого евангелиста заканчивается молением, и обращение к ученикам сменяется обращением к Отцу Небесному; здесь было неудобно вставить воззвание, обращенное к ученикам: оно могло ослабить эффект всей предыдущей речи Иисуса. Поэтому евангелист решил привести его раньше, где именно — это было безразлично, так как воззвание не предполагалось осуществить немедленно, и его можно было поместить где угодно, лишь бы оно приходилось кстати. Но самым подходящим местом было то, где Иисус изображает предстоящие страдания как искушение, задуманное «князем мира сего», который будет посрамлен; по мнению евангелиста, здесь было кстати вставить бодрящее воззвание и тем повысить эффект синоптического рассказа. В синоптическом рассказе речь шла лишь о предателе-человеке, а в рассказе четвертого евангелиста речь идет о самом дьяволе, против которого Иисус собирается бороться с таким мужеством. Правда, после подобного воззвания, или призыва, было странно продолжать прощальную беседу, но в четвертом евангелии часто встречаются и не такие странности.
§88. Пленение Иисуса
В трех первых евангелиях говорится, что предатель приблизился с толпой воинов по окончании душевного борения и после вышеозначенного бодрого призыва Иисуса. Но в четвертом евангелии рассказ о душевном борении Иисуса отсутствует, и потому предатель появляется после того, как Иисус с учениками перешел поток Кедрон и вошел в Гефсиманский сад, где он и прежде собирал учеников (18:1–3). По свидетельству Матфея и Марка, предатель Иуда пришел со множеством народа, вооруженного мечами и копьями, «от первосвященников и старейшин народных» (Мф. 26:47; Мк. 14:43), а из рассказа Луки явствует, что в сад Гефсиманский вместе с народом явились взять Иисуса сами первосвященники, начальники храма и старейшины (Лк. 22:52); наконец, евангелист Иоанн сообщает (18:3, 12), что взять Иисуса под стражу явился вместе с Иудой «отряд (римских) воинов и служителей от первосвященников и фарисеев» с тысяченачальником (тысяцким) во главе и что они пришли в сад Гефсиманский с фонарями и светильниками, так как дело происходило ночью.
О том, что именно Иуда привел с собою воинов и служителей первосвященнических, чтобы взять под стражу Иисуса, сообщало христианское предание (Деян. 1:16), которое в данном случае приписало Иуде роль «вождя» в том смысле, что он указал сыщикам иудейских иерархов место, где обретался Иисус, и, кроме того, поцелуем засвидетельствовал личность неизвестного им Иисуса. О предательском поцелуе Иуды у четвертого евангелиста ничего не говорится; по его свидетельству, вся «работа» предателя-ученика состояла в том, что он указал местопребывание Иисуса. При этом евангелист счел нужным пояснить, отчего Иуда знал или мог знать местопребывание Иисуса, ибо Иисус четвертого евангелиста сам заявляет страже, что он и есть тот Иисус из Назарета, которого она ищет и пришла пленить. По свидетельству синоптиков, Иуда-предатель говорил стражникам: «Кого я поцелую, тот и есть, возьмите Его», и затем, подойдя к Иисусу, сказал: «Радуйся, Равви» и поцеловал его; далее, когда Иисус укоризненно сказал Иуде: «Друг, для чего ты пришел?», стража подошла и, возложив руки на Иисуса, взяла его (Мф. 26:47–50). По словам евангелиста Иоанна (18:4–5), Иисус «знал всё, что с Ним будет», и потому выступил вперед и спросил явившихся воинов: «Кого ищете?», и, когда они ответили, что ищут Иисуса из Назарета, он сказал: «Это Я». При этом евангелист, как бы желая устранить предательский поцелуй Иуды, нарочито заявляет, что «стоял же с ними (стражниками) и Иуда, предатель Его»; стало быть, в дальнейшем удостоверении личности Иисуса стража не нуждалась. Таким образом, оказывается, что, по одним рассказам, Иисус был выдан и указан врагам своим другим лицом — Иудой, а по рассказу евангелиста Иоанна, Иисус сам выдал и указал себя врагам, и в этом разногласии показаний наглядно сказывается огромное отличие четвертого евангелия от старейших евангелий. Христос-Логос раньше заявлял о себе (Ин. 10:17–18); «Я отдаю жизнь Мою, чтобы опять принять ее. Никто не отнимет ее у Меня, но Я Сам отдаю ее. Имею власть отдать ее… и опять принять ее». Поэтому и в данном случае он должен был показать, что сам предает себя врагам своим добровольно; он не должен был ждать, пока третье лицо скажет: «Это он»; напротив, он сам должен был выступить вперед и заявить: «Это Я». Далее, по свидетельству евангелиста, Иисус, предавая себя стражникам, сказал им: «Если Меня ищете, оставьте их (учеников), пусть идут». Этим заявлением Иисус хотел спасти учеников от гибели и, по словам евангелиста, хотел отвратить от них опасность, дабы сбылось слово, реченное уже не ветхозаветными пророками, а им самим: «Из тех, которых Ты (Отец Небесный) Мне дал, Я не погубил никого» (18:9). Это «слово» было сказано Иисусом, когда он произносил свою первосвященническую молитву (17:12), но там оно имело иной, духовно-нравственный и обобщенный смысл, а страсть к экивокам и извращению смысла слов и изречений вообще весьма характерна для четвертого евангелиста.
Вышеуказанным своеобразным изложением эпизода четвертый евангелист достигал особой цели. Предательский поцелуй Иуды, выдававший Иисуса, мог иметь последствием лишь то, что стражники немедленно схватили бы Иисуса; но если Иисус сам выступал вперед и говорил: «Это Я», то и вся сцена приобретала более эффектный вид, и евангелист, автор рассказа, достигал именно того впечатления, которым задавались все риторы-писатели, любившие подобными эффектными деталями расцвечивать свои рассказы о героях (таких, как Марий, Антоний и др.) и показывать, как от единого слова или взгляда героя разбегалась в страхе толпа наемных убийц и т.д. Наш четвертый евангелист заходит еще дальше в этом отношении; он говорит, что, когда Иисус сказал, что он — искомый Назорей, стражники «отступили назад и пали на землю» (18:6). При этом евангелист отмечает, что Иисусу пришлось дважды заявлять, что он — искомый Назорей (сначала он просто сказал: «Это Я», потом вторично заявил: «Я сказал вам, что это Я»), и это замечание евангелист сделал неспроста и не случайно. Такими же словами («это Я») Иисус, по свидетельству того же евангелиста, успокаивал испугавшихся учеников, когда ходил по водам моря Галилейского (6:20; ср. Мф. 14; 27); затем Христос евангелиста Иоанна неоднократно заявлял ученикам, что цель и задача его сводится к тому, чтобы они сознали и уверовали, что это — он (8:24; 13:19). Стало быть, в словах «это Я» или «это Он» содержится полнота всего того, что составляет существо Христа и характеризует божественность его лица. Поэтому слова эти в его устах обращаются в магическую всесильную формулу. В Ветхом завете те же слова и в том же смысле изрекает сам Иегова: «Видите ныне, видите, что это Я, Я — и нет Бога кроме Меня: Я умерщвляю и оживляю, Я поражаю и Я исцеляю, и никто не избавит от руки Моей» (Втор. 32:39). «А Мои свидетели… вы и раб Мой, которого Я избрал, чтобы вы знали и верили Мне, и разумели, что это Я: прежде Меня не было Бога и после Меня не будет» (Ис. 43:10). Следовательно, вышеозначенные слова («это Я») первоначально изрекал сам Бог, и, влагая их в уста Иисусу и заявляя, что в его устах слова эти производят то же действие, какое производит лицезрение самого Бога или иного небожителя, евангелист хотел прославить Иисуса и возвести его на такую высоту, на которую не ставили его синоптики.
Далее Матфей и Марк сообщают, что, когда стража «возложила руки» на Иисуса и взяла его, один из бывших с Иисусом учеников извлек меч свой и отсек ухо рабу первосвященническому, а по свидетельству Луки и Иоанна, это случилось прежде, чем стражники «взяли» Иисуса. В этом несходстве показаний снова наглядно сказывается нарастание и развитие легенды. Все евангелисты сходятся на том, что вследствие несвоевременной горячности одного из спутников Иисуса раб первосвященнический лишился уха; но ни Матфей, ни подражающий ему Марк не сообщают, какого уха именно лишился раб, а Лука и Иоанн свидетельствуют, что у раба было отсечено правое ухо, ибо в наглядном изображении подобных сцен легенда не допускает недомолвок и неточностей. Но затем от первых двух и от четвертого евангелистов мы узнаем, что раб лишился уха навсегда, а Лука нам сообщает, что Иисус коснулся уха раба и исцелил его (22:51). В самом деле, разве мог не исцелить раба тот милосердный врач, который исцелил прочих людей, когда сам не был виновником их страданий и когда он видел, что раб в данном случае пострадал из-за него? И разве евангелист мог умолчать о чуде, вновь сотворенном Иисусом, если считал, что раб первосвященника был достоин чуда (этого не признавал четвертый евангелист) и что подобным чудом прекрасно завершалась земная жизнь и деятельность Иисуса? Наконец, никто из синоптиков не сообщает ни имени ученика, который отсек ухо у раба ни имени раба; и только евангелист Иоанн нам говорит, что раб назывался Малхом, а ученик — Петром. Равным образом только четвертый евангелист нам сообщает, что женщина, помазавшая Иисуса миром, называлась Марией из Вифании и что бессердечный ученик порицавший ее за расточительность, назывался Иудой; по мнению евангелиста, это миропомазание в такой же мере соответствовало характеру Марии, в какой порицание расточительности соответствовало характеру предателя Иуды или, как в данном случае, удар мечом соответствовал горячему характеру Петра. Этот поступок Петра мог показаться актом мужества, но он был неуместен и нецелесообразен и обусловливался глубоко ложным представлением Петра об истинном призвании Иисуса. Поэтому уже Матфей отметил, что Иисус порицал поступок не названного по имени ученика; но целям четвертого евангелиста соответствовало замечание, что порицание было высказано именно Петру. Чтобы еще крепче связать это порицание с именем Петра, евангелист впоследствии отмечает, что среди лиц, уличавших Петра в принадлежности к общине Иисуса, был также родственник того раба, которому Петр отсек ухо (18:26). Но такой свидетель, вероятно, не стал бы говорить Петру: «Не я ли видел тебя с Ним (Иисусом) в саду?», а заявил бы прямо и решительно: «Ты — тот, который мечом отсек ухо родственнику моему». Затем сам Петр едва ли решился бы пойти вслед за Иисусом в дом первосвященника, если он действительно отсек ухо рабу того же первосвященника. Из порицания, высказанного Иисусом у Матфея, четвертый евангелист взял лишь повеление Иисуса вложить меч в ножны; что же касается слов Иисуса: «Все, взявшие меч, мечом погибнут», то их евангелист, по-видимому, не привел лишь потому, что знал из церковного предания, что Петр умер, распятый на кресте (21:18). Наконец, заявление Иисуса о том, что Отец Небесный ему прислал бы 12 легионов ангелов на помощь, если бы он попросил его о том и если бы не сам пожелал пострадать, это заявление евангелист тоже решил опустить в своем рассказе, так как у него Иисус фактически уже высказывал неоднократно, что он пострадает добровольно. Если толпа вооруженных стражников «пала на землю» от единого слова Иисуса, то, очевидно, ему удалось бы спасти жизнь свою без всякого труда и без помощи легионов ангельских, одной присущей ему силою божественной, если бы он только сам восхотел того.
Матфей и Марк утешают себя тою мыслью, что Иисус был схвачен, «как разбойник», вооруженной толпой стражников — «да сбудутся писания пророков» (Мф. 29:55–56); при этом они, видимо, подразумевают изречение Исайи (58:12), которое было ранее приведено Лукой (22:37). Затем они сообщают, что все ученики, оставив Иисуса, бежали, и в этом факте они, вероятно, тоже усмотрели исполнение пророчества Захарии (13:7), о котором у Матфея упоминал сам Иисус (26:31), когда шел вместе с учениками к горе Елеонской. При этом Марк сообщает (14:51), что один юноша, завернувшись по нагому телу в покрывало, следовал за Иисусом, но воины схватили его, и он, оставив покрывало, нагой убежал от них. Эта деталь почерпнута, быть может, из предания или придумана самим евангелистом, но зачем она приведена в рассказе Марка, решить невозможно.
III группа мифов: Допрос и осуждение Иисуса.
§89. Допрос у первосвященника и отречение Петра
Иисус в качестве преступника был осужден властями собственного народа, Мессией и Спасителем которого он намеревался быть, затем он был предан римскому прокуратору и немедленно казнен через распятие на кресте. Этот факт своим отрицательным характером, видимо, поколебал надежды и веру первых последователей — единоплеменников Иисуса; чтобы вновь укрепить в них веру и надежду, необходимо было противопоставить означенному отрицательному факту новое отрицание, и в этих целях создалась и утверждалась вера в воскресение из мертвых Иисуса. Если смерть полагала конец его жизни, то воскресение полагало конец смерти, и смерть победоносно попиралась воскресением. Но всё же оставался еще самый факт смерти и предшествовавших ей страданий, оставался факт суда и осуждения, факт надругательств и унижений, которым был подвергнут предполагаемый Мессия; этих фактов нельзя было изгладить из памяти людей, даже уверовавших в Иисуса; их невозможно было просто отрицать, а приходилось истолковывать так, чтобы они утратили свой отрицательный характер и по возможности обратились в устои веры, чтобы их отрицательная ценность превратилась в ценность положительную и клеймо позора обратилось в знак почетного отличия. Достичь этого можно было разными путями, и потому нам следует обратиться к рассмотрению разных евангельских рассказов по этому вопросу.
Все евангелисты единогласно признают, что Иисус был осужден на смерть иудейскими властями (Мф. 26:57–27; 1; Мк. 14:53–15; 1; Лк. 22:54–71; Ин. 18:12–30). Отступлением случайным и несущественным представляется тот факт, что, по свидетельству первых двух евангелистов, допрос Иисуса происходил в ту же ночь, а по свидетельству Луки — утром следующего дня, когда, по словам двух первых евангелистов, уже состоялся формальный приговор синедриона. В связи с этим фактом Лука сообщает, что Петр отрекся от Иисуса до допроса, а первые два евангелиста заявляют, что Петр отрекся после допроса Иисуса. Наконец, у Луки и истязания, которым был подвергнут Иисус, описаны не так, как их описывают остальные синоптики. Однако спрашивается: что сделали евангелисты, чтобы парализовать то вредное для веры впечатление, которое производил факт осуждения Иисуса властями собственной родины?
Евангелисты утверждают, что Иисус был осужден по ложному свидетельству. Матфей и Марк уверяют, что первосвященники и старейшины и весь синедрион «искали лжесвидетельства» против Иисуса, чтобы предать его смерти, и такового «не находили», ибо хотя приходили «многие лжесвидетели», но, по словам Марка, их свидетельства не были «достаточны», то есть были противоречивы. Наконец, по словам Матфея, пришли два лжесвидетеля, которые показали: «Он (Иисус) говорил: могу разрушить храм Божий и в три дня создать его» — или, как сказано У Марка: «Я разрушу храм сей рукотворенный и через три дня воздвигну другой, нерукотворенный» (при этом Марк замечает, что и такое свидетельство их «не было достаточно»; но такое показание оба лжесвидетеля давали единогласно, и потому замечание евангелиста представляется неправдоподобным, то есть слишком апологетическим). Выше было нами уже указано, насколько это показание было ложным. Ни третий, ни четвертый евангелист не упоминают о подобном «лжесвидетельстве» хотя оно и было им известно. Аналогичное показание Лука впоследствии (Деян. 6:14) приводит относительно Стефана и там тоже признаёт его «ложным» свидетельством. Но Иоанн смело взглянул в глаза врагам Иисуса: «Да!» — говорит он (2:19–22), — «Иисус действительно говорил иудеям: „Разрушьте храм сей, и Я в три дня воздвигну его“; но он, во-первых, не говорил, что сам разрушит храм, и, во-вторых, он говорил не о храме, построенном из дерева и камня (как полагали скудоумные иудеи), а говорил он о „храме тела Своего“».
Далее древнехристианское предание пыталось обезвредить факт осуждения Иисуса многократно повторенным замечанием, что на вопросы первосвященника по поводу предъявленного лжесвидетельства, а также на позднейшие вопросы Пилата Иисус «ничего не отвечал» (Мф. 26:63:27:12, 14; Мк. 14:61; 15:5; Лк. 23:9; Ин. 19:9). Если же Иисус не отвечал, то, стало быть, он не признавал компетентным то судилище, на которое его привели, но главное, он тем показал, что он есть агнец, на заклание ведомый, и овца, не отверзающая уст своих перед стригущими ее, что он слуга Божий или, по христианскому истолкованию, Мессия, о котором прорицал Исайя (53:7). Поэтому на вопрос: он ли Мессия? — Иисус уже не молчит, а торжественно и со ссылкой на псалмопевца (109:1) и изречение Даниила (7:13) отвечает, что он действительно Мессия. За это мнимобогохульственное заявление первосвященник и члены синедриона осудили его на смерть, но этим приговором, по христианскому представлению, они сами себя осудили: они осудили Христа за то, что он признал себя тем, кем он был, и показал себя в действительности, и, следовательно, они сами уличили себя в глубоком ослеплении и закоснелом неверии.
Издевательства и истязания, которым был подвергнут Иисус со стороны служителей и властей иудейских, изображаются евангелистами различно, но во всех евангельских рассказах говорится о насмешках, избиении, пощечинах и оплевании, ибо всё это было предсказано Исаией в изречении, которое истолковывалось в мессианском смысле: «Я предал хребет Мой биющим и ланиты Мои поражающим, лица Моего не закрывал от поруганий и оплевания» (50:6). Подвергаясь этим истязаниям и перенося их кротко и терпеливо, Иисус тем самым показал, что он есть тот, кем не хотели признать его ослепленные враги.
Что даже первый ученик Иисуса малодушно от него отрекся, это опорочивало только самого ученика и обнаруживало слабость человеческой натуры, и в этом горько раскаивался впоследствии сам малодушный ученик; однако это отречение свидетельствовало также о высшем естестве и достоинстве Иисуса, ибо он сам предсказал это отречение, и предсказание его исполнилось в точности. Фактом троекратного отречения Петра, предсказанного Иисусом, повествователи-евангелисты очень дорожили, это мы видим из того, что они расходятся между собою в показаниях относительно действующих лиц, места и обстановки. Двукратное пение петуха, отмечаемое Марком, представляется моментом явно измышленным и недействительным, но заявление Луки о том, что Иисус, «обратившись, взглянул на Петра», когда запел петух и Петр стал отрекаться от Иисуса, является эффектной деталью, которая исторически невероятна по условиям данного места и момента, но вполне понятна как элемент сказания; что у Матфея и Марка субъективно представляется, как воспоминание о предсказании Иисуса, пробудившееся в Петре при пении петуха, то у Луки объективно обращается в укоризненный взгляд Иисуса, глубоко проникающий в душу Петра. В этом случае у евангелиста Иоанна наблюдается особенность, которая объясняется уже известной нам тенденцией его евангелия и дополняет собой рассказ о том, как на последней вечере ученики допытывались о предателе: там они через Петра просили ученика-любимца узнать, кто именно предаст Иисуса, а здесь «другой» ученик, знакомый с первосвященником, вводит Петра в дом первосвященнический; следовательно, в данном случае евангелист пожелал вновь превознести своего патрона (апостола Иоанна) за счет престижа первоапостола Петра.
В известном хронологическом экскурсе третьего евангелиста (Лк. 3:1) автор четвертого евангелия вычитал, что в том году, когда выступил Креститель, первосвященниками состояли два лица, Анна и Каиафа, и это неверное или неточное известие он так прочно себе усвоил, что, говоря о событиях последнего года земной жизни Иисуса, он заявляет, что «на тот год» зять Анны, Каиафа, был первосвященником (18:13; 11:49). Евангелист, видимо, предполагал, что Каиафа и Анна сменяли друг друга в должности первосвященнической, но в действительности после Анны, которого свергнул римский прокуратор Валерий Грат, некоторое время должность первосвященника исполняли разные лица, и затем в течение нескольких лет и, в частности, при прокураторе Понтии Пилате первосвященником состоял Каиафа, зять Анны. Но евангелисту захотелось привлечь к допросу и суду над Иисусом также Анну, мнимого второго первосвященника: ему хотелось показать, что Иисуса отвергли и несправедливо осудили два иудейских иерарха, подобно тому как Луке хотелось показать, что Иисуса признали невинным двое судей, не принадлежавших к корпорации иудейских иерархов — Пилат и Ирод. Что у евангелиста в действительности не имелось никаких данных об участии Анны в допросе Иисуса, это явствует из того факта, что первосвященник Анна, по словам евангелиста, ограничился одним вопросом об учениках и учении Иисуса (18:19), а Иисус в своем ответе сослался на то, что он «говорил явно миру» в синагогах и храме и «тайно не говорил ничего»; но, по свидетельству синоптиков, Иисус то же самое сказал уже в момент своего ареста (Мф. 26:55; Мк. 14:49; Лк. 22:53). Странно, что евангелист ничего не сообщает о допросе, которому подвергнут был Иисус действительным первосвященником, Каиафой, к которому, по словам евангелиста, Иисус был отведен из дома Анны. Но дело в том, что евангелист предвосхитил оба пункта обвинения, о которых, по словам старейших евангелистов, говорилось на этом допросе, чтобы ярче осветить поведение Иисуса. Во-первых, речь о разрушении и воссоздании храма он привел уже в рассказе о первом паломническом приезде Иисуса (2:19); во-вторых, заявление о том, что отныне увидят Сына Человеческого восседающим одесную силы и грядущим на облаках небесных, Иисусом было высказано, по словам четвертого евангелиста, Нафанаилу при призвании первых учеников (1:51), когда Иисус сказал: «Отныне будете видеть небо отверстым и Ангелов Божиих восходящих и нисходящих к Сыну Человеческому». Даже об обвинительном приговоре Каиафы можно сказать, что евангелист его тоже предвосхитил как в рассказе о совещании первосвященников и фарисеев (11:49), так и в данном случае (18:14), когда евангелист, сославшись на упомянутый рассказ о совещании, заявляет, что Каиафа подал «совет» иудеям, что «лучше одному человеку умереть за народ», то есть лучше погубить одного человека, чем целый народ. Наконец, Иисус утвердительно ответил на вопрос: он ли Христос, Сын Божий? Но четвертый евангелист не пожелал, чтобы Иисус прямо признал себя Мессией иудеев, поэтому о допросе у Каиафы евангелист не сообщает никаких подробностей, и даже отречение Петра относит ко времени его пребывания во дворе Анны, так что допрос этот у четвертого евангелиста является лишь прологом к дальнейшему допросу у Пилата.
§90. Смерть предателя
Тот факт, что один из учеников предал Иисуса в руки врагов его «соблазнял» многих христиан в ущерб престижу Иисуса, и, как мы видели, христианское предание пыталось устранить этот соблазн, утверждая, что Иисус заранее знал и предвозвестил о предательстве и что предательство это было предсказано даже уже в Ветхом завете. Ведь и соблазн отречения Петра предание пыталось обезвредить заявлением, что Иисус предвозвестил его заранее и что Петр искренно раскаялся в своем малодушии (что представляется и нам правдоподобным). Такое же раскаяние было необходимо констатировать относительно предателя Иуды, тем более что его деяние было во много раз преступнее деяния Петра; тут уж нельзя было ограничиться простым изъявлением раскаяния и сожаления, тут надо было показать уже полное отчаяние и, наконец, удостоверить, что независимо от раскаяния преступника постигла кара Божия.
Вполне возможно, да и случалось уже нередко, что предатель, искренно раскаявшийся в содеянном, налагал на себя руки или погибал случайной смертью. Но наши новозаветные рассказы при своем двойственном характере отмечают не совершившиеся факты и различные ветхозаветные прообразы и только косвенным путем исходят из более или менее возможных фактов. По словам Матфея (27:3–10), Иуда, узнав, что Иисус осужден (как будто он не мог этого предвидеть раньше), и раскаявшись, возвратил 30 сребреников первосвященникам, бросив их во храм и говоря: «Согрешил я, предав кровь невинную». Затем Иуда «вышел (из храма), пошел и удавился» (от отчаяния), а первосвященники, взяв сребреники, не сочли возможным вложить их в церковную сокровищницу, так как эти деньги были «цена крови», и потому купили на них землю горшечника для погребения странников, вследствие чего земля эта «до сего дня» называется «землей крови». Но, по свидетельству автора Деяний апостолов (1:16–20), где Петр говорит о кончине Иуды и о замещении его вакансии в апостольской коллегии, Иуда не вернул первосвященникам полученных им денег, но сам купил себе землю, а затем «низринулся» (случайно свалился) с высоты в глубокий овраг, вследствие чего «рассеклось чрево его и выпали все внутренности его», а когда это сделалось известным всем жителям Иерусалима, земля эта названа была «землей крови» (Акелдама), то есть землей, всосавшей в себя кровь предателя.
Между обоими рассказами нет ничего общего, кроме скоропостижной или внезапной смерти Иуды и сходного наименования некоего участка земли в окрестностях Иерусалима (земля крови). Но сообщение о внезапной смерти предателя было постулатом христианского сознания, независимо от исторической достоверности его, а сообщение о наименовании участка земли «землей крови» само по себе вполне правдоподобно, но могло и не иметь никакого отношения к предателю, ибо христианская легенда могла произвольно приурочить «землю крови» к кровавому деянию предателя Иуды.
Далее относительно Матфеева рассказа следует заметить, что смерть через удавление, от которой, по словам евангелиста, погиб Иуда, в Ветхом завете всегда постигала всех предателей. Об Ахитофеле, «неверном» советнике Давида, предавшем этого предка Мессии в руки Авессалома, говорится (2 Цар. 17:23), что он «собрался… удавился и умер», то есть говорится буквально то же, что говорит Матфей о предателе Иуде: «Он вышел (из храма), пошел и удавился» (27, 5). Правда, Ахитофел удавился не от раскаяния, а потому, что убедился, что его мудрый, но предательский совет не был принят; он хотел погубить Давида, но увидел, что погибнет сам, и потому решил предотвратить погибель самоубийством. Иуда же сознавал, что погубил сына Давидова, и это сознание привело его в отчаяние, а затем и к самоубийству.
По словам Матфея, самоубийству Иуды предшествовал акт раскаяния возвращение «цены крови», вознаграждения за предательство, и исповедание содеянного греха. Но раскаяние христиане приписали Иуде, вероятно, априорно, не считаясь с исторической достоверностью этой детали, и сообщение о том, что Иуда бросил сребреники в храме, было предуказано пророчеством ветхозаветным. Матфей замечает по поводу самоубийства Иуды: «Тогда сбылось реченное через пророка Иеремию… взяли тридцать сребреников, цену Оцененного… и дали их за землю горшечника» (27:9). Но цитата, приведенная Матфеем, взята не из пророчества Иеремии, а из Захарии (11:13), и ошибка евангелиста произошла оттого, что «горшечник», о котором говорится в этом изречении, напомнил ему о том горшечнике, о котором прорицал Иеремия (18:1). В изречении Захарии Иегова назначает пророка пастырем народа, но пастыря скоро утомляет его неблагодарная должность, и он просит уволить и рассчитать его; тогда за его труды народ дает ему 30 сиклей серебра, а Иегова велит ему положить эту необычайную «цену труда» в сокровищницу, и пророк, взяв эти 30 сиклей, относит их в сокровищницу храма Иеговы. Если Иуда за свое предательство действительно получил 30 сребреников, то мысль об указанной цитате напрашивалась евангелисту сама собой. Но мне кажется, что евангелист решил вознаградить предателя 30 сребрениками во исполнение вышеуказанного пророчества. Мизерное вознаграждение, которое получил за свои труды Богом ниспосланный пастырь (и, в конечном счете, сам Иегова) от неблагодарного народа, должно было напомнить евангелисту о той безусловно ничтожной цене, за которую предатель предал Иисуса, вернейшего и наилучшего пастыря и блюстителя душ человеческих (Евр. 13, 20; Пет. 2:25), и если цена эта в изречении пророка была определена в 30 сиклей серебра, то, стало быть, изречение пророка, а не историческое сведение послужило тем источником, на основании которого Матфей определил размер награды, полученной Иудой за предательство (впрочем, следует заметить, что размер награды этой указан только у Матфея, который цитирует и вышеупомянутое изречение пророка). Правда, награда за труды, о которой говорится у пророка, отличается от награды за предательство, о которой говорит евангелист: первая предполагает двух договаривающихся контрагентов — нанимателя (работодателя) и наемника (работника), а вторая предполагает трех контрагентов — предателя, предаваемого и лицо, вознаграждающее за предательство; в первом случае наемник получает плату за работу, а во втором — плату получает не сам преданный, а предатель. Поэтому если дальше говорится, что столь скудно вознагражденный труженик-пророк по приказу Иеговы положил полученную им награду (30 сребреников) в сокровищницу храма Божия, то, стало быть, и в данном случае сделать то же мог не тот, кого предали, а тот, кто предал, то есть предатель, ибо награду получил он, предатель. Однако и раскаяние самого предателя всего лучше можно было осветить указанием на то, что полученную награду, цену «крови невинной», он бросил в храме, то есть бросил укоризненно в лицо тем настоятелям храма, первосвященникам и старейшинам, от которых он получил награду за предательство.
Но Матфей далее свидетельствует, что первосвященники не пожелали положить возвращенные сребреники, «цену крови», в церковную сокровищницу, а решили купить на них «землю горшечника» для погребения иногородних странников, и по этому случаю евангелист цитирует изречение пророка. Ниже мы узнаем, почему евангелисту пришла в голову мысль о «земле горшечника»: на мысль о горшечнике его навело то же изречение пророка, понятое и истолкованное им неправильно. В еврейском тексте место, куда Иегова велел пророку положить полученную им ничтожную награду, обозначено таким словом, которое с приставленным к нему обыкновенным гласным знаком означает «горшечника», а с иным гласным знаком означает «сокровищницу». В данном случае слово это следовало, очевидно, понимать в смысле «сокровищницы», но евангелист решил понять его обычно, в смысле «горшечника». В изречении пророка говорится, что пастырь-пророк положил полученные 30 сребреников в «дом Божий», и затем добавлено то слово, которое мы переводим словом «сокровищница», которая находилась в храме, а евангелист перевел словом «горшечник», хотя никаких горшечников при храме не состояло. И так как «бросить деньги в храм» не означало «бросить деньги горшечнику», поэтому евангелист создал два разных акта или деяния и приписал их даже разным лицам. По его мнению, сребреники бросил в храм предатель, а к горшечнику их принесли первосвященники, которые не пожелали эту «цену крови» положить в церковную казну. Но зачем деньги эти они принесли горшечнику? Затем, чтобы откупить у него участок земли для погребения на нём странников, и, так как деньги эти представляли «цену крови», поэтому и земля эта стала называться «землей крови».
Мысль о «земле крови» евангелист не мог почерпнуть из пророчества Захарии, где о земле не говорится ничего. Но эта «земля крови» нам напоминает рассказ автора Деяний апостолов о кончине предателя. Этот рассказ при всём своем несходстве с Матфеевым рассказом сходится с ним в том, что и там говорится о земле, хотя землю здесь купил сам предатель, и не для погребения странников, а для собственной потребности, и приобрел ее, быть может, не у горшечника. Каким образом автор рассказа пришел к мысли о земле, это отгадать нетрудно, да и сам он говорит нам это. В том обстоятельстве, что предатель погиб, как только он приобрел землю «неправедною мздою», автор усматривает исполнение пророчества псалмопевца (Пс. 68:26): «Да будет двор его пуст; и да не будет живущего в нём». Это сказано в одном из тех псалмов Давида страждущего, которые древнейшими христианами истолковывались применительно к страданиям сына Давидова. Из того же псалма (ст. 22) заимствован и уксус с желчью, которым, по словам легенды, был напоен Иисус, распятый на кресте, а стих 10-й того же псалма, по словам четвертого евангелиста, исполнен был Иисусом при очищении храма (2:17). Та кара, которой грозит своим врагам псалмопевец при мессианском толковании псалма, могла быть отнесена к врагам Иисуса, к той партии ярых иудаистов-националистов, которая враждовала с Иисусом, и, в частности, к тому человеку, который так тяжко согрешил перед Иисусом лично — к предателю Иуде. Но если «двор» такого человека должен опустеть, то значит, у него должен быть — и был в действительности — свой двор или кусок земли, а приобрести его он мог не иначе как на деньги, полученные за предательство, которое надлежало покарать запустением двора. Но если двор его стал пуст и необитаем, то, значит, владелец двора отсутствует, то есть умер. В том же псалме (ст. 29) выражено пожелание, чтобы враги псалмопевца были вычеркнуты из «книги живых», а в другом псалме (108:8), который тоже упомянут автором Деяний апостолов, говорится: «Да будут дни его кратки». Что смерть предателя не могла и не должна быть смертью естественной, это разумелось само собой и отмечалось также в псалме, возвещавшем о запустении двора. В псалме высказывалось также пожелание, чтобы «трапеза врагов» была «сетью им», поэтому и в Деяниях апостолов говорится, что Иуда свалился в овраг и что его чрево, раздобревшее от мзды неправедной, рассеклось и все внутренности его выпали наружу. Что чрево у предателя страшно раздобрело, или раздулось, это отмечает, между прочим, Папий со слов древнейшего христианского предания. По его свидетельству, предатель не мог пройти из-за раздувшегося чрева там, где проезжал свободно воз; а другой автор (так разрастается легенда) сообщает, что предатель был раздавлен в тесном проулке ехавшим навстречу возом, и все внутренности ею выпали наружу. Причиной этой толщины Иуды считали «водяную» болезнь (брюшную водянку) и соответственно тому рассказывали, что голова и веки предателя так раздулись, что он не мог больше видеть глазами, или ослеп. Тут слепота является очевидным вымыслом, а водянка представляется причиной толщины, вследствие которой выпали и внутренности из расставшегося чрева. Но в псалме, отмеченном в Деяниях апостолов, по поводу кончины Иуды-предателя мы находим следующее пожелание по адресу врага псалмопевца (108:18): «Да облечется проклятием, как ризою, и да войдет оно, как вода, во внутренность его и, как елей, в кости его». Поэтому предателю легенда приписала и «водянку»; а изречение другого псалма (68:24): «Да помрачатся глаза их, чтоб им не видеть», — нам объясняет, почему предателю легенда приписала «слепоту».
Итак, относительно кончины предателя у древних христиан создалась двоякая легенда, не основанная на исторических фактах, и нам предстоит еще решить вопрос: не представляется ли фактом историческим приобретение земли, именуемой «землей крови», благо о ней речь идет в обеих легендах? Но легенды сходятся лишь в показании о том, что близ Иерусалима находился участок земли, именовавшийся «землей крови»; а в указании той связи, какая существовала между предательством Иуды и названием этой земли, обе легенды между собой круто расходятся. По словам одной легенды, эту землю купил сам Иуда, а по словам другой — ее купили первосвященники; по словам одной легенды, земля эта получила свое название от крови Иисуса, ценой которой она была куплена, а по словам другой легенды — от той крови, которою оросил ее предатель. Следовательно, связь между личностью предателя и «землей крови» установлена была произвольно, и земля, названная неизвестно почему и кем «землей крови», могла действительно существовать в окрестностях Иерусалима и служить местом погребения для странников, но впоследствии земля эта, ввиду ее зловещего наименования, была приурочена к злодеянию предателя Иуды, но как именно и почему это было сделано, мы теперь уже не знаем. Автору Деяний апостолов земля эта представлялась «пустым двором» предателя, а автор первого евангелия усматривал в ней объект, за который «горшечнику» была уплачена «цена крови невинной», то есть вручены были сребреники, брошенные в храме предателем Иудой. При этом ничто не вынуждает нас предполагать, что глинистая почва данного участка наводила на мысль о горшечнике; вполне возможно, что зловещее название его («земля крови») напомнило о кровавом злодеянии предателя, которое, по мнению евангелиста, предрек уже пророк Захария в своем изречении о горшечнике.
§91. Допрос у Пилата и Ирода
Настоящими врагами молодого христианства до времен разрушения Иерусалима и, следовательно, в эпоху составления синоптических евангелий являлись староверы-иудеи, а римляне и греки (эллины) относились к нему равнодушно и, вообще говоря, терпимо, если не считать чисто местных и временных конфликтов, вроде гонения на христиан при Нероне. Ко времени составления четвертого евангелия столкновения с римской властью, правда, участились, но их искупало массовое присоединение язычников к Христовой вере, вследствие чего и греко-римский мир стал признаваться главной ареной для распространения христианства, а иудеи стали представляться горстью закоснелых и отверженных изуверов. Но так как Иисус в конце своей земной жизни имел конфликты с обеими силами — с иудаизмом и язычеством, с иерархией собственного народа и с правительством народа римского, в изображении этого периода жизни Иисуса тоже сказались те настроения и идейные течения, которые существовали в христианском обществе и в отдельных группах христиан в момент составления евангелий.
Что Иисус был казнен по приказу римского прокуратора, это — факт достоверный,[241] но невозможно доказать фактически, что сам Иисус своей деятельностью подал к тому повод непосредственно. Поэтому весьма правдоподобно утверждение евангелистов, что власти иудейские, не имея права казнить смертью преступников без согласия властей римских, постарались убедить римского прокуратора в необходимости казнить Иисуса и в этих видах пытались перед римским правительством представить политически неблагонадежным Иисуса, которого они хотели погубить по чисто иерархическим мотивам. Достичь этого было нетрудно, ввиду политического характера идеи иудейского Мессии. Эту идею Иисус усвоил себе не без колебаний, да и то лишь после того, как выделил из нее политический момент, но ни народ, ни даже ученики Иисуса не понимали этого преобразования и не обращали на него внимания; поэтому властям иудейским было нетрудно убедить Пилата, что политически опасными моментами являются та популярность, которой пользовался Иисус в народе, то внимание, с которым народ прислушивался к проповеди Иисуса, и та почесть, которая ему была оказана народом при въезде в Иерусалим. В этом отношении евангельский рассказ вполне правдоподобен исторически. Но если, наконец, Пилат сдался на убеждения иудейских иерархов, то, вероятно, потому, что сам увидел вредный и опасный характер деятельности Иисуса или потому, что счел лично для себя полезным и выгодным исполнить желание иерархов и старейшин иудейских. В первом случае он, вероятно, сначала усомнился в виновности Иисуса, но затем не убедился в его невиновности, а во втором случае он, вероятно, не высказывал открыто своих взглядов и расчетов, чтобы зря не компрометировать себя в глазах властей иудейских и не утратить права на признательность и благодарность с их стороны. Поэтому, насколько правдоподобно сообщение евангелистов о том, что иерархи иудейские старались склонить на свою сторону прокуратора, настолько неправдоподобно их сообщение о том, что Пилат публично и торжественно высказывал свое убеждение в невиновности Иисуса. Но, как известно, в период составления евангелий христиане всё более и более отвращались от народа иудейского и сближались с миром язычников, возлагая на него огромные надежды; поэтому мы без труда поймем, почему и как в евангельский рассказ по данному вопросу проникали антиисторические элементы.
По свидетельству двух первых евангелистов, Пилат приведенного к нему Иисуса спросил, царь ли он Иудейский. Это вполне правдоподобно, если допустить, что власти иудейские (как евангелисты сообщают дополнительно) обвиняли Иисуса в присвоении царского титула; поэтому искуснее и правильнее поступил Лука, который предпослал допросу у Пилата замечание, освещающее политическую сторону мессианской идеи: первосвященники обвиняли Иисуса, «говоря: мы нашли, что он развращает народ наш и запрещает давать подать кесарю, называя Себя Христом Царем (Мессией)». На это обвинение Иисус ничего не отвечал, а на вопрос Пилата ответил кратко: «да» («ты говоришь»). Такое поведение Иисуса могло показаться назидательным для христиан, которые усматривали в нём исполнение пророчеств об агнце безгласном и овце безответной, но едва ли оно могло расположить Пилата, римского правителя, в пользу Иисуса, как о том свидетельствует евангелист. С другой стороны, у христиан последующей эпохи, вероятно, возникал вопрос, как относился Иисус к политической стороне идеи мессианской, и потому четвертый евангелист счел нужным дать в своем рассказе требуемое разъяснение.
Вообще говоря, четвертый евангелист (18:28–40; 19:1–16) весьма тщательно разработал сцену допроса у Пилата, которой он даже придал характер драматический и чуть не театральный. Так, например, он отмечает, что иудеи, ввиду наступавшей Пасхи, не вошли в преторию к Пилату, чтобы не оскверниться, и что хотя Иисус был приведен в преторию, но сам Пилат неоднократно выходил к иудеям для переговоров и наконец сам вывел из претории Иисуса. Однако евангелист наш, несомненно, затруднился бы ответить, кто же сообщил ему, евангелисту, стоявшему, вероятно, вместе с прочими иудеями перед зданием претории, о чём именно беседовал Пилат с Иисусом, находясь внутри претории.
В изображении четвертого евангелиста сцена допроса является как бы прологом или экспозицией последующей судебной драмы. Когда иудеи привели Иисуса к Пилату, последний вышел к ним и спросил: «В чём вы обвиняете Человека Сего?» Они ответили: «Если бы Он не был злодей, мы не предали бы Его тебе». Этот нелепый ответ иудеев объясняется желанием их вынудить Пилата заявить им: «Возьмите Его вы и по закону вашему судите Его», дабы они могли возразить ему: «Нам не позволено предавать смерти никого». Это замечание было нужно евангелисту для того, чтобы напомнить, что Иисус некогда предсказал, какою смертью он умрет: он говорил (12:32; 8:28), что он, сын человеческий, «вознесен будет от земли», ибо иудейская юстиция не предусматривала распятия преступников на кресте, а за такое преступление, в котором обвинялся Иисус, полагалось по закону иудейскому побивать осужденного камнями (Лев. 24:16, 23). Далее Пилат, по словам четвертого евангелиста, возвращается опять в преторию к Иисусу и — столь же отрывисто и кратко, как у синоптиков, — спрашивает его, он ли царь Иудейский? Однако мы недоумеваем, как мог Пилат предложить такой вопрос Иисусу, если иудеи еще не успели сказать Пилату, в чём именно они обвиняют Иисуса. Стало быть, здесь кончается экспозиция, имевшая целью мотивировать распятие Иисуса на кресте указанием на то, что иудеи не имели права приговаривать преступников к смерти, и начинается другая часть описания допроса, которая имеет целью осветить супранатуральную природу царства и достоинства Иисуса и которая завершается вопросом Пилата: «Что есть истина?» Тут Иисус заявляет, что он — «царь», ибо родился и пришел в мир, чтобы «свидетельствовать об истине», после чего Пилат его и вопрошает: «Что есть истина?» — как иудеи раньше, когда Иисус говорил о «вознесении Сына Человеческого», спрашивали его: «Кто этот Сын Человеческий?» (12:32–34; 8:28). Следовательно, вопрос Пилата есть один из тех недоуменных и недомысленных вопросов, при помощи которых четвертый евангелист оттеняет и подчеркивает величие и возвышенный характер идей и изречений своего Христа; кроме того, понятие «истины» относится к числу основных идей Иоаннова евангелия, как понятие «Сына Человеческого» является одним из основных понятий христианства вообще.
После изложенного выше собеседования Пилат снова выходит к иудеям и, по словам четвертого евангелиста, заявляет им, что не нашел никакой вины за Иисусом. Это заявление мотивировано здесь, в четвертом евангелии, лучше, чем в рассказе Луки, где Пилат после краткого утвердительного ответа Иисуса тотчас убеждается, что Иисус невиновен.
Впрочем, заявление Пилата о невиновности Иисуса сформулировано четвертым евангелистом по тексту Луки; у обоих первых евангелистов оно приводится в ином месте и сформулировано вообще иначе: у них в данном месте говорится о Варавве, тогда как у Иоанна Варавва упоминается после вышеприведенного заявления Пилата, а у Луки — после некоторой вводной сцены; вообще же следует признать эпизод с Вараввой, столь крепко укоренившийся в древнехристианском предании, эпизодом историческим. Но весьма сомнительно, действительно ли хотел Пилат, как утверждают евангелисты, воспользоваться обычаем иудеев в праздник пасхи амнистировать («отпустить») одного из осужденных на смерть преступников, чтобы апеллировать к беспристрастию народа против фанатического духовенства, рассчитывал ли он добиться освобождения Иисуса, противопоставляя ему разбойника и убийцу, — и настоятельно ли он добивался этого. Немыслимо, затем, и сообщение о том, что Пилат, не достигнув своей цели, умыл демонстративно («перед народом») свои руки в удостоверении невинности Иисуса и заявил, что он, Пилат, невиновен в пролитии крови «Праведника Сего», и возложил ответственность за смерть его на иудеев. Трудно поверить и тому, чтобы весь собравшийся народ на это заявил: «Кровь Его на нас и на детях наших». Эти детали сообщаются лишь в первом евангелии и, очевидно, создались всецело на почве позднейших представлений христиан, которые в последующем разгроме государства и народа иудейского усматривали кару, постигшую «детей» за пролитую их «отцами» кровь Иисуса, и которые Пилату приписали свое собственное желание во что бы то ни стало засвидетельствовать невиновность Иисуса каким-нибудь официальным актом: Пилат едва ли мог настолько заинтересоваться судьбой мечтателя-иудея, каким он в лучшем случае считал Иисуса, чтобы подобным умовением рук своих обнаружить собственную слабость и робость и признаться, что он побоялся спасти от казни невинно осужденного человека.
Впрочем, у первого евангелиста такое участливое отношение Пилата к Иисусу своеобразно мотивируется. Евангелист сообщает, что, когда Пилат восседал на судейском месте, жена его послала ему сказать, чтобы он «не делал ничего Праведнику Тому», потому что прошедшей ночью она во сне «много пострадала за Него» (27:19). Это указание на вещий сон Клавдии — Прокулы (так христианская легенда вскоре наименовала жену Пилата) живо напоминает собой о вещем сновидении Кальпурнии (жены Цезаря), которая, вследствие виденного ею накануне сна тоже просила и предостерегала мужа не выходить из дома в тот день, когда он был убит.[242] Читателю нетрудно составить себе мнение о данном евангельском рассказе, приняв во внимание не только «вкусы» современников евангелиста вообще, но и давно уже известное нам личное пристрастие евангелиста к вещим сновидениям.
Оба рассказа — об умовении рук Пилатом и о вещем сне его жены — Марк, любящий рассказывать всё кратко, вовсе опустил, а Лука и Иоанн попытались заменить их деталями не менее эффектными. Перед рассказом о Варавве и вслед за заявлением Пилата, что он не находит никакой вины за Иисусом (хотя последний продолжал упорно молчать), Лука внес в свой рассказ весьма оригинальную подробность (как и Матфей ввел в свой рассказ оригинальную деталь об умовении Пилатом рук), именно рассказ об отсылке Иисуса на допрос к Ироду (23:6–15). Мотивируется этот эпизод замечанием о том, что иудеи упорно настаивали на осуждении Иисуса, заявляя Пилату, что Иисус «возмущал» народ своим учением по всей Иудее, начиная «от Галилеи и до сего места», то есть Иерусалима. Пилат, узнав из этих заявлений, что Иисус — галилеянин и уроженец «области Иродовой», решил отослать его по принадлежности к его «начальству» — к четверовласгнику (тетрарху) галилейскому, Ироду Антипе, который «в эти (пасхальные) дни был также в Иерусалиме» (23:5–7). К этому рассказу Лука уже давно подготовлял читателя. Еще тогда, когда Иисус выступал в Галилее, правитель области, Ирод, по словам евангелиста (9:9), «искал увидеть Иисуса», заинтересовавшись слухами о сотворенных Иисусом чудесах. Поэтому теперь, когда сам Иисус явился на допрос к Ироду, последний, по словам евангелиста, «обрадовался» ему; как раньше Ирод хотел видеть Иисуса потому, что много слышал о творимых им чудесах, так и теперь он обрадовался приходу Иисуса, ибо «надеялся увидеть от Него какое-нибудь чудо». Но когда надежда и желание Ирода не исполнились, ибо на «многие вопросы» его, как и на «усиленные обвинения» присутствующих первосвященников и книжников Иисус тоже «ничего не отвечал», тогда Ирод, разочарованный и обманутый в своих ожиданиях, стал вместе с воинами своими насмехаться и издеваться над Иисусом и наконец нарядил его в «светлую одежду» и отослал обратно к Пилату. Сам по себе рассказ этот вполне правдоподобен. Что он имеется только у Луки, это еще не свидетельствует об антиисторическом его характере. Но беда в том, что рассказ этот совершенно бессодержателен. О чём расспрашивал Ирод Иисуса и каков был его приговор по делу Иисуса, этого мы из рассказа не узнаем, а что касается издевательств и насмешек Ирода и облачения Иисуса в «светлую одежду», то эти детали Лука заимствовал из повествований двух первых синоптиков, которые сообщают, что уничижению и надругательству Иисус был подвергнут тогда, когда Пилат утвердил приговор о нём синедриона. Наконец, читатель ясно видит цель, которую преследует рассказ, и потому он начинает сам сомневаться в исторической достоверности рассказа. Лука рассказывает дальше, что после возвращения Иисуса Пилат созвал первосвященников, начальников и народ и стал им подтверждать, что не считает Иисуса виновным в приписываемых ему преступлениях и ссылался при этом на Ирода, который, по его словам, тоже не нашел, что Иисус заслуживает смерти (23:15). Так Лука попытался доказать, что невиновность Иисуса засвидетельствовали двое судей, которых нельзя было заподозрить в сочувствии или расположении к Иисусу: язычник — Пилат, и иудей — мирянин (а не священник) Ирод.
Равным образом четвертый евангелист пытался (как мы уже знаем) показать, что не один, а двое иудейских первосвященников осудили Иисуса на смерть.
Впрочем, Лука не довольствуется вышеприведенным эпизодом, показавшим, что римский прокуратор Пилат считал Иисуса невиновным. По свидетельству двух первых евангелистов (Мф. 27:26; Мк. 15:15), Пилат, получив отказ от иудеев, на предложение свое «отпустить» Иисуса вместо Вараввы, тотчас велел бить и затем распять на кресте Иисуса, ибо избиение осужденного, по обычаю римлян, обязательно предшествовало распятию. Но Лука нам сообщает, что Пилат многократно предлагал иудеям отпустить Иисуса, «наказать» его, то есть подвергнуть избиению или сравнительно легкому телесному наказанию вместо смертной казни, но иудеи не принимали его предложения и упрямо требовали распятия Иисуса на кресте (23:16–22). Если бы мотив этого сообщения, приведенного одним только Лукой, не был нам и без того понятен, то мы могли бы уяснить его себе, сравнив рассказ Луки с соответствующим сообщением четвертого евангелиста. По словам евангелиста Иоанна, Пилат фактически велел «бить» Иисуса (19:1), а не предлагал лишь бить его, как говорит Лука, и это избиение не было прологом к последующему распятию, как говорят Матфей и Марк, а производилось оно для того, чтобы отвратить распятие, то есть смягчить жестокосердных иудеев скорбным видом избиваемого и побудить их отменить свое решение о распятии Иисуса. Поэтому четвертый евангелист и сообщает, что воины Пилата увенчали Иисуса венком терновым, одели его в багряницу и, бия его по ланитам, издевались над ним, называя его «Царем Иудейским». Эти детали встречаются также в рассказе двух первых евангелистов, но отнесены к тому моменту, когда Иисус уже был отпущен прокуратором и по его приказу подвергся избиению, тогда как Иоанн им сообщает смысл попытки разжалобить врагов Иисуса и избавить его от смертной казни. Избитого и осмеянного Иисуса Пилат, по словам евангелиста Иоанна, еще раз вывел из претории к иудеям и сказал: «се, Человек!», то есть «посмотрите, как жалок и измучен этот человек». Но иудеев жалкий, страдальческий вид Иисуса не тронул, они продолжали требовать его смерти. Таким образом, оказывалось, что Пилат сделал всё возможное, чтобы спасти Иисуса, и что, с другой стороны, противники Иисуса обнаружили такое жестокосердие, какого не отмечал еще никто из прочих евангелистов.
По свидетельству синоптиков, Пилат после неудачной попытки своей с Вараввой тотчас сдался и велел отвести Иисуса на распятие; но четвертый евангелист вознамерился показать, что Пилат даже и в это время пытался спасти Иисуса, и потому евангелисту приходилось показать, какими доводами и ухищрениями иерархи иудейские старались переубедить Пилата (19:6–16); вследствие того затягивался и процесс суда над Иисусом, и вместе с тем гораздо ярче обрисовывалась настойчивость Пилата, с одной стороны, и лукавое упрямство иудеев, с другой стороны. Сначала желание Пилата спасти Иисуса возрастает под влиянием заявления врагов его, что Иисус выдавал себя за сына Божия. По убеждению иудеев, за такое деяние Иисус подлежал смертной казни, но язычник Пилат, видимо, начинает сознавать или провидеть правду. Затем Иисус прямо говорит Пилату, что он, Пилат, не имел бы власти казнить и миловать людей, если бы власть эта не была дана ему свыше (ср. Рим. 13:1), и этим напоминанием об ответственности перед высшим существом Иисус усиливает колебания Пилата, так что «с этого времени Пилат (по словам евангелиста) искал отпустить Его». Но тут иудеи выдвинули свой сильнейший аргумент: они заявили Пилату, что, отпуская Иисуса, он окажется врагом кесаря, ибо «всякий, делающий себя царем (как Иисус), противник кесарю». Таким образом, Пилат-прокуратор, долго противившийся требованию иудеев и выставлявший разные уважительные причины и доводы против них, наконец сдается по чисто личному и своекорыстному побуждению и уступает иудеям, вопреки собственному убеждению, ибо из предшествующих расспросов и ответов Иисуса он должен был убедиться, что Иисус считал и называл себя «царем» лишь в самом безобидном смысле (он говорил, что его царство «не от мира сего») и что он нисколько не был опасен для кесаря, то есть римского императора. Без сомнения, вся история осуждения Иисуса здесь представлена в том виде, который соответствовал настроению позднейших христиан, но не исторической действительности, ибо Пилат в этой истории действует и говорит так, как мог бы говорить и действовать человек, сочувствующий Иисусу. Но мы недоумеваем, почему римлянин-язычник мог или должен был сочувствовать Иисусу, хотя, с другой стороны, мы понимаем, по каким мотивам и соображениям евангелист-христианин приписал Пилату сочувствие по отношению к Иисусу.
IV группа мифов: Распятие, смерть и погребение Иисуса.
§92. Распятие Иисуса
По традиционным представлениям иудеев, Иисус, умерший на кресте, то есть позорной смертью преступников, не вправе был именовать себя Мессией. Ученики же Иисуса и те из иудеев, которых они обратили к вере в Иисуса, после крестной смерти Христа изменили свои староиудейские представления и дополнили идею Мессии представлением о страданиях и убиении Иисуса как об искупительной и примирительной жертве. В рамках иудаистского мировоззрения это достигалось указанием на то, что и в книгах Ветхого завета предусмотрены и предвозвещены страдания и убиение Мессии. В действительности таких изречений и прорицаний в книгах Ветхого завета не содержится, но как коллективный «слуга Иеговы» у Исайи, так и многие отдельные праведники претерпевали разные страдания и даже умерщвлялись и вообще изображались покинутыми Богом существами, и подобные рассказы в ветхозаветных книгах было нетрудно истолковать в смысле указаний на Мессию при данном положении экзогетики (толкования Святого Писания) у иудеев. Когда христиане, ожидавшие второго пришествия Иисуса на облаках небесных, начинали вспоминать и разбирать в подробностях земную жизнь Иисуса, евангелистам пришлось говорить и о распятии Иисуса при всей «соблазнительности» факта крестной смерти Иисуса-Мессии; тогда они, естественно, ухватились за вышеупомянутые ветхозаветные свидетельства и стали доказывать, что позорные страдания и смерть, постигшие Иисуса, уже давно были предсказаны в Ветхом завете относительно Мессии и что они входили в план Бога, желавшего спасти народ израильский и всех верующих вообще через страдания и смерть Мессии. Поэтому уже априори можно ожидать, что в евангельских рассказах о распятии Иисуса (Мф. 27:32–56; Мк. 15:21–41; Лк. 23:26–49; Ин. 19:17–30) мы найдем смесь исторических воспоминаний с продуктами систематического извращения ветхозаветных прорицаний.
По единогласному свидетельству трех первых евангелистов, тот крест, на котором предполагалось распять Иисуса, нес на Голгофу (лобное место) некий киринеянин, по имени Симон (Мф. 27:32; Мк. 15:21; Лк. 23:26), а по словам четвертого евангелиста (19:17), крест этот нес на себе сам Иисус. Но это противоречие нас не должно смущать; мы можем допустить, что четвертый евангелист увидел в сообщении синоптиков ошибку и пожелал ее исправить. Ему казалось, видимо, нелепым предположение о том, что Иисус, тот агнец Божий, который «берет на Себя грехи мира» (1:29) и который призван был пострадать и умереть позорной крестной смертью за людей, заставил будто бы другого человека нести вместо себя свой крест. Ведь таким образом легко было дойти и до той мысли, что Иисус заставил кого-нибудь другого умереть на кресте вместо себя. Недаром уже многие со слов гностика Василида утверждали, что вместо Иисуса был распят на кресте Симон. Так, вероятно, рассуждал четвертый евангелист, и он решил вопреки синоптикам показать, что Иисус, принявший на себя страдания человечества, сам нес и крест свой на себе. Но если Иоанновым рассказом нельзя опровергнуть рассказа синоптиков и если рассказ Иоанна возник на почве догмата, то перед нами, естественно, встает вопрос: не возник ли и рассказ синоптиков на почве догматических соображений? Крест Христов стал характерным символом христианства, когда исчез тот предрассудок и соблазн, который прежде был с ним связан. Возложить на себя крест Христов значило теперь подражать примеру Иисуса Христа, и делать это, по словам евангелиста, повелел сам Иисус (Мф. 16:24), сказав: «Кто хочет идти за Мною, то отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною». Вообще, такого рода «образные» речи обладают тем свойством, что всегда наводят на предположение о каком-нибудь фактически случившемся происшествии. Но фактически крест Христа мог быть понесен за ним только тогда, когда его вели уже на распятие, поэтому в воображении древних христиан легко вставала такая сцена: на пути к лобному месту появляется человек, который возлагает и несет на себе «крест Христов», следуя за Иисусом и тем исполняя волю Христа, изъявленную им в Нагорной проповеди (Мф. 5:41). Впрочем, вполне возможно и то, что крест Христа действительно нес кто-нибудь другой, следуя на лобное место за Иисусом: недаром все синоптики сходятся друг с другом в указании имени и родины человека, несшего крест Иисуса на Голгофу.
Затем на пути к лобному месту случилось происшествие, о котором сообщает нам один Лука: за Иисусом, по словам евангелиста, шло великое множество народа и женщин, которые плакали о нём, но Иисус, обратившись к ним, сказал: «Дщери Иерусалимские! не плачьте обо Мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни…» и т.д. (Лк. 23:28). Взгляд на разрушение Иерусалима как на кару за преступление, совершенное его обитателями относительно Иисуса, присущ был всем синоптикам вообще, а Луке по преимуществу. Так, например, Лука (и только он один) сообщает, что, приближаясь к городу Иерусалиму, перед въездом в него, Иисус будто бы заплакал, смотря на Иерусалим, и говорил: «О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему!.. ибо придут на тебя дни, когда враги твои обложат тебя окопами… и разорят тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за то, что ты не узнал времени посещения Твоего». Лука в данном случае отмечает, как дщери иерусалимские оплакивают идущего на казнь Иисуса, хотя им следовало плакать о самих себе ввиду грядущих бедствий. Черты, которыми Иисус при этом обрисовывает, по словам Луки, грядущую судьбу Иерусалима, заимствованы отчасти из большой речи Иисуса о светопреставлении, где, по свидетельству всех синоптиков, Иисус говорил: «Горе же беременным и питающим сосцами в те дни», как в данном случае Иисус говорит: «Приходят дни, в которые скажут: блаженны неплодные, и утробы неродившие, и сосцы непитавшие» (21:23; 23:29). Но высказанное тут же пожелание, чтобы горы упали на страдальцев и холмы покрыли их собой (23:30), взято почти дословно из книги Осии (10:8).
По случаю прибытия Иисуса на лобное место два первых евангелиста спешат отметить, что этим Иисус исполнил два ветхозаветных пророчества. Матфей сообщает простодушно, что на лобном месте Иисусу дали пить уксус, смешанный с желчью, но Иисус, отведав его, не захотел пить (27:34). Последнее нисколько нас не удивляет, но мы недоумеваем, почему и для чего Иисусу давали пить уксус с желчью. Марка это сообщение Матфея тоже, вероятно, удивило, и потому он «уксус, смешанный с желчью», превратил в «вино со смирною» (15:23) и таким образом свел данный эпизод к еврейскому обычаю «оглушать» преступников, подлежащих казни, пряными настойками. Возможно, что данное сообщение Марка соответствует действительности, что Иисусу дали пить именно такое пряное вино, но Иисус не пожелал быть оглушенным и потому отказался пить его; но в таком случае второй евангелист случайно угадал истину, ибо использованное им сообщение Матфея было не фактическим рассказом, а пророческим изречением, взятым из псалма 68-го, который вместе с псалмом 21-м и отрывком из 53-й главы книги Исайи, видимо, служил программой или прописью для евангельского рассказа о распятии Иисуса. В обоих упомянутых псалмах (21 и 68), как мы уже сказали, древнейшие христиане усматривали (разумеется, ошибочно) прорицание о страданиях Мессии, а потому евангелисты для рассказа о распятии Иисуса черпали оттуда все мало-мальски подходящие детали. Такой деталью представляется, например, жажда Иисуса и утоление ее вышеуказанным противным напитком. «Язык мой прильнул к гортани моей», — жалуется автор одного из упомянутых псалмов (21:16); автор другого псалма (68:22) вопиет: «И дали мне в пищу желчь, и в жажде моей напоили меня уксусом». Но так как при распятии не могло быть речи о еде и снеди, поэтому Матфей примешал желчь к питию и таким образом получился у него «уксус, смешанный с желчью», который, по его словам, предложен был Иисусу, может быть, по той причине, что Матфей слыхал, что людей, осужденных на казнь, оглушали одуряющими напитками, каковой обычай рельефнее обрисован в рассказе Марка.
Но «желчь» вызывала разные недоумения, и потому у других евангелистов говорится лишь об уксусе, которым во исполнение изречения псалма был напоен страждущий Мессия-Иисус. На уксусе они остановились потому, что уксусом, разбавленным водой, поили римских воинов во время походов и других экспедиций, поэтому его должны были иметь при себе также и те (римские) воины, которые распяли Иисуса на кресте. Но так как в псалмах говорилось о жажде, утоляемой при помощи уксуса, и о языке, присохшем к гортани, решено было не только умолчать о желчи, но и напоить уксусом Мессию-Иисуса позднее, когда он провисел уже некоторое время на кресте и должен был возжаждать. Поэтому Лука, памятуя о напитке воинов римских (уксусе), сообщает что воины издевались над Иисусом, подходя и поднося ему уксус (23:36) но евангелист Иоанн, в свою очередь, свидетельствует (19:29), что перед кончиной Иисуса воины, видимо, с благим намерением, «напоив уксусом губку и наложив на иссоп, поднесли к устам его». При этом Иоанн проговаривается, откуда он заимствовал эту подробность. Он повествует, что Иисус, «зная, что уже всё совершилось, да сбудется писание» сказал: «Жажду» (19:28). Евангелист в данном случае под «писанием» разумел, без сомнения, вышеупомянутые изречения псалмов. Итак, по свидетельству Луки и Иоанна, Иисус перед кончиной был напоен уксусом, а не смесью уксуса с желчью или смирной и не при начале распятия, как утверждают прочие евангелисты; но Матфей и Марк, верные своей привычке, в данном случае, как и при рассказе о чудесном насыщении народа, пожелали ничего не опускать из тех прообразов, которыми они пользовались для своих рассказов. По их словам, Иисус был напоен уксусом (без примесей) перед кончиной: кто-то из присутствовавших «взял губку, наполнил уксусом и, наложив на трость, давал Ему пить» (Мф. 27:48; Мк. 15:36). Губку евангелисты не могли заимствовать из упомянутых псалмов, в этой детали сказалось историческое известие об обычае поить распинаемых преступников. Но тот иссоп, о котором говорит Иоанн (и только он один), напоминает собой Моисеево постановление об употреблении иссопа при заклании пасхального агнца (Исх. 12:22) и представляется вполне уместным в повести четвертого евангелиста, который признавал истинным пасхальным агнцем распятого на кресте Иисуса.
Отметив вкратце акт распятия, два первых евангелиста спешат напомнить, что и другое прорицание псалмопевпа-страждущего исполнил Иисус, что, впрочем, отмечают также остальные два евангелиста (Мф. 27:35; Мк. 15:24; Лк. 23:34; Ин. 19:23). Страждущий автор псалма 21-го, между прочим, вопиет (ст. 19): «Делят ризы мои между собою и об одежде моей бросают жребий». Возможно, что дележ одежды действительно происходил при распятии Иисуса Христа, так как по римскому закону одежда казненных переходила в собственность лиц, исполнявших смертный приговор, в качестве законной добычи. Однако деталь эту евангелисты взяли не из исторических источников, а из изречений псалма, и хотя псалом цитируется лишь у четвертого евангелиста, но тут это обстоятельство показывает, что евангелисты вообще руководились изречениями псалмов, хотя и понимали их неодинаково. В действительности данное изречение псалма состоит из двух частей, причем во второй части говорится то же, что и в первой, но лишь яснее и определеннее. Так поняли псалом трое синоптиков, и лучше всех — Матфей, поэтому он сообщает, что воины, распявшие Иисуса, «делили одежды Его, бросая жребий» (27:35), а Марк поясняет еще, что воины бросали жребий с тою целью, чтобы знать, «кому что взять» (15:24). Неверно понял изречение псалма четвертый евангелист: он предположил, что в первой его части говорится о разделе верхней одежды, а во второй — о метании жребия из-за одежды нижней, то есть говорится о двух разных действиях и вещах; поэтому он сообщает, что воины (почему-то в количестве четырех человек) взяли одежды распятого Иисуса и «разделили на четыре части, каждому воину по части», не бросая о них жребия, а затем о нижней одежде (хитоне) Иисуса стали бросать жребий, так как не хотели раздирать (портить) этот ценный хитон, «не сшитый, а весь тканный сверху»
(19:23). Стало быть, четвертый евангелист в данном случае поступил точно так же, как Матфей поступил раньше, цитируя пророчество об ослице и молодом осле; разница лишь в том, что Матфей и Иоанн поменялись ролями: теперь ошибся Иоанн, а раньше ошибался Матфей. Предположение о том, что четвертый евангелист умышленно исказил смысл изречения псалма и что под «несшитым» (цельным) хитоном, как далее под неразорвавшимся неводом (21:11), он разумел единую церковь или «единое стадо при едином пастыре» (10:16), нам представляется догадкой спорной и проблематической.
Утешало верующих христиан в этой скорбной истории распятия Иисуса, без сомнения, то обстоятельство, что позор и поношения, которым подвергался их распятый Мессия и которые так больно отзывались в их душе, оказались в точности предсказанными в книгах Ветхого завета. В вышеупомянутом «страстном» псалме (21:8) было сказано: «Все, видящие меня, ругаются надо мною, говорят устами, кивая головою». Поэтому неудивительно, что и в данном случае, как свидетельствуют все синоптики (Мф. 27:39; Мк. 15:29; Лк. 23:35), народ, мимо распятого проходивший или стоявший у подножия креста, вкупе со старейшинами иудейскими «злословил» над распятым Иисусом, «кивая головами». Даже слова насмехавшихся над Иисусом Матфей приводит в подлиннике, подражая псалмопевцу. Матфей отмечает следующее издевательство: «Он (Иисус) уповал на Бога, пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему»; а в упомянутом псалме (по греческому переводу) было сказано: «Он уповал на Господа; пусть избавит его, пусть спасет, если он угоден Ему». Правда, в псалме лица насмехающиеся названы тельцами, львами, псами и единорогами, то есть безбожными насильниками. Евангелист утверждает, что такие поносительные речи произносили иудеи, враги Иисуса, — первосвященники и книжники; однако мы сомневаемся, чтобы такие начитанные люди действительно цитировали язвительные изречения псалма, ибо они должны же были знать и помнить, что то были речи «безбожников»; они, вероятно, и не думали говорить цитатами из псалмов, а просто насмехались применительно К моменту и к личности распятого ими Иисуса. Например, вполне возможно, что, издеваясь, они говорили: «Других Он спасал, а Себя не может спасти»… «Если Он Царь Израилев, пусть теперь сойдет с креста»… «Уповал на Бога: пусть теперь избавит Его, если Он угоден Ему. Ибо Он сказал: „Я Божий Сын“»… «Разрушающий храм и в три дня созидающий! спаси Себя… если Ты Сын Божий, сойди с креста» (Мф. 27:40–44).
Упомянув о том, что «Царем Иудейским» Иисуса насмешливо величали сначала первосвященники и книжники, а затем и воины, поившие распятого уксусом, Лука сообщает (23:38), какая надпись была сделана на кресте Иисуса, о ней другие евангелисты упоминали раньше (Мф. 27:37; Мк. 15:26; Ин. 19:19). Эта надпись гласила: «Се есть Царь Иудейский». Лука, а за ним и Иоанн отмечают, что эта надпись была написана на трех языках: по-гречески, по-латыни и по-еврейски. Два евангелиста — Лука-паулинист и Иоанн, автор «духовного» евангелия — усматривают в этом факте предзнаменование того, что учение Иисуса, псевдоиудейского царя, распространится далеко за пределы царства иудейского, в греко-римском мире. Наконец, евангелист Иоанн формулирует надпись так: «Иисус Назорей, Царь Иудейский», и этой формулой он Достиг того, что насмешка, содержавшаяся в надписи, обратилась на самих же иудеев и не затронула христианства. При этом Иоанн отмечает, что иудеи (первосвященники) обиделись за эту надпись на Пилата, который сам ее придумал; они просили его написать не «Царь Иудейский», а слова: «Он говорил: Я Царь Иудейский». Но Пилат их просьбы не исполнил и оставил прежний текст надписи, говоря: «Что я написал, то написал». Таким образом, эта надпись наводила на ту мысль, что иудеи распяли на кресте своего же собственного царя и что поэтому распятый Иисус был не царем иудейским, а сыном Божиим и спасителем всего мира, каковым ею и признавали христиане наиболее сознательные, христиане Иоаннова «посвящения».
Затем Матфей и Марк под конец рассказа, а Лука и Иоанн при начале рассказа сообщают, что вместе с Иисусом были распяты два других «злодея» (или «разбойника», по квалификации двух первых евангелистов) и что Иисус был распят между ними (Мф. 27:38; Мк.15:27; Лк. 23:33; Ин. 19:18). При этом Марк отмечает, что так «сбылось слово Писания: и к злодеям причтен» (Ис. 53:12). По свидетельству Луки (22:37), Иисус уже на последней вечере сам будто бы указывал, что это прорицание исполнятся на нём и что он будет скоро взят под стражу. Марк (или автор, приписавший к его евангелию данный стих, ибо аутентичность последнего весьма сомнительна) усматривал в упомянутом пророчестве указание на то, что Иисус будет распят между двух «злодеев». Но такое толкование произвольно, и потому отмеченную деталь (распятие Иисуса между двух злодеев) евангелист, вероятно, взял не из ветхозаветного пророчества, а из какого-нибудь исторического сообщения, облюбованного им за его «пророческий» характер. Означенная деталь была использована всеми евангелистами, но каждым вполне своеобразно. Матфей и Марк говорят, что оба разбойника, распятые по правую и по левую сторону возле Иисуса, тоже «поносили его». Но у Луки слух был несравненно тоньше, и потому он явственно расслышал, что только один из «злодеев» действительно «злословил» по адресу Иисуса и говорил ему насмешливо: «Если Ты Христос, спаси Себя и нас» (23:39); но другой из «повешенных» злодеев, по свидетельству Луки, «унимал» и усовещал своего товарища и затем «сказал Иисусу (признав его Мессией): „Помяни меня, Господи, когда приидешь во Царствие Твое“» (23:42). Разумеется, вполне невероятно, чтобы грубый и невежественный «злодей», никогда не видевший Иисуса и не слыхавший его проповеди, мгновенно уразумел сущность того учения о страждущем и умирающем Мессии, которое так долго и так тщетно Иисус старался выяснить и внушить своим приближенным ученикам. Но мы понимаем, что побудило третьего евангелиста (или того, кто инспирировал его) развить этот эпизод с распятыми «злодеями» в вышеуказанном направлении. Вульгарное «злословие» распятого злодея доводило тот позор, которому подвергся распятый Мессия, до наивысшей степени, но евангелист пожелал обратить этот позор в источник вящей славы для Мессии-Иисуса, и подобное желание было вполне естественно в таком евангелисте, который, как Лука, всегда подчеркивал дружелюбное и сострадательное отношение Иисуса ко всяким грешникам вообще. Что распятый злодей раскаялся и уверовал во Христа, тогда как самодовольные первосвященник и старейшины иудейские продолжали коснеть в неверии и нечестии, — такой контраст соответствовал идее притчи Иисуса о блудном сыне и духу рассказа о грешнице, помазавшей Иисуса миром. Поэтому третий евангелист, в подражание традиционному рассказу, предоставил одному из злодеев «злословить» и высмеивать Иисуса и, противопоставив этому нечестивому злодею раскаявшегося, верующего и Христом прощенного грешника, получил в итоге весьма эффектный и знаменательный контраст. Швеглер предполагает, что в образе злодея Лука хотел представить неодинаково относившихся к христианству иудеев и язычников и олицетворить упрямое неверие первых и покаянную и искреннюю веру последних. Но эта остроумная догадка принадлежит к числу таких гипотез, которые не скоро забываются, но вместе с тем не представляются и положительным научным приобретением.
§93. Изречения распятого
Ответ Иисуса на слова раскаявшегося злодея является одним из крестовых изречений распятого Христа, коих в евангелиях, по традиции, насчитывают семь. Но семь изречений мы получаем лишь в том случае, если подсчитаем их по всем четырем евангелиям вместе, а в каждом отдельном евангелии мы их насчитываем меньше; например, Матфей и Марк отмечают каждый лишь одно, и притом одно и то же изречение; Лука приводит три изречения, притом другие, а Иоанн отмечает тоже три изречения и опять такие, которых не приводят его предшественники. И если бы нам удалось теперь опросить евангелистов, то неизвестно, что сказали бы два первых евангелиста о крестных изречениях Иисуса, приведенных в третьем и четвертом евангелии, но, без сомнения, Лука и в особенности Иоанн стали бы протестовать против того изречения, которое распятому Христу приписали два первых евангелиста. Изречение это гласит: «Боже Мой, Боже Мой! для чего Ты Меня оставил?» Это изречение оба евангелиста приводят на арамейском языке (Или, Или! лама савахвани!), чтобы разъяснить недоразумение, которое, по их словам, возбудило выражение «Или» (Боже Мой): присутствующие вообразили, что Иисус призывает Илию-пророка (Мф. 27:47; Мк. 15:34). Как известно, с таких же слов начинается 21-й псалом, и потому вполне естественно, что первые два евангелиста приписали Иисусу произнесение того псалма, пророчества которого исполнились на нём, распятом и страждущем Мессии, и в котором выражалась скорбь, ныне овладевшая самим Иисусом. Так представлялось дело двум первым евангелистам, которые в означенном восклицании Иисуса усмотрели лишь цитату из псалма. Но обращаясь к Иисусу и к тому душевному настроению, которое высказывалось в упомянутом восклицании его, следует заметить, что если у Иисуса такое восклицание действительно вырвалось из уст, то, стало быть, Иисусом овладело такое чувство богооставленности, какое несовместимо с церковным представлением о Богочеловеке-Иисусе и которое мы не решаемся приписать тому высокоразвитому в духовном и моральном отношении человеку, каким нам представляется Иисус. Это значило бы признать, что Иисус в минуту тяжкого страдания усомнился в деле, им предпринятом, и в учении, им созданном, тогда как участь, постигшая его, должна была убедить его, что именно благодаря страданиям, добровольно принятым им на себя и заранее им предвиденным, дело его в конце концов восторжествует. Даже уже третьему евангелисту, имевшему сравнительно высокое представление о Христе, вышеуказанное изречение Иисуса не понравилось, и, быть может, он для того и подчеркнул душевное борение Иисуса в Гефсимании, чтобы читатель убедился, что уже тогда Иисус совершенно отрешился от всяких слабостей и потому мог обнаружить полное величие и самообладание впоследствии. Наоборот, четвертому евангелисту не понравилась даже сцена Гефсиманская; он полагал, что потрясение душевное, не расходившееся ни на минуту с верой в Бога, только и можно было допустить относительно Христа-Логоса, но чувства отчаяния и покинутости он отнюдь не допускал в Иисусе.
Третий евангелист свидетельствует, что Иисус даже в минуту тяжкого страдания сохранял полное самообладание и не только продолжал сочувствовать другим людям, но даже пожалел виновников его страданий. Поэтому он сообщает, что Иисус в момент пригвождения ко кресту говорил: «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (23:34). Это изречение согласовалось не только с заповедью Иисуса о любви к врагам, но и с той всепрощающей и всеобъемлющей любовью, которая характеризует Иисуса. Но разумеется, евангелист и в данном случае не преминул показать, что Иисус исполнил пророчество Исайи о том, что «слуга Иеговы», сопричисленный к злодеям, воспринял на себя грехи многих и «за преступников сделался ходатаем» (Ис. 53:12). Такое же самообладание сказалось и во втором изречении распятого Иисуса, который, по словам Луки, ответил раскаявшемуся злодею: «Истинно говорю тебе, ныне же (то есть раньше наступления мессианского царства) ты будешь со Мною в раю» (23:43). В третьем (последнем) изречении Иисус говорит уже о самом себе, но и тут он выражает не отчаяние и малодушие, а непоколебимую надежду и покорность воле Божией; а именно перед кончиной он сказал: «Отче! в руки Твои предаю дух Мой» (23:46). Такое же изречение и моление за врагов-злодеев Лука приписал еще Стефану, который, по его словам, всегда подражал Иисусу (Деян. 7:58–60). Но приведенные слова взяты из псалма 31 (6) и цитированы (по греческому переводу) с буквальной точностью.
Четвертый евангелист воспользовался изречением, которое привел Лука, как формулой для констатирования кончины Иисуса; он говорит, что Иисус, преклонив главу, «предал дух» (в руки Бога-Отца), сказав перед тем: «Свершилось» (19:30). Это восклицание («свершилось»), по рассказу Иоанна, было последним словом умирающего Иисуса, а потому и «предание духа» евангелисту приходилось формулировать иначе, чем Луке, но почему то восклицание было последним словом Иисуса? Уже и предпоследнее крестное восклицание Иисуса («жажду») четвертый евангелист сопроводил замечанием, что «жажду» Иисус сказал, «зная, что уже всё свершилось, да сбудется Писание», то есть пророчество о жажде и поении уксусом (19:28–30). Следовательно, Иоанн хотел устами умирающего Иисуса высказать, с одной стороны, что дело Иисуса, возвещенное в его первосвященническом молении (17:4), теперь осуществилось и завершилось и, с другой стороны, что все пророчества о Мессии действительно исполнились на Иисусе. Возможно, впрочем, что относительно последнего Иоанн исходил из свидетельства Луки, который заявляет, что Иисус, идя на гору Елеонскую, говорил, что тотчас должно исполниться на нём пророчество Исайи (53:12) о сопричислении его к злодеям, а также и другие о нём написанные пророчества (22:37). Но такое указание на исполнение пророчеств, содержащихся в Святом Писании, у Иоанна имеет не тот смысл, что у Матфея. Иоанн усматривает в исполнении пророчеств Иисусом завершение его дела, решение проблемы вочеловечившегося Логоса, конец земной жизни Иисуса-Логоса и начало его славы, смену его ограниченной человеческой деятельности работой ниспосланного свыше духа — параклита.
Рассмотренные нами изречения Иисуса, приведенные Иоанном, стоят в связи с такими обстоятельствами, которые отмечаются также и прочими евангелистами, но третье (или, хронологически, первое) изречение относится к такому моменту, которого не отметил никто из прочих евангелистов. По свидетельству Матфея (27:55) и Марка (15:40), при распятии Иисуса «были и смотрели издали» лишь женщины, которые последовали за Иисусом из Галилеи, «служа Ему», и в том числе Мария Магдалина, Мария — мать Иакова и Иосии и мать сыновей Зеведеевых, или, по свидетельству Марка, Саломия. Относительно 12 апостолов евангелисты, видимо, предполагали, что они при взятии под стражу Иисуса разбежались и не собрались вновь ко времени распятия Иисуса, ибо даже о Петре они сообщали, что он тайком, то есть робко, прокрался во двор первосвященника. Лука заявляет, что на распятие Иисуса смотрели издали все знавшие его, а также женщины, последовавшие за ним из Галилеи (23:49); и в числе этих «всех», знавших Иисуса, очевидно, следует подразумевать также 12 апостолов, но последние, как и женщины, стояли «вдали и (робко) смотрели» на распятие Иисуса. Наоборот, четвертый евангелист сообщает, что при кресте Иисуса стояли: матерь его Мария, сестра ее — Мария Клеопова и Мария Магдалина, а также ученик, которого любил Иисус. Следовательно, мать сыновей Зеведеевых отсутствовала, а из всех учеников Иисуса на распятие явился только «любимый» ученик, и перечисленные им женщины стояли не вдали, а «при кресте Иисуса», то есть так близко от распятого, что ему можно было беседовать с ними. Не зная даже содержания беседы, мы можем уже догадаться, что тонко задуманный рассказ евангелиста сведется к личности «любимого» ученика Иисуса, которого евангелист признал патроном-вдохновителем своего евангелия. Беседа Иисуса состояла в том, что «любимого» ученика он нарек сыном своей матери (сказав ей: «Жено! се, сын Твой»), а матери наказал смотреть на него, как на сына (сказав ученику-любимцу: «Се, Матерь твоя»), и с этого времени ученик сей, по словам евангелиста, «взял Ее к себе» (19:27). Но в Деяниях апостолов (1:14) говорится, что после смерти Иисуса матерь его «с некоторыми» женщинами и братьями Иисуса вступила в общину оставшихся 11 апостолов. Известно, что из апостолов выдавался Петр, а из братьев Иисуса — Иаков, и если к этим двум мужам присоединился еще Иоанн (Гал. 2:9), то в этом триумвирате, отмеченном и в синоптических евангелиях, он занимал лишь третье, а не первое место. Но в данном рассказе четвертого евангелиста Иоанн, «любимый» ученик Иисуса, является не только первым, но и единственным учеником, которого сам Иисус признал в вышеприведенной крестной беседе человеком, близким себе и своей матери. Провозглашая его сыном своей матери вместо себя, Иисус ставит его выше всех апостолов и даже выше первоапостола Петра и, по справедливому замечанию Баура, провозглашает его братом своим, братом Господа, притом братом по духу, с коим не может быть сравнен его брат по плоти, Иаков, столь чуждый и далекий Иисусу в духовном смысле. Впрочем, настоящий рассказ четвертого евангелиста, подобно некоторым иным его рассказам, является не оригинальным произведением, а переделкой синоптического рассказа. Когда Иисусу однажды доложили, что пришла к нему его матерь с братьями, Иисус воскликнул: «Кто матерь Моя и кто братья Мои?» и затем, указав рукой на учеников своих, сказал: «Вот матерь Моя и братья Мои» (Мф. 12:49; Мк. 3:34). Этот прототип сказался и в Иоанновых изречениях Иисуса: «се, сын Твой» и «се, Матерь твоя». Разница лишь в том, что в данном случае в братские отношения Иисус становится не ко всем ученикам, а лишь к «любимому» ученику своему.
§94. Чудеса, совершившиеся при кончине Иисуса
По свидетельству синоптиков (Мф. 27:45; Мк. 15:33; Лк. 23:44), в шестой час, то есть в полдень (ибо иудеи вели счет часов с рассвета), наступила «по всей земле» тьма, которая продолжалась до девятого часа, то есть до трех часов пополудни. При этом Марк сообщает, что к тому времени Иисус успел уже провисеть на кресте три часа, ибо, по его словам, распят Иисус был в третьем часу, то есть в девятом часу утра. Матфей и Лука тоже заявляют, что при наступлении тьмы Иисус уже висел на кресте, но сколько времени, они не говорят.
Лука удостоверяет, что то было солнечное затмение («померкло солнце»), но это затмение, случившееся в период пасхального полнолуния, не было естественным явлением природы; оно было чудом, о чём свидетельствует также замечание всех евангелистов, что тьма наступила «по всей земле». Как появление на свет Иисуса было отмечено необычайным явлением природы, так и кончина его должна была повергнуть всю природу в печаль и скорбь — так полагали люди той эпохи вообще. По словам легенды, солнце опечалилось и облеклось в траур также по случаю умерщвления Цезаря и кончины Августа. Правда, историки нам сообщают, что ко времени убийства Цезаря солнце померкло потому, что в гот год вообще замечалась какая-то мгла[243], и, стало быть, вполне естественное явление природы было использовано в данном случае в интересах суеверия и лести, но скоро в воображении народа оно превратилось в настоящее затмение солнца, случившееся будто бы в тот день и час, когда убит был Цезарь, как и «тьма», которая, по словам синоптиков-евангелистов, объяла всю землю, наступила в день и час распятия Иисуса. Новейшие теологи восхваляют четвертого евангелиста за то, что он не «пичкал» своих читателей чудесами волшебного характера; действительно, его воззрениям и чувствам претили чисто внешние, грубочувственные и, стало быть, «естественные» явления чудесного характера, но в целях прославления кончины Иисуса он решил прибегнуть к некоторым специфическим средствам, степень назидательности которых выяснится ниже.
Итак, «тьма» продолжалась на земле три часа, потом около 9-го часа Иисус, по словам Матфея и Марка, стал жаловаться громко, что Бог его «оставил», и затем, когда он был напоен уксусом, он, возопив еще раз громким голосом, «испустил дух», то есть умер (Мф. 27:46–50; Мк. 15:34–37; Лк. 23:46). После того, по словам Матфея, «земля отряслась», что, по словам легенды, случилось также в момент смерти Цезаря одновременно с солнечным затмением; но затем, по словам синоптиков, случилось нечто совершенно необычное: «завеса в храме (то есть, вероятно, та завеса, которая отделяла „святая святых“ от „святилища“) разорвалась надвое сверху донизу» (Мф. 27:51; Мк. 15:38; Лк. 23:45). В легендах той эпохи грядущее несчастье или бедствие часто предвещалось тем, что замкнутые двери внезапно раскрывались сами собою; по словам легенды, таким знамением была предвозвещена смерть Цезаря, Клавдия, Нерона, Веспасиана, и даже разрушение храма Иерусалимского.[244] Легенда говорит, что Кальпурния в ночь перед умерщвлением супруга своего увидела во сне, что обвалилась кровля дома; так и в еврейском евангелии говорится, что при кончине Иисуса не завеса в храме разорвалась, а обвалился косяк над вратами храма. Разрыв завесы в храме, по изъяснению Климентовых «Гомилий», означал скорбь храма по поводу грядущего разрушения его; но то обстоятельство, что скорбь эту проявляет именно завеса, приводит нас к иного рода соображениям. Уже апостол Павел (2 Кор. 3:13) находил, что Христос снял покрывало, которое лежало на делах Господних в период безраздельного господства ветхозаветной Моисеевой религии, что христиане действуют не так, как Моисей, который «полагал покрывало на лице свое, чтобы сыны Израилевы не взирали на конец преходящего». Ту же идею высказывает автор Послания к евреям, говоря о завесе храма (6:19; 9:1–12; 10:19): по Закону Моисеевой религии, в «святилище» имели доступ лишь священники, а в «святая святых», отделенное завесой, мог входить лишь первосвященник, притом только один раз в год и с жертвенною кровью, а Христос раз и навсегда вошел в святилище небесное — не с кровью козлов и тельцов, а со своей собственной кровью, и, став предтечей христиан, открыл и им свободный доступ в небесное «святая святых». Как видно, Послание к евреям не считалось вовсе с вышеотмеченным евангельским рассказом: если бы автору Послания был известен евангельский рассказ о разорвавшейся завесе храма, то он, вероятно, не преминул бы использовать его для иллюстрации своих рассуждений. С другой стороны, нельзя и думать, что евангельский рассказ подсказан или внушен был рассуждениями автора Послания к евреям, но, сопоставляя слова его и Павла, мы видим, как рассуждали древнейшие христиане, выросшие на идеях иудаизма, и как из совмещения идей христианских и иудаистских создался вышеуказанный евангельский рассказ.
Столь жадный до чудес евангелист Матфей не ограничивается вышеотмеченными чудесными происшествиями (тьма, землетрясение, разрыв завесы). Заявив, что при кончине Иисуса «потряслась земля», он добавляет, что при этом «камни расселись» (27:51), как во время бури, когда Иегова на горе Хорив приходил перед Илией (3 Цар. 19:11). Но в данном случае замечание о рассевшихся камнях, по-видимому, сделано евангелистом лишь для того, чтобы в дальнейшем изложении отметить главное событие, именно, что при кончине Иисуса отверзлись гробы и «многие тела усопших святых воскресли» и что после воскресения Иисуса они «вошли во святый град и явились многим» (27:52, 53). Выше уже было сказано, что повествованиями о воскрешении умерших наши евангелисты хотели уверить христиан, что Иисус, не совершивший мессианского воскрешения всех умерших в период своей земной жизни, наверно, совершит таковое при своем втором пришествии. Выше мы указывали также и на то, что это евангельское заверение не достигало цели, ибо лица, которых воскресил из мертвых Иисус в период своей земной жизни, воскресали только для того, чтобы, прожив еще немного на земле, вторично умереть, тогда как Мессии надлежало воскресить умерших для бессмертия, для вечной, а не временной жизни, с преображенным или просветленным телом; кроме того, число лиц, воскрешенных Иисусом, было слишком незначительно в сравнении со множеством тех воскрешений, которые надлежало совершить Мессии. Чтобы исправить этот промах, приходилось создавать такое происшествие, чтобы из гробов сразу «восстали многие из святых усопших» и чтобы они оказались не простыми смертными людьми, а «святыми». Такое воскрешение соответствовало как иудейским, так и древнехристианским упованиям: при появлении Мессии, по представлению иудейского народа, должны были воскреснуть сперва немногие, самые благочестивые израильтяне, чтобы участвовать в благах и радостях тысячелетнего Царствия Мессии, а потом, по окончании этого периода, должна была предстать на Божий суд вся остальная масса добрых и злых людей. Правда, по представлению христиан (Откр. 20:4), воскресение усопших праведников тоже должно было состояться при втором пришествии Христа; однако для вящего укрепления веры в христианах всё-таки казалось целесообразным изобразить некий пролог такого воскресения и отнести его к периоду земной жизни Иисуса. Такой пролог можно было приурочить удобнее всего либо к моменту смерти Иисуса, либо к моменту его воскресения, ибо Христос окончательно «попрал», победил смерть и гроб тогда, когда он сам воскрес из мертвых; но чтобы воскреснуть, ему надлежало умереть. Поэтому Матфей решил эту проблему надвое, то есть компромиссом. По его словам, гробы отверзлись и многие усопшие святые воскресли в момент кончины Иисуса, когда потряслась земля и расселись камни, но вышли из гробов и явились в Иерусалим эти воскресшие святые лишь позднее, после воскресения Иисуса, так как Иисусу всё же надлежало быть «первенцем из мертвых» (Кол. 1:18; Апок. 1:5), то есть воскреснуть первым из умерших (1 Кор. 15:20).
Какую мысль хотела выразить древнехристианская легенда всеми отмеченными чудесами и знамениями, приуроченными ею к смерти Иисуса, это мы можем уразуметь из впечатления, какое чудеса эти произвели на окружающих людей. Наиболее беспристрастными свидетелями являлись в данном случае простые исполнители смертного приговора над Иисусом, то есть римские воины с сотником их во главе; эти люди, будучи язычниками, не могли питать предубеждений против Иисуса, подобно иудеям, а потому Матфей и сообщает, что сотник и те, которые с ним стерегли Иисуса, видя землетрясение и всё бывшее, «устрашились весьма и говорили: воистину Он (Иисус) был Сын Божий» (27:54). Лука о землетрясении не упоминает; он отмечает только разрыв завесы и последний громкий возглас умирающего Иисуса («Отче, в руки Твои предаю дух Мой»), но Лука тоже заявляет, что сотник, увидев происходившее, прославил Бога и сказал: «Истинно человек этот был праведник» (23:47). В рассказе Марка (15:37, 39) говорится, что Иисус испустил дух, громко возгласив, что при этом разорвалась завеса в храме и что сотник, увидев кончину Иисуса, сказал: «Истинно Человек Сей был Сын Божий». Странным представляется здесь то, что сотник признал Иисуса сыном Божиим (как у Матфея) только потому, что увидел, как Иисус, возгласив громко (что?), испустил дух. Трудно решить, что думал Марк при этом: хотел ли он сказать, что исхождение из Иисуса божественного мессианского «духа» сопровождалось громким возгласом, как громким криком ознаменовалось исхождение злого духа из исцеленных Иисусом бесноватых, или он хотел сказать, что громкий возглас Иисуса, так поразивший сотника, вкупе с той преждевременной кончиной Иисуса, которая, по свидетельству Луки, так «удивила» прокуратора Пилата, был признаком того, что Иисус преждевременно и, стало быть, добровольно покончил счеты с земной жизнью. Из тех чудесных знамений, которыми Матфей обставил кончину Иисуса, Лука (как и Марк) отмечает только тьму и разрыв храмовой завесы, но утверждает, что даже эти факты произвели потрясающее впечатление на присутствующих, так что язычник — сотник римский «прославил Бога» и признал Иисуса «праведником», и весь народ иудейский, присутствовавший при распятии Иисуса, возвращаясь, «бил себя в грудь», то есть почувствовал и изъявил угрызения совести.
§95. Прободение копьем
О вышеуказанных — субъективных и объективных — явлениях четвертый евангелист, как было уже сказано, умалчивает: они ему казались не то что ничтожными, а слишком внешними, экзотерическими по сравнению с тем, что он сам предполагал отметить (19:31–37). Возможно, впрочем, что и в данном случае он шел по следам Марка. Последний сообщает (15:43–45), что вечером того дня, когда был распят Иисус, Иосиф из Аримафеи явился к Пилату и стал просить у него тело умершего Иисуса, но Пилат удивился, что Иисус уже скончался, и выдал Иосифу тело Иисуса лишь тогда, когда опрошенный им сотник удостоверил, что Иисус действительно уже умер. Быть может, этим сообщением Марк хотел отметить, что Иисус скончался необычно, сверхъестественно, но возможно также и то, что Марк хотел лишь засвидетельствовать, что Иисус действительно скончался, если показание сотника казалось недостаточным: сам-де Пилат сначала тоже усомнился, умер ли Иисус до снятия его с креста, но затем принял все надлежащие меры к тому, чтобы удостовериться в действительной кончине Иисуса.
Евангелисты полагали, что в этих видах Пилат, вероятно, сделал что-нибудь с распятым Иисусом. Однако автор Апокалипсиса говорит (1:7), что Иисуса, «грядущего с облаками, узрить… всякое око и те, которые пронзили Его; и возрыдают пред ним все племена земные». Этим изречением пророчество Захарии (12:10) переносилось на Иисуса и распятие. Правда, в означенном пророчестве сказано, что пронзен был Иегова, и притом аллегорически, именно чувством скорби и огорчения, но автор Апокалипсиса часто приписывает наименование и свойства Иеговы Христу, и то, что в данном месте говорится о Иегове, он счел возможным отнести к страждущему Мессии. Говоря, что Иисус был «пронзен», автор Апокалипсиса, подобно всем синоптикам, не говорит, что он пронзен был в бок копьем, а разумеет, видимо, лишь то, что при распятии Иисуса пронзили руки (а может быть, и ноги) гвоздями. Однако это слово как в еврейском тексте Захарии, так и в греческом тексте Апокалипсиса могло иметь еще другой смысл; оно могло означать и прободение мечом или копьем. Если же слово это встречалось в изречении пророка, то лица, понимавшие пророчества буквально (а в том числе и автор четвертого евангелия, повествующий о дележе хитона и одежды Иисуса), могли подумать, что Иисус был пронзен не только в смысле пригвождения конечностей, но также в смысле прободения туловища копьем или мечом. Но предание гласило, что Иисус умер на кресте распятый, и если сверх того он был «пронзен», то, стало быть, он был пронзен уже мертвый и лишь затем, чтобы удостовериться в его кончине.
Но почему нужны были такие меры предосторожности? Почему же Иисуса не оставили висеть на кресте вместе с другими распятыми злодеями? По словам синоптиков, Иисус скончался скоро, и потому он мог быть снят с креста без промедления, а скоро ли умерли и были сняты с крестов оба разбойника, об этом синоптики умалчивают, считая это обстоятельство несущественным. По словам Марка, Иисус умер необычайно скоро, и, стало быть, он скончался ранее «злодеев»; поэтому четвертый евангелист прямо заявляет, что двое распятых вместе с Иисусом разбойников еще были живы. Но почему же их не оставили висеть на крестах дольше, хотя бы до следующего дня? А потому, что это нарушило бы закон Моисеев, который повелевал снимать повешенных перед закатом солнца (21:22–23) и который, по-видимому, соблюдался также римлянами в обычное время. В данном случае приходилось считаться еще с тем обстоятельством, что следующий день был днем субботним и, по хронологии евангелиста Иоанна, днем особенно великим, — первым Днем пасхальных праздников (а не вторым, как утверждают синоптики). Но если разбойники живы были вечером, то это обстоятельство могло заставить принять какие-либо меры для ускорения их смерти, а если стража с этой целью прибегла к прободению копьем, то в видах предосторожности она могла пронзить копьем и Иисуса, и, таким образом, получалось то, что на Иисусе исполнялось пророчество Захарии и вместе с тем ускорялась и удостоверялась его смерть.
Но хотя тело Иисуса было «пронзено», однако кости его голеней не были перебиты, ибо пронзенный Иисус был агнцем Божиим, а убиенный Иисус был тем пасхальным агнцем, кости которого Закон Моисеев запрещал «сокрушать» (Исх. 12:46). Поэтому синоптики свидетельствуют, что голени Иисуса не были преломлены. Но зачем же было свидетельствовать об этом, если бы Иисусу, агнцу пасхальному, не грозила опасность преломления голеней, отвращенная от него лишь по особому распоряжению? Опасность эта ему действительно грозила, если у распятых разбойников приходилось перебить голени, чтобы к вечеру их можно было снять с крестов, а у них голени, вероятно, были перебиты дубиной, как то делали римляне, когда казнили своих рабов, чтобы вызвать омертвение конечностей и верную, хотя и не мгновенную смерть. Что этой процедуре не подвергся Иисус, евангелисты объясняют тем, что воины «увидели его уже умершим» на кресте. Но если воины не были уверены, что умерли уже распятые разбойники, то почему же они не перебили заодно голеней у Иисуса? Быть может, потому, что их убедил наружный вид распятого Иисуса, а может быть, и потому, что проще было пронзить его копьем, чем преломлять ему голени. Как бы то ни было, но догматическая цель евангелистов была достигнута, и их рассказ удостоверял, что Иисус был по писанию пронзен и «сокрушению костей» не подвергался.
Итак, один из воинов копьем пронзил ребра (бок) умершему на кресте Иисусу, и что же получилось? Из раны тотчас «истекла кровь и вода». Но всякий сведущий человек, не обинуясь, удостоверит, что этого быть не могло. Если кровь в теле Иисуса еще не успела свернуться, так как Иисус был еще жив или недавно только умер, то могла истечь из раны только кровь; если кровь уже свернулась, то из раны истечь ничего не могло. Если же копье пронзило околосердечную сумку и из нее «вода» стала изливаться наружу, а не внутрь грудной полости, то она должна была бы перемешаться с кровью. Но четвертый евангелист уверяет, что он сам видел, как истекали «кровь и вода» из раны (19:35). Правда, он говорит это не прямо от своего лица, он заявляет: «Видевший засвидетельствовал, и истинно свидетельство его, он знает, что говорит истину». Но под «ним» евангелист разумеет «любимого» ученика — апостола, который присутствовал при распятии Иисуса и стоял подле креста его. Он же в качестве автора Апокалипсиса (1:7) удостоверяет, что Иисус был «пронзен», но так как он, по собственному признанию (Апок. 1:2), свидетельствовал то, что видел (а в данном случае он видел видения пророческие), поэтому евангелист предположил, что он видел и прободение копьем, и истечение из раны «крови и воды». Но, как мы знаем, четвертый евангелист по духу был «любимым» учеником Иисуса и автором Откровения; что последний видел телесными глазами, то первый видел духовным, умственным оком или, вернее, он воображал, что то, что он видит духовными очами, апостол Иоанн узрел телесными глазами. Пророчество гласило: «Они воззрят на Него, которого пронзили», и этому пророчеству надлежало так или иначе исполниться. Они узрят, что пронзили не простого человека, а сына Божия (воплотившийся Логос), и узрят они это по результатам прободения, по истекающим из раны «крови и воде». Если бы из раны истекла лишь кровь, то пронзенный оказался бы простым человеком, поэтому необходимо было заявить, что из раны истекло еще что-то; но это «что-то» могло быть только тем, что смерть Иисуса должна была даровать его последователям, — воплощенным, зримым духом. Но зримым символом духа была вода: «Кто не родится от воды и Духа, не может войти в Царствие Божие» (Ин. 3:5); кто уверует в Иисуса, у того «из чрева потекут реки воды живой», и, по изъяснению евангелиста, «сие сказал Он (Иисус) о Духе, которого имели принять верующие», когда он прославится (Ин. 7:38–39). Следовательно, «истечение» или сошествие Святого Духа, приобщение к новой религиозной жизни, обусловленное смертью Иисуса, вот что четвертый евангелист усматривал духовными очами в «крови и воде», истекавшей из раны Иисуса. Быть может, он сверх того усматривал в этом истечении «крови и воды» и положительное доказательство того, что Иисус умер действительно. Но этой стороной дела он во всяком случае дорожил меньше, чем символическим значением его. Он вообще способен был принимать одно за другое и видеть глубокую «идею» в самых разнородных отношениях, и потому весьма возможно, что, подобно автору первого послания Иоанна (5:6) и Аполлинарису, он с представлением о «воде и крови» связывал еще и представление о двух христианских таинствах — крещении и причащении, а таинство причащения наводило его на мысль об обычае примешивать воду к вину для святых даров.
В этом эпизоде очень рельефно обрисовывается оригинальная фигура четвертого евангелиста. Он, несомненно, любит вникать в сокровенное, глубокое, духовное, но не способен всецело отрешиться от внешнего и чувственного; мы удивляемся его глубокомыслию, но часто оно переходит в сумасбродство. У первых трех евангелистов мы находим рассказ о том, как при кончине Мессии померкло солнце, потряслась земля, отверзлись гробы, разорвалась завеса в храме, и хотя рассказы эти нам представляются сказками или легендами, но они нас завлекают и вызывают в нас то «настроение», которое их некогда и породило; а четвертому евангелисту они представляются ничтожными пустяками по сравнению с его собственным измышлением о том, что из раны умершего Иисуса истекли «кровь и вода». Но если только эту мысль в нём порождала кончина Иисуса, если он в рассказанном им чуде видел глубочайшую мистерию христианства и в подтверждение его ссылается на Моисея и пророков, на свидетельство апостола очевидца и на полную достоверность этого свидетельства, то мы отказываемся понимать подобный строй воззрений, нелепый и непостижимый.
Рассказ евангелиста Иоанна о прободении копьем распятого Иисуса представляется неисторической припиской еще и потому, что он не предусматривается и даже исключается синоптическими евангелиями. Ни в одном из синоптических рассказов воскресший Иисус не показывает ученикам пораненного бока, что отмечается лишь в четвертом евангелии (20:20). Мало того, только еще у Луки воскресший Иисус показывает ученикам свои руки и ноги, но и при этом ничего не говорится о язвах, а Матфей, отметив кончину Иисуса, продолжает рассказ в таком тоне, что можно подумать, что Иисус, скончавшись, продолжал висеть на кресте до вечера, когда был снят с креста Иосифом Аримафейским. Тут может показаться, что евангелист только умолчал о факте, не думая отрицать его. Но дело обстоит иначе у Луки и Марка. По словам Иоанна, Пилат, по требованию иудеев, велел перебить голени у распятых и затем снял их с крестов. Если поэтому Иосиф Аримафейский явился уже после того, то труп Иисуса он должен был увидеть уже снятым. Но Марк и Лука заявляют, что Иосиф сам снял с креста труп Иисуса (Лк. 23:53; Мк. 15:46). Следовательно, оба евангелиста ничего не ведали о приказании Пилата перебить голени у распятых и снять их с крестов. Марк сообщает, что Пилат удивился, когда услышал от Иосифа, что Иисус уже скончался, а потому он не сразу и исполнил просьбу Иосифа; но ведь Пилат не стал бы удивляться, если бы он перед тем действительно сам приказал перебить голени у распятых. Наконец, самим рассказом четвертого евангелиста исключается возможность перебить голени. Евангелист сам продолжает повествовать так, словно он ничего не сообщал о перебитии голеней, так, как продолжают повествовать синоптики, отметив кончину Иисуса. Он говорит: «После сего Иосиф из Аримафеи… просил Пилата, чтобы снять тело Иисуса; и Пилат позволил. Он пошел и снял тело Иисуса» (19:38). Стало быть, рассказ евангелиста можно понять в том смысле, что Пилат не отдавал раньше приказа снимать с креста распятых; следовательно, евангелист, вставив рассказ о перебитии голеней и прободении ребра Иисуса, вновь обратился к синоптическому повествованию, и поэтому весь предыдущий им рассказанный эпизод он сам придумал.
§96. Погребение Иисуса
Древнейшим христианам представлялось очень важным известие о том, что тело усопшего Иисуса было погребено благочестно. Уже апостол Павел говорит, со слов предания, что Иисус был погребен (1 Кор. 15:4), но этим сообщением он подготовляет слушателей к дальнейшим размышлениям о воскресении Иисуса и хочет лишь установить факт его погребения. Но погребение Иисуса в действительности могло быть совершено так, как того требовал обычай иудеев относительно преступников: труп казненного снимали с креста и зарывали в землю на особом кладбище для преступников. Но римляне, как известно, выдавали трупы казненных для погребения их родственникам, если последние о том просили. По словам евангелистов, в данном случае к Пилату обратился с подобной просьбой насчет трупа Иисуса «богатый человек из Аримафеи, именем Иосиф, который также учился у Иисуса» (Мф. 27:57; Мк. 15:43; Лк. 23:50; Ин. 19:38).
«Богатый человек» — такими словами начинается рассказ у старейшего евангелиста Матфея; а что богач этот «учился» у Иисуса, это он добавляет лишь предположительно. У Луки и Марка эпитет «богатый» человек заменяется эпитетом: «знаменитый член совета», а Иоанн лишь отмечает, что Иосиф Аримафейский был «тайным» учеником Иисуса, так как боялся иудеев. Но богатства евангелисты, вообще говоря, не ценили; почему же первый евангелист так очевидно подчеркнул богатство Иосифа Аримафейского? Да потому, что у этого богача оказался собственный «гроб», или склеп, который он высек себе в скале и в который он положил тело усопшего Мессии. Но в отношении «слуги Иеговы» в пророчестве Исаии тоже сказано: «Ему назначали гроб со злодеями, но он погребен у богатого» (Ис. 53:9). Христиане полагали, что прорицание о сопричислении к злодеям и нечестивцам (Ис. 53:12) уже исполнилось на Иисусе, когда он был пленен и распят на кресте (Лк. 22:37; Мк. 15:28), поэтому Иисуса можно было, по их мнению, похоронить в склепе богатого человека, но богач этот не мог быть нечестивцем, ему надлежало бояться Бога и веровать в Мессию. Но гроб богача должен был соответствовать не только зажиточности владельца, но и высокому предназначению своему. У Исаии по адресу одного именитого человека говорится (12:16): «Что у тебя здесь, и кто здесь у тебя, что ты здесь высекаешь себе гробницу? — Он высекает себе гробницу на возвышенности, вырубает в скале жилище себе». Это говорится укоризненно по адресу надменного человека; однако и о праведнике тот же Исаия говорит (33:16), что он обитает «на высотах» (или, по греческому переводу, в пещере, высеченной в скале). Поэтому богобоязненный богач мог высечь себе гроб в скале и на вопрос «что здесь у него?» мог с гордостью ответить, что у него в гробу покоится тело Мессии. Но ввиду священного предназначения своего гроб этот должен был быть гробом новым, чистым, неоскверненным посторонними трупами, как и осел, на котором въезжал Мессия в столицу Иудеи, не должен был быть ослом выезженным. Двое других синоптиков, как мы сказали, не отметили зажиточности Иосифа Аримафейского, предуказанной ветхозаветным пророчеством, и потому они не сообщают и того, что у него был собственный гроб, высеченный в скале (они заявляют, что Иосиф положил Иисуса в гроб, который был высечен в скале); но они, видимо, допускают, что гроб этот принадлежал Иосифу. Напротив, евангелист Иоанн принадлежность гроба Иосифу совершенно игнорирует; по его словам, гроб, в который положили Иисуса Иосиф и Никодим, был избран ими не потому, что он принадлежал Иосифу, а потому, что он находился близ лобного места, и положить тело Иисуса в ближайший к месту казни гроб пришлось им потому, что наступал праздник — день субботний (или «ради пятницы Иудейской», как выражается евангелист Иоанн). Таким образом, евангелист и в данном случае подтверждает, что с погребением Иисуса пришлось поспешить, чтобы еще раз мотивировать рассказ о перебитии голеней и прободении копьем.
Как поступил с трупом Иисуса Иосиф, когда он снял его с креста и собирался положить его в гроб, высеченный в скале? По словам трех первых евангелистов, он «обвил его плащаницей». При этом Матфей замечает, что плащаница была чистая, то есть новая, никем еще не употребленная, но у Матфея на этом дело и кончается: обвитого в плащаницу Иисуса, по словам евангелиста, Иосиф немедленно положил в своем «новом» гробу и удалился (27:59–61). Ни о каких других манипуляциях погребальных Матфей не ведает и не сообщает. Бальзамировать тело Иисуса не приходилось уже потому, что еще недавно на вечере вифанской Иисус уже был миропомазан женщиной и, по его собственным словам, тем самым уже был приуготовлен к погребению. Этот рассказ о вечере вифанской приведен также у Марка и Иоанна, но Лука сильно исказил этот эпизод и не выяснил его отношения к страданиям и смерти Иисуса, а потому при погребении Иисуса он вспомнил, что тело Иисуса еще не было набальзамировано. Но древнейшее предание, использованное Матфеем, не давало указаний на этот счет, потому Лука умалчивает, было ли действительно набальзамировано тело Иисуса при погребении; он только сообщает, что женщины, пришедшие из Галилеи с Иисусом, приготовили благовония и масти, ибо дело происходило в пятницу, а в субботу они «оставались в покое по заповеди», так что и бальзамирование могло состояться не ранее «первого дня недели» (Лк. 23:56–24:1). Но Марк не удовлетворился тем предварительным миропомазанием Иисуса, о котором он сам же рассказал со слов Матфея; он пожелал (подобно Луке) миропомазать Иисуса вторично, при погребении. По его словам, женщины купили ароматы (необходимые для помазания Иисуса) по прошествии субботы и весьма рано (при восходе солнца) в первый день недели пошли к гробу, чтобы, вероятно, там же приступить к бальзамировке (16:1–2); но, придя к гробу, они увидели, что Иисус уже воскрес, а потому и тело его не пришлось набальзамировать. Таким образом, из рассказа всех евангелистов-синоптиков следует, что тело Иисуса при погребении не было набальзамировано благочестно. Этого не мог стерпеть четвертый евангелист: предположенную его предшественниками бальзамировку он обратил в действительно совершенную бальзамировку, а тело Иисуса он не только облек в чистую плащаницу (как Матфей), но и «обвил пеленами с благовониями» (19:40). Мало того, к покупке благовоний он решил привлечь не одних лишь слабых женщин: для бальзамировки сына Божия, по его словам, понадобилось 100 литров благовонного состава «из смирны и алоя»; и разве женщинам было под силу нести такой большой груз благовоний, дело мог исполнить лишь мужчина, то есть сам Иосиф или его слуга. Но Иосиф был уже занят своим делом: он ходил к Пилату просить о выдаче тела Иисуса и затем снимал его с креста; поэтому евангелист решил вывести на сцену новое лицо Никодима, который тоже считался тайным учеником Иисуса (он «приходил к Иисусу ночью»), и евангелисту показалось вполне уместным вывести его на сцену, тем более что он и раньше появлялся у него в рассказе два раза в весьма почетных и знаменательных ролях (3:1; 7:50).
По свидетельству евангелистов, склеп или «гроб», в который было положено тело Иисуса, был высечен в скале, и вход в него завален был большим камнем. Матфей при этом просто замечает, что камень был «большой». У Марка женщины, пришедшие к гробу рано утром в первый день недели, совещаются, как отвалить им камень от дверей гроба. Стало быть, камень показался им весьма тяжелым. Но затем из дальнейшего рассказа Матфея видно (27:62–66), что к камню была приложена печать первосвященника, а у гроба приставлена была Пилатом стража по просьбе первосвященников и фарисеев. Дело в том, что у первых христиан скоро утвердилось верование, что Иисус воскрес и что гроб его уже на второй день после погребения оказался пустым. На это скептики из иудеев возражали, что гроб Иисуса опустел не потому, что Иисус воскрес из мертвых, а потому, что тело его выкрали из гроба его ученики. В противовес этим рассказам и изветам иудеев у христиан образовалась новая легенда. Им приходилось свою легенду оформить так, чтобы и похищение тела Иисуса представилось делом невозможным и чтобы выяснилось само возникновение клеветнических рассказов иудеев; христиане рассудили, что выкрасть тело Иисуса было немыслимо, если у гроба стояла стража. Таким образом, создался рассказ о том, что к Пилату, римскому прокуратору, приходили иудейские первосвященники и просили его приставить стражу у гроба Иисуса. Но зачем понадобилось им охранять гроб того, кого они уже убили? Первосвященники, явившиеся к Пилату, заявили: «Мы вспомнили, что обманщик тот (то есть казненный ими Иисус), еще будучи в живых, сказал: „После трех дней воскресну“.» Сами первосвященники этим словам «обманщика» не верили, но они опасались, что ученики его украдут тело его ночью и затем станут говорить народу, что Иисус воскрес, согласно собственному предсказанию. Стало быть, первосвященники «вспоминали» о таких речах Иисуса, о которых ученики его забыли или ничего не знали (ибо иначе они стали бы надеяться, что их учитель еще воскреснет). Следовательно, иудейские первосвященники предугадали, что впоследствии возникнет вера в воскресение Иисуса, хотя это немыслимо, и христианская легенда приписала иудейским первосвященникам предвидение не только позднейшего христианского верования, но и скептического отношения к нему. Однако Пилат исполняет просьбу первосвященников о представлении стражи ко гробу Иисуса и, кроме того, говорит им: «Пойдите, охраняйте (гроб), как знаете». Действительно, ведь стражу можно было подкупить или опоить и затем выкрасть из гроба тело «обманщика». Поэтому для верности первосвященники не только поставили у гроба стражу, но, кроме того, «приложили к камню печать». Так некогда царь Дарий «запечатал» тот львиный ров, в который был посажен им пророк Даниил, дабы убедиться, спасет ли его от смерти его Бог (Дан. 6:17). И разве проглоченный китом Иона и сверженный в ров львиный Даниил не могли служить ярким прообразом для Христа, заключенного в могильном склепе?
Так христианская легенда попыталась опровергнуть иудейскую легенду о похищении трупа Иисуса. Но как могла возникнуть эта иудейская легенда? Христианская легенда утверждала как факт несомненный, что В момент воскресения Иисуса с неба сошел, как молния, ангел, одежда которого была бела как снег, что этот лучезарный ангел отвалил камень от гроба Иисуса, причем «сделалось великое землетрясение», и что стражники, стоявшие у гроба, «пришли в трепет и стали как мертвые» (Мф. 28:2–4). Далее сообщалось (Мф. 28:11), что стражники, опомнившись от страха, явились в город и доложили первосвященникам обо всем случившемся. В действительности, первосвященники иудейские, вероятно, не поверили бы докладу стражников и стали бы настаивать на следствии, которое и выяснило бы всю правду, установив тот факт, что стражники спали или дали подкупить себя и позволили выкрасть из гроба тело Иисуса. Но первосвященники и старейшины поступили иначе: они дали много денег стражникам и велели им говорить, что ученики Иисуса ночью пришли и выкрали тело Иисуса, пока стражники спали (Мф. 28:12–14). Значит, первосвященники и старейшины иудейские поверили рассказу стражников о чудесном воскресении Иисуса как о факте и подкупили стражников, чтобы они скрыли правду и говорили ложь. Следовательно, в данном случае, как и раньше, христианская легенда приписала властям иудейским собственное верование христиан, но в то же время считала их «неверными», врагами Христа; стало быть, христианская легенда утверждала, что власти иудейские втайне уверовали в чудесное воскресение Иисуса, но не хотели признать его Мессией и продолжали бороться с ним. Так христиане попытались объяснить возникновение иудейской легенды, но это объяснение, разумеется, удовлетворяло только самих христиан, веривших своей легенде и не замечавших в ней противоречий.
Но эта христианская легенда очень стара, и что ее включил в евангелие один только Матфей, еще не доказывает, что Матфеево евангелие моложе или сказочнее, чем прочие евангелия; наоборот, это доказывает, что Матфей стоял гораздо ближе к месту и моменту возникновения легенды, чем другие евангелисты, писавшие позднее и за пределами Палестины и утратившие интерес к этой легенде. Впрочем, они, быть может, тоже использовали бы ее в своем рассказе, если бы тому не помешало одно обстоятельство — именно намерение женщин набальзамировать тело Иисуса по прошествии субботы. Если гроб Иисуса был запечатан по приказанию властей и охранялся римскими воинами и если женщинам всё это было известно (а это, без сомнения, было известно всем жителям Иерусалима, и в том числе знакомым и последователям Иисуса), то как они могли надеяться, что стража их пропустит в склеп для бальзамирования тела Иисуса? А если они всё-таки надеялись и даже уже приготовились исполнить это дело, то, значит, им никто в этом не препятствовал. Вероятно, по этим-то соображениям второй и третий евангелисты и умолчали в своем рассказе об охране и запечатании гроба, а четвертый евангелист не пожелал воспользоваться этим эпизодом, вероятно, потому, что не сочувствовал ему и его мотивам, хотя, по существу, и мог включить его в свой рассказ, так как, по его словам, тело Иисуса было набальзамировано уже в пятницу.
V группа мифов: Воскресение и вознесение Иисуса.
§97. Воскресение Иисуса
Уже в первой части нашего труда нам приходилось подробно говорить о воскресении Иисуса. Это событие имело огромное историческое значение, так как христианская община — церковь — едва ли сложилась бы, если бы христиане не уверовали в воскресение Христа. Вопрос о том, какова фактическая сторона этого события, каким образом сложилось верование в воскресение Иисуса среди его учеников, мы попытались разрешить отчасти на основании указаний новозаветных книг, отчасти же по аналогии со сходными явлениями человеческой психики. При этом нам пришлось упоминать как о суммарных показаниях апостола Павла, так и о некоторых деталях из рассказов евангелистов. Теперь нам остается лишь нагляднее представить постепенный рост данного мифа, показать, как все сказания о явлениях воскресшего Иисуса слагались в серию рассказов, в которых мнимое видение превращалось постепенно в осязательный, реальный факт и субъективное постепенно объектировалось. С этой целью мы рассмотрим в отдельности все рассказы евангелистов о воскресении Иисуса и начнем обзор свой с рассказа о том, как знакомые Иисуса приходили к его гробу утром в воскресенье, хотя рассказ этот (Мф. 28:1; Мк. 10:1; Лк. 24:1; Ин. 20:1) мог сложиться лишь тогда, когда уже существовали сказания о посмертных явлениях воскресшего Иисуса и христианам уже захотелось связать воедино и осмыслить эти сказания.
Итак, по свидетельству Матфея, на рассвете «первого дня недели» посмотреть на гроб Иисуса пошли Мария Магдалина и «другая» Мария (или, по свидетельству Марка, мать Иакова и Соломия). Но Матфей здесь сообщает как о том, что увидели у гроба обе Марии, так и о том, что произошло там перед их приходом, а именно «сделалось великое землетрясение» и сошел ангел с небес, как молния сверкающий, и отвалил камень от гроба, а стражники при гробе устрашились и стали как мертвые. Это последнее обстоятельство Матфей отмечает, очевидно, с той целью, чтобы показать, как и почему устранилось сопротивление стражников, о которых упоминает лишь Матфей и ничего не сообщают прочие евангелисты. Затем, когда вышеупомянутые женщины подошли к гробу, они увидели, как ангел сидел на камне. Он сказал им, что Иисуса в гробе нет, что он воскрес, а потом ангел велел им скорее сообщить об этом ученикам Иисуса и сказать им, чтобы они шли в Галилею, ибо там они увидят воскресшего Иисуса. Далее, когда женщины побежали «со страхом и радостью» обратно в город, им повстречался на дороге сам Иисус, и он, в свою очередь, велел им направить учеников в Галилею. Наконец, женщины, по-видимому, благоуспешно выполнили данное им поручение, и оставшиеся 11 апостолов, вероятно, отправились в Галилею, чтобы там увидеть Иисуса.
В отличие от Матфея, Лука сообщает, что женщины, подойдя ко гробу Иисуса, увидели камень отваленным и, вошедши в склеп, не нашли там тела Иисуса, но увидели двух ангелов в блистающих одеждах, которые им сообщили о воскресении Иисуса, но не велели (как у Матфея) звать учеников в Галилею на свидание с Иисусом. Это наиболее существенное отклонение Луки объясняется тем обстоятельством, что, по его свидетельству, воскресший Иисус являлся ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме и его окрестностях. Но Лука счел невозможным вовсе опустить Галилею в общеизвестной речи ангелов, и потому ангелы, по словам Луки, напомнили женщинам, что, когда Иисус «был еще в Галилее», он предсказал, что будет распят и на третий день воскреснет. Далее Лука, в отличие от Матфея, не сообщает, что Иисус явился (преждевременно) возвращавшимся от гроба в город женщинам; он не хотел напоминать о том, что утаил наказ Иисуса ученикам явиться в Галилею, и вместе с тем хотел рельефнее разграничить отдельные моменты: благовестие ангелов, передачу его через женщин ученикам, самоличное явление Иисуса. Поэтому он отмечает, что слова женщин, вернувшихся от гроба и рассказавших о виденном и слышанном ими, «показались апостолам пустыми, и (они) не поверили им», пока не убедились в справедливости известия о воскресении Иисуса, когда им самолично явился Иисус. Далее Лука не сообщает, что ученики, по переданному женщинами наказу, пошли в Галилею, ибо наказа такого они у Луки не получали, но зато Петр побежал к гробу, когда узнал от женщин весть о воскресении Иисуса, и там на месте убедился, что гроб действительно пуст и в нём лежали пелены. Увидев это, Петр, по свидетельству Луки, «удивился» — и только, ибо ученикам предстояло убедиться в воскресении Иисуса иным, более наглядным образом.
Марк в своем рассказе, по существу, копирует Матфея; он тоже заявляет, что ангел сообщил женщинам о воскресении Иисуса и велел им передать весть эту ученикам и наказать им явиться в Галилею. Но Марк умалчивает, что Иисус явился женщинам, и, кроме того, он отмечает (16:8), что на женщин слова ангела (неведомо почему) навели «трепет и ужас», и они не исполнили наказа ангела: «они никому ничего не сказали, потому что боялись» (неведомо чего и кого). Но затем вслед за этим сообщением Марк вдруг заявляет (16:9): «Воскресив рану в первый день недели, Иисус явился сперва Марии Магдалине». Евангелист как будто забывает, что только что сам сообщал уже о воскресении Иисуса и о том, что весть о воскресении Мария Магдалина вместе с прочими женщинами уже узнала от ангела. Доведя рассказ свой до середины, евангелист вдруг обрывает его и как бы начинает сначала. Но эта странность объясняется тем обстоятельством, что весь последующий заключительный текст Евангелия от Марка (16:9–20) отсутствует в двух главных списках и, видимо, отсутствовал также в других древнейших списках. Странно, что сохранился стих 8-й, хотя и в нём уже замечается вышеуказанное противоречие. В стихе 7-м ангел (как у Матфея) велит женщинам сказать ученикам, что они увидят Иисуса в Галилее, и можно было думать, что женщины (как у Матфея) радостно и охотно исполнят повеление ангела. Но если бы они исполнили его, то ученики (как у Матфея) пошли бы в Галилею, а, по предположению Марка, им этого не следовало делать, так как он (как и Лука) уверяет, что воскресший Иисус являлся ученикам не в Галилее, а в Иерусалиме и его окрестностях. Следовательно, женщины вдруг испугались и не исполнили наказа ангела (в стихе 8-м рассказа Марка) потому, что Марк сам круто повернулся от Матфея к Луке, и весь последующий рассказ (начиная со стиха 10-го) повел по рассказу Луки; только стих 9-й, в котором говорится о явлении Иисуса Марии Магдалине, по-видимому, взят из Евангелия от Иоанна (20:11–18). Этот факт нам показывает (если наше предположение о хронологическом соотношении обоих евангелий справедливо), что заключительный отдел Евангелия от Марка не аутентичен и представляет собой позднейшую приписку. Однако сообщение о том, что из Марии Магдалины, которой сперва явился Иисус, он изгнал семь бесов, взято не из Евангелия от Иоанна, а из Евангелия от Луки (8:2). То же следует заметить относительно сообщения о том, что ученики не поверили Марии Магдалине, когда она им рассказала о явлении воскресшего Иисуса, ибо в Евангелии от Иоанна об этом ничего не говорится, а Лука действительно сообщает (24:11), что слова женщин, вернувшихся от гроба Иисуса, апостолам «показались пустыми», и они не поверили им. Поэтому возможно, что явление Иисуса Марии Магдалине взято из Евангелия от Матфея, где тоже говорится, что Иисус явился сперва женщинам (Марии Магдалине и другой Марии), возвращавшимся от гроба в город. Но Марк приурочил явление Иисуса к личности одной Марии Магдалины, вероятно, потому, что то же значилось и в том источнике, которым он пользовался и из которого он, быть может, взял и вышеозначенное начало.
Из всех этих рассказов четвертый евангелист осмотрительно брал всё, что соответствовало его собственной точке зрения, и искусно развивал отобранное дальше. Уже Лука резко разграничивал отдельные моменты в распространении известия о воскресении Иисуса, а евангелист Иоанн в этом отношении пошел еще дальше. У Матфея женщины, подходя к гробу, видят снаружи ангела, сидящего на камне, отваленном от могилы (у Марка они находят ангела в самом склепе), а Лука заявляет, что женщины вошли в склеп и не нашли в гробу Иисуса и уже затем вдруг увидали двух ангелов, которые им объявили о воскресении Иисуса. Евангелист Иоанн разделяет последние два момента еще точнее. По его словам, Мария Магдалина в первый день недели пришла рано одна к гробу Иисуса и увидела, что камень отвален от гроба. Тогда она побежала обратно в город и стала жаловаться Петру, что гроб пуст, что «унесли Господа из гроба» неведомо куда. Затем Петр тоже пошел к гробу и, войдя в склеп, убедился, что в гробу лежали одни лишь пелены. Но Петр пошел к гробу не один, как и во двор первосвященника при пленении Иисуса он вошел не один: в данном случае, как и тогда, Петра сопровождал «любимый» ученик Иисуса (сам евангелист-апостол Иоанн). Впрочем, в рассказе третьего евангелиста тоже говорится о двух учениках-странниках: рассказав о том, как Петр пошел к гробу Иисуса, узнав от женщин о воскресении его, Лука затем рассказывает, как в тот же день двое учеников шли в Эммаус и на дороге им явился воскресший Иисус, которого они сначала не узнали (24:13–35). Марк тоже вкратце сообщает об этом происшествии и поясняет, что ученики не узнали Иисуса потому, что он явился им «в ином образе» (10:12). Ниже мы увидим, как четвертый евангелист развил эту деталь, а также и тот выговор, который Иисус сделал эммаусским ученикам за то, что, зная писания Моисея и пророков, они не уразумели, что в этих писаниях речь шла о страждущем Мессии.
Итак, Петр вместе с «другим» учеником пошел ко гробу, и описание этого шествия, завершающееся прославлением «другого», «любимого» ученика, нам показывает, как тонко рассчитал и продумал четвертый евангелист план своего труда. Оба ученика, Петр и «другой» («любимый») ученик Иисуса, побежали к гробу Иисуса, но «другой» ученик бежал скорее Петра и пришел к гробу первым. «Другой» ученик (как Петр у Луки), наклонясь к гробу, увидел лежащие в нём пелены, а Петр, пришедший вслед за ним, вошел в гроб (чего он у Луки не делал) и убедился, что в гробу лежат лишь пелены, а также плат, которым была повязана голова Иисуса и который лежал теперь в гробу не с пеленами вместе, а особо, «свитый на другом месте» (стало быть, в данном случае Петр превзошел «другого» ученика). Затем «другой» ученик тоже вошел в гроб. Но Петр ничего не выиграл от того, что первым вошел в гроб и раньше разглядел все мелочи в гробу: он не пришел к тому, к чему пришел «другой» ученик, который, по свидетельству евангелиста, войдя в гроб, «увидел и уверовал». Правда, вера, обоснованная и обусловленная виденным, не есть вера возвышенная, вера в высоком значении слова. Но такой веры вообще нельзя было и требовать тогда от учеников, которые, как эммаусские ученики Луки, «не разумели сказанного», не понимали того, что в Святом Писании уже были предвещены смерть и воскресение Христа как нечто необходимое и неотвратимое. Такую истинную веру ученикам мог внушить лишь Святой Дух, но сошествие Святого Духа последовало позднее, а «другой» ученик уже тогда, при осмотре гроба Иисуса, все понял и «уверовал» и этим он превзошел первоапостола Петра, а значит, в лице «другого» ученика духовное идейное христианство евангелиста Иоанна превзошло материалистичное плотское христианство Петра и его сторонников.
По словам четвертого евангелиста, Мария Магдалина, придя к гробу Иисуса, увидела, что в гробу нет тела Иисуса, и это открытие заставило ее поспешить обратно в город и рассказать об исчезновении тела Иисуса ученикам, которые затем и сами отправились к гробу в сопровождении Марии Магдалины. Как Петр у Луки и «другой» ученик у Иоанна, она, оставшись одна у гроба, заглядывает в склеп, не входя в него; но, подобно женщинам в рассказе Луки, она видит не одного, а двух ангелов у обоих концов гроба. У Луки ангелы начинают беседу с женщинами с вопроса: «Что вы ищете живого между мертвыми?», а у четвертого евангелиста ангелы сначала спрашивают плачущую Марию Магдалину: «Жена, что ты плачешь?» — а она им отвечает: «Унесли Господа моего, и не знаю, где положили его». Но затем евангелист, по рассказу Матфея и Марка, сообщает, что Марии Магдалине во «гробе» явились не только ангелы, но и сам Христос. Но, подобно эммаусским ученикам у Луки, она сперва не узнает Господа, а принимает его за садовника; но она умнее и проницательнее эммаусских учеников и потому узнает Иисуса не по способу преломления хлебов, а по одному слову, с которым он к ней обратился: «Мария». Затем, как у Матфея, Иисус говорит Марии: «Не прикасайся ко мне». Это замечание Иисуса будет понятно, если мысленно мы добавим, что Мария, вероятно, бросилась к его ногам и обхватила их руками, как у Матфея сделали и женщины, которым явился Иисус, когда они возвращались от гроба. У Матфея Иисус сказал женщинам: «Не бойтесь» — и послал их сказать братьям его, чтобы они шли в Галилею и что они там увидят его; у Иоанна Иисус говорит Марии Магдалине, чтобы она не прикасалась к нему, то есть не преклонялась перед ним, не оказывала ему Божеской почести (как ангел в Апок. 22:8), ибо он еще не «восшел» к Отцу своему, но скоро взойдет к нему.
По словам Матфея, 11 апостолов, после рассказа обеих Марий о явлении ангелов и Христа, отправились в Галилею и взошли на гору, которую им указал Иисус и на которой он им явился (28:16–20). Это — У Матфея — единственное явление воскресшего Иисуса, кроме явления женщинам. Невероятно, чтобы Матфей не слыхал и не читал о том, что Иисус являлся многократно, но он имел обыкновение соединять многие мелкие изречения Иисуса, высказанные им по разным поводам, в немногие пространные речи, а потому и в данном случае существенное содержание многих отдельных видений он соединил в единое явление Иисуса перед собравшимися 11 апостолами. Но так как явления Иисуса имели целью убедить учеников в действительности его воскресения, рассказы о них начинаются обыкновенно с указания на «сомнения» учеников. Так и в данном случае некоторые ученики усомнились, но Иисус ближе подходит к ним, говорит, что он есть тот, кому поручена власть в небесах и на земле, и преподает им свои последние наказы и обетования; но как и чем рассеял он их «сомнения», мы не знаем.
Здесь открывается пробел, который предстояло заполнить позднейшим разрабатывателям евангельской истории. Лука сообщает, что после рассказа женщин Петр сам отправился к гробу и вернулся «удивленный». Затем евангелист переходит к рассказу об эммаусских учениках. Когда последние пришли в Иерусалим, они узнали, что воскресший Иисус явился Симону, но об этом явлении не сообщается никаких подробностей (хотя оно напоминает собой о замечании Павла в 1 Кор. 15). Когда эммаусские ученики стали рассказывать о случившемся с ними происшествии собравшимся ученикам, вдруг появился среди них сам Иисус и приветствовал их. Сначала ученики испугались, ибо подумали, что это — призрак, или «дух»; но Иисус, желая их уверить, что это он, а не бесплотный «дух», показывает им свои руки и ноги и предлагает им ощупать себя; и когда он увидел, что они еще не вполне уверились, хотя обрадованы и удивлены, он попросил пищи и стал есть перед ними рыбу и мед (24:33–43), тогда как в Эммаусе он, видимо, успел только преломить хлеб и, не отведав его, исчез.
У Марка этот рассказ, видимо, переплетен с рассказом о последнем явлении Иисуса. Он говорит, что Иисус явился тут в последний раз, когда трапезовали ученики, но сам Иисус в трапезе их не принимал участия (16:14). Но у четвертого евангелиста рассказ Луки и в данном случае своеобразно переработан (20:19), как в рассказе о посещении Марией Магдалиной гроба, он прежде всего разграничивает отдельные моменты. При описании явления Иисуса Лука отмечает веру и неверие, испуг и радость учеников. Евангелист Иоанн, который однократное посещение гроба превращал в двукратное и притом первому приписывал отрицательный результат, а второму — положительный, в данном случае одно явление тоже превращает в два явления и отмечает, что первое явление вызвало в учениках радость и веру, а второе рассеивало оставшиеся в них сомнения и вяще укрепляло их веру. Как раньше он из многих женщин выбрал одну Марию Магдалину и сделал вторую Марию из Вифании носительницей беззаветной личной веры и любви к Господу, так в данном случае он из всех учеников одного Фому наделяет ролью скептика и маловера, тогда как Лука приписывал сомнения и маловерие всем вообще ученикам.
Впрочем, не только в главном, но и в деталях рассказ Иоанна составлен по рассказу Луки. Лука сообщает (24:36): «Когда они (ученики) говорили… Сам Иисус стал посреди них и сказал им: мир вам. Они, смутившись и испугавшись, подумали, что видят духа». Таким образом, Лука отмечает, что испуг и смущение учеников вызваны неожиданным и сверхъестественным появлением Иисуса. Тот же сверхъестественный характер появления Иисуса отмечает и подчеркивает Иоанн; он заявляет, что Иисус пришел и встал посреди собравшихся учеников, когда «двери дома были заперты» (20:19). И надо просто не хотеть понять евангелие, чтобы (подобно Шлейермахеру) утверждать, что дверь в данном случае была кем-нибудь отперта естественным образом. Евангелист поясняет, что двери дома, в котором собрались ученики, были заперты «из опасения от Иудеев»; стало быть, евангелист решил мотивировать эту меру предосторожности, чтобы представить эпизод в возможно более правдоподобном виде; но, вероятно, он и в данном случае пожелал точнее разграничить два момента, сведенные у Луки в один. Лука утверждает, что появление Иисуса вызвало в учениках испуг и радость, а Иоанн поясняет, что ученики опасались враждебно относившихся к ним иудеев, и появление Иисуса вызвало в них только радость («ученики обрадовались, увидев Господа»). У Луки Иисус говорит ученикам: «Мир вам!» — и этот возглас является здесь просто приветствием, обычным у евреев, но у Иоанна Иисус возглашает «мир вам» дважды, и в этой детали опять сказалась своеобразная идейность четвертого евангелиста. Уже в прощальной речи своей Иисус заявлял ученикам, что он дает и оставляет им мир свой (14:27), и что мир этот они обретут в нём (16:33); а теперь воскресший Иисус действительно явился и принес им «мир» и, сверх того, дунув (дохнув), сказал им: «Примите Духа Святого» (20:22).
Воскресший Иисус проходит к собравшимся ученикам через запертые двери, но он не «дух», не привидение или призрак, он осязаем, хотя не облечен материальной плотью. Мы, право, и этого не в состоянии понять; но евангелистов это странное обстоятельство нисколько не смущало, а двое из них, Лука и Иоанн, на нём даже обосновали весь рассказ. Но у Луки Иисус показывает ученикам свои ноги и руки, а у Иоанна — руки и бок; впрочем, о боке Лука не мог упоминать уже по той причине, что он не говорил о прободении копьем ребер Иисуса. Далее у Луки Иисус предлагает ученикам ощупать себя, а у Иоанна он только показывает им свои руки и бок; стало быть, Иоанн и в данном случае разъединяет отдельные моменты, и сверх того он приберег для будущего вторичного явления Иисуса сравнительно сильнейший аргумент в видах преодоления сомнений: мотивируя это вторичное явление, евангелист отмечает, что при первом явлении Иисуса один из 11 апостолов, а именно Фома, человек вообще недоверчивый и мнительный (11:16; 14:5), отсутствовал и что затем, узнав со слов других апостолов о появлении воскресшего Иисуса, он сказал: «Если не увижу на руках Его ран от гвоздей и не вложу перста моего в раны от гвоздей, и не вложу руки моей в ребра Его, не поверю» (20:25). Лука, в общем, говорит, что Иисус показывал свои руки и ноги ученикам, чтобы убедить их, что он не дух бесплотный и бескостный. Лука при этом не говорит прямо о ранах от гвоздей, которые здесь можно подразумевать; но Иоанн отмечает именно эти раны, хотя ничего не говорит о плоти и костях Иисуса: возможно, что евангелисту не понравилось материалистическое упоминание о плоти и костях Иисуса и что тело воскресшего Иисуса он представлял себе не настоящей плотью, а телом невещественным, нематериальным, хотя и осязаемым и сохранившим почетные следы страданий, перенесенных Иисусом. Такое представление о теле Иисуса для нас непостижимо и неприемлемо, но Иоанну, автору четвертого евангелия, оно было вполне свойственно. Итак, по истечении восьми дней после первого явления Иисуса Фоме довелось рассеять свои сомнения: ученики опять собрались вместе, и с ними в этот раз был также Фома: двери дома были опять заперты, но Иисус вновь пришел и стал посреди учеников и сказал: «Мир вам» и потом прямо предложил Фоме осмотреть его руки и вложить перст свой в его ребра и уверовать. Фома исполнил приказание Иисуса, тотчас уверовал и сказал: «Господь мой и Бог мой». Но Иисус укоризненно заметил ему: «Ты поверил, потому что увидел Меня: блаженны невидевшие и уверовавшие» (20:26–30). Этими словами заканчивается историческая повесть четвертого евангелиста (дальнейшие стихи евангелия представляют только заключительную формулу), и в них еще раз рельефно обрисовался двойственный, «чувственно-сверхчувственный» характер четвертого евангелия. Истинной верой евангелист признаёт такую веру, которая не требует чувственных осязательных доказательств, вроде чудес и знамений или грубочувственных экспериментов. Но почему же именно четвертый евангелист так сильно и так откровенно подчеркивает чувственные чудеса? Почему он так подробно рассказывает, например, о чудесах, отмечавших и удостоверявших воскресение Иисуса? Если такого рода грубочувственным доказательствам и знамениям он не придавал значения, то зачем он говорил о них? А если они должны были повлиять на маловеров и заставить их уверовать, то отчего евангелист о них рассказывает с таким увлечением и интересом? Весьма возможно, что сам евангелист, как представитель позднейшей эпохи, в свое время тоже «сомневался», как Фома, и что он тоже искал и требовал грубочувственных, вполне наглядных и убедительных доказательств. Правда, ему пришлось примириться с неизбежным и, не видев, «уверовать». Но он мог думать, что другие ученики и современники Иисуса сумели запастись всеми желаемыми доказательствами: что апостол Иоанн собственными глазами видел, как из раны Иисуса изливались кровь и вода, что Фома персты свои влагал в раны и ребра Иисуса. Поэтому, когда Баур о Фоме замечает, что произведенное им ощупывание и оглядывание при всей своей осязательности не могло утвердить веры в воскресение Иисуса, если воскресение не считалось бесспорным фактом, что, следовательно, эмпирическая вера обусловливается верой абсолютной, то это замечание, хотя и сформулировано по-философски, но всё же справедливо лишь настолько, насколько справедливо и противоположное предположение, что чисто духовная вера четвертого евангелиста обусловливалась чувственными доказательствами, что евангелист, не видев, «уверовал», потому что думал, что надлежащие знамения уже видели другие; только тогда смысл и характер четвертого евангелия становятся вполне понятными.
Развив детально доказательства, основанные на лицезрении и осязании, четвертый евангелист счел излишним доказывать реальность воскресения Иисуса экспериментом, основанным на вкушении, тем более что такого рода опыт ему мог показаться слишком плотским. Но автор добавочной главы к четвертому евангелию заполнил этот пробел, создав своеобразный и запутанный рассказ, в который вошли главнейшие элементы многих других рассказов — о чудесном лове рыбы, о насыщении народа и хождении по воде, об отречении Петра и учреждении евхаристии, об эммаусском преломлении хлебов, о беге взапуски Петра и Иоанна к гробу и т.д. Когда на море Тивериадском ученики Иисуса занимались ловлей рыбы, там им явился воскресший Иисус, ими не узнанный сначала, и спросил, есть ли у них пища; ученики ответили, что пищи у них нет; тогда он им велел закинуть сеть в море, и ученики вытащили сетью великое множество рыбы; но тем временем на берегу кто-то разложил костер, возле которого лежала рыба и хлеб, а Иисус предложил ловцам-ученикам «пообедать» и сам стал раздавать им хлеб и рыбу (21:1–14). В этом рассказе (как и во всей добавочной 21-й главе вообще) всё неопределенно и туманно; впрочем, воскресший Иисус здесь не исчезает после раздачи хлеба (как в Эммаусе), а, видимо, и сам участвует в трапезе.
Рассказ этот в вышеизложенной части своей имел целью дополнить серию предшествующих рассказов о чудесах, доказать реальность воскресения Иисуса и охарактеризовать взаимоотношения апостолов Петра и Иоанна; но вся последующая часть рассказа (21:15–25) посвящена исключительно взаимоотношению названных апостолов. Во время трапезы на берегу моря Тивериадского Иисус трижды пытливо спрашивает Симона-Петра: «Любишь ли Меня больше, нежели они (прочие ученики)?» и, получив трижды утвердительный ответ, трижды говорит ему: «Паси агнцев Моих». Этими словами Иисус не только укоряет Петра за его троекратное отречение, но и прощает ему и восстанавливает его в правах пастыря овец Христовых. Далее Петру предвозвещает он крестную кончину, которою он «прославит Бога», но тот факт, что «любимому» ученику Иисус не предсказал подобной мученической смерти, евангелист считает преимуществом упомянутого ученика. Петру Иисус сказал, что он последует за ним, Иисусом, когда будет предан такой же смерти, как Иисус, а про апостола Иоанна Иисус сказал: «Если Я хочу, чтобы он пребыл, пока приду, что тебе до того?» Возможно, что легенда о том, что апостол Иоанн, высокочтимый автор Апокалипсиса, «не умрет», то есть доживет до второго пришествия Христа, создалась в Малой Азии оттого, что этот апостол дожил до глубокой старости. Но когда он умер, то вышеприведенное замечание Иисуса о нём («чтобы он пребыл, пока приду») могло показаться лжепророчеством; поэтому евангелист пытается восстановить подлинный смысл изречения. Он утверждает, что Иисус не говорил категорически, что Иоанн не умрет, а сказал, что «если» он, Иисус, захочет, чтобы он «пребыл», пока «придет» он (Иисус), и т.д. Однако мы недоумеваем, как понимает сам евангелист это изречение Иисуса. Нам неясно, делает ли он акцент на слове «если» (предположение), или под словом «приду» он разумеет не видимое пришествие Христа «на облаках небесных», а другое, или, наконец, под словом «пребыл» разуметь не телесное бытие, а иную жизнь. В конце концов может показаться, что евангелист умышленно обставил этот вопрос таинственностью и священным мраком. Но вслед за тем евангелист замечает, что тот же «любимый» ученик Иисуса «свидетельствует о сем и написал сие (евангелие)». Поэтому под «пребыванием» апостола Иоанна до пришествия Христа следует, по-видимому, разуметь вечное пребытие его евангелия или то, что «духовное» Евангелие от Иоанна сохранит значение навсегда.
§98. Вознесение Иисуса
Если за непосредственно данное принять те видения, какие отдельные сторонники Иисуса имели о его воскресении и посмертных явлениях, а также те сказания, которые сложились по поводу означенных видений, то следует признать естественным и то, что многие ретроспективно стали задавать себе вопрос: когда и как началась новая и высшая жизнь распятого? Естественно и то, что скоро создалось и представление о воскресении Иисуса и выходе его из гроба на третий или иной день после смерти в присутствии явившихся ангелов. Наконец, столь же натурально вопрос о заключительном, конечном моменте этой новой стадии бытия создал и представление о вознесении на небо воскресшего Иисуса на первый или 40-й день после воскресения.
Но рассказ о вознесении Христа мы находим только у двух евангелистов, а рассказ о воскресении — у всех, и этот факт уже показывает, что представление о вознесении было моментом несущественным. Действительно, новая жизнь должна же была начаться для Иисуса когда-нибудь, так как Иисус умер и был погребен, но она не могла и не должна была окончиться, так как она была уже бессмертной, вечной жизнью. Та жизнь, которая наступила для Иисуса после его воскресения, могла окончиться лишь тогда, когда она была переходным состоянием, но так на нее и смотрели первые христиане, среди которых создалось сказание о вознесении на небо Иисуса.
Воскресшему Мессии надлежало прийти вторично в конце настоящего мирового периода; прийти он должен был с небес; но на небо Мессия-Иисус, по мнению древнейших христиан, взошел не в 40-й день после воскресения, а уже в момент воскресения. Во всяком случае, Павлу он явился не перед вознесением своим на небо в 40-й день после воскресения, а значительно позднее; стало быть, явился он тогда уже с небес, хотя апостол приравнивает это явление Иисуса к тем его явлениям, которых удостоились другие ученики его в течение указанных 40 дней, и, стало быть, апостол полагает, что и в этих случаях Иисус являлся с неба.
На той же точке зрения стоит Матфей. Он говорит, что в самый день воскресения Христос сперва явился женщинам, возвращавшимся от гроба, и мы не знаем, явился ли тогда Христос с небес, или тогда он только собирался еще вознестись на небо. Но далее на горе Галилейской Иисус заявляет 11 апостолам (28:18): «Дана Мне всякая власть на небе и на земле»; стало быть, уже тогда он был облечен мессианской прерогативой, а это могло совершиться только на небесах (Дан. 7:14). Что вознесение Мессии на небеса не исключало собой последующей деятельности его на земле, это подтверждал сам Иисус в Евангелии от Матфея (28:20), говоря ученикам: «Я с вами во все дни до скончания века». Стало быть, Христос, пребывая на небесах, обетовал до второго пришествия своего на землю незримо содействовать и соприсутствовать ученикам своим, и, разумеется, он мог при этом в отдельных исключительных случаях являться им и зримо. Таким предварительным явлением (в пределах до второго пришествия) считал и Павел то явление Иисуса, которого он сам был удостоен и которого удостаивались также прочие старейшие апостолы, и, стало быть, такие явления Христа не были ограничены во времени, они могли случаться в любое время после воскресения Иисуса.
Надежды христиан на скорое пришествие Христа не оправдались, и в них стал постепенно остывать экстаз. Явление Иисуса Павлу было последним его явлением, и затем врата небес, взявших Христа, как бы затворились впредь до кончины мира и второго, славного пришествия Христа. Настало время, когда христиане восхотели увидеть «хоть один из дней Сына Человеческого» (Лк. 17:22) и не увидели его; они стали вспоминать о том блаженном времени, когда воскресший Христос являлся своим последователям на дорогах, в запертых домах, у моря, на горе, когда они «с Ним ели и пили, по воскресении Его из мертвых» (Деян. 10:41), и христианам стало казаться, что то было совсем другое время, что между тем и их временем залегла глубокая пропасть. Но тогда Христос еще не мог взойти на небеса; он должен был после воскресения своего оставаться еще некоторое время на земле и сообщаться со своими учениками, прежде чем покинуть их надолго — вплоть до своего второго пришествия. Так само собой создавалось представление о некотором промежуточном периоде между воскресением и вознесением Иисуса периоде, в течение которого воскресший втайне от народной массы оставался еще на земле, чтобы являться своим ученикам и показать себя воскресшим Мессией, прежде чем покинул их надолго.
Но этот промежуточный период, период земной жизни воскресшего Христа, мог продолжаться лишь до тех пор, пока Христос не выполнил своей задачи, пока не засвидетельствовал ученикам свое воскресение и не дал им последних наказов и обетований. Правда, эту задачу можно было выполнить скоро, даже в один день; однако древние христиане не считали нужным торопиться; они полагали, что самый факт воскресения Иисуса обнаружил его мессианскую славу, и потому Христос мог появляться на земле в любое время. Так, у Матфея явление Иисуса на горе Галилейской совершилось, видимо, через столько дней после воскресения Иисуса, сколько нужно было ученикам, чтобы из Иерусалима дойти до означенной горы, то есть несколько дней. Но если слава мессианская укреплялась за Христом под условием довершения подготовки покидаемых учеников, то ему следовало торопиться, и выполнить свою задачу он мог тем успешнее, что «преображенное» тело воскресшего уже не подчинялось никаким условиям и граням пространства. Поэтому у Луки Христос является сперва двум ученикам, шедшим в Эммаус, и сопровождает их до этого селения, расположенного в трех часах ходьбы от Иерусалима; но когда они вернулись в город, Христос тем временем уже успел явиться Симону и вновь явился собравшимся 11 апостолам, и вслед за тем он их повел в Вифанию, чтобы там на их глазах вознестись на небо (24:50–53). Всё это происходит, видимо, в один и тот же день — в день воскресения Иисуса. Столь же быстро совершаются явления Иисуса у Марка (16:14–20), хотя рассказ этого евангелиста в данной, заключительной своей части не вполне ясен и последователен. По его словам, Иисус явился ученикам во время трапезы, дал им наставления и обетования и затем вдруг вознесся на небо. Таким образом, рассказ Марка наводит читателя на мысль, что Иисус вознесся на небо, не выходя из комнаты собрания…
Но если христиане и торопились довести воскресшего Мессию до его главной цели, всемерно сокращая промежуточный период переходного состояния его между воскресением и вознесением на небо, то, с другой стороны, некоторые соображения заставляли их и удлинять период посмертной жизни Иисуса на земле. Мало-помалу сложилось у них такое множество рассказов о явлениях воскресшего Иисуса, что стало невозможным все эти явления Христа приурочить к одному дню. Если взять хотя бы только те явления, которые отмечает Павел (явление Петру, затем 12 апостолам, 500 братиям, Иакову, всем вообще ученикам), то и их было немыслимо приурочить к одному дню, ввиду различия причин и обстановки данных явлений. К тому же было немыслимо и то, чтобы так скоро достигалась цель этих явлений — убеждение и наставление учеников: ни неверие, ни недомыслие нельзя устранить сразу, да, наконец, сама фантазия требовала продления отдельных сроков и периодов. Как тесно соприкасались соображения того и другого рода, это мы видим уже из того факта, что один и тот же автор (Лука) в одной части своего труда руководился одним соображением, а в другой — другим. Лука в заключительной главе своего евангелия сообщает, что Иисус вознесся на небо уже в день воскресения своего; а в начале своих Деяний апостолов он сообщает, что в продолжение 40 дней, протекших от воскресения до вознесения Иисуса, он являлся апостолам избранным, давал им Духом Святым повеления, являл им себя живым со многими доказательствами и говорил о царствовании Божием (Деян. 1:1–3). Нам неизвестно, как совершилась эта смена представлений у Луки в промежутке между составлением евангелия и Деяний, но несомненно то, что Лука пытался разместить хронологически те многочисленные явления Иисуса, о которых сообщала народная молва, и приурочить к известному периоду тот крупный переворот, который совершался в воззрениях и представлениях учеников Иисуса. Что период этот определился в 40 дней, это обусловливалось как духом иудейским вообще, так и числовой символикой древних христиан, в частности. Народ израильский 40 лет блуждал в пустыне; 40 дней пребывал Моисей на горе Синайской; 40 дней постился Моисей, а потом и Илия, и 40 дней постился Иисус в пустыне в ожидании искушений сатанинских; наконец, 40 дней провел в уединении Ездра, восстанавливая с пятью писцами перед своей смертью сгоревшие книги Святого Писания. Поэтому было естественно и предположение о том, что воскресший Иисус являлся ученикам в продолжении 40 дней и беседовал с ними в это время о царствии Божием (Деян. 1:3). Конечно, явление Христа Павлу нельзя было отнести к этому традиционному периоду, но сам апостол Павел оговаривается, что «после» всех апостолов явился Иисус ему, как «наименьшему» из апостолов (1 Кор. 15:8–9), что, стало быть, это явление было явлением запоздалым и внеурочным, хотя такое экстраординарное «явление», такое нарочитое сошествие Иисуса с неба в действительности лишь прославляло, а не принижало Павла.
Итак, свидетельства и сообщения евангелистов (не исключая и четвертого) резко расходятся между собой по вопросу о продолжительности посмертной жизни Иисуса на земле, но они сходятся в одном — в передаче содержания тех речей, наказов и обетований, которыми ознаменовались явления воскресного Иисуса ученикам, хотя сформулированы эти речи Иисуса неодинаково у отдельных евангелистов. Так, все синоптики (Мф. 28:16; Мк. 16:15; Лк. 24:44; Деян 1; 2) единогласно сообщают, что Иисус повелел ученикам «научить (учению Христа) все народы». Далее, у Марка говорится (в соответствии с позднейшим способом выражений), что Иисус повелел ученикам проповедовать всему миру евангелие, а у Матфея (в духе христианско-иудаистского законопослушания) отмечается, что Иисус велел учить (все народы) «соблюдать всё, что он повелел», и, наконец, у Луки (в духе павликиан) говорится, что Иисус повелел проповедовать у всех народов «покаяние и прощение грехов». Во всех вышеотмеченных версиях, или формулах, наглядно сказываются своеобразные личности и индивидуальности отдельных синоптиков-евангелистов. Как мы уже сказали, трудно допустить, чтобы так рано — вслед за воскресением Иисуса — у его учеников сложилось убеждение о необходимости проповедовать евангелие всем народам и, стало быть, допустить в царство Мессии также и язычников под единственным условием крещения их «во имя Отца и Сына и Святого Духа» (Мф. 28:19). Современная евангельская критика почти единогласно заявляет, что самая формула крещения «во имя Отца и Сына и Святого Духа», столь обычная для христианской церкви позднейшей эпохи, представляется необычной в устах апостолов и есть продукт позднейшей переработки евангелий. Лука в данном случае (как и в рассказе об эммаусских странниках) усиленно подчеркивает то обстоятельство, что Иисус, перед вознесением своим на небо, ученикам «отверз… ум к уразумению Писаний» и пояснял им, что о его мессианских страданиях и смерти было предвозвещено «в законе Моисеевом и в пророках и псалмах», то есть в ветхозаветных книгах. Значит, единственное средство убедить учеников в том, что их учитель, претерпевший позорную казнь, есть всё-таки Мессия, заключалось в ссылке на ветхозаветные свидетельства и прорицания, и в указании на то, что Иисус-Мессия своей личной жизнью действительно «исполнил всё написанное» о нём. Затем Лука еще указывает, что Иисус, расставаясь с учениками, велел им оставаться в городе Иерусалиме, пока «не облекутся силой свыше», то есть велел ждать того сошествия Святого Духа, о котором автор рассказывает позднее, во второй части своего труда (в Деяниях апостолов). Сравнительно неблагоприятное впечатление производит заявление Марка, что Иисус, расставаясь с учениками, будто бы говорил им: «Кто будет веровать (в меня) и креститься, спасен будет; а кто не будет веровать, осужден будет. Уверовавших же будут сопровождать… знамения: именем Моим будут изгонять бесов, будут говорить новыми языками; будут брать змей; и если что смертоносное выпьют, не повредит им; возложат руки на больных, и они будут здоровы» (16:16–18). Все эти детали (за исключением предпоследней) взяты Марком из евангельских рассказов и из Деяний апостолов (2:4; 16:16–18; 28; 2–10). Но здесь у Марка обобщены и дополнены нелепым замечанием о безвредности «смертоносных» напитков, которое показывает, как рано в христианской церкви подлинное, истинное учение Иисуса стало глохнуть и искажаться под толстым пластом суеверий и сказаний о волшебных чудесах и знамениях. Если подобного христианина, уверовавшего во Христа и сопровождаемого вышеотмеченными «знамениями», представить себе разъезжающим по стране и изгоняющим бесов и т.д. среди языческого населения, то мы невольно вспомним и о тех обманщиках-кудесниках, которых так жестоко осмеивал в своих сатирах Лукиан…
Матфей заканчивает свое евангелие замечанием, что Иисус обетовал пребыть с учениками «во все дни до скончания века», а второй и третий евангелисты после прощальной беседы Иисуса переходят к рассказу о вознесении Иисуса на небо. Но Марк, как мы уже сказали, о вознесении говорит так неопределенно и сбивчиво, что можно усомниться, действительно ли Иисус вознесся; зато Марк проговаривается, откуда он заимствовал это сообщение. Он говорит (16; 19): «Господь, после беседования с ними (учениками) вознесся на небо и воссел одесную Бога». Стало быть, евангелист сам не утверждает, что вознесение Иисуса кто-либо видел, и это замечание он взял из псалма (109:1): «Сказал Господь Господу моему одесную Меня, доколе положу врагов твоих в подножие ног твоих». Это изречение псалмопевца легко было истолковать в смысле мессианском и, по свидетельству евангелистов (Мф. 26:63; Мк. 14:62), его отнес к себе сам Иисус; но чтобы оно исполнилось с буквальной точностью, приходилось Мессию вознести на небеса, а потому Иисус закончил свою земную жизнь и деятельность вознесением на небо.
Более подробен и нагляден рассказ Луки, особенно в Деяниях апостолов втором исправленном и дополненном издании повести о вознесении. В конце своего евангелия Лука говорит (24:50–53): Иисус «вывел их (учеников) вон из города до Вифании и, подняв руки Свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились Ему, и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Но в начале Деяний апостолов говорится (1:1–12), что Иисус собрал апостолов в последний раз на горе Елеонской (возле селения Вифании) и, преподав им последние наказы и обетования, он вдруг поднялся в глазах и облако взяло Его из вида их. И два мужа в белой одежде (ангелы) и сказали: «Мужи Галилейские! что вы стоите и смотрите на небо? Сей Иисус, вознесшийся от вас на небо, придет таким же образом, как вы видели Его восходящим на небо». Этот рассказ, очевидно, создался у Луки так же, как у Марка: как надлежало Мессии некогда прийти на землю в будущем, так надлежало ему в настоящем уйти от земли на небо и если, по пророчеству Даниила, ему надлежало в будущем прийти на облаке небесном, то, стало быть, на том же облаке ему приходилось и взойти на небо.
Уже в книгах Ветхого завета двое праведников, Енох и Илия, были чудесным образом вознесены от земли на небо, но вознесение Еноха совершилось незримо и незаметно (Быт. 5:24; Сир. 44:15; 49:16; Евр. 11:5), а Илия вознесся на огненной колеснице, влекомой огненными конями (4 Цар. 2:11; Сир. 48:9; 1 Мак. 2:58). Но такое вознесение не соответствовало кроткому характеру Иисуса (ср. Лк. 9; 55) и, сверх того, представлялось слишком чувственным. Из ветхозаветной картины вознесения можно было взять только одну черту, именно ту, которую отметил у себя Лука (Деян. 1:9), что Иисус поднялся на небо «в глазах», то есть в присутствии учеников, тем более что и пророк Илия заявлял Елисею, ученику своему, что он, Елисей, исполнится духом его, когда увидит, как он, Илия, взойдет на небо. Традиционный ветхозаветный прообраз Спасителя-Иисуса, первый спаситель народа иудейского, Моисей, скончался естественной смертью и был лишь схоронен Иеговой неведомо где (Втор. 34:5). Но у Иосифа Флавия мы находим такой рассказ о кончине Моисея, который живо напоминает собой рассказ евангелистов о вознесении Иисуса.[245] Придя на гору, которую, по словам автора второзакония, Моисей избрал себе перед кончиной своей, он, по словам Иосифа Флавия, велел народу и старейшинам отойти и, простившись с Иисусом Навином и первосвященником Елеззаром, вдруг был подхвачен облаком и исчез в ущелье гор. Этот рассказ, видимо, заимствован из позднейшего раввинского предания, которое старалось законодателя Моисея приравнять к Еноху и Илии, создав легенду о прижизненном вознесении его на небо; но Иосиф Флавий пытается связать его с кратким замечанием 5-й книги Моисея, что Моисей скончался, заявляя, что это замечание Моисей умышленно сам начертал в такой форме, дабы ради его великих добродетелей никто не осмелился сказать, что он был «восхищен» к Богу. В этом комментарии иудейского историка (Иосифа Флавия) уже сказывается, несомненно, то боготворение Иисуса, которое в его время уже начиналось среди иудео-христиан.
Затем относительно четвертого евангелиста мы должны заметить, что у него, как у Матфея, ничего не говорится в вознесении Иисуса, и можно подумать, что он на это происшествие смотрел глазами первого евангелиста. Казалось бы, что четвертый евангелист, вообще столь склонный боготворить Христа, должен был бы обрадоваться сцене, в которой можно было усмотреть буквально точное исполнение предсказаний Иисуса о том, что он, сын человеческий, взойдет на небо, где был прежде, и возвратится к Богу-Отцу и его славе (6:62; 3:13; 17:5). Если четвертому евангелисту был известен рассказ двух его предшественников о вознесении Иисуса, то надо думать, он не преминул бы использовать его в своем евангелии, а если он этого не сделал, то, стало быть, он или раньше их написал свое евангелие, или не захотел рассказывать о происшествии, которое, как он, очевидец, знал наверно, в действительности вовсе не случилось. Однако евангелист всё же использовал этот рассказ, своеобразно переделав и изменив его, а то, что он не пожелал облечь его в ту форму, в которую он облечен у Марка и Луки, объясняется духом и планом его евангелия, и нет никакой нужды приписывать евангелисту в данном случае исторических мотивов и соображений, которых он всегда и всюду чуждался.
Четвертый евангелист, можно сказать, отнесся к вознесению Иисуса так, как он отнесся к его пришествию на землю. Предшественники евангелисты объясняли появление Иисуса на земле зачатием и рождением его от Святого Духа, и, хотя идея Логоса-Христа по существу своему требовала иной формы рассказа о появлении Христа на земле, однако она допускала представление о том, что Христос-Логос воплотился и очеловечился в утробе девы Марии. Но евангелист Иоанн предпочел совершенно умолчать о зачатии и рождении Иисуса, и ограничился указанием на высокое происхождение Иисуса в своем прологе и некоторых собственных изречениях Иисуса. Точно так же отнесся он и к вознесению на небо Иисуса. Об этом происшествии он говорит намеками в притчах, но не рассказывает о нём, как об основательном факте. Однако он предполагает, что Иисус действительно был вознесен на небо, и это видно из беседы Иисуса с Марией Магдалиной, где говорится о предстоящем вознесении Христа к его Отцу Небесному. Выше уже было указано, что Иоанн в данном случае следует Матфею; но он резче Матфея отмечает, что не до, а после этого первого явления воскресший Иисус вознесся на небо. Но у Матфея сказано, что Иисус вознесся с горы Галилейской, явившись там апостолам, а у Иоанна говорится, что Иисус вознесся, явившись ученикам, когда они собрались при закрытых дверях. Наделение учеников дарами Святого Духа путем дуновения, по мнению евангелиста (7:39), не могло совершиться прежде, чем не «прославится» (преобразится) Иисус, а прославился он тогда, когда возвратился к Богу-Отцу. Далее четвертый евангелист сообщает, что Иисус сам наделил учеников дарами Святого Духа в день воскресения своего, и в этом случае евангелист противоречит Луке, который (Деян. гл. 2) сообщает, что сошествие Святого Духа произошло через 50 дней после вознесения Иисуса. Здесь, как и в эпизоде вознесения, евангелист избегает тех грубоосязательных, материалистических черт, которыми Лука характеризует сошествие Святого Духа на апостолов; он полагает, что сообщение даров Святого Духа через простое «дуновение» (20; 22) идейнее и более соответствует духу Христа, чем то грозное сошествие Святого Духа в виде языков огненных, о котором говорится в Деяниях апостолов. Сверх того евангелисту, видимо, казалось, что дух-утешитель (параклит) нагляднее представится заместителем Христа-Логоса, если сам Иисус его сообщит ученикам путем непосредственного «дуновения».
Впрочем, четвертый евангелист следует Матфею не только в том отношении, что умолчал, подобно ему, о вознесении Иисуса. Евангелист сообщает (20:23), что Иисус, вдунув Святого Духа в учеников, сказал им: «Кому простите грехи, тому простятся; на ком оставите, на том останутся». Эти слова напоминают собой то изречение Иисуса, которое по другому поводу приведено и в первом евангелии (16:19; 18:18): «Что свяжете на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах». Изменение, которому евангелист подверг это Матфеево изречение Иисуса, объясняется тем спором о праве прощать грехи, который, по свидетельству «Пастыря Гермы», уже в начале II века волновал всю христианскую церковь.
Опустив рассказ о видимом вознесении Иисуса, четвертый евангелист, подобно первому, был вынужден закончить свою повесть как-то противоестественно. Поэтому четвертое евангелие было дополнено добавочной 21-й главой, хотя оно заканчивалось рассказом о двух явлениях воскресшего Иисуса: о явлении ученикам, собравшимся при закрытых дверях, и о явлении Фоме неверующему. Но этот второй рассказ заканчивается знаменательным изречением Иисуса: «Блаженны невидевшие и уверовавшие». Это изречение могло быть отнесено вообще ко всем тем христианам, которые уверовали во Христа позднее, не имев возможности услышать и увидеть его лично. В этом изречении сформулирован завет Иоаннова Христа всей христианской церкви, который действует и ныне, хотя он нами понимается теперь не в смысле евангелиста Иоанна, а в смысле Лессинга, который заявлял, что случайные исторические истины недоказательны для необходимых разумных истин.
Заключение
§99.
Мысль, высказанная нами в конце предшествующей главы, нам представляется тем более уместной и своевременной, что предыдущее критическое исследование наше приводит к тому заключению, что наши исторические сведения об Иисусе крайне ограниченны и недостоверны. Отбросив все мифические наросты и наслоения, мы могли убедиться, что и то, что раньше нам представлялось ядром жизнеописания Иисуса, в сущности является легендой, мифом. Черты мифические, из которых сложился образ Иисуса, не только исказили, но даже совершенно поглотили и вытеснили собой черты исторические.
Многие этому не желают верить, но кто хоть раз серьезнее вникал в дело и не желает кривить душой, тот подтвердит, подобно нам, что об Иисусе мы знаем меньше, чем о любом из выдающихся исторических деятелей. Сократ жил на четыре столетия раньше Иисуса, но его жизнь и личность нам известны несравненно более, чем жизнь и личность Иисуса. Правда, о молодости и ходе развития Сократа мы знаем мало, но зато нам в точности известно, что представлял он из себя в зрелом возрасте, чего хотел и что делал он, а также почему и как он был осужден на смерть. С другой стороны, биография Сократа (за вычетом немногих анекдотов) вполне свободна от мифических и сказочных примесей, которыми так изобилует и так искажена биография Иисуса и некоторых древнейших греческих философов, например Пифагора. Такая сохранность образа Сократа объясняется тем обстоятельством, что жил он в просвещеннейшем городе Греции, в эпоху ярко рационалистического просвещения и литературного расцвета, и что многие ученики Сократа, став выдающимися писателями, посвятили некоторые труды свои жизни и учению своего учителя. К числу таких учеников Сократа принадлежат Ксенофонт и Платон. Они напоминают нам собой Матфея и Иоанна, но как невыгодно для названных евангелистов сравнение с вышеуказанными греческими писателями. Во-первых, авторы «Сократовых достопамятностей», а также «Пира», «Федона» и других произведений, были действительно учениками Сократа, тогда как авторы первого и четвертого евангелий не были учениками Иисуса. Об упомянутых произведениях обоих греков мы даже помимо внешних свидетельств можем уверенно и безошибочно сказать, что это — произведения современников и собеседников — друзей Сократа, ибо о том свидетельствует каждая строка в этих трудах, а относительно первого и четвертого евангелий приходится сказать, что, несмотря на внешние свидетельства, удостоверяющие их апостольскую аутентичность, мы к ним не можем отнестись с доверием, ибо они противоречат очевидности. Во-вторых, старания обоих названных греческих писателей направлены к тому, чтобы нагляднее обрисовать образ Сократа, его оригинальную физиономию и его значение как человека, гражданина, мыслителя и педагога. Правда, к тому же самому по-своему стремятся оба названных евангелиста относительно Иисуса, но этого им мало: они хотят нам показать, что Иисус был не просто человеком, а чудо-человеком, зачатым и рожденным от самого Бога, или, по мнению Иоанна, даже словом Бога, облеченным в человеческую плоть. Поэтому в их жизнеописании Христа рассказ об учительской деятельности Иисуса расцвечивается множеством чудес и знамений, а изложение его учения ведется ими под таким же «чудесным» углом зрения, так что у них в евангелиях Иисус высказывает о себе такие вещи, каких ни один здравомыслящий человек не решится высказать о себе. В-третьих, Платон и Ксенофонт дают по существу сходные, а нередко и тождественные показания о Сократе, а показания несходные отлично совмещаются друг с другом и в результате дают единую и цельную картину, и если Ксенофонт недооценивает философское значение Сократа, а Платон произвольно искажает иногда учение Сократа и приписывает ему собственные, платоновские идеи и взгляды, то всё-таки нетрудно восстановить истину путем сравнения и взаимной проверки того, что сообщают оба писателя; наконец, погрешности и ошибки их оказываются извинительными, либо потому, что они не произвольны (как у Ксенофонта), либо потому, что писатели (как Платон) не претендуют на авторитет историков. Наоборот, как трудно совместить и сочетать Христа Матфеева с Христом Иоанновым и как авторитетно утверждают оба евангелиста, и в особенности Иоанн, что их рассказ есть сама истина!.. Словом, известия об Иисусе несравненно менее достоверны исторически, чем известия о Сократе, и причина этого различия коренится в несходстве соответствующих эпох и народностей. Образ Сократа создавался в чистой атмосфере и при ярком свете аттической образованности и просвещения, а образ Иисуса создавался во мгле иудаистских предрассудков, иудейских суеверий и александрийского мистицизма, и потому неудивительно, что он утратил свой первичный человеческий облик.
Нередко возражают, что пробелы в евангельских рассказах об Иисусе с избытком восполняются тем обстоятельством, что детище Иисуса — христианская церковь — доныне существует и может послужить исходным пунктом для умозаключений о ее творце, об Иисусе. Так и о личности Шекспира мы тоже обладаем крайне скудными историческими сведениями, и его биография тоже изобилует сказочными элементами, однако нас это обстоятельство мало смущает, так как по произведениям Шекспира мы можем воссоздать образ самого Шекспира. Но такая параллель была бы убедительна, если бы до нас дошли подлинные произведения пророка Галилейского (Иисуса), как дошли до нас произведения великого английского поэта (Шекспира). Но евангелие Христа прошло через множество различных рук, и авторы евангельских рассказов не стеснялись дополнять, урезывать и изменять евангелие Иисуса, а христианская церковь даже в своем первоначальном виде, в изображении новозаветных писателей, определялась не только личностью самого Иисуса, но также многими иными факторами, так что умозаключать об Иисусе, исходя из существования христианской церкви, представляется делом весьма рискованным. На представлении о воскресшем из мертвых Христе утверждена Христова церковь, но Христос воскресший отнюдь не тождествен с Христом-человеком, а потому и представление о нём, о его земной жизни и общине извратилось в такой мере, что начинаешь сомневаться, узнал ли бы Иисус самого себя в том Христе, о котором говорила христианская община, если бы он вновь пришел на землю например, в эпоху разрушения Иерусалима.
Я лично полагаю, что неправы те, которые утверждают, что ни одно из изречений, приписанных евангелистами Иисусу, нельзя положительно признать изречением аутентичным, или подлинным. Я полагаю, что в евангелиях есть такие изречения, которые с известной исторической вероятностью можно признать за подлинные изречения Иисуса, и я попытался указать те признаки, по которым можно опознать такие настоящие изречения Иисуса. Но в этом отношении нельзя заходить далеко, и сообщения евангелистов о деяниях и фактах жизни Иисуса (за исключением его поездки в Иерусалим и смерти) весьма неправдоподобны вообще. Бесспорных, твердо установленных фактов в этих рассказах мало, а относительно того, на что именно опирается вера церковная относительно чудес и сверхъестественных деяний Иисуса, приходится сказать, что их в действительности не было и быть не могло. Поэтому нелепо утверждать, что асе блаженство и спасение человека зависит от веры в то, что немыслимо в действительности или представляется сомнительным и проблематичным; и в наше время нелепость подобных утверждений уже не приходится доказывать.
§100.
Нет! спасение и блаженство человека или, выражаясь понятнее, возможность выполнить предназначение, развить врожденные силы и добиться соответствующей степени благосостояния не может, по справедливому замечанию Реймаруса, зависеть от признания таких фактов, исследованием которых в силах заняться разве лишь один человек из тысячи и изучение которых всё же не приводит к положительному результату. Наоборот, так как человеческая миссия обща и обязательна для всех людей, то и условия, которые дают возможность выполнить ее, тоже должны быть предоставлены всем людям, и сознание преследуемой цели должно быть не случайным и внешним историческим сознанием, а внедренным в человеке необходимым рассудочным сознанием. Именно таков смысл глубокомысленного изречения Спинозы, что для спасения души вовсе не нужно познавать Христа по плоти, а нужно лишь познать извечного сына Божия или ту «премудрость Божию», которая сказывается во всех вещах вообще и в человеческом духе в особенности и которая ярко проявилась в Иисусе Христе: без этого познания никто действительно не может спастись, потому что лишь оно нам говорит, что истинно и ложно, что хорошо и худо. Кант, как и Спиноза, отличал историческую личность Иисуса от идеала праведного человека или чистой морали, внедренного разуму человеческому; возвыситься до этого идеала, по мнению Канта, — долг человека, но хотя подобный идеал мы представляем себе в образе совершенного человека и хотя возможно, что когда-нибудь такой человек существовал, однако совсем не нужно познать лично такого человека или веровать в него.[246] Нужно лишь помнить об идеале, признавать его обязательным и стремиться приблизиться к нему.
Отличать исторического Христа от Христа идеального, от заложенного в разуме человеческом нормального прототипа человека и относить спасительную веру человека от первого к последнему повелевают нам неотразимые доводы истории развития духа; в этом состоит то прогрессивное превращение религии Христа в религию гуманности, к которому направлены все благородные стремления нашего времени. В этом нередко видят измену христианству, отрицание Христа, но такой взгляд покоится на недоразумении, в котором отчасти виноваты сами философы, установившие вышеуказанное различие. Они выражались так, будто прототип человека совершенного, которым должен руководиться каждый человек, дан раз навсегда в разуме, поэтому могло казаться, что этот прототип, то есть идеальный Христос, внедрен в нас постоянно, хотя бы исторический Христос никогда не существовал. В действительности же это не так. Идея человеческого совершенства, как всякая идея, внедрена человеческому духу лишь как початок или зародыш, который постепенно может быть развит эмпирическим путем. Она облекается в разные формы у разных народов в зависимости от естественных условий и исторических отношений и прогрессирует или развивается в самом процессе истории. Римлянин представлял себе нормального человека иным, чем грек, а иудей иным, чем римлянин и грек, и, наконец, грек послесократовской эпохи представлял его себе иным, чем грек эпохи досократовской. Каждый морально выдающийся человек, каждый великий мыслитель, исследующий поведение человека, способствует так или иначе исправлению, дополнению и дальнейшему развитию этой идеи. В ряду подобных разработчиков человеческого идеала одно из первых мест в любом случае занимал Иисус. Он сообщил идеалу некоторые новые черты, которые ранее в нём отсутствовали или были недостаточно развиты; он устранил из идеала многие черты, которые ему мешали обрести всеобщее признание и авторитет; придав ему религиозную окраску, он сообщил ему характер высокого священного авторитета, а воплотив его в своем лице, он оживил его, и учрежденная им религиозная община насадила этот идеал во всём человечестве. Правда, религиозная община Иисуса исходила из других соображений, а не из нравственного идеала своего учредителя, поэтому она и представляет его не в чистом и цельном виде. В Откровении (Апокалипсисе) Иоанна, единственном новозаветном произведении, написанном, по-видимому, подлинным учеником Иисуса, выведен такой Христос, который ничем не обогатил идеал человечности, но те черты терпимости, кротости и человеколюбия, которые преобладают в образе Иисуса, внедрились в человечестве и представляются зародышем, из которого впоследствии развилось всё то, что мы ныне называем гуманностью.
Однако как ни велика роль и значение Иисуса в деле развития идеала человечности, но в этом отношении он не был ни первым, ни последним деятелем. Он имел предшественников в Израиле и Элладе, на Ганге и на Оксусе, и, с другой стороны, он имел преемников, которые продолжали развивать идеальный прототип человека, дополняя его и сглаживая в нём противоречивые черты. Нельзя отрицать того, что в учении и жизни Иисуса некоторые черты развиты всесторонне, но многие только намечены и наскоро набросаны. Развито всё то, что имеет отношение к боголюбию и человеколюбию, к индивидуальной нравственности; но семейная жизнь человека уже отступает на второй план в учении бессемейного Иисуса; взгляд Иисуса на государство характеризуется пассивностью; к профессиональному труду и заработку, к «любостяжанию» он относится отрицательно, и всё, что касается искусства и житейского комфорта, он игнорирует совершенно. Без сомнения, такой пробел, такая односторонность в учении Иисуса обусловливались отчасти иудейским происхождением его, отчасти же и духом времени и отношениями личной жизни Иисуса. Пробел объясняется не тем, что недостаточно развит и проведен был руководящий принцип. Напротив, Иисус никогда не понимал ни государственности, ни профессионального труда, ни искусства. Поэтому невозможно и указать, как должен жить и вести себя человек-гражданин, как должен он обогащать и украшать жизнь свою на поприще труда и искусства, следуя наказам и поучениям Иисуса. Этот пробел приходилось заполнять в условиях иной народности, иного времени, иной государственности и общественности, и этим делом занялись не только греки и римляне в древности, но и другие исторические народы последующих эпох.
Однако наиболее удачны были те попытки дополнения и развития учения Иисуса, которые исходят из той мысли, что само учение Иисуса есть продукт человеческого творчества, поддающийся и подлежащий дальнейшему развитию. Но если мы считаем Иисуса Богочеловеком, образцом и прототипом, безусловно и исключительно обязательным, от самого Бога человеку предуказанным, то, разумеется, необходимо отказаться от всякой попытки дополнить и развить этот «образец», необходимо возвести его односторонность и неполноту на степень правила и относиться отрицательно к тем сторонам человеческой деятельности, которых учение Иисуса не отмечает. Мало того, если кроме нравственного идеала, представляемого Иисусом, мы будем признавать, что сам Иисус есть Богочеловек, в которого мы должны веровать, как веруем в его идеал-прообраз, дабы обрести спасение и блаженство, то на второй план отойдет всё то, что мы считаем главным: нравственное величие Иисуса и его престиж умалятся, нравственный долг, обязательность которого обусловливается внедрением его в человеческую натуру, осветится ложным светом положительной, императивной заповеди Божией. Поэтому и критик убежден, что он не святотатствует и не богохульствует, а делает благое и нужное дело, когда он обнаруживает, что всё, что обращает Иисуса в сверхчеловеческое существо, есть благонамеренный самообман, может быть, полезный временно, но вредный и даже гибельный, если он длится долго, когда он, критик, восстановляет образ исторического Иисуса в его человеческих чертах, когда человечеству во имя спасения его он указывает на идеального Христа, на тот моральный идеал-прообраз, в котором исторический Христос создал и осветил некоторые важные черты; но этот идеал есть задаток и достояние всего человечества, а дальнейшее развитие его составляет задачу и продукт деятельности того же человечества.
Примечания
[1]
При чтении книги Штрауса следует учесть, что в немецком языке значение термина «евангелический» определяется контекстуально: он обозначает либо то, что относится к евангелию как благовестию, либо (как в данном случае) тождествен понятию «лютеранский».
(обратно)[2]
Встречается еще одно ее название — Тюбингенская историческая школа. Полноты ради и во избежание путаницы необходимо отметить, что примерно в это же время возникает также Тюбингенская теологическая школа, основанная И.А. Мёлером. Ее базой была католическая семинария, переведенная в 1817 году из Эльвангена в Тюбинген и преобразованная в католический богословский факультет, влияние которого было сравнительно невелико. Школа Мёлера в целом ориентировалась на традиционное толкование христианства, однако в ней были активны немецкие старокатолики, остро критиковавшие римско-католический догматизм и выступавшие за независимость от папского престола (чего им и удалось достичь после 1870 года).
(обратно)[3]
Das Leben Jesu. Kritisch bearbeitet von D.F. Strauß. Tübingen, 1835–1836. Bde 1–2.
(обратно)[4]
Streitschriften. Tübingen, 1837. Th. 1–3.
(обратно)[5]
Das Leben Jesu für das deutsche Volk bearbeitet von D.F. Strauß. Lpz., 1864. Bde 1–2.
(обратно)[6]
Штраус Д. Старая и новая вера. СПб, 1906. С. 14.
(обратно)[7]
Das Leben Jesu. Tübingen, 1835. Bd. 1. S. 87.
(обратно)[8]
Das Leben Jesu. Tübingen, 1836. Bd. 2. S. 734.
(обратно)[9]
Strauß D. Krieg und Friede. Zwei Briefe an Renan nebst dessen Antwort auf den ersten. Lpz., 1870. (Книга была сразу же переведена на многие европейские языки, включая русский.)
(обратно)[10]
Ziegler Th. David Friedrich Strauß. Straßburg, 1908. S. 666.
(обратно)[11]
Ницше Ф.. Давид Штраус в роли исповедника и писателя. М. 1904. С. 1.
(обратно)[12]
Косвенно это признаёт сам Ницше в «Антихристе»: «Далеко то время, когда и я, подобно всякому молодому ученому, с благоразумной медлительностью утонченного философа смаковал произведение несравненного Штрауса».
(обратно)[13]
Речь идет о работе «Жизнь Иисуса, критически обработанная Давидом Фридрихом Штраусом», вышедшей в двух книгах в 1835–36 гг. С некоторыми изменениями она переиздавалась четырежды. «Вторым изданием» (с которого осуществлен русский перевод) Штраус называет обновленное — по содержанию и структурно — исследование, опубликованное в 1864 г. под прежним названием, но с новым подзаголовком: «Жизнь Иисуса, обработанная для немецкого народа Давидом Фридрихом Штраусом». Встречающиеся в тексте данной книги ссылки Штрауса на «Жизнь Иисуса» относятся к первому изданию.
(обратно)[14]
Писатель и эстетик И.К. Готшед (1700–1766), стоявший на позициях умеренного просветительского рационализма, был участником многих дискуссий по проблемам немецкого литературного языка, театра, эстетики. В частности, он резко полемизировал со склонным к мистической «поэтике чувства и фантазии» И.Я. Бодмером и др. немецкими просветителями-классицистами, группировавшимися вокруг журнала «Разговоры живописцев», издававшегося в Цюрихе, — отсюда термин «швейцарцы», вошедший в историографию культуры. «Швейцарцы» критиковали догматическую приверженность Готшеда строгим канонам художественного творчества, в частности, разработанной им системе «поэтологических правил».
(обратно)[15]
Рационализм в широком смысле слова обозначает полагание на человеческий разум, его способность понять и объяснить любое природное или культурное явление. Своим противопоставлением рационализма супранатурализму Штраус подчеркивает, что рационалистическое объяснение основывается на принципах естественной закономерности и причинности, исключающих чудо и вообще любые сверхъестественные явления и факторы. Однако, говоря в последующем о рациональной теологии и рационалистической критике религии, Штраус придает данному термину характерную спецификацию: рационализм означает признание только тех религиозных положений, которые согласуются с разумными основаниями и доводами, в частности, он выступает против буквального понимания библейских историй и эпизодов, рассматривая их как иносказания, сводя к историческим реалиям или давая им правдоподобное естественное объяснение. Рационализм в последнем смысле имеет важные заслуги в борьбе с догматической теологией, однако он часто сам является утонченным или скрытым оправданием религиозных догматов.
(обратно)[16]
Отзвук полемики между протестантизмом и католицизмом. Протестантизм противопоставлял принцип общины (конгрегации), наделенной значительной автономией, римско-католической централизованной иерархии, которая превращала церковь в посредника между Богом и человеком, то есть наделяла огромной властью клир.
(обратно)[17]
Выражая свою поддержку движению за объединение Германии, Штраус рассматривает далее последствия контрреформации, приведшей к сохранению или восстановлению влияния католицизма в ряде южногерманских государств, как важнейшее к тому препятствие. Однако в XIX в. главными политическими силами, стремящимися возглавить объединительный процесс, были Австрия и Пруссия. К тому времени и религиозные движения в целом выступали за объединение, но католическая церковь тяготела к австрийскому варианту. Реальная картина соотношения социальных объединительных факторов была много сложнее. Штраус, упрощая эту картину, преувеличивает значение религиозной конфронтации. Реалистически оценивая паритет религиозных сил и делая вывод о необходимости отказа от амбициозных притязаний обеих сторон, он видит выход в полагании на «третью точку зрения» (она окажется созвучной политике Бисмарка, возглавившего в 1862 г. правительство Пруссии).
(обратно)[18]
Сформировавшееся в 1844–1845 гг. движение либеральных католиков, выступавшее за веротерпимость, большую независимость национальных католических церквей от Рима, упрощение обрядности, а также объединение немецких христиан в одну церковь, которая могла бы стать фактором национального объединения Германии.
(обратно)[19]
«Друзья просвещения» (буквально — «света») — объединение либеральных протестантов, возникшее в 1841 г. в значительной мере под влиянием рационалистической критики религии. В вопросах веры оно придавало главное значение совести и индивидуальному религиозному сознанию, отказывалось рассматривать Библию как единственное и догматическое основание принципов и норм христианства и также отстаивало идею религиозного единства нации. Поражение революции 1848–1849 гг. привело к ослаблению и расслоению обоих движений. Ряд их участников стали создавать объединенные церковные общины и в 1859 г. основали «Союз свободных религиозных общин», платформа которого сочетала принципы веротерпимости и экуменизма с элементами свободомыслия.
(обратно)[20]
Имеется в виду работа французского исследователя Ж.Э. Ренана «Жизнь Иисуса» (1863), составившая первую книгу многотомной «Истории первых веков христианства».
(обратно)[21]
Термин «прагматический» (от греч. «прагма» — дело, действие; «прагматикос» — практический, прикладной) имеет давнюю историю, он встречается у Аристотеля и Полибия. В Новое время он часто использовался для характеристики историографических работ, которые преследовали цель извлечь из изучения прошлого практические уроки и рекомендации для настоящего. В своих «Лекциях по философии всемирной истории» Гегель уделил специальное внимание критическому анализу так называемой прагматической истории (см.: Сочинения. М.; Л., 1935. Т. 8. С. 7–8). Применительно к биографическому жанру «прагматическое» означало жизнеописание обычно выдающихся личностей, которое полагалось поучительным и полезным в качестве примера для подражания и следования. Штраус, говоря о прагматической биографии Христа, чаще имеет в виду жизнеописание через призму сугубо мирских, обыденных, преимущественно нравственных представлений.
(обратно)[22]
См. прим. [13].
(обратно)[23]
Социнианство — от имени основоположника Ф. Социна (1539–1604) — радикальное течение в протестантизме, отрицавшее догмат троичной ипостаси Бога, рассматривавшее Иисуса как человека, праведничество которого указало людям путь к спасению и который обрел божественные свойства после воскресения. Принимая Священное Писание как источник вероучения лишь в той мере, в какой оно не противоречило принципам разума, социниане способствовали развитию рационалистической критики догматики. Социнианство было осуждено как ересь всеми основными направлениями христианства.
(обратно)[24]
Опубликованные Г.Э. Лессингом в 1774–1778 гг. отрывки из якобы обнаруженной в руководимой им в то время Вольфенбюттельской герцогской библиотеке (отсюда название) рукописи неизвестного автора. На деле это была работа Г.С. Реймаруса (1694–1768) «Апология, или сочинение в защиту разумных почитателей Бога», в которой критиковалась догматическая, в том числе лютеранская, христианская теология. Отвергая атеизм, Реймарус стоял на позициях деизма и естественной религии. Опираясь на философию Б. Спинозы и Хр. Вольфа, он подверг сомнению религию откровения и возможность чуда, высказался за исторический подход к Новому завету и личности Иисуса, отстаивал принцип веротерпимости. Публикация «Фрагментов» была продолжена и в XIX веке, авторство Реймаруса обнародовано в 1814 г.
(обратно)[25]
Ессеи — члены иудаистской оппозиционной секты. Поборники благочестия и чистоты нравов, они стремились осуществить утопические проекты духовного благоденствия в рамках изолированных от остального социального мира сообществ (вероятно, они входили и в Кумранскую общину). Еще до христианской эпохи они верили в мессию, который воскреснет из мертвых, что, видимо, и послужило основанием для сомнительного предположения Паулуса о ессеях, охраняющих гроб воскресшего Иисуса. Скудные сведения о ессеях имеются у Иосифа Флавия, Плиния Старшего, Филона Александрийского. В Библии не упоминаются.
(обратно)[26]
Учение раннехристианской секты эбионитов (евр. «эвионим» — нищие) исходило из того, что Иисус — человеческое существо, кровный сын Марии и Иосифа. На него сошел Святой Дух, но он не является вочеловечившимся Богом. Докетизм (греч. «докео» — казаться) — еретическое учение II–III вв., отрицавшее соучастие человеческого в природе Христа (то есть идею богочеловека) и реальность Божественного воплощения. Согласно докетизму. Бог не может физически страдать и умирать, земная жизнь Иисуса лишь видимость, сотворенная в религиозно-воспитательных целях.
(обратно)[27]
Эти лекции до сих пор не опубликовались; у меня есть выписки, которые я сделал из двух конспектов лекций. — Прим. авт.
(обратно)[28]
Локсий (от греч. «локсиас» — извилистый) — один из эпитетов Аполлона как покровителя Дельфийского оракула, указывающий на запутанность и неопределенность оракульских предсказаний. Переносный смысл данного термина используется для указания на двурушника, носителя двусмысленных суждений.
(обратно)[29]
Hase K. Leben Jesu. 1854. §48. — Прим. авт.
(обратно)[30]
Так считает Газе. (См. Hase K. Leben Jesu. §49.) — Прим. авт.
(обратно)[31]
Греческий термин «логос» многозначен, что создает трудности при истолковании античных текстов. Он часто используется для обозначения понятий «слово», «учение», «мысль», даже «законосообразность» и др. В Евангелии от Иоанна «Логос» обозначает Божье «Слово» как космотворящий принцип, через который «все… начало быть» (Ин. 1:1–3), а затем он синонимичен Христу: «И Слово стало плотию и обитало с нами…» (Ин. 1:14). Считается, что первые слова своего евангелия «В начале было Слово…» апостол Иоанн произнес по внезапному чудесному вдохновению, что давало основание трактовать всё Иоанново Благовестие как богодухновенное раскрытие изначального понятия. В раннехристианском мистицизме «Логос» интерпретировался как своеобразное посредствующее звено между Богом и тварным миром.
(обратно)[32]
Hase K. Leben Jesu. §65. — Прим. авт.
(обратно)[33]
Hase K. Leben Jesu. §26. — Прим. авт.
(обратно)[34]
В порядке следования в каноне так называемые синоптические евангелия (см. прим. [78]) Матфея, Марка и Луки являются первыми, за ними следует четвертое евангелие — Иоанна. Проблема адекватности жизнеописания Иисуса связана с тем, что из четырех евангелистов в число его непосредственных учеников входили только Матфей и Иоанн. Лука стал спутником и учеником святого Павла уже после смерти Иисуса, хотя существует предположение (надежно не подкрепленное), что он был в числе 70 учеников, избранных Христом для проповеди своего учения (Лк. 10:1). К их числу иногда относят и Марка, которого церковная традиция считает учеником апостола Петра. Наибольшую ценность могла представлять информация, идущая от непосредственных участников и очевидцев излагаемых событий. Рационалистическая библеистика поэтому критически относилась к описанию Матфеем рождения Иисуса, его крещения и особенно событий, не упоминаемых в других евангелиях (поклонение волхвов, Вифлеемское избиение младенцев и др.). Кроме того, у синоптических евангелий прослеживался один общий источник, они сложились позже, чем считала официальная церковная историография (см.: Ленцман Я.А. Сравнивая евангелия. М., 1967. С. 38–41), — всё это свидетельствовало об их неоригинальности и вызывало сомнения относительно апостольского авторства. В этом отношении Евангелие от Иоанна многим исследователям представлялось наиболее надежным и подлинно «апостольским» свидетельством: Иоанн, будучи учеником Иоанна Предтечи, был очевидцем крещения Иисуса и сопровождавших этот акт чудесных явлений; он сразу последовал за Мессией, а после того как спустя некоторое время был призван Христом к апостольскому служению, уже не расставался с ним до момента казни, затем удостоверил личность воскресшего Христа и был очевидцем его вознесения. Иными словами, евангелист Иоанн мог выступать как свидетель, хотя благонадежность его свидетельств также вызывает у исследователей сомнения.
(обратно)[35]
Hase K. Leben Jesu. §116. — Прим. авт.
(обратно)[36]
Ibid. §120. — Прим. авт.
(обратно)[37]
Ibidem. — Прим. авт.
(обратно)[38]
Ibid. §116, 120. — Прим. авт.
(обратно)[39]
Имеется в виду спекулятивная натурфилософия Ф.В.Й. Шеллинга (1775–1854), которая неизвестные ей факты и связи заменяла воображаемыми связями, замещая недостающее знание смелыми предположениями и вымыслом. С одной стороны, это вело к гениальным догадкам и предвосхищению позднейших открытий, с другой — к фантастическому вымыслу. Это роднит натурфилософию с романтизмом в художественном мышлении и трактовке религиозно-мифологического сознания.
(обратно)[40]
Конечных причин — здесь: целевых причин.
(обратно)[41]
Речь идет о конкретном эпизоде межконфессионального противоборства, определить который не удалось. Суть конфликта проясняется в свете того, что представлявший интересы реформатской церкви Эбрард, с одной стороны, критиковал как католицизм, так и либеральный протестантизм, с другой стороны, выступал за союз реформатов и евангелистов-лютеран. Однако кальвинистский (пресвитерианский) конфессионализм реформатов не был приемлем для евангелической церкви и вызывал с ее стороны резкое противодействие.
(обратно)[42]
Штраус ссылается на оценку книги Эвальда, данную им ранее во вступительной статье к переведенным (с латыни на немецкий язык) и изданным им «Диалогам» Ульриха фон Гуттена (Gesprache von Ulrich von Hutten. Leipzig, 1860. S. XXXVIII–XLIV).
(обратно)[43]
Аллюзия на «пекторальную теологию», основателем которой был Неандер. Название происходит от его формулы: «Сердце (пектус) создает теолога». — Прим. авт.
«Пекторальная теология» (от лат. «пектус» — душа, сердце) «теология сердца» или «душевная теология». Понятие введено Неандером, согласно которому ограниченность разума предполагает решающую роль в богопостижении чувств и эмоций («сердца»), то есть того, чего, по Неандеру, недостает догматическому теологу.
(обратно)[44]
Работа Цицерона «Брут, или О славных ораторах», посвященная истории красноречия в Риме.
(обратно)[45]
Письма Плиния Младшего. VI 16; III 5, 21. — Прим. авт.
(обратно)[46]
Nebel W. Über Entstehung und Verfasser de Dr. Nicodemus Frischlin zugeschribenen Gedichts von St. Christoffel // Anzeiger für Kunde dt. Vorzeit, 1861. № 10–11. — Прим. авт.
(обратно)[47]
Особенно поучительна в этом отношении статья Целлера о Тюбингенской исторической школе в «Историческом журнале» фон Зибеля. — Прим. авт.
Опубликованная в 1860 г. статья Э. Целлера «Тюбингенская историческая школа» интересна не только тем, что она представляла собой одну из первых попыток теоретически осмыслить новые подходы к библейской критике, но и тем, что в период, когда выявились теоретические расхождения и охладились личные отношения между Бауром и Штраусом, Целлер (зять Баура) допустил в ней исторические и оценочные некорректности, выразившиеся прежде всего в замалчивании вклада Штрауса в укрепление авторитета и влияния Новотюбингенской школы.
(обратно)[48]
Из евангелистов о переписи населения Иудеи, проводившейся по распоряжению Сульпиция Квирина, говорит лишь Лука. В Деяниях апостолов без упоминания Квирина — рассказывается о мятеже против переписи, который возглавил Иуда Галилеянин, вскоре погибший (5:37). Сама перепись — факт исторический: писатель и историк Иосиф Флавий, повествуя об антиримских выступлениях, сообщает об агитации Иуды Гавлонита (иначе Гаваонитянина, или Галилеянина) против переписи Квирина (Иуд. древн. XVIII 1, 1; Иуд. война II 8, 1). О ней также писали Юстин и др. авторы, но без строгой документальной базы. Установлено, что перепись имела место в 6 или 7 г. нашей эры, то есть значительно позже времени предполагаемого рождения Иисуса (см.: Робертсон А. Происхождение христианства. М., 1959. С. 259; Косидовский 3. Сказания евангелистов. М., 1977. С. 150).
(обратно)[49]
Позднее библеисты пришли к выводу, что «Деяния Пилата», упоминаемые Юстином и Тертуллианом, с одной стороны, и инкорпорированные в апокрифическое (см. примечание [51]) Евангелие Никодима (русскоязычная публикация — Наука и религия. 1990. №№ 5–8), с другой, — разные сочинения.
(обратно)[50]
Евсевий. Церковная история I 13. — Прим. авт.
(обратно)[51]
Здесь и далее Штраус ссылается на книги, не вошедшие в канон Нового завета, — так называемые апокрифы, многие из которых раннехристианскими сектами почитались (часто негласно) как священные тексты (греч. «апокрифос» — тайный, секретный). Их число было значительным, причем некоторые существовали в нескольких вариантах. Евангелие Двенадцати Апостолов относится к числу иудеохристианских апокрифов, важнейшие из которых — сохранившиеся лишь в отдельных фрагментах евангелия эбионитов, назореев и евреев. Возможно, Евангелие эбионитов совпадает с Евангелием Двенадцати Апостолов, а Евангелие назореев представляет собой версию первоначального арамейского текста Матфея. Подробнее об апокрифической литературе см.: Апокрифы древних христиан. Исследования, тексты, комментарии. М., 1989; Свенцицкая И.С. Раннее христианство: страницы истории. М., 1988; Донини А. У истоков христианства. М., 1989.
(обратно)[52]
Евсевий. Церковная история III 39, 16; 24, 6. — Прим. авт.
(обратно)[53]
Евсевий. Церковная история III 35, 15. — Прим. авт.
(обратно)[54]
Там же. V 8, 2; VI 14, 6; II 15, 2. — Прим. авт.
(обратно)[55]
Высказывания Юстина можно найти в любом введении к изучению Нового завета, поэтому специально здесь я их не привожу. — Прим. авт.
(Штраус имеет в виду распространенный жанр введений к Священному Писанию, выполняющих преимущественно учебно-педагогическую и религиозно-просветительскую функции. Авторитетными были получившие широкое хождение работы одного названия — «Введение в Новый завет», принадлежащие И.Г. Эйхгорну, Ф.Д. Шлейермахеру, Де Ветте и другим авторам.)
(обратно)[56]
В «Гомилиях» (от греч. «гомилиа» — собеседование, обучение), то есть в работе Климента Александрийского «Увещевание» (или «Беседы»), адресованной язычникам, побуждаемым принять христианство.
(обратно)[57]
Гностицизм (греч. «гностикос» — познающий, знающий) — философское направление поздней античности и раннего средневековья, которое исходило из идеи эманации («истечения») абсолюта, конечным итогом чего был природный мир. Постижение человеком Бога (возвращение к «Единому») считалось возможным лишь посредством экстатического слияния с ним индивидуальной души. Такое понимание богопознания противопоставлялось рациональному размышлению и обычной вере. Гностицизм получил достаточно широкое распространение в христианстве I–III вв. Его мистико-пантеистические моменты подрывали идею креационизма, поэтому он с самого начала преследовался церковью как еретическое учение.
(обратно)[58]
Ориген. Против Цельса. II 27. — Прим. авт.
(обратно)[59]
Евсевий. Церковная история III 39, 17. — Прим. авт.
(обратно)[60]
Светоний. Божественный Юлий. 56. — Прим. авт.
(обратно)[61]
То, что в так называемом Послании Поликарпа нет никакой ссылки на четвертое евангелие, доказывало бы, что не Иоанн является его автором, только в том случае, если бы послание действительно исходило от Иоаннова ученика Поликарпа; впрочем, это равносильно допущению, что послание приписано Поликарпу вскоре после его мученической смерти. — Прим. авт.
(обратно)[62]
Параклетос — у Лютера переводится как утешитель; но лучше — заступник, защитник. — Прим. авт.
Здесь за текстологическим моментом скрывается концептуальное расхождение, т.к. греческое «параклейтос» может быть переведено и как «заступник», и как «утешитель». Ср. русский перевод в синодальной Библии: «Утешитель же, Дух Святый, которого пошлет Отец во имя Мое…» (Ин. 14:26).
(обратно)[63]
В I–IV вв. Александрия становится местом средоточия ученых и философов (в числе последних — Филон, Ориген, Плотин, Евдор и др.) и важнейшим центром религиозно-философской мысли, в которой сталкивались, сочетались и соединялись идеи позднего стоицизма, неоплатонизма, неопифагореизма, с одной стороны, иудео-христианства и гностицизма — с другой. Доминирующими были тенденции к монотеизации мировосприятия и утверждению мистицизма в вопросах богопознания. Особое значение обрело учение о божественной эманации, ведущее к иерархизации мира, важнейшими ступенями которой были Логос, как посредник между творцом и объектами творения, и мир идей, часто обозначаемых аристотелевским термином «эйдосы», как прообразов вещей. В богословской мысли определенные классы эйдосов трактовались как существа ангельской природы, как пресуществующие души людей и т.д. Различные теоретические течения чаще представляли собой школы в неформальном смысле слова, однако нередко они институционализировались (например, неоплатоническая школа Аммония, христианская школа Оригена). Иногда все названные течения обозначаются собирательным термином «Александрийская школа». Религиозно-философские представления Александрийской эпохи оказали заметное влияние на первоначальное христианство и раннюю схоластику.
(обратно)[64]
Безосновательно приписывавшаяся некоторыми исследователями Оригену работа неизвестного компилятора («Псевдо-Оригена»), обнаруженная в середине прошлого столетия и опубликованная в 1851 г. Она включала в себя сочинение христианского писателя конца II – первой половины III в. Ипполита «Опровержение всех ересей», содержащее важную информацию о гностицизме, и в современной литературе обычно фигурирует под названием «Философумена Ипполита».
(обратно)[65]
Офиты, валентинианцы — названия гностических школ и течений. Ввиду того, что церковь старательно уничтожала сочинения гностиков, во времена Штрауса представления об их воззрениях были неполны. Многое прояснилось после обнаружения в 1945 г. в Наг-Хаммади (Египет) коптско-гностических манускриптов (см.: Трофимова М.К. Историко-философские вопросы гностицизма. М., 1979).
(обратно)[66]
Эон (греч. «айон» — век, вечность) — многозначный термин, который в эпоху эллинизма использовался для обозначения мира, вечности, мировых (космических) эпох. В христианстве эон — период земной истории, завершающейся «концом света» и Страшным судом; в гностицизме — название определенных стадий эманации Бога, воплощающих абстрактные сущности типа логоса, истины или идею будущего Божьего царства («грядущий эон»).
(обратно)[67]
Монтанизм — близкое к гностицизму религиозное течение, основанное во второй половине II в. бывшим жрецом богини Кибелы Монтаном, объявившим себя предвестником второго пришествия. Движение отражало недовольство социальных низов усилением власти церкви и клира, имущественными контрастами в христианской среде и стремилось возродить традиции первоначального христианства. Монтанисты проповедовали близкий конец света, аскетизм и пуризм, не поощряли браки и накопление богатства. Их учение было осуждено церковью.
(обратно)[68]
Евсевий. Церковная история. V 16–19. — Прим. авт.
(обратно)[69]
Евсевий. Церковная история. III 39, 13. — Прим. авт.
(обратно)[70]
Штраус имеет в виду давно возникшие и подкрепляемые современной библеистикой сомнения в том, что автором Апокалипсиса был апостол Иоанн. «Расстояние между архаизмом Апокалипсиса и сложным богословствованием в четвертом евангелии столь велико, что оно не укладывается в обычные рамки жизни одного человека» (Козаржевский А.Ч. Источниковедческие проблемы раннехристианской литературы. М., 1985. С. 93). Один «из учеников Оригена», которому удалось обнаружить неоднородность указанных двух книг Нового завета — Дионисий Александрийский (см.: Евсевий. Церковная история. VII 25). Эту неоднородность Штраус подчеркивает примером схожей несовместимости полной гражданского пафоса драмы Лессинга «Натан Мудрый» и пронизанной пиетистскими мотивами поэмы Клопштока «Мессиада».
(обратно)[71]
См. основную по этому вопросу работу Фишера о выражении «иудайай» в Евангелии от Иоанна (Zeitschrift für Theologie. 1864. №2). — Прим. авт.
(обратно)[72]
Об умонастроении римского общества и Лженероне см.: Тацит. История. I 2, 8; Светоний. Нерон. 57. — Прим. авт.
(обратно)[73]
Евсевий. Церковная история. III 28, 6. И напротив, рассказ о так называемом завещании Иоанна у Иеронима, давший повод Лессингу написать одно из лучших его маленьких сочинений («Завещание Иоанна». — Ред.), появился из осмысления Евангелия и Первого послания Иоанна. — Прим. авт.
(обратно)[74]
Николаиты — древняя секта, учение которой связывалось с проповедью свободы нравов и стало символом аморализма. Возможно, основателем секты был упомянутый в Деяниях апостолов Николай Антиохиянин (эта точка зрения оспаривается), имя которого полагалось равнозначным имени ветхозаветного персонажа Валаама, ввергнувшего древних израильтян в идолопоклонство и распутство.
(обратно)[75]
Из послания Поликарпа к Виктору. (Евсевий. V 24, 16.). — Прим. авт.
(обратно)[76]
Квартодецимитах — буквально «четырехнадесятниках», то есть сторонниках празднования Пасхи в 14-й день месяца Нисан.
(обратно)[77]
В указанном месте Пасхальной хроники говорится: согласно им выходит, будто евангелия друг другу противоречат (стасиазейн). Я вместе с Швеглером и Бауром считаю ошибочной всякую попытку трактовать «стасиазейн» иначе, чем «противоречить друг другу». Аполлинарий достигает согласованности четырех евангелий относительно дня последней трапезы, сводя три первых к четвертому, — не задумываясь над тем, что оппоненты, утверждающие такое согласие возведением Иоанна к синоптикам, могли бы возвратить ему, толковавшему Иоанна иначе, его же упреки. — Прим. авт.
(обратно)[78]
Термин «синоптический» происходит от греческого слова «синоптикос» — обозревающий всё вместе. Синоптическими («совместно обозреваемыми») евангелиями называются канонические благовествования Матфея, Марка и Луки, поскольку в них, по существу, совпадает примерно треть их содержания, что явилось основанием для предположения о наличии у них общего источника. Понятия «синоптические евангелия» и «синоптики» (то есть их предполагаемые авторы) были введены И.Я. Грисбахом.
(обратно)[79]
Впервые Эйхгорн изложил свою точку зрения в 1794 году в 5-м томе своей «Всеобщей библиотеки», затем изложил ее в уточненном виде, с учетом появившихся за это время возражений, в своем «Введении в Новый завет». — Прим. авт.
(обратно)[80]
Шлейермахер Ф. Речи о религии. — Прим. авт.
(обратно)[81]
Schulz. Die Lehre vom heiligen Abendsmahl (1824). — Прим. авт.
(обратно)[82]
Авторы работ о происхождении первого канонического евангелия Зифферт (1832) и Шнекенбургер (1834). См. мои критические замечания в рецензии на эти сочинения в «Ежегоднике научной критики» за 1834 г. — Прим. авт.
(обратно)[83]
Имеется в виду работа Баура «Критические исследования канонических евангелий» (1847), в которой делается важный вывод о зависимости трех первых евангелий от «первоначального евангелия».
(обратно)[84]
Экзегет (экзегетик) — специалист по экзегетике (греч. «экзегезе» — толкование) — богословской дисциплине, занимающейся толкованием канонических текстов. Она исходит из заданности самим текстом подлежащего выявлению смысла и утверждает сакральность и текста, и смысла (в отличие от герменевтики (греч. «герменевтикос» — разъясняющий), занимающейся любыми текстами и предполагающей персональное авторство, то есть признающей субъективность их интерпретаций).
(обратно)[85]
Конципиент (лат. «конципио» — брать, вбирать в себя) — в данном контексте лицо, непосредственно слышавшее Христа.
(обратно)[86]
Он и ему подобные боятся, видимо, только волшебных, абсолютных и тому подобных чудес. — Прим. авт.
(обратно)[87]
Его исследование о композиции и характере Евангелия от Иоанна было опубликовано в «Теологическом ежегоднике» Целлера в 1844 году, а затем издано в улучшенном виде под названием «Критические исследования канонических евангелий» в 1847 году. Ср. его другие работы о Евангелии от Иоанна в «Теологическом ежегоднике», а также его сочинение «Христианство и христианская церковь первых трех столетий» (1853, 2-е изд. 1860). — Прим. авт.
(обратно)[88]
Сочинений представителей патристики, или «отцов церкви» (греч. и лат. «патер» — отец), — крупнейших христианских писателей II–VIII вв. Нередко раннюю патристику квалифицируют как апологетику, поскольку ее представители (Юстин, Афинагор, Тертуллиан) были заняты преимущественно защитой (греч. «апологеомай» — защищаю) основных положений христианства в борьбе с представителями языческой античной культуры. Патристика в более строгом смысле слова связана с концептуализацией вероучения, то есть выработкой христианской теологии.
(обратно)[89]
Theologische Jarbücher. 1851. S. 149 f. — Прим. авт.
(обратно)[90]
Паулинистская тенденция в раннем христианстве (связываемая с идеями апостола Павла) характеризовалась отходом от радикальных социальных идей и надежд на близкое второе пришествие Христа, с одной стороны, и решительным разрывом с иудаизмом — с другой. Паулинизм ориентировался на склоняющихся к христианству язычников (отсюда у Штрауса термин «христианство язычников») и противостоял поборникам иудео-христианского (в тексте — «иудаистского»), или петринистского, направления, которое, опираясь на ряд положений апостола Петра, выступало против разрыва с иудаизмом. {В русской историко-церковной литературе употребляется понятие «языко-христианство»; см., например: Поснов М.Э. История христианской церкви (до разделения церквей — 1054 г.). Киев, 1991. С. 67–68. (С издания: Брюссель, 1964.) Оно связано с важным моментом становления христианства — его конституированием как движения, отличного и независимого от иудаизма. Не случайно формирование языко-христианской общины в Антиохии породило новое в то время самоназвание — «христиане» (см.: Деян. 11:16).} Обе тенденции в исторической христологии представлены апокрифами.
(обратно)[91]
Шнейдер в работе „Über die Ächtheit des johannischen Evangeliums“ (1. Beitrag, 1854). — Прим. авт.
(обратно)[92]
Неопифагореизм — философское течение поздней античности, представители которого соединяли пифагорейскую метафизику чисел с идеями неоплатонизма. Ими был создан целый ряд исторически малодостоверных и противоречащих друг другу биографий и изложений учения «самого» Пифагора.
(обратно)[93]
Информация Штрауса об отношении церкви к книге о Павле и Фекле сомнительна. Ср. свидетельство Тертуллиана (О крещ. 17): «Если те… которые читают послания Павла без разбора, вздумают для своего оправдания сослаться на пример святой Феклы, которой Павел будто бы дал власть учить и крестить, то пусть они знают, что книга, в которой об этом упоминается, написана не Павлом, а одним азиатским священником, выпустившим ее под именем Павла и наполнившим ее собственными бреднями. Священник этот, уличенный и сознавшийся в том, что он ее сочинил, был за то отрешен от сана и изгнан из церкви» (Ранович А.Б. Первоисточники по истории раннего христианства. М., 1990. С. 228). Вряд ли основанием установления праздника святой Феклы послужило это сочинение.
(обратно)[94]
В так называемом фрагменте Муратори о Книге премудрости Соломоновой говорится, что она «написана друзьями Соломона в его честь». — Прим. авт.
Речь идет о «Мураториевом каноне», открытом в 1740 г. итальянским историком-медиевистом и палеографом Л.А. Муратори (1672–1750) и названном в его честь древнейшем списке христианских текстов конца II в., в который наряду с новозаветными книгами входили «Пастырь Гермы» и другие сочинения. В упомянутом Штраусом фрагменте, содержащем предупреждение против имевших хождение подделок под священные тексты, в частности, говорится: «Церковь признала, однако, послание Иуды и два послания Иоанна, а также книгу Премудрости Соломона, написанную друзьями Соломона в его честь» (пит. по: Донини А. У истоков христианства. М., 1989. С. 148–149).
(обратно)[95]
Имеется в виду Шлейермахер.
(обратно)[96]
На данном понимании основано, в частности, неприятие мною точки зрения Хильгенфельда, согласно которому в Евангелии от Матфея следует различать один основной текст и его переработку. В одном основном тексте могло бы быть только одно насыщение; мне трудно представить, чтобы автор переработки просто от себя добавил второе. — Прим. авт.
(обратно)[97]
В особенности Кейм в работе о человеческом развитии Иисуса Христа. — Прим. авт.
(обратно)[98]
В каноническом греческом (и русском синодальном) Новом завете рассматриваемая Штраусом формула у всех синоптиков идентична: «… что ты называешь (λεγεις) меня благим? Никто не благ, как только один Бог (ουδεις αγαθος ει μη εις ο θεος)». Однако историческое формирование Евангелия от Матфея было связано с несколько иной редакцией (в частности, в передаче Оригена): «Что ты вопрошаешь (ἐρωτᾶς) меня о Боге? единый (только) благ (εἷς ἐστιν ὁ ἀγαθός)», на которую опирается трактовка Штрауса и которая является причиной давних теологических споров (см.: Bengel J.A. Gnomon of the New Testament. Edinburgh, 1863. Vol. 1. P. 361).
(обратно)[99]
Хильгенфельд правильно придает особое место именно этому изречению для понимания святого Луки. — Прим. авт.
(обратно)[100]
Такое сближение Штраусом эбионитов и ессеев чрезмерно.
(обратно)[101]
То есть путем критики высказанного богачом пожелания, чтобы Лазарь был направлен к здравствующим родичам богача с назидательной миссией (Лк. 16:27).
(обратно)[102]
Видимо, это Хр. Г. Вильке, автор не выдержавшей критики гипотезы о Марке как творце первого евангелия, которое, по Вильке, стало исходным для остальных синоптиков.
(обратно)[103]
То, что Ренан именно в этом видит знак первичности, нам кажется большой ошибкой. — Прим. авт.
(обратно)[104]
Следует учесть, что обыгрываемая Штраусом синонимия базируется на исторически сложившихся версиях перевода и совершенно утрачивает смысл в отношении оригинала, ибо в греческих текстах и у Марка, и у Иоанна употреблено одно и то же слово: κραββατον. Аналогично в синодальном издании: в обоих текстах — «возьми постель».
(обратно)[105]
У Марка: «с алавастровым сосудом мира из нарда чистого, драгоценного». У Иоанна: «фунт нардового чистого драгоценного мира». — Прим. авт.
(обратно)[106]
Согласно церковной традиции, вторым синоптиком является Иоанн из Иерусалима, «прозванный Марком». Римское второе имя могло быть связано с тем, что Иоанн-Маркус владел латынью и греческим языком, что позволило ему быть секретарем у апостолов Петра и Павла и фиксировать их высказывания. Не исключено и то, что «примерно во II веке безымянное евангелие приписали Марку в связи с тем, что оно появилось в Риме, то есть в том самом городе, где, согласно традиции, пребывал Петр и излагал свои мысли секретарю, некоему Марку» (Косидовский 3. Сказания евангелистов. М., 1977. С. 50). В концепции Штрауса главное в том, что имя Марка символизирует Рим — место жизненно важного для христианства компромисса между паулинизмом и петринизмом.
(обратно)[107]
Приводится у Климента Александрийского (Гомил. II 51, III 50, XVIII 20; Стром. I 28), кроме того — у Оригена, Иеронима и др. Возможно, это изречение относилось к притче о талантах в редакции Евангелия Евреев. — Прим. авт.
(обратно)[108]
Штраус воспроизводит — местами дословно, местами с заметными отклонениями — ряд положений работы Ф. Шиллера «О наивной и сентиментальной поэзии» (см.: Шиллер Ф. Собрание сочинений. М., 1957. Т. 6. С. 404–405, 408, 447–448).
(обратно)[109]
Уленшпигель (Ойленшпигель, Эйленшпигель) — герой плутовских народных историй — шванков, озорник и балагур, образ которого начал складываться в XIV в. и первое литературное оформление получил в 1515 г. в «Занимательной книге о Тиле Уленшпигеле». Его трактовка Штраусом является упрощенной: данный фольклорный персонаж нес в себе и сатирический заряд, он действительно часто попадал впросак, но его видимая неразумность — форма осмеяния плоского здравомыслия и социальной критики. Рассказы о похождениях Уленшпигеля получили распространение и в ряде соседних с Германией стран. Так, в основе известного романа Шарля де Костера «Легенда о Тиле Уленшпигеле и Ламме Гудзаке» (1867) лежат их фламандские версии.
(обратно)[110]
Как, например, Уленшпигель. — Прим. авт.
(обратно)[111]
Как Иисус у Иоанна — ср. не понятый Никодимом образ нового рождения или затруднительный для капернаумских людей троп вкушения плоти и крови его. — Прим. авт.
(обратно)[112]
Понятия догматической, скептической и критической систем употреблены в Кантовском смысле. Догматизм — теоретическая позиция, некритически принимающая общефилософские положения (то есть такие, смысл которых не может быть исчерпан эмпирической демонстрацией, в данном случае это универсальность принципа причинности, равносильная невозможности чуда), которые сами нуждаются в обосновании. Скептицизм отрицает возможность категорических (позитивных или отрицательных) суждений относительно философских вопросов. Критическая установка требует анализа правомерности самой их постановки и приходит к выводу, что если объект таких вопросов выходит за рамки возможного опыта, средствами научного мышления они решены быть не могут.
(обратно)[113]
Причисление Лейбница к числу теистов неправомерно. Его отношение к причинности, закономерности и чуду носит в целом деистический характер.
(обратно)[114]
См.: Фишер К. История новой философии. Лейбниц, его жизнь, сочинения и учение. — Прим. авт.
(обратно)[115]
Поборник республики римский философ-стоик Катон Младший был символом благородства и честности. Это придает особый смысл приведенной Юмом в главе «О чудесах» трактата «Исследование о человеческом познании» латинской поговорки: «Я не поверил бы этому рассказу, даже если бы его передал мне сам Катон», которая доказывает, что «недостоверность факта может поколебать даже такой сильный авторитет» (Юм Д. Сочинения. М., 1966. Т. 2. С. 114). Такой недостоверностью, каким бы авторитетом она ни прикрывалась, было бы утверждение о необдуманности поведения Максима Фабия — римского полководца, проявившего чрезмерную осмотрительность и осторожность в войне с Ганнибалом.
(обратно)[116]
Вот два главных места. Во-первых, это Мидраш Кохелет (f. 73, 3): «Равви Берехиа сказал именем равви Исаака: каков был первый спаситель (Моисей), таков будет и последний (Мессия). Что говорит Писание о первом спасителе? Исход (4:20): и взял Моисей жену свою и сыновей своих, посадил их на осла. Так же и последний спаситель, — Захария (9:9): кроткий и сидящий на ослице! Что знаешь ты о первом спасителе? В Исходе (16:4) по ниспослании манны сказано: вот, я одождю вам хлеб с неба. Так же и последний спаситель ниспошлет манну (Пс. 71:16): будет обилие хлеба на земле. Как было с первым спасителем? Он иссек источник. Так же и последний спаситель иссечет воду, согласно Иоилю (3:18): а из дома Господня выйдет источник, и будет напоять долину Ситтим». Во-вторых, это Мидраш Танхума (f. 54, 4): «Равви Аха сказал от имени равви Самуила, сына Нахмана: что Бог святой, чтимый будет делать в будущем (мессианском) времени, то он уже прежде делал руками праведников в это (домессианское) время. Бог будет воскрешать мертвых, как и прежде уже делал через Илию, Елисея и Иезекииля. Он будет осушать море, как было у Моисея. Он будет отверзать очи слепых, как делал через Елисея. Бог в будущие времена будет посещать бесплодных, как он сделал с Авраамом и Саррой». — Прим. авт.
Мидраши (др. евр. «драш» — исследование, истолкование) — жанр раввинистической литературы, создававшейся в V–XVI вв. (так, Мидраш Танхума относится к периоду 775–900 гг.) и представляющей собой толкования книг Ветхого завета. Мидраши сочетали схоластизированное объяснение религиозных установлений и назидательные повествования.
(обратно)[117]
Вполне искренне (лат.).
(обратно)[118]
Понятие «идеальное значение» используется Штраусом для обозначения мифологического материала с преимущественно символическим смыслом, безразличным к «правдивости» сюжета. В этом случае пластические образы и конкретные истории олицетворяют обобщенные идеи, являясь результатом осмысления действительных проблем через призму определенных мировоззренческих установок. «Историческое значение» евангельских мифов предполагает, что им приписывается реальное, хотя и искаженное, историческое содержание, которое допускает возможность реконструкции и, по мнению теологов-рационалистов, естественного (натуралистического) объяснения.
(обратно)[119]
См.: Jahrbücher für biblischer Wissenschaft: Bd. 2. S. 66. — Р.У. Маккей в своем капитальном труде «Tübingen School and Its Antecedents» пишет: «Для профессора Эвальда добрая слава любого мнения, не исходящего от него самого, есть достаточная причина презирать его, противоречить ему и т.д.». Если к этому добавить, что тот же автор говорит на с. 343, что Эвальд облекает свою добродетель темнотой напыщенных словес, а на с. 351 (прим.) — что его максимой является: уничтожь своего противника, не выбирая выражений, за то, что он говорит, а потом, слегка изменив язык, спокойно принимай его предположения, то можно с удовлетворением отметить, что нашего великого гёттингенца уже хорошо знают и по ту сторону Канала. — Прим. авт.
(обратно)[120]
Второе «Я» (лат.).
(обратно)[121]
Фрагмент XVIII 3, 3 «Иудейских древностей», по меньшей мере, интерполирован. Если его принять, он превращается в настолько ничего не говорящее замечание, что непонятно, почему автор ради него разорвал описание (ибо XVIII 3, 4 тесно примыкает к XVIII 3, 2). Я считаю это место, которое обнаруживаем уже у Евсевия (Церковная история. I, 11, 7), христианским подлогом, и опираюсь при этом на совершенно иное впечатление, которое производит фрагмент о Крестителе (Там же, XVIII 5, 2). — Прим. авт.
В упомянутом Штраусом фрагменте говорится: «Появился к тому времени Иисус, мудрый человек… наставник людей… Это был мессия (Христос)» (Иуд. древн. XVIII, 3. Курсив наш. — Ред.). Между тем Ориген, деятельность которого приходится на первую половину III века, в книге «Против Цельса» (1, 47) заявляет, что Иосиф Флавий не считал, что Иисус был Мессией. Евсевий, доводящий свое исследование истории церкви до 324 г., уже ссылается на «свидетельство» Иосифа о Христе-Мессии (Церк. ист. I 11, 7). Это дает возможность определить период, когда была осуществлена интерполяция. Следует отметить, что Иосиф Флавий действительно сообщает о деятельности одного пророка, который убеждал людей принять крещение и был казнен Иродом Антипой (Иуд. древн. XVIII, 5), однако информация о Крестителе не содержит указания на какую-либо его связь с Иисусом.
(обратно)[122]
Название «Четвертая книга Ездры» соответствует делению Вульгаты, сохраняющемуся в католицизме (в православной Библии ее текст составляет часть «Третьей книги Ездры»). По составу это сочинение неоднородно. Основные записи сделаны после 70 г. нашей эры Книга Еноха — ветхозаветный апокриф, вероятно относящийся к I в. до нашей эры.
(обратно)[123]
Израильское царство (в него входили «десять колен» израилевых, в то время как два остальных — Иудино и Вениаминово — составляли Иудейское царство) пало в 721 г. до нашей эры, конец вавилонского пленения приходится на 538 г. до нашей эры В этот исторический период возникает ряд ветхозаветных книг Малых пророков и основной корпус книги Иеремии.
(обратно)[124]
Восстание Маккавеев — освободительная война иудеев в 60-е гг. II в. до нашей эры против господства Селевкидов, вызванная, в частности, религиозными притеснениями. Борьбу возглавили священник Маттафия и его сыновья, один из которых, Иуда, получил прозвище «Маккавей» (арам. — молот), которое стало нарицательным именем восставших. Борьба завершилась восстановлением иудейской государственности и религии. События этого периода отражены в первых двух (из трех) неканонических Маккавеевых книгах Ветхого завета.
(обратно)[125]
Нельзя отрицать связь обоих апокрифов с сообщением о Мессии у Даниила и с трактовкой последним Мессии как существа, имеющего предбытие в горнем мире. У Ездры в сновидении пророка он встает из моря в человеческом облике и уплывает с облаками небесными; у Еноха он является рядом со старцем дня, с лицом, как у человека, и многократно называется «сыном человеческим», «сыном женщины», «сыном мужа». В Книге Ездры он сохраняется Богом издавна вместе с теми, кто наслаждается бессмертием (Енох, Моисей, Илия) в высшем раю, чтобы в конце выйти для освобождения твари и для воцарения над избранными, у Еноха к его имени взывали уже до творения, а самого его Бог сокрывал у себя и открыл только избранным, до того как однажды посадить его на престол господства и вверить ему суд над всем. В споре о до- или послехристианском происхождении этих книг, который сейчас ведется обеими сторонами обстоятельно и с пониманием (первую точку зрения представляет, главным образом, Хильгенфельд, вторую Фолькмар), я не берусь быть судьей, но всё же мне кажется, что упоминание в Четвертой книге Ездры «лика орлиного» свидетельствует в пользу даты 97 года по Р.X., а что касается Еноха, то относительно послехристианского или, лучше сказать, христианского происхождения этого фрагмента, содержащего вышеприведенные и подобные им места, оба главных спорщика согласны. В так называемых «Предсказаниях Сивилл» все места, утверждающие предсуществование и высшую природу Мессии, относятся к позднейшим частям собрания; то, что встречается в этом роде в дохристианской части: «Царь, который должен быть ниспослан с неба», «бессмертный», «нисходящий от Солнца» — отчасти не относится явно к Мессии, отчасти и относится, не идет дальше обычной для иудейской фразеологии склонности к гиперболизации. — Прим. авт.
(обратно)[126]
О них говорит Иосиф Флавий в «Иудейской войне» (II 8, 14) и «Иудейских древностях» (XII 5, 9; XVIII 1, 2–5). — Прим. авт.
(обратно)[127]
Авторство ветхозаветной книги Екклесиаста церковная традиция приписывает царю Соломону. Согласно современной точке зрения, это сочинение неизвестного автора, созданное ок. 200 г. до нашей эры и отразившее определенное влияние позднеантичного скептицизма. Отдавая формальную дань традиции в отношении авторства, Штраус проявил прозорливость, указав на общность ряда идей Екклесиаста и эллинистической культуры.
(обратно)[128]
Евсевий. Церковная история. II 17. — Прим. авт.
(обратно)[129]
Там же, 23. — Прим. авт.
(обратно)[130]
В очень схематичной характеристике Штраусом существенных черт греческого народа и греческой религии в сопоставлении с другими древними народами и религиями явно проявляется влияние ряда теоретических стереотипов европоцентристского характера, с одной стороны, и его собственные концептуальные установки — с другой.
(обратно)[131]
Разумеется, речь идет о поэмах Гомера. По мнению Платона (Гос. II 377d–378d), гомеровские мифы о характере и часто непристойном поведении богов лживы, поэтому «такие рассказы недопустимы в нашем государстве».
(обратно)[132]
Это утверждение некорректно. Монотеистическая тенденция действительно издавна присуща греческой мысли, например идеи неантропоморфного абстрактного бога элеатов, демиурга позднего Платона, «перводвижителя» Аристотеля, единого божества стоиков, неоплатоников, неопифагорейцев и др. Еврейский монотеизм существовал не «с самого начала», а был исходом сложной и долгой борьбы племенных и локальных культов, что широко отразилось в самом Ветхом завете (см.: Фрэзер Дж. Дж. Фольклор в Ветхом завете. М., 1990; Косидовский 3. Библейские сказания. М., 1969; Шифман И.Ш. Ветхий завет и его мир. М., 1987). Однако нужно учесть, что греческий «Единый» рождался в рамках и из нужд философского освоения мира, поэтому его мировоззренческие и познавательные функции более широки и сложны, чем у узко теистического Бога иудаизма, в силу чего мысль о том, что греки «поднимались к…», по меньшей мере неудачна.
(обратно)[133]
К характеристике Штраусом софистики следует добавить, что она была порождена практикой поздней полисной демократии, требующей умения публично обосновывать, а также навязывать свои предложения. Эта специфическая задача вела к злоупотреблению гибкостью понятий, неоднозначностью слов, к использованию софизмов, а в гносеологическом плане — к чрезмерной релятивизации знания, скептицизму и субъективизму. Такое полемическое искусство Штраус квалифицирует как «диалектическое». Вместе с тем в рамках софистики ставились и разрабатывались важные проблемы логики, познания, грамматики, риторики. Софистика была важной формой античного просвещения, а появление на социальной сцене софистов, или «учителей мудрости», знаменовало становление слоя профессиональных интеллектуалов.
(обратно)[134]
Следует учесть, что слова «крещение», обозначающее таинство приобщения к христианству, и «крест» являются однокоренными лишь в русском и ряде славянских языков. По-гречески «крестить» — «баптизо», буквально «окунать», т.к. крещение осуществлялось погружением в воду (отсюда «баптистерий» — помещение в церкви, где находится купель). Крест (который был известен и в дохристианских культах) мог стать символом христианства лишь в связи с особым смыслом распятия. Именование Предтечи «Крестителем» — результат калькирования греческого Иоаннес Баптистес. Если это историческое лицо, то он крестил людей, погружая их в воду (например, Иисуса в Иордан), не используя символа и самого понятия креста (изображение креста как аксессуара Предтечи в известной картине А.А. Иванова «Явление Христа народу» — историческая неточность).
(обратно)[135]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII 5, 2. — Прим. авт.
(обратно)[136]
Вероятно, имеются в виду Б. Бауэр и его последователи, отрицавшие историческую достоверность евангелий.
(обратно)[137]
Такими толкователями Штраус считает Люкке, Вейцзеккера, Лутарта, Хильгенфельда.
(обратно)[138]
Попытки видеть упоминание о такой борьбе в истории искушения основаны лишь на искажении подлинного смысла этого сказания, который, как будет показано в надлежащем месте, трудно не понять. Душевное же борение в Гефсиманском саду, если его трактовать исторически, является всего лишь стремлением укрепиться в давно ставшем привычным состоянии духа, а отнюдь не обрести его впервые. — Прим. авт.
(обратно)[139]
В притче о виноградарях под сыном, которого господин посылает за слугами (пророками) (Мф. 21:37), нужно подразумевать самого Иисуса как Мессию; но здесь это обозначение вытекало из фабулы, и его смысл должен был быть лишь найден слушателем (пока отвлекаемся от того, что аутентичная принадлежность притчи самому Христу под вопросом). О месте у Матфея (11:26 и далее) и Луки (10:21) уже была речь: то, что здесь Иисус обращается к Богу как к Отцу, напоминает «образцовую молитву» (очевидно, «Отче наш». — Ред.), которой он учил своих ближних взывать к Нему; особое положение, в которое он ставит себя по отношению к Отцу, выходит за рамки синоптической концепции Мессии и ближе к направлению четвертого евангелия, где Иисус многократно признаёт себя не просто Сыном, но единородным Сыном Бога (5:19 и далее; 6:40) в том смысле, на который уже было выше указано при историческом рассмотрении жизни Иисуса. — Прим. авт.
(обратно)[140]
Об этом сказано выше. Во всяком случае, раввинистическое именование Мессии «мужем облак» — более позднего происхождения. — Прим. авт.
(обратно)[141]
Книга Исаии, относимая иудео-христианской традицией к VIII в. до нашей эры, представляет собой соединение трех текстов: главы 1–39 составляют древнейшую часть, так называемую Первоисаию (VIII в. до нашей эры), главы 40–55 — Второисаию (VI в. до нашей эры), главы 56–66 Трито-Исаию (V в. до нашей эры). Сведены в одну книгу в V–IV вв. до нашей эры
(обратно)[142]
См. Ориген. Против Цельса. I 55. — Прим. авт.
(обратно)[143]
Т.е. в Септуагинте, греческом переводе Ветхого завета, осуществленном в III–II вв. до нашей эры в Александрии (согласно легенде, 70 переводчиками) для нужд эллинизированной еврейской диаспоры. Хотя в переводе, а со временем во всём корпусе обнаружились расхождения с древнееврейским вариантом, Септуагинта долгое время была, по существу, каноническим текстом, особенно для восточных христианских церквей. Рассматриваемые Штраусом места из Второисаии в синодальной редакции Библии выглядят следующим образом: «Вот Отрок Мой… избранный Мой»; «И сказал Мне: ты раб Мой, Израиль, — в тебе Я прославлюсь» (Ис. 42:1; 49:3).
(обратно)[144]
Таргум (мн. ч. таргумим) — переводы ветхозаветных текстов на арамейский язык, бывший с V века до нашей эры главным обиходным языком Палестины. Сначала переводы, создававшиеся для синагогальных служб, передавались в устной традиции. С III века нашей эры сохраняются записи в вавилонских школах. «Таргум Иоанатана» — перевод книг пророков.
(обратно)[145]
Тацит. Анналы. XV 44. — Прим. авт.
(обратно)[146]
Иосиф Флавий. Иудейская война. II 13, 4; Иудейские древности. XX 5, 1; 8, 6. — Прим. авт.
(обратно)[147]
Тацит. Анналы. XV 44. — Прим. авт.
(обратно)[148]
Мнение о том, что Иисус, напротив, избрал эту форму для того, чтобы скрыть от народа тайну Царства Небесного и тем привести в исполнение пророчество Исаии (6:9) (Мф. 13:10–15), происходит только от какой-то ипохондрической установки евангелиста, бывшего свидетелем невосприимчивости еврейского народа в целом к учению Иисуса. — Прим. авт.
(обратно)[149]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVIII 6, 5. — Прим. авт.
(обратно)[150]
Одновременно они напоминают место из Книги Притчей Соломоновых (3:14–15): «Потому что приобретение ее (мудрости. — Ред.) лучше приобретения серебра, и прибыли от нее больше, чем от золота. Она дороже драгоценных камней… и ничто из желаемого тобою не сравнится с нею!» — Прим. авт.
(обратно)[151]
Талант и мина — счетно-весовые и денежные единицы Древнего Востока и Греции. Из одного таланта серебра (26, 2 кг) чеканили 60 мин. Будучи мерой богатства, талант ассоциировался с большой ценностью вообще, поэтому в Библии данный термин выступает и в значении духовной одаренности (ср. «золотой человек», «не голова, а золото» и т.п. в современных языках). Можно предположить, что изменение редакции в притче о таланте отражает тенденцию к демократизации учения Христа, евангелист Лука явно обращается к более широкой аудитории, ибо для обыденного сознания мина является наглядным символом значительной и реалистичной ценности, в то время как талант представляется ему фантастическим и недоступным богатством.
(обратно)[152]
Аргумент ad hominem (лат. «к человеку») — логическая ошибка, суть которой в том, что оппонент вместо обоснованного опровержения тезиса дискредитирует высказавшего его человека.
(обратно)[153]
Баур усматривает в словах о знамении Ионы изначальное указание на воскресение Иисуса и поэтому считает не только толкование Матфея, но и слова Луки «кроме знамения Ионы» позднейшей редакцией речи Иисуса; так что правильную форму мы находим у Марка, у которого указывается на простой отказ дать знамение. По существу, он приходит к тому же выводу, только без упоминания знамения Ионы мы теряем удобный переход к тому, что Иисус затем говорит о раскаянии ниневитян под влиянием проповеди Ионы. — Прим. авт.
(обратно)[154]
Паулус в первой части своего учебника по экзегетике приводит сообщение из журнала «Софронизон». — Прим. авт.
(обратно)[155]
Можно также вспомнить, что Иосиф Флавий (Иудейская война. II 8, 6) сообщает о медицинских усилиях ессеев; хотя то обстоятельство, что он говорит наряду с кореньями и о камнях, (целебные) свойства которых они исследовали, придает делу довольно мистический характер. — Прим. авт.
(обратно)[156]
Евсевий. Церковная история. III 31, 3. — Прим. авт.
(обратно)[157]
Среди современных авторов так думает Ренан. (См.: Ренан Э. Жизнь Иисуса). — Прим. авт.
(обратно)[158]
Точка зрения Фолькмара. — Прим. авт.
(обратно)[159]
Греч. «апостолос» — посланник.
(обратно)[160]
Среди многих сочинений, приписываемых Клименту Римскому, особое место занимают так называемые «Климентины», в состав которых входят «Беседы» (Homiliae), «Размышления» (или «Воспоминания» — Recognitiones) и «Извлечения» (Epitome). Последние представляют собой сокращенный вариант «Бесед». «Размышления» содержат информацию об апостоле Петре и его высказываниях и явно отражают влияние эбионитов. Сохранившиеся списки этой работы свидетельствовали о переделках текста, связанных со стремлением устранить «еретические» моменты, поэтому была проделана большая работа по реконструкции наиболее аутентичной версии. Сочинение было составлено в конце II в., очевидно, одним из сирийских христиан («Псевдо-Климент»). Оно, хотя и не является работой Климента, представляет собой ценный источник по истории раннего христианства.
(обратно)[161]
Крупнейший римский комедиограф Плавт является признанным мастером описания быта и нравов современного ему общества. В комедии «Привидение» (после 195 г. до нашей эры) он вложил в уста одного из главных персонажей, раба Траниона, слова, ставшие для Штрауса источником информации по рассматриваемому им вопросу:
Кто б пошел на истязанье нынче, заменив меня? . . . . Целый дам талант тому, кто первым к дыбе кинется, Но с условием: пусть дважды пригвоздят ему сперва Руки, ноги… (Привидение 355, 359–361. Перевод. А. Артюшкова). (обратно)[162]
Так, Шлейермахер считает, что люди садовника ничего не знали о нахождении Иисуса в могиле, а хотели лишь перенести камень на прежнее место, где он стоял раньше, далеко от отверстия, чтобы проветрить новое погребальное место. — Прим. авт.
У древних евреев могила высекалась в скале или строилась специально в виде склепа, обычно заблаговременно. Иисус был погребен в могиле, которую приготовил для себя Иосиф Аримафейский; испросив у Понтия Пилата разрешение на захоронение Иисуса, он взял его тело и «положил его в новом своем гробе, который высек он в скале» (Мф. 27:60). Закрывать вход крупным камнем (или несколькими камнями) — тоже иудейский обычай, связанный с необходимостью защиты могилы от диких зверей. Пустая могила оставалась открытой для проветривания.
(обратно)[163]
Иосиф Флавий. Жизнь. 75.
(обратно)[164]
Третья книга Ездры (7:28 и след.).
(обратно)[165]
Штраус использует один из эпизодов германской истории, связанный с попыткой Австрии установить свой контроль над Вюртембергом (1520–1534). Герцог Ульрих Вюртембергский (1487–1550) своей налоговой политикой вызвал недовольство как крестьян, так и аристократической оппозиции и был в 1519 г. изгнан из страны Швабским Союзом — объединением рыцарей и городов юго-восточной Германии, которое использовали Габсбурги в своей экспансионистской политике.
Героизации образа Ульриха, вернувшего себе власть в 1534 г., способствовали антиавстрийские настроения вюртембержцев, а также то, что Ульрих использовал знамя Реформации, в то время как идейным оружием Габсбургов был католицизм. «Прекрасный биограф» Ульриха — историк Л.Ф. Хейд (1792–1843), автор книги «Ульрих, герцог Вюртембергский».
(обратно)[166]
У иудеев для погребения казненных преступников отводились особые, «нечистые» места.
(обратно)[167]
Назореи (от древнеевр. «назар» — отказываться, воздерживаться) в Древней Иудее аскеты-проповедники, дававшие обет воздержания от вина и стрижки волос. Впоследствии назорейство сблизилось с движением ессеев и, возможно, оказало некоторое влияние на христианский аскетизм. В ранней христианской литературе термин «назорей» без достаточного основания стал рассматриваться как обозначение жителя Назарета, назарянина. Уже в евангелиях и «Деяниях апостолов» он прилагается к Иисусу Христу. {Здесь следует принять во внимание одну фонетическую неточность. Слово «назореи» правильнее произносить «ноцрим» (так в Талмуде именуются Христос и его последователи). Расхождение связано с тем, что еврейская буква «цаде» не имела греческого аналога и передавалась через «с» или «з» (см.: Робертсон А. Происхождение христианства. М., 1959. С. 110). Кстати, М.А. Булгаков был более точен, дав в романе «Мастер и Маргарита» Иисусу Назарянину имя Иешуа Га-Ноцри.} В этом смысл надписи на таблице, которую, согласно Иоанну (19:19), Понтий Пилат повелел прикрепить на распятии: «Иисус Назорей, Царь Иудейский». У синоптиков слово «Назорей» опущено, поэтому в художественных образах распятия обнаруживается расхождение: фигурируют либо, в соответствии с Лукой (23:38), трехъязычная — на греческом, латинском и еврейском — надпись «Сей есть Царь Иудейский», либо латинская аббревиатура INRI, означающая Jesus Nazareus Rex Judaeorum и исходящая из свидетельства Иоанна.
(обратно)[168]
К «Сыну Давидову» и «Сыну Божию» можно было бы еще добавить «Сына Человеческого» из Книги Даниила и сказать: как из представления о Мессии — сыне Давидовом возникли два родословных древа Иисуса и рассказ о его рождении в Вифлееме, а из представления о Мессии Сыне Божием — рассказ о сверхъестественном зачатии Иисуса, так и избранное самим Иисусом для себя наименование «Сын Человеческий» дало возможность вложить в его уста речи в духе соответствующего места Даниила, о его когда-то грядущем новом возвращении на облаках небесных. — Прим. авт.
(обратно)[169]
Евсевий. Церковная история. I 7, 13.
(обратно)[170]
Орлеанисты — сторонники младшей ветви Орлеанского дома, получившей французский трон в революцию 1830 г. и потерявшей его в 1848 г. Легитимисты (или «роялисты») — противостоявшие им сторонники «законной» старшей линии Бурбонов.
(обратно)[171]
Левират (лат. «левир» — деверь) — норма обычного или писаного права, предписывающая младшему брату жениться на вдове старшего. В древних обществах (в частности, в Иудее) дети левиратного брака считались детьми умершего со всеми вытекающими отсюда правами наследования, позже правопреемство сохранялось лишь за старшим сыном новой семьи.
(обратно)[172]
Подробнее об этом, а также в связи с другими ссылками в настоящей главе см. в 1 томе первого издания моей книги «Жизнь Иисуса». — Прим. авт.
(обратно)[173]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XX 5, 1. — Прим. авт.
(обратно)[174]
О переписи Квирина см. примeчание [48].
(обратно)[175]
Памятник Анкирский, установленный в храме римской богини Ромы в городе Анкира (современная Анкара), представлял собой сооружение из мраморных плит с выбитым на них на латинском и греческом языках текстом-описанием (от первого лица) деяний императора Августа. Был обнаружен в 1554 г.
(обратно)[176]
Еще и сейчас христианский правовед Хушке говорит о «внутренней исторической необходимости» не только проведения имперской переписи при Августе, но и совпадения ее с рождением Христа, поскольку именно в тот момент, когда Август посредством имперской переписи утверждался как «новый земной Адам, должен был родиться Спаситель мира как второй небесный Адам». «Должно ли еще беспокоить нас, — добавляет этот правоверный человек, — что возражающие нам указывают на то, что эта всеобщая перепись не упоминается ни в одном современном или просто надежном историческом источнике?» Конечно нет, особенно если вычитать эту перепись в лакунах Диона Кассия и Анкирского памятника! — Прим. авт.
(обратно)[177]
См.: Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVII 13, 5; XVIII 1, 1. — Прим. авт.
(обратно)[178]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. XVI 9, 3. — Прим. авт.
(обратно)[179]
Об этом говорит Трифон Иудей в Юстиновом «Диалоге» (8, 49) как о распространенном среди еврейского народа ожидании. — Прим. авт.
Трифон Иудей — персонаж «Диалога с Трифоном Иудеем» Юстина (в рус. пер. — Разговор с Трифоном Иудеем. Сочинения святого Иустина, философа и мученика. М., 1864) — равви, выступающий оппонентом христианской точки зрения, которую защищает сам Юстин.
(обратно)[180]
Христианское крещение в силу осуществляемого им духовного причащения иногда трактовалось как «помазание». См. I Послание Иоанна (2:20, 27). — Прим. авт.
(обратно)[181]
Во времена Юстина еще не было канонических евангелий. Сам он ссылается на «Воспоминания апостолов». В его трудах имеются выдержки из синоптиков (но не из Иоанна) и ряда других, не идентифицированных источников, так что трудно сказать, в каком из них содержался приведенный Штраусом эпизод.
(обратно)[182]
Юстин. Диалог с Трифоном. 88. — Прим. авт.
(обратно)[183]
Диалог с Трифоном. 88, 103. — Прим. авт.
(обратно)[184]
В данном случае имеется в виду первая книга Самуила. Следует учесть, что в православной Библии двум книгам Самуила соответствуют первые две книги Царств.
(обратно)[185]
Штраус использует одну из версий апокрифического евангелия о рождении Марии, которое приписывается сыну Иосифа — Иакову, то есть некровному брату Иисуса (см.: История Иакова о рождении Марии Апокрифы древних христиан. М., 1989).
(обратно)[186]
Еврейское слово («дева») означает не нетронутую девственницу, а молодую женщину, замужнюю или незамужнюю. — Прим. авт.
(обратно)[187]
Иисус — греч. форма древнеевр. «Иешуа», — сокращения от «Иегошуа» — помощь Иеговы, спаситель.
(обратно)[188]
В православной Библии редакция иная: Бог «нашел все пути премудрости и даровал ее рабу Своему Иакову и возлюбленному Своему Израилю» (Вар. 3:37).
(обратно)[189]
В протестантизме книга Премудрости Соломона не входит в состав Писания и считается ветхозаветным апокрифом (в католицизме она в каноне, в православии входит в Библию в качестве неканонической).
(обратно)[190]
Апол. 1 31, 35.
(обратно)[191]
Светоний. Юлий, 88 (Ср.: Плутарх. Цезарь, 69). — Прим. авт.
(обратно)[192]
Естественная история. II 23. — Прим. авт.
(обратно)[193]
Юстин, Марк Юнион — римский историк, составивший в III в. нашей эры компиляцию из утраченного исторического труда Помпея Трога («Эпитома истории Филиппа»). Юстина охотно читали и в древности (на него часто ссылается Августин, Иероним рекомендует его в качестве полезного и приятного автора), в средние века. Помпей Трог — римский писатель галльского происхождения, жил, вероятно, в эпоху Августа. Написал Всеобщую историю от Нина Ассирийского до Августа, от которой дошло только Юстиново извлечение, посвященное в основном македонской эпохе. — Прим. авт.
(обратно)[194]
«Знак Сына Человеческого на небе» (Мф. 24:30), без сомнения, есть та же самая звезда Мессии, которая могла ожидаться соответственно различным представлениям о Мессии, при его человеческом рождении или его явлении на облаках. — Прим. авт.
(обратно)[195]
Иосиф Флавий. Иудейские древности, II 9, 2. — Прим. авт.
(обратно)[196]
Геродот, I 108. — Прим. авт.
(обратно)[197]
Тит Ливий, I 3. — Прим. авт.
(обратно)[198]
Светоний. Октавиан, 94. — Прим. авт.
(обратно)[199]
Jalkut Rubeni. f 32, 3. — Прим. авт.
Ялкуты — возникшие в XII–XIII вв. антологии мидрашей (см. прим. [121]).
(обратно)[200]
Диалог с Трифоном. 69. — Прим. авт.
(обратно)[201]
Ориген. Против Цельса, I 28. — Прим. авт.
(обратно)[202]
Светоний. Октавиан. 94. — Прим. авт.
(обратно)[203]
Геродот. I 114 и сл. — Прим. авт.
(обратно)[204]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. II 9, 6. — Прим. авт.
(обратно)[205]
De vita Mosis. II 83 sq. — Прим. авт.
(обратно)[206]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. V 10, 4. — Прим. авт.
(обратно)[207]
Имеется в виду самооценка Иосифа Флавия в автобиографическом сочинении «Жизнь» (Vita 2).
(обратно)[208]
Memorabilia. II 1, 21. — Прим. авт.
(обратно)[209]
Религия Зороастра (Заратуштры) — древнеиранская религия (в III–VII вв., в эпоху Сасанидов, — государственная), характеризующаяся сильным дуализмом, выражением которого является борьба сил зла и тьмы, олицетворяемых богом Ахриманом (у Штрауса — Ариманом), и добра и света, возглавляемых Ахурамаздой. Зороастризм оказал влияние на иудаизм и эллинистическую культуру.
(обратно)[210]
Гемара — более поздняя часть Талмуда, представляющая собой комментарии к более ранней его части — Мишне. Существуют две редакции Гемары — палестинская и вавилонская, составленные соответственно в III и V вв. (отсюда различие между Талмудом Иерусалимским и Талмудом Вавилонским). Гемара Вавилонская более обстоятельна и пользуется в иудаизме большим авторитетом.
(обратно)[211]
Имеется в виду Тюбингенская школа — центр католической богословской мысли, сложившийся на базе католического богословского факультета примерно в одно время с протестантской Тюбингенской исторической школой (школой Баура). Новоцерковники — сторонники сближения протестантских конфессий на почве ортодоксального богословия и борьбы с рационалистической теологией.
(обратно)[212]
Тит Ливий. III 26. — Прим. авт.
(обратно)[213]
В Комментарии к Иезекиилю, 47. — Прим. авт.
(обратно)[214]
См.: Ориген. Против Цельса. I 62. — Прим. авт.
(обратно)[215]
Согласно Ренану, главным мотивом, побудившим Иоанна написать свое евангелие, была его досада по поводу того, что в предыдущих евангелиях его личность была выделена недостаточно. — Прим. авт.
(обратно)[216]
Евсевий. Церковная история. II 1, 4. — Прим. авт.
(обратно)[217]
Первая книга, §42. — Прим. авт.
(обратно)[218]
Высказывались всевозможные догадки относительно источника имен Тимей и Вартимей у Марка. Возможно, источником является греческий глагол «тимао» (почитаю). — Прим. авт.
(обратно)[219]
Это слишком узкое понимание чуда. В религиозно-мифологическом контексте чудо нередко обладает временным параметром. Его главные характеристики — противоестественность акта (деяния, явления) и его атрибутирование сверхъестественному субъекту.
(обратно)[220]
Брение — прах. Здесь грязь из праха (пыли).
(обратно)[221]
Тацит. История IV 81; Светоний. Веспасиан, 7. — Прим. авт.
(обратно)[222]
В пользу подлинности 4-го стиха, содержащего упоминание об ангеле, имеются веские доводы (см. объяснение Генгстенберга к этому месту в его «Комментарии к Евангелию Иоанна»). — Прим. авт.
(обратно)[223]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. VIII 2, 5. — Прим. авт.
(обратно)[224]
Филострат Флавий. Жизнь Аполлония Тианского. IV 20. — Прим. авт.
(обратно)[225]
Hase K. Leben Jesu. 1854. §55. — Прим. авт.
(обратно)[226]
В обоих случаях в оригинале Евангелия от Луки использован один глагол — «не утруждай» (μη σκυλλου, μη σκυλλε). В русском переводе это не столь очевидно: «не утруждай Учителя», «Господи, не трудись» (Лк. 7:6; 8:49).
(обратно)[227]
«Иаир» по-еврейски означает: «он просветит». В Пс. 13:4 говорится теми же словами: «Просвети очи мои, да не усну я сном смертным». Поскольку это животворное «просвещение» было явлено на его дочери, отец ее мог получить такое имя. — Прим. авт.
(обратно)[228]
Греческое слово embrimaomai означает «возмущаюсь», «негодую», в сочетании с to pneymati — «печалюсь в душе». Согласно Штраусу, в Евангелии от Иоанна говорится о возмущении Иисуса. В синодальном переводе использован глагол «скорбеть» (Ин. 11:33, 38), что меняет смысл.
(обратно)[229]
Статир — крупная греческая монета, чеканилась из золота и серебра, достоинство варьировало. Наиболее распространенный серебряный аттический статир равнялся четырем аттическим драхмам или еврейскому сиклю.
(обратно)[230]
Поводом для упоминания Штраусом самосского тирана Поликрата (ум. в 522 до нашей эры) послужило то, что с ним случилась история, которая могла явиться прототипом евангельской истории со статиром. Согласно Геродоту (III 40–42), золотой перстень Поликрата, выброшенный в море, вернулся к нему в чреве пойманной рыбы.
(обратно)[231]
Фолькмар связывает эту историю с подушной податью, которую после разрушения Иерусалима должны были уплачивать римлянам иудеи, в том числе иудео-христиане. При этом встал вопрос — должны ли также платить христиане из язычников? Однако в таком случае в рассказе должна бы идти речь о Кесаревом налоге, и выбрать в качестве прообраза более поздней подати в римскую казну иудейский налог на храм было бы не совсем удачно. — Прим. авт.
(обратно)[232]
Имеется в виду Симон из Самарии — маг, обладавший способностью левитации. Абарис — служитель Аполлона, выходец из страны гипербореев, был наделен чудодейственными силами.
(обратно)[233]
См. §69 и сл. — Прим. авт.
(обратно)[234]
Это Блек, который находится в замечательном согласии с Гефререром. Как и во всех такого рода подтасовках, им предшествовал (хотя бы в форме беглых намеков) Шлейермахер в своих «Лекциях о жизни Иисуса». — Прим. авт.
(обратно)[235]
От греческого «агапе» — любовь (как расположение, братское чувство, в отличие от «эрос» — любви чувственной, эротической).
(обратно)[236]
Hase K. Leben Jesu. §74. — Прим. авт.
(обратно)[237]
Иудейская война. III 10, 8. — Прим. авт.
(обратно)[238]
Nizzachon vetus. — Прим. авт.
(обратно)[239]
Мидраш Кохелет. 73, 3. — Прим. авт.
(обратно)[240]
По еврейскому исчислению, согласно которому день начинается в 6 часов вечера, вечеря вкушения пасхального агнца относилась, собственно, уже к 15 нисана как началу этого главного праздничного дня; но в обиходе, как и в указанном месте закона, ее причисляли еще к 14-му. — Прим. авт.
(обратно)[241]
Тацит. Анналы. XV 44. — Прим. авт.
(обратно)[242]
Светоний. Юлий. 18. — Прим. авт.
(обратно)[243]
Плутарх. Цезарь. 69. — Прим. авт.
(обратно)[244]
Светоний. Юлий. 81; Нерон. 46; Веспасиан. 23; Тацит. История. V 13. — Прим. авт.
(обратно)[245]
Иосиф Флавий. Иудейские древности. IV 8, 48. — Прим. авт.
(обратно)[246]
Спиноза развивает свою мысль на этот счет в письме Блейенбергу от 28 января 1665 г. (см.: Спиноза Б. Избранные произведения. М., 1957. Т. 2. С. 475–484), Кант — в 1-м разделе второй части работы «Религия в пределах только разума» (см.: Кант И. Трактаты и письма. М., 1980. С. 128–148).
(обратно)
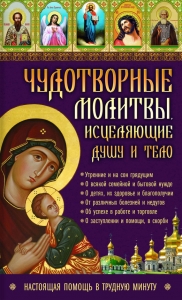


Комментарии к книге «Жизнь Иисуса. Обработанные для немецкого народа книги первая и вторая.», Давид Фридрих Штраус
Всего 0 комментариев