Симона Мацлиах-Ханох Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила
© Когито-Центр, 2014
* * *
Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила
Моим детям – любимым Яаре и Агаму
Вы научили меня любви
Я знаю глубину. Я в нее проникла Корнем. Но ты боишься глубин, А я не боюсь – я там была, я привыкла. (Плат С. Душа ивы. Пер. Рут Файнлайт)Пролог
В один из вечеров третьего месяца безоблачной беременности у меня началось кровотечение. Я сидела на унитазе и плакала. Позвала своего тогда еще будущего мужа, добралась до машины – и в больницу: до нее было несколько минут езды. Худая врач с русским лицом такого же оттенка, как и ее бледно-зеленый операционный костюм, выглядела, будто ее только что разбудили, и была настолько вялой и безразличной, я бы сказала, даже отрешенной, что у меня закралось подозрение, не укололась ли она. Грубо покопавшись во мне наконечником устаревшего УЗИ, врач сообщила, что не видит никакой беременности. Получалось, что я все выдумала. Наверное, мой растерянный вид вызвал в ней жалость, и, смягчившись, она добавила, что аппаратура эта старая и что мне стоит подождать до утра, когда откроют кабинет с новым УЗИ и сделают более подробное обследование.
– Жаль, – еле коснувшись моей руки, заметила она.
Я лежала на больничной кровати. Одним этажом выше прямо надо мной рождались дети; матери кормили, кружили по коридору, как и положено после родов, на широко расставленных ногах и кровили в толстые прокладки. Я уже больше не кровила – моя маленькая уже не существующая беременность больше не кровила.
Утром молоденькая, лет двадцати, техник обследовала меня на новом УЗИ.
– Это mis[1], – громко бросила она стоявшему возле моей головы врачу.
Я выползла из кабинета; трусы в пятнах свернувшейся крови, живот вымазан прозрачным гелем. Вытираюсь. Все. Я больше не беременна. И что же мне теперь делать?
Все старались делать вид, что ничего не случилось.
– Это ведь не то, чтобы ты действительно потеряла ребенка, – сказала мне моя лучшая подруга, и у меня не хватило духу ей возразить.
А на самом деле я чувствовала, что, да, потеряла ребенка, но говорить об этом мне нельзя. Всю свою жизнь я пыталась исправить неисправимое, спасти безнадежное тем, что переключалась на что-то новое и замечательное – этакое чудодейственное лекарство, которое я сама для себя же и придумывала. Лекарство достаточно длительного действия, чтобы, очнувшись, я вспоминала о пережитой боли как о чем-то мимолетном и незначительном. Так было и после выкидыша. Прошло два дня, мы ехали в машине. Дорога эта из Тель-Авива в Иерусалим всегда потрясающе красива.
– Давай все поправим, – предложила я своему другу, не сводя глаз с дороги, – давай, поженимся.
В тот же вечер я позвонила нашим самым близким друзьям и сообщила, что у меня есть два известия: одно грустное и одно радостное. Я уже больше не беременна, и я выхожу замуж.
Мы погрузились в подготовку к свадьбе и делали все, о чем мечтали: подобрали чудесный свадебный наряд; накатали несколько сот километров в поисках особых сыров, хорошего вина и свежего домашнего хлеба, который будет доставлен еще теплым прямо к праздничному столу. И все это время я не радовалась так, как думала, что должна радоваться. А потому сердилась на себя, даже начала подозревать, что, возможно, недостаточно люблю своего будущего мужа, и придиралась к нему из-за любой мелочи, объясняя, как это важно не упустить ни одной детали. И мы ничего не упускали; все, конечно, было отлично. Все, кроме одного: ничто меня по-настоящему не радовало, и я пришла к выводу, что у меня явно есть какой-то дефект; что я не способна любить. Я продолжала готовиться к свадьбе, злясь на себя за то, что не свечусь от счастья.
Мы поженились в саду его мамы. Сама хупа происходила на вытоптанной площадке между лимонным и оливковым деревом. Позже я не раз мысленно возвращалась в это место в надежде найти там убежище и душевный покой. Все вокруг нас растроганно улыбались, а я сверхчеловеческим усилием пыталась связать себя с этим садом, с этими праздничными лицами, с моим женихом, с моей мамой, с моей свадьбой, с моим любимым человеком.
Ночью, не сменив одежды, мы разбирали подарки и воевали с муравьями, которые вдруг атаковали нас из-под двери ванной комнаты. В ту ночь я вела себя как мальчик из старой голландской сказки, который пальцем заткнул дырку в городской стене, чтобы спасти свой город от наводнения. Мой город будет затоплен уже назавтра, но в ту самую ночь я об этом еще не знала. Только продолжала упрямо сражаться с черным увертливым существом, которое извергалось из щели за плинтусом.
Все это время мой теперь уже законный муж был настроен очень великодушно: он рассчитывал на щедрое вознаграждение, которое ждет его где-то там среди виноградников Бургундии.
Мы улетели рано утром. Париж встретил нас проливным дождем. Взяли напрокат машину и только тогда спохватились, что не имеем понятия, куда ехать. Девушка, оформлявшая наш заказ, сказала, что дорога в Осер (первый романтический городок на нашем пути) займет пару часов. Уверенные, что для нас нет ничего невозможного, мы успешно преодолели лабиринты мегаполиса и довольно быстро оказались на нужном нам загородном шоссе. Мы остановились в маленькой гостинице, на первый взгляд романтической, а на самом деле – сумрачной и пыльной. Потолки в ней были отделаны каким-то черным прозрачным материалом; и вся она выглядела, то ли построенной в стиле далеких 1980-х, то ли сохранившейся нетронутой с тех уродливых времен. Мы видели свои черные, как на негативе, отражения сначала на потолке ванной комнаты, а затем – над кроватью; эта картина отпечаталась у меня на внутренней поверхности век и возвращалась ко мне в течение долгих месяцев, словно предвестник неотвратимых бед.
Утром мы отправились в Шабли. Через несколько минут я захотела пить. Выпила воды, но жажда не проходила; выпила еще, но горло по-прежнему оставалось сухим. Меня охватила паника; я была уверена, что умираю. Попросила вернуться в гостиницу. Он не понял. Немного поспорили.
Вернулись. Весь тот день провели в комнате. На следующее утро опять отправились в дорогу. Я чувствовала себя слабой и беспомощной. Глядя в окно нашей маленькой машины, я отсчитывала километры, радуясь уже знакомому мне пейзажу: мы едем – и все в порядке. Вот оно, то самое дерево, мимо которого мы проезжали вчера, а в горле не пересохло; после него – дорожный знак, а я не при смерти; мы поравнялись с маленьким мостиком, а я все еще не умерла. Так прошел день. Мы пили знаменитое местное вино; у меня кружилась голова, но я не беспокоилась: алкоголь обычно вызывает головокружение.
Оставшиеся двенадцать дней мы колесили по самым красивым дорогам Франции, ночевали в действительно романтических придорожных гостиницах, средневековых замках и небольших дворцах. Я же была уверена, что со мной происходит одно из двух: либо я постепенно схожу с ума, либо – умираю. Я была раздавлена ужасом смерти. И ни разу так и не смогла толком объяснить моему самому любимому человеку, который уже пять лет был моим единственным мужчиной и уже несколько дней являлся моим законным мужем, что я чувствую.
Были ночи, которые он пролежал, не выпуская моей руки, так как я была уверена, что это последняя ночь в моей жизни. Как-то я выбежала из ресторана в ту самую минуту, когда нам подали еду: мне показалось, что я теряю сознание. Правда, я тут же себя успокоила, что местная больничка находится совсем рядом; гуляя, мы несколько раз проходили мимо нее.
С тех пор мы почти всегда ели в комнате. Он изловчился вкусно и быстро готовить, но потом сам же все и съедал: я потеряла аппетит, с трудом заставляла себя что-нибудь проглотить. Начала худеть и слабеть. Он пытался меня поддержать. День за днем, час за часом. Был счастлив, когда мне удавалось – ради него – заставить себя чему-то радоваться; проклинал (мысленно, конечно) те нескончаемые часы, когда я сидела с искаженным от ужаса лицом, всматриваясь в никуда. Он не понимал, что мне необходимо вернуться домой, а я боялась ему об этом сказать.
В начале третьей недели мы остановились в очаровательной маленькой гостинице в одном из городков Периго. Разместившись в уютной комнате, мы вышли во внутренний двор и неожиданно оказались в изумительном парке с небольшим бассейном, который выглядел, как настоящий пруд; с сочно-зелеными лужайками и клумбами роз. Я ступала по дорожкам, как столетняя старушка с пергаментной кожей и хрупкими косточками: шажок и еще шажок, медленно и осторожно.
Там я окончательно поняла, что если я не в состоянии наслаждаться окружающей меня красотой и любовью, нам лучше вернуться домой. И не только поняла, но и произнесла это вслух. Он согласился. Следующим утром мы выехали в Париж, до которого было десять часов пути. С этого момента я позволила себе расслабиться и тут же начала стремительно падать. Я не сомневалась, что умираю. Вечером к нам в номер пришла моя подруга. Я лежала в постели и виновато улыбалась. Она громко смеялась, курила возле окна, предложила посидеть в каком-нибудь маленьком кафе. Я почти все время молчала; у меня появилось чувство, что эта жизнь уже не для меня, и все, что она может предложить – уличные кафе, шутки, сплетни, веселье, – меня уже не касается. Непреодолимая сила засасывала меня все глубже и глубже. Я была уже далеко-далеко от того места, где моя подруга радовалась нашей долгожданной встрече.
Пришла врач и после короткого осмотра сказала, что у меня, скорее всего, мононуклеоз и мне, естественно, необходимо вернуться домой.
Возвратились. За окном были длинные, полные света и солнца летние дни, а я отказывалась встать с постели. Почти ничего не ела. Не могла объяснить, что со мной происходит, что я чувствую. От малейшего движения отвратительно кружилась голова. Огромными от ужаса глазами я вглядывалась в пустоту, в окружающую меня тьму, в лимб, в никуда… Меня не существовало… И так день за днем, неделю за неделей. Вечность.
Когда же наконец, все еще слабая и испуганная, я начала осторожно, опираясь на мужа, вставать и даже делать несколько шагов, мне стоило неимоверных усилий убедить окружающих, мою маму, моего растерянного супруга, моего скептически настроенного врача, что мои ощущения не являются плодом моей перевозбужденной фантазии. Я была обижена на весь мир, испугана и очень одинока.
Должно быть, прошло около трех месяцев после нашей поездки. Мне казалось, что понятие времени меня больше не касается. Моя жизнь протекала в ее собственном режиме: от головокружения до потери равновесия, от испуга до ужаса.
Ну а затем я прошла все существующие анализы и обследования. Меня направляли на проверку слуха и пространственного зрения, на компьютерную томографию головы и шеи; записывали электромагнитные импульсы, делали УЗИ и общие анализы крови; проверяли гормоны и железы внутренней секреции. Меня осматривали специалисты-невропатологи; ортопеды стучали по коленкам и прощупывали позвонки. Я сидела в звуконепроницаемом аквариуме и должна была нажимать на большую кнопку каждый раз, когда слышала звук, иногда такой слабый, что мне казалось, что он звучит только у меня в голове. Я сидела напротив беспорядочно мерцающего экрана, и мне надо было в течение, как мне показалось, трех часов опять нажимать на кнопку каждый раз, когда я видела (или мне казалось, что видела) яркую вспышку молнии. Меня подсоединяли к электродам, смазывали гелем; я наклоняла голову, поднимала ее и опять наклоняла. Я садилась, вставала; мне мерили давление, пульс, температуру – ничто не свидетельствовало о каких-либо нарушениях; более того, даже уровень железа в моей вегетарианской крови никогда не был таким высоким, как тогда. От подозрения на мононуклеоз отказались еще в самом начале марафона после простого анализа крови. Ну а больше всего меня раздражало, что мой супруг не уставал повторять, какая я красивая, да и я сама, глядя в зеркало, видела перед собой действительно красивую женщину, но при этом у меня каждый раз все внутри сжималось от предчувствия надвигающейся беды. Мне казалось, что это моя лебединая песня. Я думала, что это еще один намек на приближающийся конец.
Часами я пыталась описать мужу, моим родителям, многочисленным врачам подробнейшие детали того, что я чувствовала, что меня так пугало. Паника, ужас, неожиданные необъяснимые волны головокружения и слабости. Я искала все новые образы и сравнения, которые приблизили бы их к моему состоянию; заставили бы их понять, что я чувствую. Я стою на палубе раскачивающегося на волнах корабля; нет, я вращаюсь внутри бетономешалки, я – мелкая разноцветная галька, которая поднимается и опускается в каком-то постоянном круговом ритме; я поднимаюсь и опускаюсь – почти падаю – и должна за что-то ухватиться. Но ухватиться было не за что, поскольку моему мужу надоело, и он сказал:
– Я не собираюсь больше погружаться с тобой в это твое никуда. Я опять начинаю жить.
И ушел. Правда, он каждый день возвращался с работы и преданно отвозил меня к врачам, на встречах с которыми я упрямо настаивала, но сам уже был не со мной.
Моя мама – опытный врач-психиатр – и мой участковый врач начали все чаще произносить вслух то, что раньше еле слышно бурчали себе под нос. Моя мама сказала: – У тебя депрессия.
Я позвонила своему психологу, той самой, с которой перестала встречаться, как только забеременела и была такой счастливой (миллион лет тому назад…).
Пришла к ней, села на диван и заплакала. Я плакала первый раз с той страшной ночи, когда потеряла моего ребенка; и это был первый раз, когда я вообще плакала у нее в клинике. Я рассказала ей все, что случилось после того, как в последний раз вышла из этой комнаты. О выкидыше, о свадьбе, медовом месяце и о моей болезни.
И она произнесла слова, которые распахнули передо мной двери на пути к медленному и длительному выздоровлению.
– С тобой произошло что-то ужасное, – сказала она. – Ты потеряла ребенка. Тебе надо было завернуться в дерюгу и посыпать голову пеплом, сидеть на полу и оплакивать свою судьбу, но никто не смог до конца понять и признать твою боль.
Происходящее со мной приобрело форму, а я, разобравшись, влила в нее содержание: я пыталась преодолеть и вычеркнуть мою потерю, не обращать внимания на боль, подавить ее, но она была сильнее меня, она овладела мной, заполнила меня всю – до краев. Я превратилась в сосуд, вместилище для депрессии, для отчаяния и не отпускающего страха надвигающейся смерти; и ничто другое туда уже не помещалось. Я была в аду, и внутри меня тоже был ад.
Я была в депрессии.
Жила-была девочка
Не могу сказать точно, когда именно и каким образом в моей постепенно выздоравливающей душе зародилась связь между депрессией и знакомыми мне с раннего детства сказками. Как долгожданные спасительные облака во время продолжительной засухи, всплывали в моем сознании образы, слова, картины: проглоченная волком Красная Шапочка появляется из его распоротого брюха, Белоснежка падает замертво и вновь оживает, Спящая Красавица просыпается через сто лет от поцелуя принца… Теперь все они стали мне особенно близки и понятны.
Я вспомнила сказку, которую читала девочкой в кибуце; одну из тех, что читала и перечитывала как завороженная пять, десять, а то и больше, раз в ленивые послеобеденные часы на железной кровати детского корпуса, одинокая в беспокойном ребячьем муравейнике. Вспомнила, как гуляла в волшебном лесу: там, в заброшенном замке жила принцесса с золотыми локонами (такими, каких у меня никогда не было), заколдованная злой феей на долгие семь лет. А потом она очнулась – красивая, умная и повзрослевшая.
Златовласка, Белоснежка, Красная шапочка, Спящая красавица, а с ними и Персефона – похищенная древнегреческая богиня плодородия, ставшая богиней царства мертвых – роились в моей усталой голове; переговаривались, шептались или просто, молча, кружились в воздушном безостановочном хороводе. И я, прислушиваясь к ним, начала прислушиваться и к тому, что происходит в моей душе: тщательно, крупинку за крупинкой очищала настоящее от надуманного, пока не начал вырисовываться облик монстра, угрожающего лишить меня всего самого дорогого. И вместе с этим мне становилось ясно, что моя история в точности повторяет их: как Белоснежка и Инанна (шумерская богиня, удалившаяся в царство мертвых), так и я оказалась похороненной заживо на дне глубокого колодца под названием депрессия, а теперь я пытаюсь оттуда выбраться. И, как Златовласка, я просыпаюсь совершенно другой.
В это же время начались мои встречи с потрясающей женщиной, «шаманкой», скрывающей свои волосы под плотным белым платком, которая с тех пор и до сегодняшнего дня служит мне верным и надежным проводником.
Тогда же моему мужу удалось в буквальном смысле слова вытащить меня из дома: на желеобразных, дрожащих, как студень, ногах, оглушенная, как мне казалось, невыносимым шумом улицы, с остановками и передышками я проделала путь от дома до машины, чтобы затем, вцепившись в продуктовую коляску, безразлично плестись вслед за ним по супермаркету. Нестерпимые приступы головокружения, превращавшие меня в ледяного истукана, моя оптимистически настроенная наставница называла «внутренним перерождением жизненных механизмов».
В те дни, в самом разгаре процесса, я не могла разобраться в истинном положении вещей, но сегодня с высоты прошедших лет я вижу, как неведомые силы, словно передвигая дрейфующие материки, перестраивали мою душу. Казавшиеся несокрушимыми преграды были снесены, а образовавшиеся еще в детстве бреши в защитной стене, наоборот, заделаны (и теперь я их тщательно оберегаю). Скрывавшиеся от посторонних глаз растрепанные ведьмы с черными ногтями вылезли из подземелья, и до сих пор я не всегда с ними справляюсь… Послушные мамины дочки, декламирующие на табуретке переходящие из поколения в поколение детские стихи, были загнаны на чердак и все еще не знают, как оттуда выбраться, и стоит ли вообще это делать. Цели, к которым я стремилась изо всех сил, не замечая, как по дороге топчу и давлю другие частицы моего же собственного Я, вдруг испарились, будто их и не было. Образы успеха и счастья, поселившиеся в моем сознании еще в детстве, безжалостно подгонявшие меня, наступавшие мне на пятки, неподвижно замерли. Теперь мною управляли новые силы; и они были мягче, сострадательнее, человечнее по отношению ко мне и окружающим.
Тогда же я смогла увидеть принципиальную модель, по которой выстроены все сказки, не подвластные законам времени: ведь это их герои нашептывали мне свои истории, когда мне было особенно тяжело. Эти сказки загоняют своих героинь в безвыходное тупиковое положение, в результате чего они на какое-то время умирают, а затем, воскреснув, начинают новую жизнь. Я называю их сказки обратимой смерти.
В моем понимании, сказки обратимой смерти – это неоднократно повторяющиеся истории о депрессивном процессе, рассказанные посредством различных сюжетов, где обязательно присутствуют погружение в преисподнюю душевного ада, кажущееся бесконечным нахождение в этом аду, а затем не менее тяжелое восхождение, своего рода возрождение, которое влечет за собой жертвы, уступки и потери.
Те из нас, кто мыслит категориями современного западного общества и относит болезнь, депрессию или потерянность к явлениям однозначно отрицательным, которых следует избегать и предотвращать, будут сильно удивлены, когда убедятся, сколько героинь сказок и легенд, на которых основана наша культура, абсолютно осознанно обрекают себя на исчезновение (временное), на муки ада, на обратимую смерть. Сразу замечу, что эта тяга к небытию (и возвращению из него) не является исключительно женским уделом, но мужчины и женщины умирают и рождаются заново совершенно по-разному; я обязательно остановлюсь на этом подробнее. Прежде чем мы продолжим, я хочу еще раз подчеркнуть, что эта книга касается в основном депрессии, наблюдающейся исключительно у женщин, поэтому она и написана мной от лица женщины: я часто использую обороты «мы, женщины» или «у нас, у женщин», а не обобщенные «мы» и «у нас», так как пишу оттуда, изнутри, где душа и плоть неразделимы. Ну а вам, мужчины, которые тоже решили запрыгнуть в нашу карету, я, естественно, говорю «добро пожаловать», но предупреждаю: на этой дороге иногда здорово трясет.
Почему Спящая Красавица не желает смотреть на мир через прозрачный целлофан, в который ее обернули необычно преданные родители[2], и ищет по всему замку одну-единственную сохранившуюся иглу, чтобы наконец-то погрузиться в сон? И почему Инанна, владычица небес, отказывается от царского трона, покидает небо и землю и спускается в подземное царство своей сестры Эрешкигаль? Она совершенно осознанно идет навстречу своей страшной судьбе. А Белоснежка? Она снова и снова отворяет дверь перед своей Тенью[3], скрывающейся под видом бедной старушки. Вряд ли девушка не знает, кто стоит (несколько раз подряд) за дверью: ведь это Старуха-Смерть собственной персоной, предлагающая ей яблоко!
Белоснежка отворяет дверь Смерти до того момента, пока перед ней самой не распахиваются ворота в небытие. И там, в стеклянном гробу, забывшись глубоким, как обморок, сном, она, наконец, успокаивается и дает возможность своей растерзанной душе перестроиться заново для того, чтобы жить дальше. Вот и Инанна – она погибает от «взгляда смерти», но затем благодаря усилиям богов в ее изувеченное тело возвращается жизнь. Что-то подобное происходит и со Спящей Красавицей: она погружается в вечный сон, из глубин которого и появляется долгожданный принц.
Несмотря на то, что я воспитана (в принципе все мы так воспитаны) на том, что депрессия, которую испытала я и испытывают героини сказок возвращения из небытия, представляет собой явление негативное, от которого необходимо излечиться, сегодня я уже так не считаю.
Депрессия в моем сегодняшнем понимании – это экстремальное орудие, крайняя мера спасения из безвыходного, тупикового душевного состояния (что абсолютно ясно вытекает и из сказок обратимой смерти); инструмент, вне всякого сомнения, опасный, который я ни в коем случае не посоветовала бы в качестве палочки-выручалочки. И все же я считаю, что мы в состоянии по-новому взглянуть на тяжелое испытание, называемое депрессией, оставив в стороне общепринятые условности, освободившись от необходимости беспрерывного тотального контроля. Мы в состоянии отнестись к депрессии как к неминуемому процессу, к которому прибегает душа, оказавшись в невыносимой ситуации.
Многие последователи холизма видят в любом заболевании обязательную лечебную составляющую, т. е., по их мнению, любая болезнь одновременно является и лекарством; к любому заболеванию можно отнестись как к «падению ради взлета». Более того, даже конвенциональная медицина пусть не всегда, но признает, что в анамнезе многих заболеваний прослеживается история подавления эмоций, наших или наших родителей, или, на худой конец, что подавление эмоций может нанести вред физическому здоровью. В этой книге я пишу только о депрессии и только на основе моих личных переживаний, но вполне допускаю, что подобные процессы свойственны и многим другим как душевным, так и физическим расстройствам.
Я рассматриваю депрессию как своего рода благотворную регрессию, как убежище, в стенах которого можно укрыться, подобно улитке, прячущейся в раковине. И там, в недрах временного небытия, отпустить поводья жизненной колесницы, чтобы дать возможность затянуться той самой душевной трещине, которая и послужила входными воротами для депрессии. Ну а что касается потери управления, то остается надеяться на внутреннее свойство, называемое интуицией, которое, как верный конь, не даст нашей душе сбиться с пути и найдет потерянную нами дорогу домой.
По-моему, эту метафору я позаимствовала из русской сказки, где Иванушка-Дурачок (кажущийся таковым) настолько доверяет своему коню (Коньку-Горбунку), что по его совету прыгает в котел с кипящим молоком и как водится, выходит оттуда красавцем-принцем.
Первая, о ком я подумала, начиная мое путешествие по следам героинь сказок, вернувшихся из небытия, была Персефона. Юная беззаботная Персефона, как повествует греческая мифология, была похищена Аидом, богом подземного царства мертвых, и стала его женой. Деметра, богиня плодородия и земледелия, искала свою дочь по всему миру, предаваясь безутешной скорби, и в это время земля была бесплодна; ничто не всходило на засеянных полях. Люди умирали от голода и не приносили жертв богам. Зевс начал посылать за Деметрой богов и богинь, чтобы уговорить ее вернуться на Олимп. Но она, сидя в черном одеянии в элевсинском храме, не замечала их. В конце концов Аид был вынужден отпустить девушку, но перед освобождением дал ей семь зерен (или три, есть разные варианты) граната. Персефона, все это время отказывавшаяся от пищи, проглотила зерна – и тем самым была обречена на возвращение в царство Аида. Полгода (весну и лето) она проводила с матерью на Олимпе, а осенью опускалась в подземелье править царством мертвых. И так из года в год вся природа на земле цветет и увядает, живет и умирает – поднимается и опускается вместе с Персефоной.
Этот пересказ древнего мифа может вызвать недоумение: казалось бы, что общего между мифологическим похищением и нами – женщинами, добровольно ищущими дорогу в недра своего подсознания и идущими по ней до полного изнеможения? Воспользуюсь красочным образом, позаимствованным у Клариссы Пинкола Эстес: достаточно лишь слегка дунуть, как с Персефоны слетит вся пыль «патриархальной морали», предписывающей обязательное похищение в Царство Мертвых и обнажится древний «оригинал» – Персефона сама по доброй воле отправляется в дальний путь.
Ведь не может быть, чтобы богиня весны, дочь богини плодородия, была похищена во чрево земли, которое по логике вещей принадлежит ее матери: сюда, в земные глубины, уходят своими корнями деревья; здесь спят, набираясь сил, пшеничные зерна; земные соки питают все живое на земле. Вся земля – все, что на ней, и все, что под ней, – находится во владении Деметры, а значит, уже принадлежит или будет принадлежать и ее дочери, Персефоне.
Что же происходит в то теплое солнечное утро? Персефона с подружками собирает чудесные полевые цветы – фиалки и ирисы, крокусы, цветы дикой розы и гиацинта – и незаметно отдаляется от всех. И вот, одна, завороженная пьянящей красотой цветущего луга, она находит давно поджидающий ее нарцисс и, естественно, срывает его. Нарцисс с его дерзким тревожащим запахом, с его манящим взглядом, обращенным вовнутрь, в бесконечное «Я», увлекает нас все дальше и дальше вглубь, в зеркальный лабиринт, в стенах которого отражается бездонная вечность. Черная пустота затягивает нас – мы тонем. Стоит Персефоне сорвать нарцисс, как из недр земли возникает колесница, а в ней – Аид, властелин царства мертвых; он увозит ее в свое лишенное света логово.
Даже если Персефона (которая являет собой не что иное, как позднюю версию Инанны) не совсем отдает себе отчет в том, что происходит, она в действительности самым активным образом ищет ворота, ведущие туда, где она должна оказаться. Какая часть Персефоны знает, что нарцисс и есть те самые ворота в мир мертвых? На этот вопрос нет точного ответа, но несомненно, что именно эта часть руководила всеми ее действиями в то солнечное утро.
А теперь еще одно легкое прикосновение – и перед нами вырисовывается другая стародавняя картина: прежде чем отпустить Персефону, протягивает ей Аид гранатовые зернышки. Крошечные капельки на мужской ладони, они мерцают в темноте, как налитые кровью рубины…
Гладкие, как речные камушки, зерна приятно холодят девичьи пальцы; на мгновение она ощущает языком их тяжесть, еще мгновение – кисло-сладкий взрыв во рту, а затем – слабый всплеск памяти, легкий приятный озноб; и все…
– Счастливого пути, – говорит ей муж.
– До скорого свидания, – добавляет он шепотом, так, чтобы она не услышала.
А Персефона? Бросив короткий взгляд назад, она устремляется вверх по лестнице прямо в объятия готовой ради нее на все матери.
– Ты ведь ничего у него не брала? – прижимая к себе дочь, спрашивает Деметра.
– Нет, мамочка, только зернышки граната. Только несколько зернышек.
– Глупышка моя, – заливается слезами мать. – Ты же знаешь, что нельзя выносить с собой ничего из Аида. Теперь Аид внутри тебя. Теперь ты обязана туда вернуться. О боги! Помогите мне!
Мать падает на колени возле черного бездонного колодца.
Конец второго акта.
«Ты прекрасно знаешь, почему, – настойчиво нашептывает поселившийся внутри меня змей познания, – почему Персефона съедает гранатовые зерна, которые дает ей ее коварный дядюшка». Те самые зерна, которые делают невозможным ее полное возвращение на землю и вынуждают ее подчиниться ритму вечного маятника: вниз – в преисподнюю и назад, вверх – к свету; ритму, по законам которого богиня весны отцветает и предается земле, как богиня смерти, а затем возрождается – прорастает вновь, как весна.
Зернышко граната, древнего символа плодородия, процветания и супружества, используется как метафора, как поэтический образ, намекающий на добровольное слияние Персефоны с духом преисподней; на союз между высшим и низшим, между светом и тенью, между сознанием и подсознанием.
Теперь меня влекла не столько знакомая мне с детства античная легенда, сколько ее древние предшественники. И действительно оказалось, что в начале своей эволюции Персефона спускалась в Подземелье добровольно, никто и не пытался ее похитить. Та самая богиня весны, которую греки позаимствовали из существовавшей до них многовековой мифологии, стремилась в Вечное Царство Мертвых, чтобы утолить жажду познания, встряхнуть скучное спокойное бытие и наконец-то встретиться с поджидающим ее там загадочным мужем; открыть для себя покрытый мраком внутренний образ ее матери – образ так называемой Черной Деметры и рассмотреть вблизи скрытую в недрах души свою собственную Тень.
И сейчас, когда мы сняли с лица нашей богини весны античную маску, нам ничего не стоит разглядеть древние корни мифа, старательно припудренные свежим покровом патриархальной древнегреческой морали, которая проповедовала полное разделение между высшими и низшими, между внутренним, спрятанным, и наружным, находящимся на поверхности. Еще одно легкое прикосновение – и мы оказываемся в совершенно ином пространстве, в среде, которая признает важность и даже необходимость периодического погружения в бездонные глубины подсознания. Именно так я и предлагаю читать все сказки возвращения из небытия. Смахнем с них налет патриархальной пыли, и перед нами слой за слоем откроется скрытая в глубине мозаика происходящего: погружение в Аид является внутренней необходимостью.
Я отношу себя к сторонникам теории эволюционного развития, и поэтому мне трудно представить, что в нас существуют силы, оказывающие исключительно разрушительное действие. В творении божьем, называемом человеком, у каждого компонента, физического или духовного, обязательно должно быть первичное предназначение с ярко выраженным положительным потенциалом.
Даже западная медицина, веками направленная против повышенной температуры, кашля, насморка, рвоты и других, хорошо знакомых нам симптомов, сегодня видит в них необходимую защитную реакцию организма. Я бы прибавила к этому списку и депрессию. И все же, как воспаление, являющееся естественной защитной реакцией организма, может перейти в хроническую форму, так и депрессия – затянувшаяся, повторяющаяся снова и снова – теряет свои целительные свойства и сама превращается в болезнь.
«Я хочу отметить ценность такого процесса, как депрессия, – говорил по этому поводу Д. В. Винникотт, – при этом я не отрицаю, что люди, подверженные депрессии, тяжело страдают и могут нанести себе серьезные повреждения, вплоть до самоубийства»[4]. Итак, в большинстве случаев, какими бы тяжелыми и затяжными они ни казались, как воспаление, так и депрессия выполняют важнейшую целебную функцию. Признав это, нам остается только не мешать вечному тандему души и тела использовать заложенные в них природой способности самоисцеления.
Виннникотт отмечал, что «депрессивное настроение указывает на то, что Я еще не разрушено окончательно и сможет устоять, даже если ему не удастся найти то или иное определенное решение»[5]. Другими словами, существование этого подавленного Я, по определению Винникотта, является обнадеживающим признаком того, что Я не развалилось, не распалось – своего рода, «я подавлен, следовательно, существую».
Я бы хотела опереться именно на эту, довольно удручающую фразу, чтобы пояснить, в чем основное отличие моей точки зрения: по-моему, депрессия, по крайней мере, в ее чистой, изначальной форме, не является побочным продуктом, следствием, результатом тяжелого психологического состояния, как это следует из высказываний Винникотта, а оказывается тем самым решением, которое находит для себя растерзанная душа, замыкаясь в своем собственном аду, пассивно выжидая своего возрождения. По Винникотту, депрессия – это тяжелый симптом, для меня – это горькое лекарство.
Книги-наставники необходимы нашей душе, как поцелуй при ушибе; они пришли на смену повествованиям, пересказываемым длинными вечерами у пылающего очага. В них собранные человеком знания о механизмах самозащиты и самоизлечения неразрывно связанных между собой души и тела. Прислушайтесь к историям Белоснежки, Красной Шапочки, Персефоны, Психеи и всех тех женщин, которые были погребены в глубинах депрессии и восстали из нее вновь, и вам откроется их первозданная мудрость, ставшая источником силы и утешения для многих и многих поколений.
Естественно, я не призываю хвататься за депрессию, как за всемогущую волшебную палочку, но я вижу ее лечебные свойства и предлагаю попытаться найти дорогу (обществу в целом и нам в частности) к ее – нашим древним истокам.
Важно, чтобы мы признали эволюционную необходимость ухода от действительности, отказа от бытия, сопровождающих депрессию; а находясь в ее темных глубинных лабиринтах, чтобы помнили, что на самом деле туннель, ведущий на поверхность, существует и в конце его – свет и воздух.
Наши великие мифы, легенды и сказки рассказывают нам о тяжелом, полном страданий и боли, но неизбежном путешествии женщин – юных девушек в мир депрессии и о возвращении из него. Белоснежка, Красная Шапочка и Инанна проделали этот путь и вернулись, умерли и родились заново. Их истории глубоко укоренились в нашем коллективном подсознании, чтобы служить нам опорой в особо тяжелых обстоятельствах. Эти дремлющие женские архетипы, живущие, как кроты, в глубинных слоях нашей души, существуют, чтобы напоминать нам, что даже если наша депрессия длится сто лет или вечность, если мы кажемся мертвыми, если отравленная игла вонзилась нам в сердце и ядовитое яблоко застряло у нас в горле, если наше гниющее мясо подвешено на крюке в адском подземелье или куски нашего тела перевариваются в кишках хищного чудовища, – все равно, несмотря на отчаяние, на ужас, на безучастность, ничто не может остановить невидимого, по-черепашьи медленного процесса пробуждения и восстановления сил, необходимых нам для продолжения жизни. Принц, тот самый жизненный двигатель, внезапно появляющийся в сказках в последнем акте, может возникнуть только при полном бездействии, вплоть до полного отсутствия нашей главной героини; и лишь он способен заставить всю душу в целом совершить еще один, на этот раз успешный виток.
Ну, а раз так, то:
Жила-была девочка. Она умерла. И она родилась заново.
К кому обращаются сказки обратимой смерти
Нам, с детства знакомым с диснеевской Белоснежкой – красавицей с осиной талией и эффектной грудью, трудно представить, что Белоснежке, брошенной в лесу по приказу завистливой королевы, едва исполнилось семь лет. Я думаю, что не только сегодня, но и во времена братьев Гримм, когда эти сказки были собраны и записаны, да и еще раньше, когда их только пересказывали, никто из сказочных героев, будь то Белоснежка, Ганс и Гретхен, Василиса, Златовласка или Красная Шапочка, не перенесли бы отведенных на их долю испытаний, если бы им действительно пришлось столкнуться с ними в столь раннем возрасте. Повинуясь замыслам рассказчиков, они борются с кровожадными ведьмами – людоедами, злыми колдунами и лютыми волками. Но за захватывающими приключениями скрываются не менее интригующие душевные испытания: они поглощаются собственным безжалостным нутром, они прячутся в дремучих лесах подсознания, воссоединяются со своим началом в его первозданной, инстинктивной, форме; они выпускают на свободу свою тень и противостоят ей, избавляясь от элементов, с которыми они не в состоянии справиться, и сливаясь с теми, которые они в состоянии впитать. И хотя антропософы считают семилетний возраст рубежом детства, вряд ли найдется девочка, какой бы развитой и смышленой она ни казалась, которая выполнит все эти задачи, да и вряд ли от нее это когда-нибудь потребуется. А значит, настоящими героями этих хорошо известных всем историй являются не девочки семи – двенадцати или даже шестнадцати лет, а мы, слушающие рассказчика: женщины более или менее зрелые, но оказавшиеся опять на стадии взросления. И пусть зачатки душевных узлов, которые мы вынуждены распутывать, заложены в нашем детстве (а некоторые утверждают, что еще раньше, в предыдущей жизни), саму эту тяжелую работу нам приходится проделывать на гораздо более позднем этапе.
Если же нам действительно пришлось пережить что-то из того, что выпало на долю наших героинь, то процесс исцеления отзовется эхом глубоко внутри нас; и, будто путешествуя во времени, будет продвигаться все глубже и глубже, пока не столкнется с нашим внутренним Я, покоящимся на глубине наших трех, пяти, семи и двенадцати лет.
Именно такой путь я прошла у моей духовной наставницы. Она говорила мне: «Взгляни на себя трехлетнюю. Прислушайся к ней… Пожалей ее, если она плачет. Что она говорит? Что ты хочешь сказать ей? Посмотри вокруг. Кого еще ты там видишь?..». Не раз я встречала там, внутри, себя двух-, трех-, десятилетнюю. Иногда мы беседовали, иногда просто немного гуляли вместе. И каждый раз, прощаясь, я с огромной любовью обнимала и сильно-сильно прижимала себя к себе. Встречи такого рода, по-моему, хорошо залечивают застарелые раны.
Целительное влияние сказаний и всякого рода литературных произведений лежит в основе большого числа методик и систем. Преподаватели, работающие в школах Вальдорфской системы образования, используют в лечебных и педагогических целях рассказ, специально написанный для определенного ученика; библиотерапия реализуется на занятиях с детьми и взрослыми, при работе с заключенными и душевнобольными; индийские лекари пересказывают душевнобольным легенды, размышления над которыми должны способствовать их выздоровлению.
Вполне может быть, что сказки возвращения из небытия, как и другие архетипические истории, которые существуют вне времени и пространства и несут в себе вечные человеческие истины, рассказывались, пелись, а возможно, и разыгрывались во время ритуальных обрядов, отмечавших взросление, – переход из детства в юность; это был подарок любящих матерей или, скорее всего, бабушек, так как у них было больше свободного времени для болтовни у костра. Эти подарки преподносились девушкам на пороге взросления, затем с появлением первой менструации, и вновь – когда они становились матерями, а затем – зрелыми женщинами, и снова, и снова с каждым завершением очередного витка великого женского цикла.
Эти сказки не могли бы выжить, если бы не затрагивали вечных общечеловеческих тем, которым не страшны ни время, ни общество. Тысячелетия мы страдаем от той же боли и попадаем в те же ловушки. Наивно утверждать, что знание избавляет от страдания и что те, кто с детства слушал архетипические сказки, могли полностью управлять своими переживаниями и избегать боли и печали. Но у древних женщин, для которых эти метафорические откровения были частью хорошо знакомого ритуала, было одно явное преимущество:
Как и мы, они знали, что есть путь-дорога.
Как часть из нас, они знали, что им предстоит ее преодолеть.
Но в отличие от нас у них была карта.
Рассказ, история, сказка – это карта. Пусть зашифрованная, но доступная.
Карта, которая раз за разом чертилась на песке, рисовалась на пещерной стене, изображалась движением рук в танце, нашептывалась в нежное ушко; отпечатывалась линией судьбы на ладони, когда «сорока ворона кашу варила». Кашу варила, варила – и костлявый палец описывает круги в углублении мягкой ладошки и оставляет там свой отпечаток – все ту же карту. На этой карте проложен маршрут во внутреннюю преисподнюю и назад, но более того – на ней означен путь, проделанный душой на протяжении полного жизненного цикла: от ущербности – через депрессию – к полноценности.
Если бы тогда, когда я оплакивала мой потерянный плод, в моем распоряжении оказалась бы подобная карта с изображенной на ней дорогой вниз, а затем назад, я смогла бы пройти весь свой длинный путь в себя сама, а не скатилась бы туда против своей воли, оцепеневшая от страха и отвращения. Если бы я имела ее там, внизу, то, возможно, вернулась бы домой намного быстрее.
Шесть лет прошло с тех пор, как во мне начали вырисовываться первые узоры ковра, сотканного из отголосков образов и звуков, обрывков мыслей и путаницы идей, вернувшихся со мной из бездны. Шесть лет работы над текстом, которая порой была настолько спонтанной и быстрой, что мне иногда казалось, будто кто-то невидимый диктует мне эти строчки, а временами каждая буква давалась с таким трудом, словно я выдалбливала ее на неподатливо твердой каменной поверхности.
И вот теперь, стоя на моей в общем-то невысокой скале, я оглядываюсь назад и понимаю, что все эти годы я была не одна, что я не могу назвать себя одиноким путником.
Я, как и все остальные, кто отправляется на поиски затерявшейся тропинки, ведущей в то самое глубинное внутреннее пространство, к которому нас влечет каждый раз, когда мы оказываемся в тупике, убедилась в существовании дорожных проводников, многие из которых обладают древними знаниями, сохранившимися и продолжающими жить в разных уголках мира. У народов Южной Америки и Сибири – это шаманы, знахари, духовные наставники, которые, увлекаемые волной галлюциногенных веществ, «зельями познания» и самовнушения, оказываются в местах, для нас – простых людей – недоступных. Именно о них я читала взахлеб у Карлоса Кастанеды, когда мне было семнадцать.
Сегодня мне ясно, что проводники, сопровождающие своих подопечных в их пути по неизбежной извилистой тропе в ад и назад, вовсе не обязаны иметь рога, закатывать глаза или выдыхать дым благовоний (хотя я, по-прежнему, отношусь к ним с немалой долей уважения).
Сопровождающий, конечно, может – но не обязан, – достигнув особого душевного и духовного состояния, проникать в самые сокровенные тайны души; и это совсем не плохо, когда справа от него резвится его шаманская «животная сила», а слева парит его добрый дух, но обычное сочувствие, сострадание, жизненный опыт, способность не судить и готовность быть всегда рядом при всех взлетах и падениях делают наставника, если не шаманом, то, по крайней мере, достойным другом и желанным попутчиком.
Меня сопровождали четыре попутчицы, и каждая делала это по-своему. Одна – целительница и медиум – на протяжении длительного времени поддерживала меня и морально, и физически посредством хилинга. Вторая – психолог, которая сказала мне:
– Ты потеряла ребенка. Так плачь, завернись в мешковину, посыпь голову пеплом – ведь у тебя горе!
Третья – моя духовная наставница, вместе с которой мы ныряли в неизведанные глубины сознания; и вряд ли я когда-либо испытаю более сильные и эффективные чувства, чем пережитое тогда потрясение. И последняя, но тоже замечательная, – инструктор по шиацу и голосовой терапии, короткое знакомство с которой открыло заложенную во мне, но до этого скрытую и неподвластную мощь и научило меня слушать и слышать плачь и крик моего тела.
В течение долгих лет я думала, что все могло выглядеть по-другому. Я верила, что если бы вместо того, чтобы оттолкнуть себя от себя, отвернуться от своей боли, отречься от своей потери; если бы вместо бесконечных анализов и консультаций у врачей, которые не видели меня, а только мою болезнь (и, соответственно, не видели ничего), если бы вместо всего этого я нашла хотя бы одну из этих женщин, которая в тот день, когда из меня выскребли мой мертвый плод, стала бы моей попутчицей, взяла бы меня за руку и проделала со мной весь тяжелый путь все ниже и ниже до самой моей внутренней преисподней, а затем назад, я бы оперлась на ее плечо, выкричала перед ней мою утрату, разорвала одежду и посыпала голову пеплом, а потом бы поднялась. И самое главное: я жила бы, сознавая, что со мной происходит, а значит, проживала бы свою жизнь во всей ее полноте.
Я верила в это, жалела себя и злилась. Я злилась на врачей и на судьбу, которая в то невыносимо тяжелое время не позаботилась обо мне, не снабдила меня проводником, шаманом или просто попутчиком. Но сегодня я понимаю, что все происходило именно так, как могло и должно было происходить. Моя встреча с попутчицами, так же как и все другие значительные встречи в моей жизни, не состоялась слишком поздно – она состоялась ровно тогда, когда я была к ней готова. Более того, я знаю, что ни тогда и ни сейчас я не достигла конечного пункта моего странствия.
Прежде чем мы отправимся в путь, одно важное замечание: сказки можно читать и толковать по-разному, мое же отношение к сказкам подобно юнгианскому отношению к сновидениям, и я считаю их неподвластными времени повествованиями, которые нам посылает наше личное и коллективное подсознание.
Сюжет сказок, как и сновидений, развивается на наших внутренних просторах, и их герои олицетворяют нашу внутреннюю суть. Каждое действующее лицо – это всего лишь один из образов того, кто этот сон видит. Если во сне ко мне являюсь «я» вместе с другими знакомыми и незнакомыми мне участниками, каждый из которых изображает какую-то определенную частицу меня, то и в сказках героиня (Белоснежка, Красная Шапочка, Спящая Красавица) присутствует в виде своего имени или прозвища, в котором отражена доминантная часть ее личности, в то время как остальные образы представляют дополнительные лица («мать», «охотник», «волк», «мачеха» – их не счесть). Какими бы они ни были: знакомыми и близкими или незнакомыми и вызывающими страх – эти образы всегда являются частицами души самой героини.
Нам предстоит встреча с несколькими – хорошо знакомыми и менее известными – сказками и мифами возвращения из небытия, которых мы будем рассматривать как истории о депрессии, закончившейся исцелением. Белоснежка, Красная Шапочка и Спящая Красавица исполнят роль опорных столбов в архетипической пещере, в то время как другие сказки этого жанра (к примеру, «Заколдованный лес» или «Амур и Психея») будут нам служить фонариком. Я не смогу обойтись без помощи наших выдающихся современниц: Адриенны Рич, Сильвии Плат, Симоны де Бовуар и их соратников; в их трудах я нашла для себя много нового, их мысли придали глубину моим изысканиям.
Я расскажу истории, о которых повествуют образы архетипических женщин из сказок забытья и смерти, исходя из моего собственного, очень личного к ним отношения. Я слышу в них вечный, существующий вне времени урок: в состоянии, называемом в этих сказках «сон», «забытье» или «смерть», кроется мощная целительная сила; именно это состояние мы сегодня называем его современным именем – депрессия.
Часть первая. Белоснежка (Кровавая Белоснежка)
Введение: красное – черное – белое
Было то в середине зимы. Падали снежинки, точно пух с неба, и сидела королева у окошка – рама его была из черного дерева – и шила королева. Шила она, загляделась на снег и уколола иглою палец, и упало три капли крови на снег. А красное на белом снегу выглядело так красиво, что подумала она про себя: «Если бы родился у меня ребенок, белый, как этот снег, румяный, как кровь, и черноволосый, как дерево на оконной раме!». И родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево, – и прозвали ее потому Белоснежкой. А когда ребенок родился, королева умерла[6].
Вот перед нами пять коротких, скрупулезно отточенных предложений, ставших самым выразительным прологом братьев Гримм. Пять предложений – и весь жизненный цикл одного женского архетипа: юность, ожидание ребенка, материнство и смерть. Это трогательное, поэтичное повествование, подобно древней реке, берет свое начало где-то в глубине сказочных веков и со сказочным упорством прокладывает себе путь в наши дни. Повествование, которое неподвластно времени.
Было то в середине зимы… В воздухе кружится снег, снежинка за снежинкой, невесомые, как пух с огромного небесного лебедя. Красивое женское лицо в оконном проеме: черное грубо обтесанное дерево, а снаружи – белизна, бесконечная белизна. И женщина, молодая королева, еще не познавшая материнства, то ли видит в полусне, то ли грезит наяву: ее мысли плывут, как снежный пух, кружатся и тонут в бесконечном белом океане.
Она очнулась от укола иглы; три капли крови – три алых пятна на белоснежном покрывале. И вдруг все оживает: пятно крови, словно брошенный в воду камень, разбивающий зеркальную гладь озера, расплывается алым кругом на девственно белом снегу; расползается по застывшей картине, нарушает ее покой и влечет за собой перемены, беременность, рождение…[7]
А королева загадывает желание, повторяя его про себя, как молитву: она мечтает о младенце, белом, как снег, румяном, как кровь, и черноволосом, как дерево; она создает его в своем воображении – она шьет. Она шьет губы, алые, как кровь, – кровь девственницы; она шьет белоснежную кожу – бледную, как остывающее тело; она шьет черные, как черное дерево, волосы – черные, как жирные слои чернозема. Девочка рождается, и королева умирает.
И родила королева вскоре дочку, и была она бела, как снег, как кровь румяна, и такая черноволосая, как черное дерево, – и прозвали ее потому Белоснежкой. Сколько раз мы слышали это предложение, которому явно предназначена роль предупреждающего знака, и не остановились. Ведь согласитесь, это более чем странно: родилась девочка, которая была одинаково бела, красна и черна, но почему-то, на первый взгляд, совершенно произвольно, но на самом деле, как мы сможем убедиться далее, вполне преднамеренно красный и черный были проигнорированы, только белый цвет оказался соответствующим образу малышки. История, на которой выросли поколения, не озаглавлена как «Краснокровка» или «Черностволка», а известна всем под названием «Белоснежка».
Как же получилось, что малышка избавилась от двух из трех частей своей многоцветной личности и ухватилась за такой бледный, безжизненный цвет, как белый?
Идеальная внутренняя мать периода беременности – та самая очень-очень умная, совершенная внутренняя мать, какой все мы собираемся стать; та, которую все мы хотели бы иметь в качестве своей собственной матери; та, которая на самом деле может существовать только в пределах утопического периода увеличивающегося живота, стежок за стежком создавала в своих мечтах этакую бело-красно-черную девочку; она мечтала о трехцветной дочке.
И ее желание исполнилось.
В момент рождения еще без имени, то есть до того, как было предопределено ее общественное лицо, Белоснежка является законченным, целостным человеческим созданием, состоящим из полного спектра жизни и смерти: она черная, белая и красная. Но только тогда, как это обычно происходит в утопиях, умирает внутренняя идеальная мать из периода беременности, вернее, уступает место действительности – действительности более сложной, когда новые голоса и силы заявляют о своих правах на только что появившееся существо. Ну а дочка, которая сразу улавливает, что здесь установлены другие правила игры, чем там, в «чреве», где ее принимали всю, без оговорок и ограничений – со всем ее красным, белым и черным, – делает свой выбор.
Белоснежка, «хорошая и послушная девочка», выбирает белый.
Еще одной девочкой, которая предпочла белый, прикоснулась к красному и стала жертвой кровожадного черного, была выдающаяся писательница и поэтесса Сильвия Плат (1932–1963). Она сознательно ушла из жизни в возрасте 31 года, но успела подарить миру стихи, которые на сегодняшний день признаны вершиной женской лирики XX века, и ее единственный роман – автобиографию «Под стеклянным колпаком» («The Bell Jar»), повествующий о событиях 1953 года, когда она находилась в состоянии глубокой депрессии. Плат дала современные имена действующим лицам, населяющим мир депрессии, знакомый ей до мельчайших подробностей. Ее произведения стали моим путеводителем в сказочном лабиринте чувств и эмоций, по которому она сама передвигалась с уверенностью современной Белоснежки или Инанны; за время наших скитаний мы не раз обратимся к ее творчеству.
«Стародавняя потребность быть лучшей во всем ради матери, чтобы в награду удостоиться ее любви» – записала Сильвия в дневнике[8], облекая в слова от нашего общего имени форму поведения, которой мы, как это ни банально, подчиняем наши помыслы и поступки. Эта фраза как нельзя лучше объясняет, почему Белоснежка останавливает свой выбор именно на белом. Работы Винникотта, Алис Миллер[9], Маргарет Малер[10] и многих других указывают на очень распространенный психологический процесс, в результате которого ребенок – зачастую младенец – изобретает и присваивает себе псевдоличность, «мнимое Я», вся роль которой заключается в ублажении родителей в обмен на их любовь.
Алис Миллер описывает, как «истинное Я», загнанное в бессознательное, просыпается к жизни в результате психотерапии (или в состоянии психоза) в виде «опасного чужестранца», перед которым мы чувствуем себя абсолютно беспомощными. Неважно, какое имя мы ему присвоим: Тень, Волк или Колдунья, речь идет о подлинной частице нашей души, которая задыхается в вязкой трясине нашего внутреннего болота и с которой мы все не раз сталкиваемся в ночных кошмарах, просыпаясь от собственного крика или плача, из-за того, что нас опять атаковало наше же «запретное» Я.
«А что произойдет, если я перестану убегать? – спрашиваем мы себя, устав от погони. – Остановлюсь с разбегу, обернусь: раз, два, три – все фигуры на месте замри! И что, превращусь в соляной столб? На меня нападет злодей? Провалюсь? Упаду в обморок?»
Подобно малышкам, испуганно вглядывающимся в ночную темноту комнаты, когда небрежно брошенная на стул одежда принимает очертания чудовища, мы замираем перед отвратительно-заманчивой загадочной неизвестностью: кто прячется там, за елью? Принц, гном или колдунья?
Ой! Это опять всего лишь я сама.
Я поймала себя,
И я замерла
И вот, именно в этот момент неясности, или раздвоенности, врывается в сюжет «злая колдунья» – в черном бархате и ярко-красных остроносых туфлях – это не кто иной, как «теневая сторона», с отвращением загнанная в глубину души и неожиданно потревоженная ослепляющим неоновым светом самой же Белоснежки. Злобная мачеха, злая колдунья рождается в то самое мгновение, когда Белоснежкой овладевает белизна; она возникает из черного и красного, изгнанных из мира Белоснежки; из того самого черно-красного, насильно упрятанного вглубь, который бурлит, пенится, сотрясает и, приняв незнакомую ранее и вселяющую ужас форму, наконец вырывается наружу.
«Я ревную, завидую, домогаюсь, требую – потерянно мечусь; и вместе со мной мечутся отраженные в витринах магазинов и в стеклах автомобилей развевающаяся черная накидка, красные каблуки, алые перчатки – чужая, чужая, чужая как никогда…»[11], – пишет Сильвия Плат, и перед нами возникает женщина, не готовая признать неожиданно проявившиеся в ней и вызывающие отвращение красное и черное. Они, словно негативный снимок ее отбеленного самовосприятия, ей абсолютно чуждый и незнакомый, в котором отображены такие антиобщественные чувства и качества, как ревность, зависть, жадность, алчность, из которых в нашем рассказе выстроен образ злой колдуньи. И точно так же, как Плат, не признает своего черно-красного отражения и Белоснежка. Она делит себя надвое: создает для себя внешний отрицательный образ («злой мачехи») и чувствует, что он ее преследует: это не я, это она в зеркале – черно-красная, чужая; она – та, что завидует; она – жадная, алчная, растерянная; она – та, что в устрашающем красном и развевающемся черном. Ну а я? Я – Белоснежка. Белоснежная.
Вот что пишет Сильвия Бринтон Перера, юнгианский аналитик, в своей книге «В подземном царстве темной богини. Символический путь женской инициации»[12], посвященной погружению шумерской богини Инанны в подземный мир: «Разветвление надвое часто появляется во снах женщин – дочерей патриархальности в виде разделения женского тела на два этажа: до талии и – ниже. Верхний отдел (белый) символизирует в основном полезную, кормящую, собственную – персональную, возвышенную, достойную, „дозволенную“ и „хорошую“ сторону женщины, а нижний (красный) – „отвратительные“, „зловонные“, „отрицательные“, „агрессивные и безличностные силы“».
Такое патриархальное, моралистическое, силовое общество и родители, которые служат посредниками между ребенком и этим обществом, воспринимаются ребенком как единая и единственная действительность, как бесспорная истина. Это огромное общественно-родительское существо, подобно дрессированным волам, всегда идущее только по проложенной борозде и обладающее неимоверной животной силой, навалившись на ребенка своей гигантской тушей, душит его уникальное первичное «я», заполняет все пространство вокруг, не давая рассмотреть окружающий мир во всем его разнообразии, и удобряет почву своими экскрементами. Из этой почвы пробивается, а затем вырастает маленький «я-ведомый-обществом», тратящий все свои силы на то, чтобы соответствовать образу, который родители, словно прозрачная капельница, покапельно вливают в его организм.
Я не плакса, я – герой, И никогда не плачу. Но, мама, что это со мной: Вдруг слезы сами плачут? (Штекелис М. Я. Детская песенка[13])Ребенок, которому не разрешено проявлять его амбивалентные естественные чувства, вынужден отделить «плохое» от «хорошего», составляющие его личность. Он создает для себя Тень, в которую заключены все отрицательные и запретные чувства, и Персону[14] – маску, служащую своего рода внешним представителем (послом) в его отношениях с миром в лице его родителей и общества. В нашем уравнении Белоснежка является персоной, а злая колдунья – то самое теневое «другое я» Белоснежки, взявшее на себя всю агрессию, которую она чувствует и которая позже изнутри даже угрожает ее жизни.
Необходимо отметить: большинство матерей детей с «отсеченной тенью» не сознают, под каким психологическим прессом пребывают их дети. Зачастую, наоборот, они не устают повторять: «Я всегда готова принять любое твое решение» или «Главное, чтобы ты была довольна/счастлива». Но, копнув поглубже, мы обнаружим, что ребенок, получающий материнскую любовь скупыми дозами и поэтому страдающий «хроническим недоеданием», постоянно занят всевозможными ухищрениями, направленными на усиление этой любви.
Умный, чуткий, внимательный ребенок довольно скоро замечает, что некоторые его поступки, определенные чувства и определенные реакции, вызывая одобрение родителей, «выдавливают» из них дополнительную порцию любви. Само собой разумеется, что он спешит усвоить это «правильное» поведение, и оно становится неотделимой, интегральной частью его строящейся личности – личности, которая строится в процессе очень осторожного диалога с потребностями родителей, но абсолютно изолированно от его собственных нужд, за исключением одной – быть любимым.
«Почему я совершенно не чувствую, что она меня любит? – пишет Сильвия Плат в своем дневнике. – Какой именно „любви“ я жду? Как выглядит то, что я не получаю и что заставляет меня плакать?.. Я желаю ее смерти, чтобы я смогла наконец-то понять, кто я на самом деле»[15].
Дональд Винникотт предлагает свой сценарий, по которому люди с особенно развитой чувствительностью неосознанно вынуждены присвоить себе искусственный, фальшивый облик, так как иначе они не в состоянии противостоять окружающему их миру. По его словам, этот ложный облик есть не что иное, как защитный механизм, охраняющий перенесшее травму, раненое и ранимое истинное «я», которое необходимо спрятать и тем самым предотвратить новую травму. Зачастую речь идет о защитной маскировке, имеющей парадоксальный (противоположный) характер: белый или освещенный вместо темного; жизнеутверждающий вместо смертного и т. д.[16] Именно таким образом, как мы скоро убедимся, скрывает снежная белизна нашей героини ее внутреннюю мглу, а под неутомимой жизнедеятельностью Белоснежки в доме у гномов прячется на самом деле тяга к смерти.
Какими бы ни были причины глубокого душевного конфликта: вызван ли он, как утверждает Алис Миллер, стремлением соответствовать требованиям родителей; отражает ли он, по словам Сильвии Бринтон Перера, несоответствие между патриархальным укладом общества и душой женщины, или является следствием других разрушающих факторов, о которых говорит Винникотт, – в любом случае, мы имеем дело с внутренним расколом между «истинным» и «фальсифицированным» Я. Это конфликт, на протяжении которого все новые и новые нежелательные элементы истинного «я» подвергаются заключению в тайных подвалах души: там они должны будут умереть или хотя бы уснуть вечным сном. Где же они все покоятся: страсть, тень, колдунья, злая, зловонный, самоубийца, кровожадный, позорящая, уродливый, отрицательное, половое, ночное? В каких глубинах человеческой души прячется все то, что пенится, как кровь, и бурлит, как стая летучих мышей, вооруженных сверхчувствительными ночными сенсорами? Где красное и черное?
Эти красные и черные части души не умерли и даже не уснули. Надолго затаившись в дремучем лесу теней подсознательного, они разрастаются, набухают, принимают форму чудовища – злодея и людоеда, угрожающего уничтожить «белоснежку».
«Приспособление к родительским потребностям зачастую (хоть и не всегда) приводит к превращению ребенка в „псевдоличность“, развитию мнимого Я», – пишет Алис Миллер. Основываясь на накопленном годами опыте исследователя и психотерапевта, она описывает пациентов, которые жалуются на чувство душевной пустоты, никчемности, на отсутствие смысла в жизни. Более того, это не просто чувство; по словам Алис Миллер, пустота эта реальна: «Действительно, наблюдается полное душевное опустошение, обеднение и частичная утрата возможностей». Еще одно интересное явление, которое наблюдает автор: большинство этих людей видели в детстве неоднократно повторяющиеся сны, в которых они зримо переживали собственную смерть[17].
И это ощущение собственной гибели, принявшее в сказках форму «обратимой смерти», оказалось, как ни странно, единственным средством, способным высвободить, вытащить бессильного ребенка – нас – из полуживой – полумертвой жизни, которой мы живем.
Сохранившаяся только на одну треть Белоснежка – та самая теряющая силы бледная Персона – борется из последних сил, чтобы устоять на крохотном кусочке земли, осыпающемся прямо из-под ног в бездонные глубины преисподней, но, обессилив, сдается: все, что ей остается, – это сложить оружие или исчезнуть.
В конце внутреннего диалога между белым, с одной стороны, красным и черным – с другой, между Персоной и Тенью, прорежется новая женщина. Способность воспринимать себя как красное – белое – черное сможет проявиться в ней только после изнуряющего спуска в адские катакомбы подсознательного. Но для этого ей необходимо умереть, и сюжет в принципе об этом.
Все начинается с дома
Зеркальце на стене
Год спустя взял король себе другую жену. То была красивая женщина, но гордая и надменная, и она терпеть не могла, когда кто-нибудь превосходил ее красотой. Было у нее волшебное зеркальце, и когда становилась она перед ним и гляделась в него, то спрашивала:
– Зеркальце, зеркальце на стене, Кто всех красивей во всей стране?И зеркало отвечало:
– Вы всех, королева, красивей в стране.
И она была довольна, так как знала, что зеркало говорит правду. Белоснежка за это время подросла и становилась все красивей, и, когда ей исполнилось семь лет, была она такая прекрасная, как ясный день, и красивее самой королевы. Когда королева спросила у своего зеркальца:
– Зеркальце, зеркальце на стене, Кто всех красивей во всей стране?Оно ответило так:
– Вы, госпожа королева, красивы собой, Все же Белоснежка в тысячу крат выше красой!Испугалась тогда королева, пожелтела, позеленела от зависти. С того часа увидит она Белоснежку – и сердце у нее разрывается, так стала она ненавидеть девочку. И зависть, и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше, и не было у нее отныне покоя ни днем, ни ночью.
И вот после пролога, посвященного утопической матери, которая в конце этого же пролога и умирает, повествование переходит к подробному описанию мрачного образа новой матери, в то время как Белоснежка – не только сирота, оставшаяся без матери в младенческом возрасте, но и главная героиня рассказа – остается напрочь забытой рассказчиком.
Но не один лишь рассказчик бросает Белоснежку – она сама «отказывается от себя», чтобы своим белоснежным существованием не обмануть ожиданий отца, который тоже отсутствует. Ее витальная, подлинная, аутентичная часть прозябает во мраке, и именно туда перемещается и повествование: во владения злой королевы, к «тени» с ее собственными требованиями и надеждами относительно действительности.
Проходят семь лет, прежде чем гордая и надменная красавица-мачеха принимает облик злой колдуньи. Это те самые семь лет мифического детства, которые, по словам Рудольфа Штайнера, проходят в состоянии ментального сна. Их отзвуки можно найти и в «Новых волшебных сказках»[18], героиня которых (Блондина) засыпает на долгие семь лет: срок достаточный, чтобы все те необработанные, нежелательные чувства, не получившие легитимации в младенчестве, успели, перебродив, взойти до вызывающих ужас гигантских размеров «кровожадной злодейки».
И действительно после семи лет, на протяжении которых в душевном королевстве Белоснежки царили тишина и покой, неожиданно проснувшиеся черное и красное нарушают установившийся статус-кво и громко заявляют о себе.
Алис Миллер пишет, что иногда в душе взрослого, завоевавшего «любовь» и восхищение окружающих его достижениями, красотой и одаренностью, «вдруг пробуждается маленький одинокий ребенок, который спрашивает: „А что если бы я предстал перед вами злым, уродливым, раздражительным, завистливым и беспокойным?“»[19].
Какова судьба тех отвергнутых частиц собственного Я, которые мы с большими затратами труда вычеркиваем, как добросовестные дети, старательно, высунув от усердия кончик языка, короткими упрямыми штрихами? Целые картины нас самих в наши самые неудобные – неловкие – чудные мгновения исчезают за пеленой тумана, оставляя после себя еще одно опустевшее место. Не беспокойное, не уродливое, не зловонное, не ранимое, не существующее. Очень грустно наблюдать, как раз за разом легко и быстро мы готовы похоронить целые фрагменты нашей личности; как в течение многих лет избегаем даже упоминания о них; с каким постоянством мы разводим наш высококонцентрированный настой обыкновенной кипяченой водой, пока не превращаемся в разбавленный водяной раствор, ведомые обществом и направляемые надеждами родителей (тех внутренних родителей, которые позже, во взрослом возрасте, воплощаются в наших друзьях, наставниках, любимых и различных альтер эго, выбираемых нами, как кажется, абсолютно случайно).
На протяжении долгих лет, занимаясь весенней внутренней генеральной уборкой, я с особой тщательностью сдирала и сбрасывала с себя любые внутренние качества или черты, которые на тот момент не соответствовали создаваемому мной личному образу.
Куда, к примеру, исчез тот забытый маленький кусочек меня со старой детской фотографии, где я сижу на траве и, блаженно улыбаясь, ковыряю в носу? Я его разорвала и выбросила. И как я тоскую об этой девочке сегодня; о том, как она могла там сидеть, не подозревая ни о чем, уверенная во всем и верящая всем, – одна частичка из груды таких же преданных забвению, безвозвратно удаленных из моей жизни милых – отвратительных кусочков моего собственного Я. Нередко мы даже не замечаем, как оказываемся далеко-далеко от этих жалких-эксцентричных-ребяческих-крикливых лоскутков самого себя; и только вдруг чувствуем, что в крови у нас – вода, а не огонь и проявления жизни в нас настолько слабы, что иногда необходимо себя ущипнуть, чтобы убедиться, что мы все еще здесь.
И, как у всякого ребенка, поменявшего кровь на клюквенный морс, в жизни Белоснежки наступает день, когда бурлящие внутри кровь и тень выплескиваются наружу и, разъедаемые кислотой зависти и ненависти, предъявляют ей счет. И счет этот кровавый.
Тень вдруг понимает, что ее ненаглядное зеркальце – та самая любящая внутренняя мать, которая всегда говорит, какая она красивая, какая она хорошая девочка и как она ее любит – на самом деле любит не ее, то есть не всю ее, а только ее «белоснежную» часть. Она любит ее только тогда, когда та – Белоснежка.
Поэтому она «испугалась», «пожелтела, позеленела от зависти», «сердце у нее разрывалось», «и зависть и высокомерие росли, точно сорные травы, в ее сердце все выше и выше, и не было у нее отныне покоя ни днем ни ночью». На первый взгляд, очень мрачная и тяжелая картина, но ведь, и правда, речь идет о вполне естественных и даже вызывающих сочувствие переживаниях девочки, осознавшей, что родители любят вовсе не ее, а какую-то нафантазированную ими персону. И за этим немедленно следуют чувство потери, скорбь, обида, гнев, чувство беспомощности и непреодолимое желание отомстить. Отомстить кому?
Той самой белоснежной части, вытеснившей и растолкавшей по дальним углам все остальные (и далеко не маленькие) части ее существа. Вот тут-то Тень и разбушевалась! Она им всем покажет, на что она способна – какой действительно плохой она может быть. С этого момента и до окончания повествования она должна стать единовластной хозяйкой души, единственной дочерью матери, скрываемой под образом зеркальца; быть в его глазах «всех красивей». И если подытожить продолжение истории, исходя из того, как его видит Тень, то: внутреннее зеркало, мать, продолжает упрямо и последовательно рассказывать, насколько Белоснежка красивее (т. е. желаннее, любимее), чем она; а она, Тень с не меньшим упрямством пытается уничтожить занявшую ее место эту фальшивую и такую положительную девочку-самозванку.
Проглотить Белоснежку
…Подозвала она одного из своих егерей и сказала:
– Отнеси ребенка в лес, я больше видеть ее не могу. Ты должен ее убить и принести мне в знак доказательства ее легкие и печень.
Егерь повиновался и завел девочку в лес, но когда вытащил он свой охотничий нож и хотел было уже пронзить ни в чем не повинное сердце Белоснежки, стала та плакать и просить:
– Ах, милый егерь, оставь ты меня в живых, я убегу далеко в дремучий лес и никогда не вернусь домой.
И оттого, что была она прекрасна, сжалился над нею егерь и сказал:
– Так и быть, беги, бедная девочка! Смотри, чтоб тебя не разорвали хищные звери! И точно камень свалился у него с сердца, когда не пришлось ему убивать Белоснежку. На ту пору как раз подбежал молодой олень, и заколол его егерь, вынул из него легкие и печень и принес их королеве в знак того, что приказание исполнено. Повару было велено сварить их в соленой воде[20], и злая женщина их съела, думая, что это легкие и печень Белоснежки.
Еще несколько сот лет тому назад идея каннибализма вовсе не претила человеческой природе. Греческие герои и боги, например, с завидным аппетитом уплетали своих детей. Они поедали своих противников – поедали все, что движется. Тема каннибализма в греческой мифологии звучит в унисон с мотивом рождения заново: подобно Красной Шапочке, выпрыгивающей из распоротого волчьего брюха, проглоченная богом жертва возвращается к жизни, рождается заново.
По одной из версий предания о Тантале, царе Лидии, он, испытывая всеведение богов, убил своего сына Пелопа, приготовил блюдо из его мяса и подал его пирующим богам. Те, однако, сразу поняли замысел Тантала и отказались от угощения. Только Деметра, погруженная в печаль о своей исчезнувшей дочери Персефоне, в рассеянности съела лопатку юноши. Разгневанные боги заключили Тантала в подземное царство, где он испытал нестерпимые муки голода и жажды, ну а сына его, Пелопа, вернули к жизни. Недостающую лопатку возместили протезом из слоновой кости.
Еще один герой древнегреческих мифов Кронос[21], возможно, страдал паранойей, а возможно, справедливо видел в своих детях угрозу власти и поэтому проглотил всех по мере их рождения: Гестию, Деметру, Геру, Аида и Посейдона, а затем, опоенный своим младшим сыном Зевсом, изрыгнул их из своего чрева. Младенец Дионис – почти забытый в современности бог, которого «опустили» до уровня покровителя виноделия, – был съеден титанами. Они коварно заинтересовали божественного ребенка игрушками, предлагая ему то яблоки, то шишку, погремушку, кубики и, наконец, зеркальце. Титаны напали на младенца, когда он разглядывал свое отражение, разорвали его тело на части и съели. Афине удалось спасти только сердце, еще трепетавшее, и она принесла его Зевсу, который вернул Диониса к жизни и наделил его бессмертием.
Роберт Грейвс, автор «Белой Богини», значительную часть своей книги посвятил описанию обрядов кастрации, расчленения, поедания покидающих свой трон царствующих героев и приношения их в жертву богиням зачастую в форме грандиозных по накалу страстей и жестокости церемоний. Подобные ритуалы существовали практически во всех частях древнего мира; свидетельства о них найдены Грейвсом в Британии, на территории древней Галлии и стран Средиземноморья. Со временем такого рода ритуальное действо переросло в театрализованный акт: царствующий герой изображал мертвого, ел пищу мертвецов, а назавтра заново женился на своей «вдове». В обоих случаях, и в реальном, и в инсценированном, главным смыслом обряда являлось бессмертие как следствие поедания. Этот же принцип лег в основу важнейшего религиозного обряда христианства – Причащения к Телу (освященный хлеб) и Крови (освященное вино) Христа, который стал жертвой, был умерщвлен, воскрес и обрел бессмертие.
Племена каннибалов верили, что они приобретают свойства съеденного ими человека. Согласно этой древней логике, если бы коварная королева добилась своего и получила печень и легкие девочки или если бы оправдалось предупреждение отца-охотника[22] и хищные звери разорвали бы бедного ребенка, в нашей истории произошло бы рождение заново и, более того, – воссоединение. Ведь королева жаждала не только увидеть в себе Белоснежку, получить ее «красоту», то есть ее способность внушать к себе всеобщую любовь, ее желания гораздо серьезнее: она стремится слиться с ней, чтобы навсегда прекратить расслоение, насаждаемое критичными родителями, которые строго соблюдают деление на «плохую» и «хорошую», «всеми любимую» и «отверженную».
Тревожный лес
И осталась бедная девочка в большом лесу одна-одинешенька, и стало ей так страшно, что все листочки на деревьях оглядела она, не зная, как быть ей дальше, как горю помочь. Пустилась она бежать, и бежала по острым камням, через колючие заросли, и прыгали около нее дикие звери, но ее не трогали.
Тревога, в моем понимании, – это разрушительный, кровожадный механизм, действующий рука об руку с депрессией. Тысячи раз мы умираем от тревоги, под ее влиянием мы становимся ходячими покойниками. Но, как у любого механизма, у нее есть предназначение; и пока мы не окажемся у ее истоков и не обнаружим ее истинного лица, скрывающегося под отвратительной маской, мы не сможем ее разоружить и обезвредить.
Итак, на почти обезличенную, растворившуюся за долгие семь лет в своей белизне Белоснежку неожиданно нападают намного превосходящие ее в силе коварные тени, которые все это время росли, разбухали и всасывали в себя все питательные и жизненно необходимые соки ее души. Лишенная защиты, брошенная всеми, Белоснежка оказывается одна-одинешенька в огромном и кажущемся бесконечным лесу своего подсознания. Знакомая до этого окружающая действительность становится чужой и угрожающей: утопическая мать принимает облик мачехи, а затем и колдуньи.
Белоснежка, изучающая листья на обступивших ее деревьях в попытке расшифровать незнакомую обстановку, подобна человеку, который в разгаре приступа тревоги перестает понимать, где он и что с ним: при ярком солнечном свете особенно ясно видно, как трескается и разваливается поверхностный глянец жизненных будней, обнажая черную, пустую, отвратительную и пугающую гниль.
«Жуткое, таинственное, кровавое зрелище скрывается под наружным, открытым всеобщему обозрению слоем каждодневных жизненных атрибутов: роды, брак, смерть, родители, школы, кровати и обеденные столы – отовсюду появляются темные, жестокие и смертоносные тени, демонические существа, костлявые ведьмы»[23], – записывает в своем дневнике измученная приступами тревожности Сильвия Плат.
Эти демонические существа, костлявые ведьмы, чудовищные драконы, крадущие и разлучающие с матерью малокровных принцесс; Эрешкигаль – великая подземная госпожа из шумерской мифологии или отвратительная «горгона Медуза», от одного взгляда которой у нас холодеет внутри, – все они представляют темные стороны нашей души. Одно лишь упоминание о них вызывает у нас отвращение, потому что в них мы узнаем себя; мы видим свой собственный, отвергнутый нами образ – уродливый, одинокий, низменный и безнравственный.
Иногда – я это видела не раз и не два – тревожное состояние служит чехлом, покрывающим табу. К примеру, подавляемый гнев, вызванный – о, ужас – самыми дорогими нам людьми: родителями, любимыми, детьми. И вот это запретное чувство, эта безудержная ярость вместо истинного адреса перенаправляется вовнутрь; мы настолько раздавлены гневом и задушены яростью, что воспринимаем действительность через слой удушливой пелены и тупеем от недостатка воздуха. Многие из нас, несомненно, помнят с детства запретное, подавляемое чувство недовольства нашими родителями, тем, как они признавали только нашу «белоснежность», тем, что были нам недоступны. Нередко дети используют свой организм для того, чтобы выразить то, что им запрещено не только чувствовать, но и выражать словами. В альтернативной – холистической – медицине многие заболевания (в первую очередь, дыхательной системы) считают проявлением все того же тщательно скрываемого запретного гнева.
Мне было пять лет, когда мои родители репатриировались в Израиль. Мы поселились в кибуце, где большую часть дня я оставалась без родителей, так как они, молодые врачи, должны были утвердиться в своей профессии в незнакомой стране с непонятным языком и непривычным образом жизни. А для меня, пятилетней, родители оставались единственной опорой, на которой балансировал мой счастливый мир. Признаться в обиде на них и на их длительное отсутствие означало лишить себя единственного живительного источника. Подавляемый гнев перевоплотился в неподвластную тревогу, которая стала моей верной спутницей. Эта тревога выражалась в приступах затрудненного дыхания; они, подобно тени, преследовали меня все мое детство. Я боялась темноты, болезней, террористов, короче, всего, что только могло придти мне на ум; и сколько душевных сил мне пришлось потратить, чтобы преодолеть эти страхи! Я держалась за мою любовь и уважение к родителям, а мой гнев направляла против себя самой.
Известный исследователь южно-американских культур профессор Нахум Меггед рассказывает в своих лекциях о белой женщине, которая преодолела огромные расстояния, чтобы добраться до знаменитого в тех краях шамана по имени Дон Сирило. У нее был вид совершенно потерянного человека – женщина была явно чем-то напугана и очень этого стеснялась. Ее преследовали постоянные кошмары: страшные огромные скелеты протягивали к ней свои длинные костлявые руки и тащили ее в могилу; и так каждый день, ночью и днем, во сне и наяву – беспрерывно. Дон Сирило надолго погрузился в себя и наконец пришел к заключению, что кто-то зарыл тень этой женщины, и теперь эту тень необходимо освободить и спасти[24].
Святой огонь поведал ему, где тень похоронена, и трое – шаман, антрополог и женщина – немедленно отправились в путь. Через несколько часов они приехали в заброшенную, давно опустевшую деревню, возле которой находилось древнее кладбище. Шаман сразу направился к свежему холмику, видному издалека на фоне заросших могил, и начал рыть. Через несколько минут он вытащил из ямы куклу; на ней было написано имя стоявшей возле могилы женщины. С осторожностью хирурга шаман начал удалять булавки, иголки и острые шипы, торчащие из тряпичного тельца куклы. Как только он закончил, раздался голос женщины, в котором смешались ужас и облегчение: «Скелеты и руки ушли в землю».
Позже женщина рассказала, что ее брат завидовал ей в связи с тем, что отец перевел на нее все наследство и, по всей вероятности, обратился к колдуну[25].
Эту историю можно рассказать и иначе: жила-была женщина, которой отец завещал все свое состояние, и она забрала себе все наследство, не посчитавшись с братом, которому не досталось ни копейки. Жадность, безразличное отношение к брату или, возможно, даже чувство злости из-за самого факта его существования – все эти чувства были естественным образом подавлены: ведь они признаны антисоциальными, постыдными, отвратительными. Женщина пыталась их не замечать, игнорировать, старалась их победить или хотя бы подавить. И действительно, какое-то время казалось, что это ей удается. Но, как часто бывает, весь этот ворох запретных, позорных, гадких чувств, спрятанный в дальнем углу ее душевного подполья, рос и расползался, пока не достиг размеров чудовища, изрыгающего пламя ненависти – ненависти к брату. Это пламя, за неимением другой цели, было направлено против нее самой. В вырытом женщиной подполье корчилось в предсмертных муках исколотое ядовитыми иглами презренное чувство, и это не могло остаться безнаказанным. По словам профессора Меггеда, цитирующего шамана, если с тенью случится что-то серьезное, дни хозяина человеческой тени сочтены. Ее тень, ее невысказанные, раздавленные в кашу гнев и обиды бродили и пенились, наполняя душу ядовитыми парами; они лишили женщину воздуха. Состояние тревоги, приступы панического ужаса стали невыносимы.
Шаман заставил ее вскрыть могилу, вынуть оттуда изуродованное тельце ее куклы-тени – и признать свои чувства.
Здесь, как и во многих других случаях, лечение отталкивается от обратного: как только женщина осознала и признала направленный против нее гнев брата, она тем самым признала правомерным свое озлобленное отношение к нему; она дала свободу своим чувствам и сразу же освободилась от кошмаров. Тень может вернуться и занять свое место в душе. Она не должна больше протягивать свои костлявые руки, чтобы напомнить о своем существовании, потому что никто не пытается ее изгнать, зарыть в заброшенной людьми деревне.
Эта женщина настолько боялась своей недозволенной тени, что не только закопала ее на кладбище, но и сделала это в далекой опустевшей деревне, то есть окончательно изгнала ее из сознания. Там, на безлюдном кладбище, «никто» не станет эту тень оплакивать или откапывать, там ей обеспечено полное всеобщее забвение.
Многие из нас становятся жертвами изнуряющих приступов тревожного состояния, не подозревая, что сами же и «породили» это чудовище; что они месяцами согревали своим теплом – высиживали – крокодилье яйцо, не подозревая, что зубастый детеныш уже вылупился и только выжидает удобного момента, чтобы наброситься на свою жертву[26].
Приступы тревожности «неизвестного происхождения» атакуют нашу жизнь в самом ее апогее, наказывая за то, что в этой жизни не находят своего отражения наши истинные потребности, подчиненные нашим внутренним или внешним (социальным) понятиям о неких нравственных идеалах. Так, к примеру, матери в кибуцах, подчиняясь идеологическим требованиям коммуны, были вынуждены жить практически отдельно от детей, которых кормили, укладывали спать, наказывали и утешали нянечки – верные уполномоченные кибуцного движения; или женщины, посвятившие себя карьере, которые, следуя идеям феминизма, заглушают в себе отзвуки взывающего к их материнскому началу детского плача. Этой теме посвящена книга Арэлы Ламдан «Конец безмолвию: мы не желаем больше молчать»[27], в которой она публикует беседы с женщинами трех поколений, живущими в кибуцах. Яэль «мать второго поколения»: «Быть матерью в кибуце того времени означало быть послушной матерью… С одной стороны, мне было важно соблюдать правила и законы, с другой – меня преследовало тяжелое чувство, что что-то я делаю не так… Каждый вечер я брала детей, без которых жить не могла, и отправлялась с ними на другой конец кибуца в детский корпус, где находилось их детское общежитие… Я слишком хорошо знаю, что если ты не будешь подчиняться законам, тебя не будут любить; а если тебя не будут любить – это конец…»
Другая крайность – женщины, которых полностью поглотило интенсивное, тотальное материнство, не оставляющее места как для самых элементарных потребностей (прервать кормление, чтобы сходить в туалет, или сделать себе бутерброд, даже если дочка именно сейчас хочет играть), так и для надобностей личного плана (быть наедине с собой, загадывать на будущее, что-то делать в свое удовольствие). Какой приятной и притягивающей, но в то же время опасно иллюзорной, может оказаться детская неспособность отличить свое младенческое незрелое «я» от всего, что связано с понятием «мама», особенно если «мама» – сама младенец, слишком рано лишенный целительного материнского тепла.
Вот и я, как многие женщины, чьи бесконечно преданные работе родители воспитывали своих детей на фрейдистских принципах «сепарации» между матерью и ребенком (это должно было помочь ребенку вырасти и сложиться как индивидууму), и были слишком рано лишены дивного диалога, который происходит между нежным алым ротиком и мягкой теплой грудью, между любящими убаюкивающими руками и прижимающимся беспомощным тельцем; как те, кто махал ручкой вслед энергично шагающей маме и оставались дома с няней (которая тоже оставила дома детей и отправилась на работу) – я, подобно многим женщинам, искала утешения в материнстве. Моя преданность ребенку незаметно перешла в абсолютную зависимость, равную той, в которой находится младенец по отношению к своей матери: из моей жизни было вычеркнуто все, что не определялось потребностями ребенка; я полностью отреклась от той части моего «Я», которое не было связано с функцией «мама».
Раз за разом отказываясь от наших самых элементарных, казалось бы, давно привычных и вполне доступных желаний и стремлений, мы незаметно погружаемся в пустоту безразличия. Мы еще не понимаем, что происходит, но уже испытываем усталость, равнодушие к происходящему вокруг нас, граничащие с полной апатией. Вещи, которые всегда будоражили наше воображение, вызывали в нас спортивный азарт и требовали немедленного действия – обустройство дома, новый проект на работе, – оставляют нас абсолютно безучастными, погруженными в полудрему, как будто наши жизненные резервы на исходе и не в состоянии мобилизовать чувства, необходимые для реализации каких бы то ни было планов на будущее. Чаще всего мы начинаем понимать происходящее слишком поздно: беспощадная лавина уже несет нас к бездне, и только крошечный осколочек, оставшийся от нас прежних, преодолевая смертельный ужас, трубит тревогу. Жутко!
А ведь, если подумать, еще задолго до тревоги, задолго до депрессии наши внутренние сейсмометры посылают нам настойчивые сигналы о надвигающейся катастрофе. Все, что мы должны сделать прежде, чем наши тени начнут протягивать к нам свои костлявые руки из ямы, которую мы для них вырыли, – это подать им руку, помочь выбраться на поверхность, осторожно отряхнуть их от пыли и грязи и желательно обнять. Обнять тень, потому что без нее наша жизнь – не жизнь.
Пробуждение к жизни настоящего «я», которое существует бок о бок с «тенью»[28], нередко сопровождается неприятным покалыванием, подобным тому, что появляется в занемевших, а затем наполнившихся кровью органах. Теперь, когда раздавшееся вширь «я» потягивается во вдруг ставшей узкой кровати, когда руки и ноги заполняют собой все домашнее пространство и крадут время, внимание и силы, – в доме необходима перестановка, чтобы освободить место для появившегося там нового человека. И человек этот – я.
С тех пор как я пережила и поняла этот процесс, стоит мне почувствовать даже слабый запах тревоги, и я тут же начинаю искать его источник: зловоние какого убитого и погребенного мною запретного чувства я учуяла? Каким бы разложившимся и отвратительным ни был этот труп, его нужно обнаружить и извлечь на свежий воздух.
Возможно, подобно «женщине-скелету»[29], он обрастет мясом и кожей и станет нашим верным и незаменимым спутником на всю оставшуюся жизнь; а возможно, он свое уже отслужил, и нам останется только похоронить его с почестями.
Я убедилась, что, признавшись в существующих наперекор табу запретных чувствах, мы высвобождаем себя из их тисков – тисков, которые за неимением другой точки приложения способны задушить нас до смерти.
Избушка
Бежала она, сколько сил хватило, и вот стало уже вечереть, увидела она маленькую избушку и вошла в нее отдохнуть. А в избушке той все было таким маленьким, но красивым и чистым, что ни в сказке сказать, ни пером описать. Стоял там накрытый белой скатертью столик, а на нем семь маленьких тарелочек, у каждой тарелочки по ложечке, а еще семь маленьких ножей и вилочек и семь маленьких кубков. Стояли у стены семь маленьких кроваток, одна возле другой, и покрыты они были белоснежными покрывалами. Захотелось Белоснежке поесть и попить, и взяла она из каждой тарелочки понемногу овощей да хлеба и выпила из каждого кубочка по капельке вина, – ей не хотелось выпить все из одного. <…> А так как она очень устала, то легла в постельку и, отдавшись на милость Господню, уснула. Когда уже совсем стемнело, пришли хозяева избушки, а были то семеро гномов, которые в горах добывали руду. Они зажгли семь своих лампочек, и когда в избушке стало совсем светло, они заметили, что у них кто-то был, потому что не все оказалось в том порядке, в каком было раньше. <…> И увидели они спящую Белоснежку.
– Ах, Боже ты мой! Ох, Боже ты мой! – воскликнули они. – Какой, однако, красивый ребенок!
Они так обрадовались, что не стали ее будить и оставили ее спать в постельке. <…>
Наступило утро. Проснулась Белоснежка, увидела семь гномов и испугалась. Но были они с ней ласковы и спросили:
– Как тебя зовут?
– Зовут меня Белоснежка, – ответила она.
– Как ты попала в нашу избушку?
И рассказала она им о том, что мачеха хотела ее убить, но егерь сжалился над ней, что бежала она целый день, пока наконец не нашла их избушку. Гномы спросили:
– Хочешь вести наше хозяйство, стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке, – если согласна на это, можешь у нас остаться, и всего у тебя будет вдосталь.
– Хорошо, – сказала Белоснежка, – с большой охотой.
И осталась у них. Она содержала избушку в порядке; утром гномы уходили в горы искать руду и золото, а вечером возвращались домой, и она должна была к их приходу приготовить им еду.
Ощущение надвигающейся опасности, приступ тревоги, которые Белоснежка испытала в этот момент, вызвали немедленную реакцию; она получает сигнал, что ее жизнеспособность – именно жизнеспособность, а не жизнь – в опасности, и весь остаток сил бросает на поиски дополнительной внутренней опоры. Неудивительно, что именно там, в непролазной чаще ее собственного подсознания, Белоснежка находит новый источник сил, островок упорядоченности и разумности, который снабжает ее всем необходимым для предстоящего тяжелого пути в царство небытия – и оттуда.
Как только Белоснежка переступает порог жилища гномов, она начинает пополнять свои жизненные запасы. Еще до прихода хозяев избушки она пробует зелень и хлеб на каждой из тарелок, отпивает по капле вина из каждого кубка, которые ожидают возвращения обитателей избушки на столе, покрытом – не случайно – белоснежной скатертью.
Зелень символизирует дремучую лесную чащу, в буйной гуще которой спрятана избушка; хлеб – это основа жизни, а вино – традиционный, созданный руками человека посредник, с помощью которого он меняет свое самосознание. Все три символа означают начало посвящения в тайну или начало ученичества, на пороге которого стоит Белоснежка. Процесс этот тщательно продуманный и контролируемый – в нем нет ничего случайного: зелень буйная, но не дикая – садовая, является выражением тех частичек души, которые не забыли о своей связи с природой; то же можно сказать о христианском хлебе с вином и, конечно, о белой скатерти – короче, все выглядит очень торжественно, «церемониально» и протекает «под строгим контролем» и «по строгому плану».
Действительно, лесная избушка, населенная гномами, представляется местом, в котором царит идеальный порядок, и поэтому не удивительно, что именно здесь ищет убежища Белоснежка для того, чтобы навести порядок в своей душе. Того же порядка требуют от нее и гномы взамен на разрешение остаться: «Стряпать, постели взбивать, стирать, шить и вязать, все содержать в чистоте да порядке…».
Но ведь, по правде говоря, гномам не очень-то и нужна была Белоснежка. Нам ясно сказано, что в доме царили красота и порядок, «что ни в сказке сказать, ни пером описать», и они прекрасно могли бы обойтись без ее помощи. Список поручений и обязанностей, предъявленный Белоснежке, касается только одного – того процесса, который придется пройти самой Белоснежке: ей предстоит большая работа по наведению порядка в неразберихе ее собственных чувств.
Горе, ощущение своей беспомощности и потери контроля над происходящим вызывают у многих женщин обсессивную потребность в монотонных, повторяющихся, как мантра, действиях, не требующих особых умственных усилий, действиях, которые производятся руками, к примеру, вязание, складывание белья, вышивание, плетение, перебирание чечевицы или глажка – главное, чтобы эта работа отвлекала от беспокойных мыслей. Такого рода действия, если они производятся с полной концентрацией внимания и считаются очень важными, как это происходит в «карма-йоге» (требующей полной душевной отдачи в совершении любого каждодневного труда, в каждый момент, в каждую минуту), затягивают нас настолько, что весь наш мир сокращается до горки чечевицы, а наши жизненные ходики подстраиваются под ритм петель, порхающих с одной спицы на другую.
Наступает момент, когда эти занятия, обычно кажущиеся нам второстепенными, которые всегда можно отложить на завтра, а то и на послезавтра, неожиданно переходят в категорию самых важных. Нам вдруг становится абсолютно ясно, что ни о каком завтра не может быть и речи: мы обязаны завершить их сегодня, иначе это завтра просто не наступит. Гора белья будет выглажена, сложена и разложена в шкафу в образцовом порядке, даже если наступит конец света! И вот, когда работа, наконец, выполнена, нас переполняет чувство удовлетворения, совершенно не пропорциональное затраченным усилиям или ее значимости; иногда мы даже говорим, что будто бы родились заново.
Всем нам хорошо знакомая Василиса Прекрасная, оказавшаяся по воле мачехи в избе у бабы-яги, должна была по ее приказу двор вычистить, избу вымести, обед состряпать, белье выбелить, да еще и пшеницу перебрать и от чернушки очистить. А еще вдобавок – маковые зернышки от земли просеять… и все это успеть до захода солнца. То же самое происходит и с Психеей, которая по прихоти Афродиты (являющейся всего лишь сладострастной, похотливой версией все той же древней, жесткой, безжалостной внутренней бабушки) должна перебрать и рассортировать гору зерен и семян пшеницы, ячменя, проса, мака, гороха и чечевицы.
Похоже, что сложность и тяжесть обязанностей пропорциональны объему необходимой внутренней работы. Итак, что мы имеем: разборка или сортировка, починка, наведение порядка, чистка – редко кто не нуждается в такого рода генеральной уборке, особенно, когда «во врата стучит беда»: когда затухает огонь в домашнем очаге, как у Василисы; когда наш анимус (всегда готовое к действию наше мужское начало)[30] не выносит боли и страданий и оказывается глубоко запрятанным, как у Психеи, или когда наша душа оказывается на удивление жизнестойкой и мы, испугавшись ее чудовищной живучести, бросаемся наутек, как это случилось с Белоснежкой.
Поселившись в избушке у гномов, Белоснежка тяжело работает: ей необходимо навести порядок – «расставить все по полочкам» – в своей душе; но и гномы тоже вовсе не бездельничают.
Гномы, сказочные существа-невидимки, живущие обычно в непроходимой лесной чаще или в недоступных норах и пещерах, с обязательным фонариком в руке, являются работниками подсознания. Они копают в нем день за днем с утра до вечера в поисках золота и алмазов, покоящихся в его загадочных глубинах. Гномы работают на своей территории, обычно нам недоступной, глубоко под землей, и поэтому все, что от нас требуется, – это не вмешиваться или, еще проще, ничего не делать. Такая «пассивность», воспринимаемая в западном обществе как поведение отрицательное и даже регрессивное, признается другими, более духовными культурами явлением правомерным и вполне приемлемым.
Высказывания, созвучные выражению «Сиди и ничего не делай» из Талмуда или «Когда человек дойдет до неделания, то нет того, что бы не было сделано» из книги Дао, призывают отдать свое здоровье, благополучие – всего себя – в руки Создателя. Индейцы называют это «покориться Великой Тайне», которая проявляется во внутренних положительных силах, заложенных в каждом из нас; силах, стремящихся к уравновешенному спокойствию, здоровью и счастью.
В сложных ситуациях, подобных тому состоянию, в котором находится Белоснежка, нашей тяжелой сознательной работы оказывается недостаточно: невидимые силы, как гномы, трудятся на нас. Мы лежим в постели или любуемся воздушным танцем пожелтевших листьев, и вдруг, словно в озарении, какая-то мысль, какое-то постижение, какое-то знание возникает перед глазами: как же мы раньше этого не видели? Какой-то необработанный сгусток памяти, цельный и чистый, как неотшлифованный алмаз, неизвестно когда и как извлеченный из глубин нашего сознания, лежит и ждет, когда же мы его заметим.
Медитативная работа, в которую погружается Белоснежка в избушке у гномов, и работа, которую делают гномы ради нее в лабиринтах горных рудников, должны были позволить подсознанию привести себя в порядок, не прибегая в конце концов к такой крайности, как смертоподобная депрессия. Но здесь тяжелая работа приводит, казалось бы, к неожиданному результату; разрушительная сила, возникающая раз за разом из леса теней, с завидным упорством пытается подчинить себе Белоснежку.
В действительности эта невероятная доступность тени, эти ее частые визиты в сознание, а затем исчезновение в никуда (совсем, как колдунья – тень, зачастившая к Белоснежке-Персефоне), стала возможной только благодаря внутренним процессам, которые проходит Белоснежка (не без помощи гномов, конечно).
Белоснежка должна в корне изменить трафареты и модели, привитые ей с младенчества, – задача сложная, возможно, самая сложная из всех; задача, которую Белоснежка не в состоянии выполнить в одиночку. Для этого ей необходима колдунья.
Подарки
Белоснежка открывает дверь
А королева, съев легкие и печень Белоснежки, стала снова считать, что она самая первая и самая красивая из всех женщин в королевстве. Она подошла к зеркалу и спросила:
– Зеркальце, зеркальце на стене, Кто всех красивей во всей стране?И ответило зеркало:
– Вы, королева, красивы собой, Но Белоснежка там, за горами, У гномов семи за стенами В тысячу крат еще выше красой!Испугалась тогда королева, она ведь знала, что зеркало говорит правду, и поняла, что егерь ее обманул и что Белоснежка еще жива. И стала она снова думать и придумывать, как бы ее извести; не было ей от зависти покою, оттого что не она самая первая красавица в стране. И вот, наконец, что-то надумала: накрасила себе лицо, переоделась старой торговкой, так, что и узнать ее было нельзя. Направилась она через семь гор к семи гномам, постучала в дверь и говорит: – Продаю товары хорошие! Продаю!
Глянула Белоснежка в окошко и говорит:
– Здравствуй, добрая женщина, что же ты продаешь?
– Хорошие товары, прекрасные товары, – ответила та, – шнурки разноцветные.
И достала королева один из шнурков, показала, и был он сплетен из пестрого шелка. «Эту честную женщину можно и в дом пустить», – подумала Белоснежка, открыла дверной засов и купила себе цветной шнурок.
– Как тебе идет, девочка, – молвила старуха, – дай-ка я зашнурую тебя как следует.
Белоснежка, не ожидая ничего дурного, стала перед нею и дала затянуть на себе новые шнурки. И начала старуха шнуровать, да так быстро и так крепко, что Белоснежка задохнулась и упала мертвая наземь.
– Была ты самой красивой, – сказала королева и быстро исчезла.
Вскоре после того к вечеру вернулись семь гномов домой, и как испугались они, когда увидели, что их милая Белоснежка лежит на земле, не двинется, не шелохнется, точно мертвая! Подняли они ее и увидели, что она крепко-накрепко зашнурована, тогда разрезали они шнурки, и стала она понемногу дышать и постепенно пришла в себя. Когда услыхали гномы о том, что случилось, они сказали:
– Старая торговка была на самом деле злая королева, берегись, не впускай к себе никого, когда нас нет дома.
А злая женщина возвратилась домой, подошла к зеркалу и спросила:
– Зеркальце, зеркальце на стене, Кто всех красивей во всей стране?И ответило ей зеркало, как прежде:
– Вы, королева, красивы собой, Но Белоснежка там за горами, У гномов семи за стенами В тысячу крат еще выше красой!Когда услыхала она такой ответ, вся кровь прилила у ней к сердцу, так она испугалась, – она поняла, что Белоснежка ожила снова.
– Ну, уж теперь, – сказала она, – я придумаю такое, что погубит тебя наверняка.
Зная ведьмино колдовство, приготовила она ядовитый гребень. Затем переоделась она и обернулась другою старухой. И отправилась за семь гор к семи гномам, постучалась в дверь и говорит:
– Продаю товары хорошие! Продаю!
Белоснежка выглянула в окошко и говорит:
– Проходи, проходи дальше, в дом пускать никого не велено!
– Поглядеть-то, пожалуй, можно, – молвила старуха, достала ядовитый гребень и, подняв его вверх, показала Белоснежке.
Он так понравился девочке, что она дала себя обмануть и открыла дверь. Они сошлись в цене и старуха сказала:
– Ну, а теперь дай-ка я тебя как следует причешу.
Бедная Белоснежка, ничего не подозревая, дала старухе себя причесать, но только та прикоснулась гребешком к волосам, как яд стал тотчас действовать, и девочка упала без чувств наземь.
– Ты писаная красавица, – молвила злая женщина, – но теперь-то уж пришел тебе конец.
Сказав это, она ушла.
Но, к счастью, дело было под вечер, и семь гномов вскоре вернулись домой. Заметив, что Белоснежка лежит на земле мертвая, они тотчас заподозрили в том мачеху, стали доискиваться, в чем дело, и нашли ядовитый гребень; и как только они его вытащили, Белоснежка снова пришла в себя и рассказала им обо всем, что случилось. И еще раз гномы ей сказали, чтоб была настороже и дверь никому не открывала.
Слова «как следует» сопровождают каждое насильственное действие королевы. Она шнурует ее «как следует», пока Белоснежка не задохнулась и упала замертво; и она причесывает ее «как следует», пока смертельный яд не начинает действовать. Этот коллективный девиз «как следует» хорошо знаком каждой из нас: вот и мама Красной Шапочки снабжает свою дочь целым арсеналом необходимых указаний (не сходить с тропинки, не заглядывать в углы, не забыть поздороваться и т. п.); так и наши родители вели нас, с раннего детства, по извилистым тропам жизни в обществе; так же и мы поступаем с нашими детьми – несомненно, из беспокойства об их благополучии, но и из-за той глубоко скрытой в нас частички, которая не проделала весь тот внутренний путь, в который отправляются героини наших сказок.
Тень Белоснежки, внутренняя «нехорошая девочка», была до недавнего времени единственной жертвой, пострадавшей от материнских предписаний «как следует», благодаря которым она и оказалась среди теней. И поэтому теперь тень (она же – дряхлая старуха, традиционная посланница всех «как следует») использует эту фразу против своей же персоны: она-то знает, насколько та, что во всем опирается на материнское одобрение, чувствительна ко всевозможным «как следует»: Белоснежка просто не в состоянии противостоять этому заклинанию. Ей так важно всегда быть хорошей, всегда вести себя, как следует, что она немедленно и беспрекословно позволяет своей тени осуществить задуманное.
На более глубоком уровне, в подсознании, Белоснежка нуждается в слиянии с тенью ровно в той же степени, в какой тень стремится поглотить Белоснежку (проглотить ее, уничтожить как самостоятельное независимое существо, превратиться в одно целое), поэтому она снова и снова игнорирует наставления гномов – преданных работников и охранников ее души, которые по-прежнему все еще боятся перемен и неопределенности, и последовательно раз за разом открывает дверь, распахивает себя, чем, естественно, способствует вторжению тени.
Наступает момент, когда наша бледная персона впервые прикасается губами к сосуду с ядовитым зельем небытия. Она еще не готова нырнуть в глубины преисподней, а всего лишь заигрывает с ней, с обратимой смертью, позволяет себе короткий флирт. Сейчас, когда она ждет появления гномов ее души, которые должны вытащить гребень из ее волос или расслабить тугую шнуровку на платье после тренировочных ныряний в бездну, именно сейчас обращается наш рассказ, а с ним, соответственно, и мы к настоящей героине этой сцены – к тени. А она, вернувшись домой, прямо с порога бросается к своей внутренней матери – зеркалу и, не отдышавшись, не сняв безобразной маски зависти и ненависти, задает ей все тот же вопрос:
– Ну, а теперь, мама, ты наконец-то меня любишь? Теперь я красивая?
Ответ отточенным лезвием рассекает ее внутренности:
– Вы, королева, красивы собой, но Белоснежка там, за горами, у гномов за семи стенами, в тысячу раз еще выше красой!
Ее реакция на эти слова вполне понятна: она задрожала, затрепетала от гнева.
– Белоснежка должна погибнуть, – крикнула она, – даже если бы это мне самой стоило жизни!
После этого она удалилась «в потайную комнату, куда никто никогда не входил», и приготовила ядовитое яблоко.
Уже в который раз братья Гримм дают нам возможность взглянуть на страдающую и одинокую «плохую девочку», томящуюся в темных застенках души нашей героини. Она дрожит и трепещет от негодования, когда вновь слышит, как сильно любит мать ее «белоснежку» – ее хорошую, послушную девочку. И тогда, ведомая страстью мести, которая кипит и бурлит, и разъедает ее изнутри, она захлопывает за собой дверь «потайной комнаты, куда никто никогда не входил».
Эта деталь – грустная и смешная одновременно: ведь и так никто не разгуливает по коридорам этой истории; король, отец Белоснежки, никогда здесь не показывался. Он ни разу не заглянул проверить, все ли в порядке, сделала ли Белоснежка уроки, надела ли она теплый свитер. Пусто. Нет ни мамы, ни папы, но плохая девочка идет в свою комнату, на двери которой, скорее всего, висит ею нарисованная табличка, возможно, даже с черным черепом и надписью «Частные владения. Вход запрещен», а по ту сторону двери – жуткий хаос, подобный тому, что в душе разъяренной девушки, решившей, раз и навсегда, уничтожить мамину и папину примерную девочку. На настоящих родителей можно кричать, их можно предупреждать и даже наказывать; можно выйти замуж за татуированного байкера или курить травку. Ведь, что бы ни случилось, это два любящих и беззаветно преданных тебе человека, ну а причиненная тебе боль – она от стрел, посланных из их детства. А так как наша основная проблема касается восприятия нами наших родителей (и интернализации), или, другими словами, наша основная проблема состоит в наших отношениях с нашими внутренними родителями, то наш главный удар по ним всегда направлен вовнутрь – против нас самих.
Моя мама, врач-психиатр, утверждает (полушутя), что ни у кого из нас нет в принципе «настоящих родителей», а это значит, что те родители, которых мы несем в себе, и являются нашими собеседниками или оппонентами в нашем пожизненном бесконечном диалоге. К настоящим людям, благодаря которым мы оказались в этом мире, вся эта история обычно имеет весьма косвенное отношение. Так как моя мама потеряла отца, когда ей было всего лишь восемь лет, я предполагаю, она знает, о чем говорит. Этим я пытаюсь сказать, что моя мама до сегодняшнего дня ведет (возможно, неосознанно) какой-то внутренний диалог со своим отцом, умершим более шестидесяти лет тому назад, и, подобно этому, я веду внутренний диалог с моей матерью, имеющей случайное отношение к реальной женщине, подарившей мне жизнь.
Яблоко смерти, яблоко бессмертия
Было оно (яблоко) снаружи очень красивое, белое и румяное, и всякому, кто б увидел его, захотелось бы его съесть, но кто съел хотя бы кусочек его, тот непременно бы умер. Когда яблоко было готово, накрасила она (королева) себе лицо, переоделась крестьянкой и отправилась в путь-дорогу, – за семь гор к семи гномам. Она постучалась, Белоснежка высунула голову в окошко и говорит:
– Пускать никого не велено, семь гномов мне это запретили.
– Да, это хорошо, – ответила крестьянка, – но куда же я дену свои яблоки? Хочешь, подарю тебе одно из них?
– Нет, – сказала Белоснежка, – мне ничего не велено брать.
– Ты что ж это, яду боишься? – спросила старуха. – Погляди, я разрежу яблоко на две половинки, румяную съешь ты, а белую съем я.
А яблоко было сделано так хитро, что только румяная его половинка была отравленной. Захотелось Белоснежке отведать прекрасного яблока, и когда увидела она, что крестьянка его ест, то и она не удержалась, высунула из окошка руку и взяла отравленную половинку. Только откусила она кусок, как тотчас упала замертво наземь.
Эпизод, в котором они вместе съедают каждая по половине одного яблока, несомненно, является символом их единства как двух сторон одного целого: персона и тень дополняют одна другую.
Тень, отравившая только румяную половинку яблока, отлично знает, что Белоснежка потянется именно к нему, к красному, – ко всему, чего она была лишена: страсти, эмоции, тяги к жизни – именно в них заложено семя обратимой смерти.
Возможно, ей предоставляется последний шанс выбраться наружу. Вот оно, яблоко: половинка – румяная, половинка – белая. Неужели и после столь тяжелой душевной работы в избушке у гномиков Белоснежка останется верной своей безжизненной бледности или все-таки решится попробовать вкус жизни? Она делает правильный выбор. Белоснежка выбирает жизнь; правда, завернутую в покрывало смерти[31], но и это временно.
Ведь как знать, когда еще подвернется шанс повзрослеть, стать цельной личностью, слиться в единое целое с затаившимися в ней красным и черным? Сколько раз еще тень будет стучаться в избушку Белоснежки? Может, она уже никогда не вернется и оставит ее в полубытии полупрозябающей в полулюдской-полусказочной компании с существами получеловеческого роста?
Белоснежка делает правильный выбор. Вонзив зубы в ядовитое яблоко, она падает, сраженная мертвым сном. В ее состоянии это единственный способ, позволяющий растерзанной душе исцелить себя.
Сильвия Плат, чьи потрясающие своей откровенностью записи сопровождают наш разговор о возвращении из небытия, добровольно ушла из жизни в возрасте 31 года. Из записей в ее дневнике ясно видно, какие невероятные усилия она приложила, чтобы оттолкнуть от себя яблоко безжизненной жизни, протянутое ей из-за приотворенной двери.
Мы никогда не узнаем, что действительно происходит с человеком, накладывающим на себя руки, но я верю, что Сильвия Плат продолжала бороться до последней секунды. Самоубийство, спланированное до мельчайших деталей, только подтверждает, насколько она боялась потерять контроль, провалиться в бездонную пустоту. Она приготовила детям завтрак, поставила его возле их кроватей, тщательно закрыла двери в комнаты, заложила щели мокрыми полотенцами, приняла большую дозу снотворного, включила газ и сунула голову в плиту.
Скорее всего, было уже поздно, но может быть, если бы она позволила себе хоть чуть-чуть отпустить вожжи в те несколько лет или месяцев, предшествовавших ее смерти, то смогла бы познать не только ужас существования в пустоте небытия, но и пережить пробуждение жизненных сил, которого она так ждала; она смогла бы вновь почувствовать в себе силы, которые пыталась удержать во что бы то ни стало в той опустошенной жизни.
У Сола Беллоу есть замечательный рассказ «Кража», героиня которого, Клара, предлагает свой ключ к расшифровке этой ускользающей от понимания тайны: «Когда я пьяна от беспокойства – это похоже на опьянение, – внутри у меня начинает биться некий пульс, призывный ритм смерти, он искушает меня покончить с жизнью. Говорит: „Зачем ждать?“.
Когда я становлюсь такой впечатлительной, жизнь не представляет для меня ценности. В том-то и ужас. Я доступна соблазну смерти». Она обсуждает эту тему со своим возлюбленным: «Есть что-то сумасбродное в том, как я запуталась, в моем восприятии…», и он заканчивает, не задумываясь: «Восприятии жизни…»[32].
И это верно. Клара, Сильвия Плат, а вместе с ними – и Белоснежка, воспринимают, чувствуют, ощущают жизнь. Но иногда обстоятельства оказываются настолько тяжелыми, что для того, чтобы жить настоящей, полной жизнью, необходимо отдаться во власть жуткому и жестокому, как смерть, целительному механизму, которому наше общество дало имя – депрессия. Сильвия Плат боялась депрессии больше, чем смерти. И для Клары у Сола Беллоу беспокойство страшнее, чем смерть. Если бы только нам всем было известно то, о чем знала древняя богиня Инанна: в депрессии и тревоге есть больше, чем капля смерти, но эта смерть – обратима, она может дать нам жизнь.
Может сложиться впечатление, что Белоснежке настолько необходимо яблоко – яблоко познания, что она готова заплатить за него жизнью, депрессией. Но в действительности нашей Белоснежке, равно как Инанне, Красной Шапочке и другим героиням сказок возвращения из небытия нужна именно депрессия, а яблоко, протянутое старухой, – это всего лишь поданный к порогу экипаж, которым правит «яд познания».
Так давайте поговорим о яблоке. Этот плод такой же древний, как сотворение мира, как змей, как Адам и Ева; он только часть целого комплекса архетипов, символизирующих и подтверждающих своим вечным существованием понятие «рождение заново»[33], дошедшее до нас из глубины веков. Ева, а с нею и Адам – ее анимус, была умерщвлена-изгнана из рая, а затем родилась заново в нашем бренном мире. Так и мы: умираем-извергаемся из матки – и появляемся на свет. Бесчисленные мифы повествуют нам снова и снова, что это определенный тип смерти, без которого нет рождения, нет новой жизни. Вот и Персефона, богиня весны, умирает каждую зиму, скрываясь в преисподней, и рождается из нее в начале каждой весны.
Является ли сказка о Белоснежке отголоском мифа о Персефоне, исчезающей в подземном царстве теней? В этой связи интересно отметить, что Элизиум, место, где жила Персефона в царстве мертвых, означает «яблоневые сады»[34]. Значит ли это, что и Персефона из какого-нибудь древнего, уже позабытого предания тоже надкусила яблоко, плод древа познания добра и зла? В греческой версии, как уже упоминалось, она проглотила ягоду граната, что связало ее навечно с покрытой мраком преисподней.
Может ли быть, что и Персефона, и Белоснежка являются перевоплощением первой женщины в этом мире, Евы, которая тоже прошла подобный процесс? Каждая из них – бессмертная легенда о жажде познания, притаившейся у порога. Познания темного, таинственного, принесенного на черных крыльях «змеи», «колдуньи», «злых сестер» Психеи, уговоривших ее заколоть мужа, на крыльях всех тех, кто является олицетворением внутренних сил, несущих смерть, обратимую смерть, а вместе с ней и перемены; перемены, для свершения которых необходимо надкусить яблоко, раствориться в бездне и родиться заново.
Отведав плод познания, покидает свой рай – рай неведенья – и спускается на землю Ева. Для нее это удар – сильный и болезненный, но необходимый для зарождения жизни. Персефона и Инанна оказываются в подземном царстве, а опьяненная любовью Психея опускается вслед за своим возлюбленным на землю, а затем, по воле Афродиты, – все ниже и ниже в глубины преисподней. Все эти архетипы преодолевают тяжелый путь к взрослению, и каждая из них может поведать нам историю, которая обычно начинается с того, что наши герои не желают больше оставаться в первозданном раю неведенья, словно младенец в чреве матери. Это неосознанное младенческое состояние, которому отказано в праве на будущее, является результатом целой системы подавления и отрицания, необходимой их ранимой душе для самозащиты. Что же заключает в себе знание, страсть к которому вынуждает нас покинуть защищенную толстыми стенами крепостную башню и устремиться вниз головой – смело, но далеко не всегда привлекательно – к многострадальной земле, а зачастую и еще ниже, на твердокаменное дно преисподней? Если бы я задала этот вопрос великой богине Инанне, ее ответом было бы, что это изначальное познание себя, интуитивное глубинное восприятие природы и природно-женской части души, суть которой заключается в строго упорядоченном движении: подъем и спуск, смерть и рождение заново.
С древнейших времен, еще со времен нашей прародительницы Евы, надкусывание яблока стало символом познания. Мы можем даже слегка расширить эту тему, заметив, что познание в Ветхом Завете – это и полное слияние мужского и женского, света и тени. Таким образом мы плавно переходим к началу следующего действия в сюжете о Белоснежке: к воссоединению с мужским элементом души, с ее принцем-избавителем.
Посмотрела на нее своими злыми глазами королева и, громко захохотав, сказала:
– Бела, как снег, румяна, как кровь, черноволоса, как черное дерево! Теперь твои гномы уж не разбудят тебя никогда.
Вернулась она домой и стала спрашивать у зеркала:
– Зеркальце, зеркальце, что на стене, Кто красивей во всей стране?И ответило зеркальце наконец:
– Вы, королева, красивей во всей стране.
И успокоилось тогда ее завистливое сердце, насколько может подобное сердце найти себе покой.
Белоснежка – та же Персефона, которая отождествляется с белым, – съедает половинку красного цвета, символизирующего жизнь. Тень, представительница черного и красного, оставляет себе белую часть – цвет смерти; «плохая девочка», что внутри Белоснежки, больше не пытается скрыть свое истинное лицо: с тех пор как ее отказались принять и изгнали к теням, она чувствует себя мертвой.
Попробуем в несколько упрощенном виде обрисовать драму отверженного ребенка: он – теневая часть души «хорошего ребенка», та самая нежелательная часть, которую сослали в подсознание и чье существование отказываются признать как мать, так и ребенок. Эта часть прозябает в темнице, одинокая и озлобленная; она страдает от хронического чувственного недоедания, долгие годы чувствует себя медленно умирающей, возможно, и мертвой, но когда она обнажается, выбирается на поверхность и заявляет о себе, то способна затопить, залить злобой всю душу. Теперь это уже ангел мести, несущий на своих крыльях гнев, скорбь, депрессию и смерть.
Белоснежка уступает сцену своей внутренней тени. Она сдается, опускает руки, отказывается от борьбы, отступает и ищет убежища под покровом потерянного сознания. А тень – наконец-то сбылась ее давняя мечта – стоит сама против зеркала ее внутренней матери и говорит себе, что теперь-то она единственная, самая любимая, «самая красивая» девочка.
Покой овладевает ее завистливым сердцем, покой же удаляет из нее ядовитое жало. Теперь они отдыхают – они обе нуждаются в этом отдыхе. Вот уже скоро начнут просыпаться дремлющие в душе силы анимуса: теперь дело за ними, пора действовать!
В объятьях смерти, навстречу жизни
Смерть Белоснежки
Они считали, что ради этого стоило умереть, но мне Нужно личность найти, царицу — Спит она или мертва? Где она была С львино-красным телом и крыльями из стекла? (Плат С. Жала[35])Гномы, вернувшись вечером домой, нашли Белоснежку лежащей на земле, бездыханной и мертвой. Они подняли ее и стали искать яд: они расшнуровали ее, причесали ей волосы, обмыли ее водой и вином, но ничего не помогло, – милая девочка как была мертвой, так и осталась. Положили они ее в гроб, сели все семеро вокруг нее и стали ее оплакивать, и проплакали они так целых три дня. Затем решили они ее похоронить, но она выглядела точно живая – щеки у нее были красивые и румяные. И сказали они:
– Как можно ее такую в сырую землю закопать?
И велели они сделать для нее стеклянный гроб, чтоб можно было ее видеть со всех сторон, и положили ее в тот гроб и написали на нем золотыми буквами ее имя, и что была она королевской дочерью. И отнесли они гроб тот на гору, и всегда один из них оставался при ней на страже. И пришли также птицы оплакивать Белоснежку: сначала сова, затем ворон и, наконец, голубок. И вот долго-долго лежала в своем гробу Белоснежка, и казалось, что она спит, – была она бела, как снег, румяна, как кровь, и черноволоса, как черное дерево.
Гномы ослабляют шнуровку на платье Белоснежки, расчесывают ей волосы, обмывают ее водой и вином. Перед вами вовсе не перечень незатейливых мер по оказанию первой помощи: за этими строго упорядоченными, поэтапными действиями следует еще более сложный процесс – церемония очищения и подготовки к захоронению. Вся душа, включая и ее гномов, готовится к длительному сну.
Мы не знаем, на каком этапе душа Белоснежки начинает понимать, что она неизбежно погружается в долгую зимнюю спячку. Возможно, все это время, когда над головой Белоснежки витали угроза тотальной депрессии, жуть небытия и полной беспомощности, ее внутренние силы использовали все доступные гномам средства (уборку, строительство, заботу о пропитании и т. д.) для продолжения борьбы и, конечно, надеялись на победу. А возможно, что этот оптимизм и явился причиной того, что, несмотря на постоянную угрозу, гномы ее души так и не объявили полную мобилизацию во имя спасения их девушки, а продолжали каждое утро отправляться по своим делам, небрежно бросая через плечо незатейливые советы.
Но вот, маломощный механизм внутреннего отца, который, сопровождая нас на протяжении всего рассказа, сначала настойчиво подчеркивает свое отсутствие, затем появляется в образе охотника, неспособного защитить беспомощную душу, и, наконец, дробится на семь гномов, по-прежнему неспособных оградить ее от коварной колдуньи, – механизм этот все-таки набирает обороты, начинает действовать и больше не отвлекается ни на какие другие, даже срочные дела. Только теперь, когда Белоснежка мертва, гномы находят в себе силы отказаться от свято соблюдаемого распорядка жизни и посвятить ей все свои помыслы. С этого дня и далее гномы охраняют ее и днем и ночью: ведь как только Белоснежка расслабляется и низвергается в небытие, силы в ее душе начинают просыпаться.
К активным действиям пробуждаются не только гномы: лесные птицы тоже оплакивают Белоснежку. Все жизнеспособные, животные силы, которые так пугали ее в начале пути, а теперь, после ученичества в доме у гномов, стали ей родными, горюют о Белоснежке. И делают они это не для того, чтобы проститься, а так же, как это делала Ниншубур, верная служанка богини Инанны, скорбящая о своей госпоже, низошедшей в царство мертвых. Ее слезы – проявление сочувствия, любви, единомыслия и, более того, ее слезы – это молитва. Когда она, обращаясь то к одному богу, то к другому, рыдает, царапает себе лицо и рвет на себе одежду, она вовсе не прощается с богиней, а взывает к богам, пытается разбудить в них жалость к Инанне и умоляет их о помощи.
Удивительно, какое большое расстояние успела пройти Белоснежка на своем длинном и изнуряющем пути только благодаря тому, что ее дорога пролегала через лес и лесную избушку: когда она, дрожа от ужаса, впервые оказалась в незнакомых окрестностях подсознания, она не знала имени ни одного из поселившихся здесь существ. Она называла их «дикие звери» и только поражалась тому, что они ее «не трогали». Кто это там злобно скалит зубы? Кто испуганно машет крыльями? Кто это кровожадно рычит? А кто же там предостерегающе вскрикнул? Кто это встревоженно чирикает и кто урчит от удовольствия? Теперь она знает их наперечет: сова, ворона, голубка – все они обитают в ее душе; и все они плачут вместе с ней. «Нет ничего более целого, чем разбитое сердце», – говорит великий мудрец Рабби Нахман из Брацлава, и это вселяющее оптимизм наблюдение точно характеризует то положение, в котором, конечно, не предполагая ничего подобного, сейчас находится наша Белоснежка.
Возвращение анимуса
Но случилось, что заехал однажды королевич в тот лес, и попал он в дом гномов, чтобы в нем переночевать. Увидел он на горе гроб, а в нем прекрасную Белоснежку и прочел, что было написано на нем золотыми буквами. И сказал он тогда гномам: – Отдайте вы мне этот гроб, а я дам вам за него все, что пожелаете.
Но ответили гномы:
– Мы не отдадим его даже за все золото в мире.
Тогда он сказал:
– Так подарите мне его. Я жить не могу, не видя Белоснежки.
Когда он это сказал, сжалились над ним добрые гномы и отдали ему гроб. И велел королевич своим слугам нести его на плечах. Но случилось так, что споткнулись они о какой-то куст, и от сотрясения выпал кусок ядовитого яблока из горла Белоснежки. Тут открыла она глаза, подняла крышку гроба, а затем встала и сама.
– Ах, Господи, где же это я? – воскликнула она. Королевич, исполненный радости, ответил: – Ты у меня, – и поведал ей все, что произошло, и молвил:
– Ты мне милее всего на свете, пойдем вместе со мною в замок к моему отцу, и будешь ты моею женой. Согласилась Белоснежка, и отпраздновали они пышную и великолепную свадьбу.
Проходит много времени, прежде чем гном, стерегущий душу, к тому моменту уже выздоравливающую, вырастает до размеров принца на белом коне. Положительная мужская сила крепнет и приобретает форму; она тверда в своем намерении разбудить душу, заставить ее ступить на тропу жизни: иначе зачем она здесь появилась?
Но гномы души, как ни странно, отказываются освободить Белоснежку. Гномы, охраняющие сон девушки, боятся перемен: ведь, свернувшаяся калачиком, подобно беспомощному младенцу, ранимая душа таким образом оберегает себя от столкновения с приобретенными ею новыми знаниями. Бывают моменты, когда долгожданное пробуждение будто отступает, и мы предпочитаем не просыпаться.
Изнурительно долгая борьба с депрессией, с неподвластным страхом и тревожным состоянием, с потерей себя была настолько тяжела, что не устоявшая душа сдалась и погрузилась в небытие и теперь отказывается от любой попытки выбраться наверх, чтобы опять начать жить. Усилие кажется практически неоправданным: кто может гарантировать, что ей не придется еще раз пройти весь этот мучительный путь?
Никакие обещания не могут заставить гномов согласиться на пробуждение, и тогда принц просит подарить ему Белоснежку. Гномы, которые знают, что ожидание безвозмездного подарка свидетельствует о внутреннем признании своего права на счастье, высвобождают спящую Белоснежку из-под стражи, и это в конце концов приводит к ее пробуждению.
Белоснежка просыпается не самым приятным образом: ее сон нарушает не поцелуй, не ласковое прикосновение или влюбленный взгляд, а резкое сотрясение, от которого высвобождается застрявший в горле кусок яблока, – и она оживает. Горло, которое, согласно холистической медицине, отвечает за проявление чувств, было перекрыто куском яблока депрессии; и теперь, когда оно свободно, вся душа может облегченно вздохнуть, приподнять крышку гроба и взглянуть на новую действительность, созданную ею же для себя за время сна.
Проснувшись, Белоснежка видит принца, который клянется ей в вечной любви или, другими словами, обнадеживает, что теперь она достаточно жизнеспособна, чтобы выйти из депрессии и познать жизнь. Белоснежка, со своей стороны, «согласилась»: не обрадовалась, не бросилась с благодарностью к нему на шею. Нам абсолютно ясны восторженные, пылкие чувства принца, а вот Белоснежка словно выпадает из сюжета. Кое-какое объяснение этому можно найти в старинных версиях этой истории.
Изучая «Белоснежку» и другие сказки, я убедилась, что их общеизвестные благопристойные версии в изложении Шарля Перро и братьев Гримм с большим трудом, но все же прикрывают язычески бесстыдную наготу древних сказаний, прямолинейно скандальных и искренних в своем изложении общечеловеческой морали, ради чего, собственно, они и создавались.
В древних, менее известных вариантах принц забирает по-прежнему спящую Белоснежку в замок, где живет с ней, все еще находящейся без сознания, как с полноценной супругой (что, возможно, объясняет пассивность Белоснежки в других вариантах повествования, когда влюбленный принц забирает ее к себе) к великому возмущению его матери, тоже живущей в этом замке. Начинается война, и, как только принц покидает свой дом, его мать прячет спящую девушку на чердаке в надежде, что принц позабудет о своей небольшой шалости. Но этого, понятно, не происходит. Когда вернувшийся принц желает увидеть свою «жену», матери приходится самой лезть на чердак и снимать паутину с «невестки». В процессе чистки, мойки и стирки запыленного платья спящей-как-мертвая девушки высвобождается усыпивший ее заколдованный предмет. Иногда это ядовитый гребень, иногда – пропитанная ядом одежда или какая-нибудь другая вещь.
В этой стародавней версии принц, анимус, несмотря на свою кажущуюся активность, в действительности находится в состоянии глубокой эмоциональной спячки, в которую он погружается вслед за его анимой, подобно Орфею, спустившемуся в преисподнюю вслед за Эвридикой. Он живет безжизненной жизнью вместе со своей спящей возлюбленной, делит с ней небытие до полного избавления от гнева. Возможно, именно этого и ожидают многие женщины от своих спутников жизни, когда они стремительно падают в бездну; и, возможно, именно это они и получат. Есть что-то одурманивающе притягательное в бессилии, в его блаженном садизме, с которым оно придавливает нас к постели. И как это удобно вдвоем! И опять старинное сказание открывает исконную правду: не принц будит Белоснежку, а свекровь, ее строгая наставница, знающая, в каком именно уходе нуждается ее подопечная.
В известной нам версии те немногие слова, которыми обмениваются Белоснежка и принц, содержат ясный намек на эмоциональное состояние героини: она спрашивает: «Где это я?», и принц говорит ей: «Ты у меня», а не «со мной». «У меня» – это местонахождение. Белоснежка теперь находится в мире принца; там, в жизнелюбивой части своей души, она и проживает свою жизнь. И этого ей достаточно. Пока достаточно.
Как назову того, кто к гробу моему вплотную подойдет И сдвинет крышку из стекла И скажет мне: вглядись В юную свежесть красок, В буйное сердце огня, В микропесчинку времени, В бесконечную даль и высь; И все это – я. Как назову того, кто к гробу моему вплотную подойдет И сдвинет крышку из стекла? (Сариг И. Как назову)Эпилог ужасов
Но на праздник была приглашена и королева, мачеха Белоснежки. Нарядилась она в красивое платье, подошла к зеркалу и сказала:
– Зеркальце, зеркальце на стене, Кто всех красивей во всей стране?И ответило зеркало:
– Вы, госпожа королева, красивы собой, Но королева младая в тысячу крат еще выше красой!И вымолвила тогда злая женщина свое проклятье, и стало ей так страшно, так страшно, что не знала она, как с собой справиться. Сначала она решила совсем не идти на свадьбу, но не было ей покоя – хотелось ей пойти и посмотреть на молодую королеву. И вошла она во дворец, и узнала Белоснежку, и от страха и ужаса как стояла, так на месте и застыла. Но были уже поставлены для нее на горящие угли железные туфли, и принесли их, держа щипцами, и поставили перед нею. И должна была она ступить ногами в докрасна раскаленные туфли и плясать в них до тех пор, пока, наконец, не упала она мертвая наземь.
В честь слияния мужского и женского начала в растерзанной душе, которая все еще находится в раздоре со своей тенью, «закатили пир горой». Туда же была приглашена и злая королева, дабы полюбовалась и умерла в муках в стиле инквизиции.
Принадлежащий Белоснежке красный цвет вернулся к жизни, все такой же активный и жестокий, но теперь он – ее признанная и неотъемлемая часть. Гнев, месть, прощание, траур не являются больше посторонними чувствами, угрожающими жизни; теперь Белоснежка сочетает в себе весь спектр человеческих чувств и умеет ими пользоваться, как исконно своими[36].
Нет больше бледненькой сладенькой Белоснежки – есть женщина, которая умеет любить, умеет мстить, знает, что такое боль, гнев и что такое радость.
В нашей истории, как в лучших сюжетах о мафии, пышная свадьба переплетается с беспощадной местью. Представьте себе Майкла Корлеоне, преклонившего колено перед падре-миротворцем на свадьбе своей дочери, в то время как его люди хладнокровно уничтожают всех его соперников. А теперь перед нами Белоснежка; прикрываясь внешностью добропорядочной домохозяйки, она уверенно руководит действием: той частью, которая, утопая в роскоши, выходит замуж за прекрасного принца, и той, что коварно приглашает мачеху на пир и заставляет ее плясать до потери чувств в раскаленных до бела туфлях. Всех этих сил не было и не могло появиться, если бы Белоснежка не страдала от преследований королевы и не была вынуждена прятаться в лесу, погрузившись в смертоподобный сон депрессии. Они проснулись вместе с проснувшимся в ней внутренним принцем и являются результатом поразительно тяжелой работы, проделанной душой на протяжении сонного оцепенения осознанного я, на протяжении депрессии.
Белоснежка подобна шумерской богине Инанне, которая поднялась из преисподней и, позабыв о милосердии, ищет жертву, которая займет ее место в подземном царстве мертвых: она снимает белоснежные перчатки и сводит счеты с коварной колдуньей.
Хочется надеяться, что персона, которая познала мрачные стороны ее души в темном лесу и привела в порядок душу в избушке у гномов, что отведала вкус красного и достигла зрелости посредством длительной депрессивной спячки, от которой ее разбудили внутренние мужские жизнеспособные силы, что эта персона с радостью примет под свой кров и тени[37], которые еще не успели родиться, но обязательно появятся.
Сказка о Белоснежке – это идеальный образец продиктованного традиционной культурой разграничения между белым и красно-черным; модель того, как мы избавляемся от нашего красного и черного, сбрасывая их в глубины подсознания, откуда их затем необходимо будет высвободить – опустившись на дно, иначе, они станут нас преследовать; иначе, мы не станем целостной личностью.
Эта история – не только отличный пример движущегося по кругу, без начала и конца индивидуального психологического процесса – ее социальные, культурные, теологические и феминистские аспекты требуют отдельного обсуждения. Ведь здесь смогли подавить не столько индивидуальное красное и черное, а главным образом и в первую очередь – общечеловеческое, общественное.
Женственность, не являющаяся «по-матерински женственной», напористая, агрессивная, требовательная, гневная, буйная, необтесанная, была изгнана из нашей культуры в процессе длительной борьбы за мужское или женское первенство и растоптана грубыми подошвами победителей. На протяжении поколений мы, женщины, впитали и усвоили отношение патриархального общества к этим нашим особым чертам; и мы живем, замкнувшись в себе, как изгнанницы.
«Слишком большая часть женственного была подавлена, и слишком много времени было проведено на дне преисподней», – пишет Сильвия Бринтон Перера[38].
Мне не остается ничего другого, как согласиться.
Часть вторая. Красная Шапочка
Введение. Несколько слов, прежде чем нырнем в волчье брюхо
«Красная Шапочка» – пожалуй, самая короткая и незамысловатая из всех известных мне «сказок возвращения из небытия», но и ее корни уходят в далекую древность. Как и ее старшие сестры, она питается из того же источника мифов и легенд и так же, как они, пытается утолить нашу потребность в утешении, в познании себя и окружающей нас природы.
Для нее, как и для большинства старинных сказок, характерно большое разнообразие версий, но при этом почти все повторяют одну и ту же сюжетную линию: мама отправляет дочку навестить больную бабушку. Дорога лежит через лес, там девочка встречает волка (или чудище лесное) и показывает ему, где живет бабушка. Волк добирается до домика первым и проглатывает старушку. Затем приходит внучка, между ними происходит диалог, в завершении которого он проглатывает и ее… Всегда бабушка больна, всегда внучка несет продукты и питье, благодаря которым бабушка должна выздороветь; и всегда хотя бы одна из них проглочена, чаще всего обе. Многие версии именно на этом и заканчиваются: бабушка и внучка оказываются в животе у волка, ну а волк наконец-то сыт.
Эти короткие истории относятся к назидательному жанру, особенно почитаемому инквизиторами и гувернантками. А мораль такова: не ходи одна в лес; там бродит злой волк – и он тебя съест. Заключение это плоское, одномерное, и нет в нем ничего общего ни со сказками, ни тем более с мифами. То, что превратило «Красную Шапочку» из серой постной страшилки в волшебную сказку и сохранило ее на века, – это именно то невероятное мгновение, когда она выпрыгивает из волчьего брюха, живая и здоровая.
Возможно, что одним из древних источников этой сказки является миф о Кроносе, пожиравшем своих детей, но в конце концов вынужденном исторгнуть их из своего чрева. А так как Кронос связан с депрессивным состоянием[39], то было вполне логично использовать волчье брюхо, чтобы сплести из его содержимого остов новой, уже нашей, истории. Другими словами, увидеть в волке истинного героя повествования, а бабушке и Красной Шапочке отвести роль скрытых, внутренних компонентов его души. Что же касается других деталей, таких как «алая, как кровь» и болезнь бабушки, они, по всей вероятности, относятся к еще более древним источникам. Возможно, это долетевшие до нас искры того матриархального костра, вокруг которого складывались поучительные сказания о скитаниях одной потерянной души на пути к Красной Богине – прапраматери, о существовании которой я могу только предполагать; полуженщине, полубогине, подчинявшейся тем же законам периодичности, которым подчиняется женское тело.
В старинных сказаниях не всегда упоминается девочка в красном головном уборе и, соответственно, не всегда ее зовут Красная Шапочка, но во всех без исключения версиях сюжет «приправлен» большим количеством крови.
Я предлагаю вам хорошо знакомую историю в изложении братьев Гримм, по их словам, услышанную ими от соседки, которая слышала ее от своей матери, а та – от своей, и так от поколения к поколению на протяжении многих веков.
Несмотря на то, что версия братьев Гримм относительно короткая, многие из ее мотивов переросли в образы, широко используемые в современных произведениях: девочка в лесу, волк, цветы, бабушка, красная шапочка (символ), охотник и, конечно, тот самый отталкивающе притягательный, наивный и одновременно отвратительно циничный диалог: «Бабушка, а почему у тебя такие большие глаза? А это, детка, чтобы тебя лучше видеть…», – который является основой основ путешествия вглубь себя, в густой полумрак леса, в далекую бабушкину избушку, в зловонное волчье брюхо – все глубже и глубже внутрь собственного я.
Дорога туда
Жила-была маленькая, милая девочка. И кто, бывало, ни взглянет на нее, всем она нравилась, но больше всех ее любила бабушка и готова была все ей отдать. Вот подарила она ей однажды шапочку из красного бархата, и оттого, что шапочка эта была ей очень к лицу и никакой другой она носить не хотела, то прозвали ее Красной Шапочкой.
Вот однажды мать ей говорит: – Красная Шапочка, вот кусок пирога да бутылка вина, ступай, отнеси это к бабушке; она больная и слабая, пускай поправляется. Выходи из дому пораньше, пока не жарко, да смотри, иди скромно, как полагается; в сторону с дороги не сворачивай, а то, чего доброго, упадешь и бутылку разобьешь, тогда бабушке не достанется. А как войдешь к ней в комнату, не забудь с ней поздороваться, а не то, чтоб сперва по всем углам туда да сюда заглядывать.
Начало сказки «Жила-была маленькая, милая девочка. И кто, бывало, ни взглянет на нее, всем она нравилась» звучит для меня как предостережение. Оно перекликается в моей памяти со слащаво-зловещей мелодией, звучащей в начале фильма «Ребенок Розмари». С чего это вдруг «и кто, бывало, не взглянет на нее, всем она нравилась»? И потом, что значит «больше всех ее любила бабушка»? А как же мама?
И что с папой? Про него не сказано ни слова; внутренний отец отсутствует, внутренняя мать – далеко. Мать, подобно всем, называет свою дочку Красной Шапочкой, отказывается от имени, которое сама же дала ей при рождении, подтверждая, что эта девочка ее дочь. Не зря любое присвоение имени, как и любое принятие имени, несет в себе огромный эмоциональный заряд. Перефразируя высказывание Витгенштейна, можно сказать, что имя есть отражение мира. Он же писал: «Имя становится истинным, когда существует то, что оно представляет». Одно из названий Бога в Ветхом Завете звучит на иврите А-шем (Имя); возможно, это имеет отношение к утверждению: «Каково имя его, таков и он». Присвоение имени ребенку или чему-либо издревле считалось событием величайшей важности. В древнееврейской версии истории сотворения мира сам процесс создания заключается в провозглашении Творцом названия создаваемому («Да будет свет»), то же самое отчасти наблюдается и в мифологии цивилизации майя; несколько позже Бог удостаивает человека чести дать имена всем животным и тем самым определить их сущность.
Когда последователи Ошо «получают» новое имя, они вместе с тем обретают привилегию родиться заново. Когда дочь мельника узнает настоящее имя карлика (Румпельштильцхен у Братьев Гримм, он же Хламушка, он же Гном-Тихогром, он же Тителитури и др.), она лишает его волшебной силы.
Если же мать Красной Шапочки отказывается называть ее по имени, она становится сторонним наблюдателем: она уже не видит дочь своими собственными глазами, а смотрит на нее глазами «всех». Правда, Красная Шапочка достигла возраста, когда она в определенном смысле «экспроприируется» из собственности матери в пользу общества в целом: теперь она «Красная Шапочка», то есть та, которая подчиняется законам цикличности женского организма, та, которая, все более отдаляясь от матери, вступает в возраст созревания. Но мы открываем для себя и другую, затаившуюся на глубине суть происходящего: внутренняя мать Красной Шапочки действительно не в состоянии наладить с ней интимную связь, и это неудивительно: ведь бабушка, то есть ее мама, больна.
Мама и красная девочка
В своей книге «Рожденные женщиной» Адриенна Рич, известная деятельница современного феминистского движения, поэтесса и публицист, вспоминает ощущение вакуума от горького разочарования, которое она испытала при общении с матерью сразу после рождения своего первенца: «Возможно, в человеческой природе нет более сильного энергетического потока, чем тот, который существует между двумя биологически схожими созданиями, хотя одно из них блаженствовало в чреве другого, в то время как то страдало и мучилось, чтобы дать жизнь этому. Перед нами все основные компоненты, составляющие самую глубокую близость и самую горькую обособленность»[40].
И эти близость и обособленность растут и превращаются в непреодолимую, пусть и мягкую, стену угрызений совести, обид, подавления, отрицания, боли, ненависти, разочарования, тепла, отчуждения, а также любви – неисчерпаемой любви, стену, к которой и тот, и другой прижимаются так, словно она в состоянии обнять их по-настоящему.
Что только не сказано о материнстве наших матерей. Мы ведь способны часами анализировать их неудачи и промахи и все еще оставаться голодными. Когда же мы сами становимся матерями, большинство из нас делают все, ну абсолютно все возможное, чтобы оказаться как можно дальше от того материнства, в лоне которого мы выросли. Лицо матери, обманчиво мелькнувшее в зеркале вместо нашего собственного отражения, пугает нас больше, чем новая морщинка, появившаяся в уголке рта, или несколько седых волос, выросших за ночь. И все же, когда мы прокладываем свою личную, независимую от мамы дорогу, пытаясь выбраться из лабиринта пеленок, отрыжек, бутылок и развивающих игрушек; когда нас разделяют десятки вспомогательных книг и сотни километров, мы по-прежнему несем ее внутри себя – отвергнутую, иногда ненавистную, чаще всего непризнанную и, как все лесные жители, рычащую, разевающую зубастую пасть, потягивающуюся, воркующую. Материнство наших матерей всегда там, внутри нас, так же как и внутри них. И поэтому, когда мать Красной Шапочки декламирует ей свод общих предостережений, она в принципе, отодвинувшись на задний план, предоставляет слово своей матери. Для женщины, избегающей близости, это очень удобный выход.
Я маму обняла и прижимаю к груди, Но пусты объятья мои. Она не обнимала меня, Она не обнимала меня, А теперь уже поздно – лишь пустота впереди[41]. (Вонг Н.)Мать Красной Шапочки относится к тому типу матерей, у которых беспокойство и страх заперты так глубоко внутри, что она не признается в их существовании даже самой себе. Туда же она загнала и свою любовь к дочери – любовь, которую она не знает, как выразить. И вот эта искристая любовь и этот терпкий страх, перебродив в ее сердце, успевают прокиснуть в горле и вызывают приступы изнуряющей изжоги под названием «еврейская мамаша»: «Смотри, не споткнись; ступай аккуратно! Может, оденешься как человек; ты хочешь простудиться и умереть? Иди прямо. Посмотри на себя, как ты выглядишь! Ты ничего не ешь. Ты так ничему и не научилась! Ты упадешь!» … Мать Красной Шапочки оплетает свою дочь паутиной бесчувственных и бессмысленных указаний – снова и снова ничего не значащие слова: иди осторожно, не сворачивая с тропинки; береги бутылку, чтобы не разбилась, – набор безличных инструкций и указаний, которые маскируют ее неспособность к близости. А на десерт к этой бессмысленной сцене предлагает слабая внутренняя мать Красной Шапочки напутствие, ставшее рекордным по своей абсурдности, и завершает список наставлений словами: «Не забудь красиво поздороваться и не заглядывай во все углы».
«Не заглядывать во все углы» означает притупить инстинкт выживания, потерять наблюдательность, отказаться от способности защитить себя от того, что скрывается (действительно скрывается!) в углах. Ведь главная роль архетипичной матери в мире сказок – это научить дочь прислушиваться к собственным инстинктам. Эта же мать говорит, в сущности: «Отрекись от своих инстинктов!».
И все же мама любит Красную Шапочку; я даже могу добавить: любит больше, чем ее любит бабушка. Так почему она ни словом не упоминает настоящие опасности, поджидающие девочку в этом мире; почему не произносит: «Доченька, будь осторожна – в лесу полно волков»? Ведь ужасные последствия потери тропинки на самом деле состоят не в разбитой бутылке, и это мама знает очень хорошо. Когда падают – ударяются, когда сходят с протоптанной дорожки – встречают волков.
«Я прихожу в ярость оттого, что все, чем она меня снабдила, – это всего лишь бесполезная информация о жизни в этом мире, а всю необходимую женскую мудрость мне приходится искать в других доступных мне местах или додумываться самой»[42], – пишет о своей матери Сильвия Плат, когда ей становится ясно, что цепочка накопленной женской мудрости, на которую она была в праве рассчитывать и которая должна была обеспечить ей защиту, поддержку и силу, оборвана; и ей придется самой прокладывать себе путь в подлинном мире, не имея никакой подготовки и специальной амуниции для борьбы с волками всевозможных мастей и пород. Ни с тем, который пытался ее изнасиловать, когда она, еще совсем юная, отправилась в город своей мечты – Нью-Йорк; и ни с тем, который взял ее в жены, проглатывая ее самость и изрыгая ее из себя каждый раз, когда, насытившись ею, предпочитал других женщин.
Мать Сильвии Плат, подобно маме Красной Шапочки, отрицала существование внутреннего волка.
На первый взгляд, может показаться, что напутствия, которые слышит Красная Шапочка от своей мамы, представляют собой классический набор правил и инструкций, характерных для несчетного количества сказок, героям которых предстоят подобного рода душеспасительные испытания. Но по сравнению с горой непреодолимых препятствий, возводимых взрослыми наставницами на пути их юных воспитанниц, этот список выглядит до смешного простым. От девочки не требуют никаких особых усилий, она получает ясные конкретные указания; и все же что-то тут не срабатывает: Красная Шапочка нарушает предписанные ей правила. Как мы уже знаем, она все-таки сошла с тропинки – и волку не пришлось ее долго уламывать. Материнские назидания испарились из ее сердца еще до того, как пустые слова растворились в лесном воздухе.
Достаточно сравнить знакомый список: вино, пирожки, лесные тропинки и затянутые паутиной темные углы – с перечнем, который заготовил Апулей для своей Психеи, чтобы понять, как выглядят истинные муки просвещения. Психея познает сполна принцип «тяжело в учении», и это – без сильной внутренней матери – подвергает ее душу испытаниям, к которым она, естественно, не была готова: Психея должна спуститься в Подземное царство, держа во рту две серебряные монеты[43], а в руках – медовые бублики. Ей запрещено даже предлагать помощь вызывающим жалость существам, которых она встретит на своем пути; ей вообще запрещено произносить какие-либо слова[44].
Чтобы оказаться в Аиде – царстве мертвых, ей надо заплатить Харону (перевозчику душ мертвых через реку Стикс), не дотрагиваясь до серебряных монет: Харон должен сам достать серебро, хранящееся у нее под языком. Она должна быть осторожна и не уронить медовые бублики, которые послужат приманкой для трехглавого пса, охраняющего вход во владения Персефоны. Когда же она наконец-то достигнет преисподней, где царствует богиня мрака (здесь мы касаемся царства теней Афродиты да и самой Психеи), ей ни в коем случае нельзя принять приглашение гостеприимной хозяйки, предлагающей сытную трапезу и отдых; она должна сесть на пол, съесть ломтик сухого хлеба, взять то, что даст ей хозяйка, и немедленно повернуть назад. Второй бублик она опять должна отдать собаке, охраняющей выход, а вторую монету – Харону, чтобы он переправил ее через реку.
Каждый раз, когда Афродита дает своей невестке новое задание, Психея уверена, что не сможет с ним справиться, и мечтает о спасительной смерти. Несмотря на то, что она открывает в себе внутренние силы, о которых даже и не подозревала, Психее (как и Красной Шапочке) по-прежнему не хватает непосредственного материнского участия; и поэтому, выполнив все задания, она все же срывается на последнем:
Психея должна принести Афродите шкатулку с эликсиром красоты, которая хранится в подземном царстве Персефоны и в которую ей запрещено заглядывать. Выбравшись из Царства мертвых, Психея не смогла устоять перед искушением, открыла шкатулку – и уснула «мертвым сном».
Несмотря на все, что она прошла; несмотря на то, что сумела спуститься в загробное царство и, выполнив задачу, вернуться оттуда живой, Психея по-прежнему несет в себе двух слабых внутренних родителей, принесших ее в жертву чудовищу, потому что все, что они в ней видели и чего от нее хотели, – это ее красота. И теперь, когда она в состоянии выполнить их желания – снабдить их красотой, – она поддается искушению и в то же мгновение оказывается в глубинах небытия.
В случае с Психеей, которая уже успела преодолеть огромную дистанцию, разговор идет об очень короткой депрессии, так как жаждущий встречи Амур вырывается из-под стражи своей матери и будит ее.
Подобного рода болотца депрессивного или тревожного состояния подкарауливают нас, когда мы идем против своей воли, пытаясь потакать кому бы то ни было (родителям, любимым, детям, друзьям, страхам, привычкам…); с годами мы чувствуем их приближение, и тогда очень быстро (иногда за несколько минут) притаившийся внутренний друг, протягивая сильную руку, произносит: «Держись!». Иногда мне даже удается замереть у самого края топи, с ухмылкой взглянуть на трясину и продолжить свой путь.
Женщины, которые в отличие от Психеи вобрали в себя образ сильной и сочувствующей матери, способны пройти курс жизненных испытаний и набраться необходимых знаний, не прибегая к депрессивно-целительному действию обратимой смерти, без которой не могут обойтись Красная Шапочка, Белоснежка и все их остальные спящие (или умирающие) подружки.
Так, к примеру, в «Золушке» братьев Гримм сильная внутренняя мать обещает дочке перед смертью, что всегда будет смотреть на нее с неба и не оставит ее в беде. И действительно: Золушка сажает дерево на могиле матери и поливает его обильными слезами. Голуби, которые нашли приют в густой зелени ветвистого дерева, выполняют вместо Золушки тяжелые, порой изнурительные задания мачехи: перебирают чечевицу, шьют наряды для сестер, а ей самой приносят великолепные платья и туфельки, благодаря которым она завоевывает сердце принца, да и королевство впридачу[45].
Еще одна мощная фигура – мать Василисы, которая на смертном одре дарит дочке маленькую куклу, и та помогает ей пробраться через дремучий лес к логову колдуньи, чтобы раздобыть у нее огня; просеивает для нее муку, очищает маковые зернышки от золы, стирает одежду Бабы Яги, колдуньи-воспитательницы, и варит для нее обед. За это получает Василиса огонь и избавляется от гнета мачехи и ее зловредных дочек.
Несмотря на то, что женщины, лишенные сильной и оберегающей внутренней матери, тоже получают значительную помощь на протяжении всего периода обучения (Психея среди прочих использует высокую башню, камыши и орла; Белоснежке помогают гномы – у каждой есть свои помощники), путешествуя по жизни, они почему-то оказываются в местах намного более мрачных и опасных, чем те, у кого явно прослеживается активное присутствие матери.
Возможно, желая отомстить (иногда неосознанно) своим полуприсутствующим матерям; возможно, не предполагая, как порой опасен окружающий их мир (так как мать не признает существующих в нем опасностей), а возможно, пытаясь вызвать к себе жалость (или хотя бы материнское внимание), Красная Шапочка и ей подобные отдают себя на милость волков во всем их разнообразии гораздо чаще, чем женщины, впитавшие в себя образ защищающей и охраняющей матери. Когда мать не в состоянии предоставить дочери надежный слой почвы под ногами, та вынуждена искать материнский архетип в жутких глубинах подземелья.
Эта цепь изнуряющих взаимоотношений между мамой и дочкой прерывается в самом конце повествования, когда только что родившаяся заново Красная Шапочка видит свою мать и ее напутствия совсем другими, гораздо менее осуждающими и гораздо более любящими глазами[46]. Она видит ужасный страх, овладевший ее матерью: страх перед страхом, страх перед слабостью.
Особенно тяжело слабым матерям проявлять или испытывать чувства близости: они часто путают слабость и проявление чувств, в то время как проявление чувств – в том числе и тяжелых – как раз указывает на наличие сил и придает силы.
Во всех сказках возвращения из небытия мать никогда не исполняет роль воспитателя: для этой задачи всегда используют постороннего игрока, антагониста[47], который, во-первых, толкает героиню на путь просвещения, а, во-вторых, неотступно следит за ее продвижением. По негласным законам сказочных сюжетов смерть матери является почти обязательным условием для начала испытаний, которым неизбежно подвергается взрослеющая душа, а их удачным завершением становится открытие внутренней достаточно хорошей (преданной) матери.
В схематично написанном образе Красной Шапочки этот закон приводит к простому уравнению: когда она рождается заново – выскакивает из распоротого волчьего брюха, – она несет в себе полноценную сильную внутреннюю мать. К концу своих похождений Красная Шапочка все-таки становится свидетелем жалких попыток матери намекнуть ей о подстерегающих ее опасностях; всего лишь намекнуть, чтобы, не дай бог, не допустить чрезмерной, способной причинить боль близости, к примеру, рассказать о том, как сама однажды встретила в лесу волка… Она видит жалкие попытки матери спрятаться за крепостными стенами замка под названием «у меня всегда все в порядке», который должен был, но, увы, не смог, защитить их обеих. Она видит, что защитный материнский инстинкт ее мамы оказался неполноценным, что болезнь бабушки затронула и последующие звенья генеалогической цепочки – поселилась и в их доме.
Она видит все это, и, главное, понимает, как действительно сильно любит ее мать, и строит образ новой матери, которая оказывается настолько сильной, что сливается с настоящей матерью, превращая и ее в действительно преданную мать.
Но кто эта достаточно преданная мать? Чего мы ждем от наших матерей, чего ждут от нас наши дети?
Когда Винникотт говорит о «достаточно хорошей матери», он имеет в виду мать, которая полностью подчиняет себя потребностям своего младенца, мать, потребность в которой уменьшается пропорционально взрослению ребенка. Иногда это еле заметные нюансы в привычных действиях матери, о которых она, возможно, даже не подозревает. К примеру, то мгновение, когда мать замирает над младенцем, прежде чем взять его на руки, словно просит его согласия; не просто поднимает, а признает его присутствие: его полную зависимость от нее, но и его абсолютную обособленность. Или, к примеру, то, как достаточно преданная мать познает физические потребности младенца: усталость, голод, болезнь – и ставит их выше своих потребностей, постепенно с годами меняя и определяя заново это соотношение. Он говорит об удовлетворении этих потребностей посредством тепла, питания, защиты, правильного медицинского ухода. Кажется, нет ничего проще, чем быть «достаточно хорошей матерью», так почему же это так тяжело?
«Я стала матерью в Америке 50-х, – пишет Адриенна Рич, – в той самой фрейдианской, потребительской Америке, которая провозгласила семью центром своего общества. Мой муж восторженно говорил о наших будущих детях; его родители с нетерпением ждали рождения внуков. Я же не имела ни малейшего представления, чего хочу я, и вообще есть ли у меня выбор. Все, что я знала, – это, что родить ребенка означает полностью признать себя зрелой женщиной, доказать себе, что я такая же, как все женщины <…> Меня словно парализовало при контакте с маленькими детьми <…> Ребенок, думала я, мгновенно раскроет мое истинное лицо. Это ощущение, будто я исполняю какую-то роль, вызывало у меня странное чувство вины, хотя эта роль была необходима мне, чтобы выжить»[48].
Симона де Бовуар считает, что мы можем точно указать, когда патриархия предпочла материнство женщины ее сексуальности: это произошло в тот момент, когда Мария смиренно склонилась перед Иисусом[49]. В результате вот уже две тысячи лет в мире преобладает расстановка сил, при которой женщина может найти свое место в обществе, только если возьмет на себя – покорно, беззаветно и самоотверженно – одну-единственную роль – роль матери. Не доисторической Матери, дарующей жизнь, равно как и смерть; и даже не матери, только дарующей жизнь и рожающей, а той коленопреклоненной, которая видит в сыне единственное оправдание своего существования на Земле.
«Дети причиняют мне самые изысканные страдания из тех, что я когда-либо переживала, – пишет Рич в своем дневнике. – …Я их люблю. Но именно в этой силе и необходимости любви и заключается страдание»[50]. В своей книге она описывает узкий, ограниченный и обособленный мир матери и ребенка в западном обществе, где мать проводит часы, а иногда дни и недели (в непогоду, во время простуды или просто из-за унылого настроения) без общения с каким-либо взрослым человеком, кроме своего мужа, который вправе появляться у семейного очага, когда ему заблагорассудится, и так же покидать его, захлопнув за собой двери в большой и многоцветный мир. «Взлетать на волнах любви, ненависти и даже ревности к детству твоего ребенка; надежды на его взросление и страха перед ним; жажды свободы и освобождения от цепей ответственности, сковавших все твое существо»[51] – так описывает Рич свои ощущения, разрываясь между вялым желанием «вести себя как надо», «обеспечить эмоциональный заряд», который требуется от любой матери; оправдать ожидания общества, утверждая, что только дети и никто другой являются источником ее счастья и удовлетворения, – и разрывающей ее изнутри, рвущейся наружу потребностью быть самой собой. В данном случае – поэтессой, борцом за права человека, женщиной, интеллектуалкой, лесбиянкой-феминисткой, одним словом, Адриенной Рич. Много лет спустя, оставив мужа и окончательно утвердившись в выборе в пользу любви к женщине, она познала полную свободу. Не каждая из нас обладает такой силой, да и у самой Рич на это ушли долгие годы депрессий – кратковременных побегов в никуда.
«А что, если женщина эта – чудовище, антиженщина, бесприютное гонимое существо, неспособное найти элементарного утешения… в любви, материнстве, милосердии…»[52], – писала она в своем дневнике в приступе ненависти к себе и отчаяния после долгих лет мучительной внутренней борьбы.
Возможно, что у многих женщин из поколения Адриенны Рич, поколения наших матерей, не оставалось ничего другого (а возможно, и многим из нас не остается ничего другого), как запрятать подальше на чердак чувства любви к своим детям и просто бежать, захватив по пути случайные обрывки своего «Я», как человек, спасающийся от огня, хватает на бегу все, что попадет ему под руку: потрепанного мишку, дневник с объяснением в любви к какому-то давно забытому соседскому мальчишке, несусветно дорогую блузку, которую так ни разу и не надели… Иногда наша депрессия – это единственный «аварийный выход» из нагромождения вынужденных обязанностей (часто будто бы взятых на себя добровольно) и образов, которые не совпадают с нашими личными потребностями или даже противоречат нашей внутренней сущности. Сущности, о которой мы вряд ли догадываемся, вступая в мир «женской зрелости».
Масса женщин рожают – и бегут, кормят – и бегут, играют в «ку-ку» на ковре – и бегут, берут детей на площадку, отводят на занятия кружка, читают книжку, готовят ужин, купают, желают спокойной ночи – и все это время бегут и бегут. Они сбегают через окно – бегут, плача и спотыкаясь, вдыхая пьянящий воздух лугов; они сбегают через трубу – верхом на метле, уносясь с диким криком в черную бесконечную высь; они сбегают через отверстие в ванне – в безбрежный океан.
Мало кто из женщин действительно сбегает через двери; и даже тем, кто это делает, рано или поздно становится ясно, что нам никогда не удастся скрыться от той неизбежной формы, в которую выливается наша любовь к детям, от рокового выбора (в принципе добровольного), отказаться от собственной независимости с того момента, как мы становимся матерями.
Бабушка
Я уже упоминала, что ни разу не встретила сказку, героиня которой подвергается исправительно-воспитательным испытаниям по инициативе ее собственной матери. Эту роль всегда исполняет свекровь, бабушка, мачеха (именно поэтому в большинстве историй мать умирает, освобождая место женщине, более жесткой, менее сентиментальной, которая выполнит за нее всю необходимую воспитательную работу) или просто «злая» колдунья, которая оставит самый добрый след в ее жизни. Такими являются Баба Яга в русском фольклоре или Кирка из «Одиссеи» Гомера.
На первый взгляд, Красной Шапочке повезло: роль «колдуньи» – воспитательницы возлагается на ее бабушку. Старушка из дремучего леса умеет прясть и шить, знает все запутанные лесные тропинки, а ее домик хорошо известен всем лесным обитателям, в том числе и серому Волку. Она достаточно стара, чтобы знать, что ни сочувствие, ни жалость не помогут Красной Шапочке благополучно преодолеть путь становления женщиной. Она живет там достаточно долго, чтобы завязать тесное знакомство с инстинктивными силами, населяющими густую чащу подсознания. Ее избушка – это «женская половина», «женский шатер», до которого должна добраться Красная Шапочка, чтобы приобщиться к древнему матриархальному циклу жизни – смерти – рождения заново.
Кажется, все предусмотрено, однако очень быстро сценарий дает сбой: в первые же минуты Красная Шапочка сходит с натоптанной тропинки, и, когда она, наконец, оказывается в домике на опушке, вовсе не бабушка ждет ее в кровати, облачившись в белый кружевной чепчик.
Любая девушка в свой первый день ученичества постаралась бы как можно скорее оказаться возле того самого загадочного дома, за стенами которого скрыты древние тайники со святынями женской мудрости, в то время как Красная Шапочка легко отвлекается от заданного направления. Так в чем же дело? А в том, что бабушка больна, поэтому мама дает неясные, запутанные и даже ошибочные указания. Цепь накопленных женщинами знаний прерывается на бабушке: она не в состоянии выполнить возложенных на нее жизненно важных обязанностей колдуньи – заклинательницы души.
Как выглядит эффективная колдунья – владычица душ? Взять, к примеру, Бабу Ягу. Она живет в густом лесу – подходящее место для ведьмы – в необычном доме, стоящем и вращающемся на курьих ножках; она летает в деревянной ступе[53] и заметает следы метлой из волос мертвых людей. Ей служат белый всадник на белом коне (она называет его «день мой ясный»), красный всадник на красном коне («мое солнышко красное») и черный всадник на черном коне («ночь моя темная») – намек на всемогущую силу, которой она обладала в своей «прошлой жизни» великой богини или, скорее, великого божества трех стихий: белой, красной и черной.
В отличие от нее Кирку из «Одиссеи» иногда называют богиней, а иногда – колдуньей. Она красива, как богиня, но живет в скрытой от людских глаз лесной чаще, как ведьма. Можно предположить, что, как и бабушка Красной Шапочки, Кирка – мастерица прясть (ведь это бабушка сама пряла, ткала, а затем и сшила своей внучке прелестный красный головной убор); этим ремеслом в мифологии всегда занимались богини судьбы, которые пряли или, наоборот, рвали нити жизни. Отведав ее волшебного зелья, львы и волки стали вести себя как добрые дрессированные щенки: они резвятся возле дома и лижут гостям руки.
Какой же больной должна оказаться такого рода «бабушка», чтобы один из волков вышел из повиновения и проглотил ее, как это происходит с бабушкой Красной Шапочки? Эта же бабушка настолько больна, что не может приготовить для себя лечебное снадобье – задание, с которым запросто справляется любая начинающая колдунья. Она ждет, пока придет Красная Шапочка и вылечит ее. И самое главное: она слишком больна и не может служить наставницей своей взрослеющей, превращающейся в женщину внучке. А это уже очень серьезная проблема, потому что такого рода «колдуньи» не зря «населяют» сказания человечества и никогда там не бездельничают.
Подобно шекспировским ведьмам, поджидающим Макбета на распутье, встречают нас на жизненных перекрестках старые женщины-регулировщицы, выбирающиеся из глубин нашего подсознания, чтобы обозначить резкий поворот – место перемен, иногда тяжелых, связанных с потерями, но и несущих в себе обновление, рост и познание; они дарят жизненно необходимые знания своим подопечным: Кирка наставляет Одиссея, как благополучно вернуться из Подземелья; Баба Яга отдает Василисе огонь, а бабушка Красной Шапочки – до своей болезни – дала своей внучке все, что могла, и вдобавок спряла, соткала и сшила красную шапочку.
Встреча с серым волком
На тропинке, ведущей вглубь леса, Красную Шапочку подстерегал Волк. Красная Шапочка понятия не имела, что это за зверь, и совершенно его не испугалась.
– Доброго утра, – сказал он.
– Спасибо, Волк!
– И куда же ты направляешься в такую рань, Красная Шапочка?
– К бабушке.
– А что у тебя в корзинке?
– Вино и пирожки, – отвечает, – мы испекли их вчера, чтобы бабушка окрепла и выздоровела.
– А далеко живет твоя бабушка?
– Далеко. Вон в той деревне за мельницей, в домике с краю, ты же знаешь.
Неожиданно, между тенями маленькой милой души, называемой здесь «Красная Шапочка», появляется острозубый безжалостный хищник, называемый «Волк». И несмотря на то, что они вроде никогда не встречались, Волк знает, что девочку зовут Красная Шапочка, а она, никогда ранее не видевшая волков, и, несмотря на то что ее мать категорически отрицала сам факт их существования, была уверена, что перед нею – Волк.
А так как вся эта история (которая в той же мере могла бы быть и сном) происходит в густой чаще подсознания одной и той же души, нам сразу становится ясно, что разговор идет о двух созданиях, глубоко знакомых друг другу, как и надлежит двум сторонам одной личности.
Они не нуждаются в представлении одного другому и сразу погружаются в беседу определенно личного характера. Волк забрасывает Красную Шапочку вопросами: дружески интимным «Куда в такую рань?» и требовательно любопытным «А что там у тебя в корзинке?». Исполняя роль внутреннего хищника, он делает все, чтобы показать, кто настоящий хозяин души. В это же время Красная Шапочка при первой возможности сообщает Волку, что бабушка больна, и тут же добавляет, что собирается ее вылечить. У Волка явно не хватает терпения, и он задает прямой вопрос: «Далеко ли живет твоя бабушка?», то есть хватит ходить вокруг да около, перейдем к делу – у Волка полно работы, ведь именно для этого ему и предоставили большую сцену. И девочка с готовностью дает ему подробный ответ: «Далеко. Вон в той деревне за мельницей, в домике с краю». И даже добавляет: «Ты же знаешь».
Ладно, подробное объяснение, но откуда она знает, что волку все это известно?
«Даже четырехлетний малыш не может не усомниться в поведении Красной Шапочки, которая, отвечая на вопрос Волка, дает ему четкие указания, как добраться до дома бабушки. К чему такие точные детали, как не для того, чтобы быть абсолютно уверенным, что Волк достигнет своей цели?» – так рассуждает (и совершенно справедливо) Бруно Беттельгейм в его книге «Очарование волшебных сказок»[54]. Хочу сразу отметить, что женщины, которые не впитали в себя образ надежной матери; женщины с неполным самосознанием или те, кто не готовы признать теневую сторону своей души из-за ощущения своей неполноценности (ведь они действительно не живут полной жизнью), склонны вступать в связь с внешним хищником, который посвящает их в свои жестокие игры, где они исполняют роль лакомого кусочка. Такое положение вещей удобно для обеих сторон: вблизи хищника всегда находится кто-то, о кого он может беспрепятственно поточить свои зубы, а жертва всегда может обвинить его в своих страданиях, не вынуждая себя признать, что этот самый «злодей» есть не что иное, как внешнее проявление элемента внутреннего саморазрушения.
Подобного рода ситуации таят в себе большую опасность: живое воплощение внутреннего хищника может нанести тяжелую рану, но без того укрепляющего, придающего стойкость эффекта, который наблюдается при погружении в подсознание и при встрече с притаившимся там хищным началом. Внешний хищник лишает нас сил и заглушает малейшие попытки внутреннего диалога.
Жизнь женщин, отдающих предпочтение волкам в человечьем облике, напоминает жизнь на вершине вулкана: она полна острых ощущений, ведь никто не может в точности предвидеть, когда волк оскалит свою зияющую пасть. Эта бурлящая адреналином жизнь как раз-таки и не оставляет места процессу погружения в глубины своего «Я», в результате которого в душе мог бы родиться добрый охотник – жизнеутверждающие силы, способствующие рождению заново. Жизнь с волком изнуряет, требует постоянного напряжения, и те, у кого не хватает сил удержаться, падают прямо волку в пасть, а оттуда – в зловонную утробу, в чужой ад, во внутренний мир кровожадного хищника.
Единственный урок, который мы можем извлечь из нашего знакомства с волчьей пастью (не заглядывая в нутро), – это уверенность, что нам там делать нечего. И тогда нам надо просто встать и уйти.
Но это не похоже на историю с Красной Шапочкой. Волк действительно вырывается на свет из глубин души Красной Шапочки или, вернее, бабушка выпускает его побродить по тропинкам внутреннего леса. Лесная старуха слишком больна, чтобы заниматься воспитанием внучки, и поэтому она вынуждена воспользоваться сомнительными услугами наемного помощника. Волк выполнит необходимую работу – в этом бабушка уверена; она только не представляет, насколько черной окажется эта работа. Бабушка, которая, по традиции, символизирует женское начало – Древнюю Женщину, первозданную силу, неразрывно связанную с природой (Кларисса Пинкола Эстес называет ее инстинктивной силой), натравливает на свою внучку другого инстинктивного обитателя лесов, ее приближенного – кровожадного волка. Волк настолько предан своей хозяйке, что на какое-то время принимает ее облик: внучка, которая отлично знает, как выглядит ее бабушка, не сразу замечает мелкие детали, отличающие лежащего на кровати коварного злодея от проглоченной им старушки. Волк становится приближенным бабушки, потому что склонностью к людоедству он ничем не отличается от других кровожадных наставниц – мачехи Белоснежки, мечтающей «попробовать» печень и легкие своей падчерицы, или матери принца из ранних версий «Спящей Красавицы», которая собиралась проглотить невестку и внуков. Ну и, наконец, волк состоит «в команде» бабушки, потому что в одной из ее прошлых жизней бабушка Красной Шапочки – это La Loba, Дикая Старуха, женщина-волчица.
Ее историю нам рассказывает Кларисса Пинкола Эстес.
Ла Лоба живет среди пустынных гор; она лазает и ползает по сухим руслам рек в поисках волчьих костей, а когда соберет весь скелет, разводит костер, встает над зверем, вздымает над ним руки и заводит песню. И тогда волчьи ребра и кости лап начинают обрастать плотью, и зверь покрывается шерстью. Ла Лоба продолжает петь, и зверь начинает дышать. Она поет – и волк открывает глаза, вскакивает и убегает вниз по каньону, а затем, стремительно удаляясь, внезапно превращается в смеющуюся женщину, которая свободно бежит к горизонту[55].
А может, Ла Лоба – это бабушка Красной Шапочки, воспевающая в себе волка? Волк является одной из сторон бабушки. Да и Красной Шапочки тоже.
И проглотив их, он это подтверждает.
Если бы бабушка была здорова, она, подобно Дикой Старухе, пела бы над своей внучкой, ведя ее через обратимую смерть, через ожившего в ней волка к раскрепощенной женщине. Если бы бабушка была здорова, Красная Шапочка не была бы проглочена.
То, каким образом в нас могут таиться волки, рассказывает известный антрополог проф. Нахум Мегед, который описывает свой поход с группой паломников в священную пустыню Вирикута в центре Мексики[56]: группа паломников во главе с шаманом делает привал у Ворот Святой Земли – места, откуда начинается священная зона для ритуала очищения возле пылающего костра.
«Мария, молодая женщина, примкнувшая к группе вместе с мужем и больным сыном, который должен был исцелиться под влиянием священных сил, пожаловалась на плохое самочувствие… Внезапно ею овладела непреодолимая усталость, веки распухли и ноги налились тяжестью. Она лежала на холодной земле, и на лице ее сына ужас сменялся выражением скорби и беспомощности… Усталость атаковала и доброго маракаме [57]. Он не поддался недомоганию, а тут же приступил к работе: его веки плотно сомкнулись, и он запел, запел…»
Если бы бабушка была здорова, она, как добрый маракаме, пела бы песню выздоравливающей души, надломленной изнуряющими странствиями. Но бабушка больна, и все, что она может сделать для своей внучки, – это наслать на нее волка.
«Женщина рассказала [58]: стая собак или волков окружила ее, когда она стояла одна на холме, – продолжает Мегед свои записки, – …вдруг из огня раздался звук, сильный, как гром, что-то наподобие воя вместе с лаем. Собаки или волки исчезли, а она смотрела и не понимала, что происходит… Шаман поднял женщину и произнес, обращаясь к ней: „Татавари (добрый бог) – он твой отец. И он решил тебе помочь. Много волков вышло из тебя; так много, что была опасность, что они не станут твоими сыновьями, а съедят тебя…“»
Не имея в проводниках шамана или наставника, который будет вести нас за руку по покрытым мраком лесным тропинкам подсознания, наше знакомство с по-волчьи коварным элементом нашей души может оказать на нас оглушающее или даже парализующее действие. Многие люди испытывают приступы болезненного упадка сил уже в самом начале пути.
Шаман, ныряющий следом за женщиной в глубины ее сновидений, посвящен в тайнопись души, и ему удается вывести свою подопечную на твердую душевную почву. Он объясняет ей ее сон:
«Во сне тебе рассказали, что после страданий, которые ты перенесешь, выполняя свою клятву, с твоим сыном произойдет что-то хорошее». И Мегед продолжает: «Выслушав его, Мария встала на ноги, поначалу неуверенно, а затем пустилась в пляс, ничего не замечая вокруг себя, кроме пылающего костра – доброго старца. Ее танец длился всю ночь – и все остальные танцевали вместе с ней».
Мегед заключает свое повествование словами:
«Так, на чужбине, познавая мир языческих богов, я вдруг понял смысл еврейской молитвы „Открой нам Врата в час, когда Врата запираются“… В обоих случаях говорится о священных вратах, перед которыми стоит верующий человек. Эти ворота дают ему возможность совершить ритуал перехода из одного состояния души в другое и собрать достаточно душевных сил, чтобы сказать самому себе, что все старые счета оплачены и закрыты».
Остановиться, погрузиться в сновидения, иногда – переболеть, встретить нашу внутреннюю волчью стаю; провести ночь у костра, вместе с членами семьи отрешенно кружась в наполненном тайным смыслом танце, – это только часть ритуалов, через которые должна пройти Красная Шапочка, чтобы повзрослеть; это только часть ритуалов, которые должна пройти каждая из нас, чтобы разобраться со старыми долгами – с родителями, детьми, спутниками жизни, когда мы меняемся, когда они меняются… Это та самая молитва, которая способна открыть перед нами новые ворота в час, когда за нами захлопываются предыдущие.
Это только часть из тех ритуалов, участницей которых я так и не стала, лишившись плода, потерянная, безмолвная, не имея рядом с собой никого, кто бы растолковал мне мое состояние, которое, как я теперь понимаю, было отрицаемым, не признанным мною трауром.
Никто не пел тогда над моими костями, никто не обратился к моим волкам, никто не танцевал со мной вокруг моего костра – моего доброго старца, исполняя вместе со мной танец сковавшей меня жути, танец еле теплившейся надежды. Подобно Красной Шапочке, меня проглотил мой волк, и я очень долго находилась в его брюхе.
Цветы Персефоны
Маки, маленькие адские огоньки, Вы не причиняете зла? (Плат С. «Июльские маки». Пер. А. Пустогарова)И пошел волк рядом с Красной Шапочкой и говорит:
– Красная Шапочка, погляди, какие кругом красивые цветы, почему ты не посмотришь вокруг? Ты разве не слышишь, как прекрасно распевают птички? Ты идешь, будто в школу торопишься, а в лесу-то как весело время провести! Глянула Красная Шапочка и увидела, как пляшут повсюду, пробиваясь сквозь деревья, солнечные лучи и все кругом в прекрасных цветах, и подумала: «Хорошо бы принести бабушке свежий букет цветов, – это будет ей, наверно, тоже приятно; еще ведь рано, придти вовремя я успею».
И она свернула с дороги прямо в лесную чащу и стала собирать цветы. Сорвет цветок и подумает: «А дальше вон растет еще покрасивей», – и к тому побежит; и так она уходила все глубже и глубже в лес… Красная Шапочка все цветы собирала, и когда она уже их набрала так много, что больше нести не могла, вспомнила она о бабушке и отправилась к ней.
Все здесь действует против Красной Шапочки: и болезнь бабушки, и потеря связи с природой настолько, что она, идя по тропинке, не замечает ни пестрого цветочного ковра, ни искрящихся солнечных кружев. А напутствия матери, боящейся до ужаса всего, что связано с миром теней (леса и его обитателей, темных углов комнаты), должны усыпить инстинкты Красной Шапочки.
Страх настолько велик, что на его существование нет даже намека: никто не прячется в неосвещенных углах комнаты, в лесу не водятся волки, а если кто-то и упадет, не ударится, и больно не будет – только бутылка разобьется…
Красная Шапочка сворачивает с дорожки материнских пустых предостережений и углубляется в лес волчьих обещаний. В этот миг устанавливается первичная связь между воспитанницей и миром инстинктов. Перед ней открылась дверь в подсознание, и оттуда раздаются хоть и приглушенные, но ясно различимые звуки леса.
На первый взгляд, казалось бы, земля не проваливается под ногами у каждой сказочной девушки, протянувшей руку, чтобы сорвать цветок: ни крошка Брайт из «Волшебных сказок» графини де Сегюр, ни Красная Шапочка, ни другие героини не оказываются, подобно Персефоне, в преисподней. Но все они дорого платят за это невинное будничное занятие.
Рвать цветы в ухоженном саду сознательного – это одно, а собирать букеты в лесу – учат нас сказки, – за это надо платить. Цветы в лесу, как и юные девушки в лесу, символизируют гремучую смесь, источающую сладковатый запах табу.
Братья Гримм, Шарль Перро и особенно графиня де Сегюр, которые зачастую в своих повествованиях берут на себя роль представителей «общества», описывают эти лесные прогулки с явным осуждением, придавая им другой (не так уж старательно скрытый) смысл: срывание цветка для них – «дефлорация», позариться на цветок – позариться на девственность.
Так Златовласка удаляется все глубже и глубже в чащу заколдованного леса, выбрасывая на ходу уже сорванные ею цветы, потому что ей кажется, что там, вдали, цветы еще красивее. Она срывала и бросала, и срывала вновь, пока не оказалась в самой гуще таинственного лесного лабиринта, откуда уже нет дороги назад. И Красная Шапочка, собирая цветы, тоже потеряла счет времени: она опомнилась лишь тогда, когда наступили сумерки. А Персефона оказалась на лугу среди цветов «красоты невообразимой» и так и не смогла насытиться, пока не увидела и не сорвала нарцисс. Только после того, как эта ненасытная, напоминающая вакханалии во имя Диониса, оргия сбора цветов наконец-то утихла, вспомнили девушки о себе самих, о продолжающейся где-то рядом жизни, о своих обязанностях, о своих семьях. Красная Шапочка, Персефона, Златовласка протирают глаза, будто очнувшись после экстаза эротической пляски с природой, и теперь, придя в себя, они точно знают, что уже никогда не будут такими, как прежде.
Вот какими предстают перед нами женщины Древней Греции, поклоняющиеся Вакху:
«Все, и молодые и старые, но особенно девы… прежде всего, они распустили себе волосы на плечи, прикрепили небриды, если у кого успели развязаться узлы, и опоясали эти пятнистые шкуры змеями, лизавшими себе щеку. Другие тем временем, у кого после недавних родов болела грудь от прилива молока, а ребенок был оставлен дома, – брали в руки сернят или диких волчат и кормили их белым молоком. После этого они увенчались зеленью плюща, дуба или цветущего тиса. И вот одна, взяв тирс, ударила им о скалу – из скалы тотчас брызнула мягкая струя воды; другая бросила тирс на землю – ей бог послал ключ вина; кому была охота напиться белого напитка, тем стоило концами пальцев разгрести землю, чтобы найти потоки молока; а с плющевых листьев тисов сочился сладкий мед»[59].
Возможно, в ранних версиях нашей сказки красная богиня сбрасывает с себя свою алую накидку и кружится в танце обнаженной. Вот она сливается с лесной опушкой; солнечные лучи робко проникают сквозь густую листву, еле различимым шепотом журчит ручей, а издалека слышно, как рычит река, вгрызаясь в неподатливые бока валунов. Трели птиц, жужжание насекомых и пьянящий аромат цветов. Так, вероятно, воздает Персефона, дочь Деметры и возлюбленная Диониса, хвалу величию весны.
Благодаря серому Волку – посланнику леса прозревает и Красная Шапочка: она открывает для себя резвящиеся блики солнечных лучей и дурманящий аромат цветов; она освободилась от груза пуританских запретов, которыми снабдила ее мать и которые заслонили, как тучи, солнце, все то дикое, красочное, неприрученное, чем так богат лес и чему она (из-за этих запретов) не была в состоянии радоваться. Опьяненная восторгом она рвет цветы, чтобы роскошным букетом порадовать бабушку, которая, если бы была здорова, должна была (она, а не волк) посвятить ее в таинства леса, наполненного светом и тенями, пахнущего цветами и прелыми листьями, упирающегося в землю и в небосвод, укрывающего поющих птиц и рычащих хищников.
Несомненно, что даже этого погружения в глубины души достаточно, чтобы обеспечить Красной Шапочке, оказавшейся на пороге бабушкиной избушки, доступ – пусть и ограниченный – к естественным механизмам предостережения и особого чутья, которых она была лишена ранее. И все же, условности и правила поведения, которыми ее безжалостно пичкали с детства, по-прежнему мешают ей прислушаться к заложенному природой инстинкту самосохранения:
Она удивилась, что дверь настежь открыта, а когда вошла в комнату, все показалось ей таким странным, и она подумала: «Ах, боже мой, как мне нынче тут странно, а ведь я всегда бывала у бабушки с охотой!»
Перекормленная материнскими назиданиями, она игнорирует предупреждающий об опасности внутренний голос и, как ни в чем не бывало, направляется прямо в волчью пасть.
Диалог со смертью. Шах и мат
Она кликнула: «Доброе утро!», но ответа не было. Тогда она подошла к постели, раздвинула полог, видит: лежит бабушка, надвинут чепец у нее на самое лицо, и выглядит она так странно-странно.
На мгновение останавливая акт пожирания, я бы хотела задержаться на некоторых, на мой взгляд, немаловажных подробностях, описываемых в ранних версиях «Красной Шапочки», которые были опущены братьями Гримм; и самая важная среди них – кровавая трапеза Красной Шапочки: она пьет кровь и поглощает мясо бабушки, прежде чем сама становится жертвой кровожадного хищника. Во многих версиях волк (или отвратительное волосатое чудовище) кладет на тарелку кусочек бабушкиного «мяса» и наполняет кувшин ее кровью, а уже затем проглатывает и саму бабушку. Он уговаривает, а в некоторых версиях заставляет силой проголодавшуюся после длительной прогулки внучку съесть припрятанные заранее части бабушкиного тела, и тем самым Красная Шапочка становится в некотором смысле соучастницей преступления.
Подобная сцена кажется нам невероятной, но она вытекает из восприятия мира, в корне отличающегося от нашего. В правильном контексте она может трактоваться как почти «безобидный» отголосок древнего культового обряда смерти и возрождения, по замыслу которого женщина, впервые переступающая порог женского шатра (со всеми его секретами и премудростями), должна вобрать в себя женщину старшего возраста, которая этот шатер покидает.
Закономерности жизнь – смерть – рождение заново и их воплощение в циклообразном ритме женского организма заложены, в первую очередь, в самом теле женщины, и поэтому отведать бабушкиной крови и плоти означает обогатиться ее знанием и познать ее природу. То же отношение к плоти и крови имеет важнейший христианский ритуал причащения, когда верующий вкушает священный хлеб и вино, в которых, согласно библейскому преданию, воплощены тело и кровь Иисуса Христа, тем самым он как бы приобщается к своему божеству.
Когда волк предлагает Красной Шапочке отпить из кувшина с бабушкиной кровью, он словно бросается вниз головой в бездонную глубину святейшего из табу; а так как, с нашей точки зрения, в данном случае волк является неразделимой, активной и необходимой, хоть и коварной, частью самой бабушки, то и акт, когда Красная Шапочка вынуждена заключить в себя бабушку, видится нам действием, подобным насильственному окунанию в купель: в судорогах извивается тело, легкие молят о воздухе, сердце заклинает о жалости, но вот опять все наполняется светом, возникает необъяснимое ощущение, что внутри родилось и поселилось что-то новое.
Красная Шапочка, пьющая кровь из сосуда женского табу, получает заложенную в глубокой древности способность к деторождению, а вместе с ней – всегда настигающую через постоянные промежутки времени малую смерть – женский месячный цикл; и большую смерть, которая в этом повествовании приняла форму кровожадного волка – депрессии, неизбежно ведущей к обновлению.
Красная Шапочка шагает по сказочным тропам с алым «сигнальным флажком» на голове; она несет на себе наружный знак, который свидетельствует о ее внутренней сущности: это девушка в начале своего полового созревания, в возрасте первой менструации, распускания бутонов женственности, первых проявлений готовности к деторождению. И вот, вооруженная тем самым пурпуром, воинственным и амбивалентным, словно пропитанным кровью (он и в самом деле – кровь), который, казалось бы, должен указывать на то, что она не пригодна для свиданий, а в действительности только привлекает к ней волчье внимание, она отправляется в женский шатер, расположенный в лесу[60].
Тот факт, что в поздних версиях сказки кажущийся невинным красный цвет шапочки приходит на смену запретному алому цвету бабушкиной крови, объясняется неравнозначным, двойственным, отношением патриархата, определяющего и формирующего культурные традиции, к самому явлению месячных кровотечений: с одной стороны, эта кровь считается нечистой, поганой, неприкасаемой, а с другой – свидетельствует о готовности к продолжению рода, которую необходимо реализовать. И в самой реализации скрываются противоречия: если следовать патриархальным законам, утверждающим право собственности отца/мужа на женщину, на кровь, на младенца и на имущество, то это «хорошая кровь», имущество, которое надо гордо выставить всем на обозрение наутро после первой брачной ночи. Если же эта готовность к оплодотворению может привести к ослаблению патриархальной гегемонии (к примеру, связи вне брака или не с целью продолжения рода), то это кровь, несущая зло, позорная тайна. В некоторых племенных общинах даже «чистая» кровь девственниц считалась опасной, таящей в себе угрозу, и поэтому с ней предписывалось обращаться с большой осторожностью – она вызывала страх и отвращение. Так, на юге Индии дефлорация перед первой брачной ночью входила в обязанности священника – брахмина (или брахмана), а в других сообществах эту функцию выполнял предводитель общины или знахарь – шаман. На острове Самоа девственную плевру разрывал сам муж с помощью палки или пальцем, обмотанным белой тканью, и при поддержке сочувствующей публики[61]. Этот загнанный в тупик образ – образ испуганного завоевателя – вовсе не остался где-то там, в тумане веков, за горами «примитивности».
Мишель Лейрис, французский писатель и этнолог, живший и творивший в XX веке и причислявший себя к последователям идей гуманизма, писал о себе, что чаще всего он склонен видеть женский половой орган как что-то грязное или как открытую рану. Это, по его словам, не делает его (орган) менее влекущим, пленительным, но делает его опасным, как все, источающее кровь, слизь или гной[62].
Еще одна деталь, которая из-за излишнего пуританства отсутствует в изложении братьев Гримм, но существует почти во всех, если не во всех, ранних версиях сказочного сюжета: прежде чем Красная Шапочка приближается к бабушкиной кровати, волк просит ее раздеться, и она безоговорочно выполняет его просьбу.
Подобно Инанне, вынужденной сбросить с себя одежду – символ избранности и принадлежности к богам – прежде чем спуститься в подземелье и предстать обнаженной, униженной и побежденной перед «теневой» частью своего личного «я», оказывается обнаженная Красная Шапочка беззащитной перед внутренним кровожадным хищником, и он без труда целиком проглатывает свою добычу.
Пожираемая тяжелой депрессией, Сильвия Плат записывает в своем дневнике: «Как будто меня живой положили на жертвенник – как будто я должна была опуститься на самое дно, перестать существовать, погрузиться в глубины непреодолимого ужаса, прежде чем я смогу встать и подняться»[63].
И все же Инанна, которая добровольно спускается в подземное царство, или Красная Шапочка, подробнейшим образом объясняющая волку дорогу к домику бабушки, хотят ли они на самом деле стать добычей коварного злодея? Красная Шапочка – единственная из героинь сказок «возвращения из небытия», которая доходит до того, что берет интервью у своего безжалостного хищника, имя которому – депрессия.
И вот, как это происходит:
– Ой, бабушка, отчего у тебя такие большие уши?
– Чтоб лучше слышать!
– Ой, бабушка, а какие у тебя большие глаза!
– Это чтоб лучше тебя видеть!
– Ой, бабушка, какой у тебя, однако, страшно большой рот!
– Это чтоб легче было тебя проглотить!
В других версиях диалог еще продолжается: Красная Шапочка спрашивает волка, почему у него такие длинные руки, которыми, оказывается, он сможет крепче ее обнять; и почему у него такие большие ноги, с помощью которых, оказывается, он сможет быстрее убежать. А так как мы знаем, что это хищное чудовище говорит от имени бабушки, являясь ее официальным представителем, и выражает волю той самой великой старухи из леса, то теперь нам будет легче понять ту волю, которой нам приходится противостоять; те силы, которые зарождаются в нашей душе и влекут нас в покрытые мраком глубины подземелья: они помогут нам услышать себя, они помогут нам увидеть себя, познать себя, обнять себя покрепче и бежать, подобно волку Ла Лобы, который на бегу превращается в счастливую женщину.
Волк – это сильнейшее орудие: он похищает Красную Шапочку и швыряет ее в бездну внутренней преисподней, где у нее будет возможность познать себя; но одновременно он сам и есть преисподняя – для этого он пожертвовал своим брюхом, куда Красная Шапочка будет проглочена и из глубин которого появится вновь.
Дорога назад
Их величество сон
Только сказал это волк, и как вскочит с постели – и проглотил бедную Красную Шапочку. Наелся волк и улегся опять в постель, заснул и стал громко-прегромко храпеть.
Итак, дело сделано, бал-маскарад окончен. Девочка и бабушка проглочены волосатым хищником, и он лежит себе и храпит, переваривая свою добычу. А вместе с ним погрузилась в сон и душа. Вот и Красная Шапочка с бабушкой перестают сопротивляться, оставляют попытки удержаться, бороться: ведь они уже проглочены, их уже нет, а значит, теперь они могут успокоиться – пусть ненадолго, хоть на мгновение – и отдохнуть.
Западня в западне, жилец, в себя вселивший другого, объятьем объятым, вопрос в ответе. (Шимбровска В. Небо[64])Несколько лет назад я записала в своем дневнике: «Я вчера ощутила неприсутствие, вглядывалась раскрытыми от ужаса глазами в чувство неразделимости меня и бездны, в бессмыслицу моего существования; в чувство, которое растет и превращается в панический страх непонимания, кто я или, наоборот, понимания, что на самом деле я – никто». Я была подобна Инанне, нисходящей в бездну без одежды и украшений, обезличенно и отрешенно опустившейся на колени перед семью судьями. Но в отличие от нее я не превратилась в бесформенную тушу, а растворилась во мраке преисподней, превратившись в полное ничто. Бессмысленное скопление молекул, стремительно засасываемое пустотой… смерть витала надо мной.
Каждой, пережившей состояние депрессии, хорошо знакомо это ощущение поглощающей пустоты, которое испытывает Красная Шапочка, оказавшись в зияющей пасти кровожадного хищника.
Когда я отправилась туда во второй раз, то уже взяла «мою бабушку» с собой.
Моя шаманка – мой духовный гид, которая вот уже несколько лет сопровождает меня в моих странствиях по закоулкам души, погрузилась в эту пустоту вместе со мной. Она успела побывать там раньше и поэтому сказала: «Это место, покрытое мраком; темнота придает ему особую силу». «Да, – сказала я, – днем эта пустота, это ничто, скрываются под разнообразными масками». «Это все равно, что заблудиться в космосе, – продолжила она. – В глазах ужас перед бездонной пустотой… Ты знаешь, это то, что случилось с Адамом в Раю: Бог спросил его „Где ты?“, что подразумевает и „Кто ты?“, а он не знал».
Трудно передать степень облегчения и утешения, которые я испытывала, оттого что на этот раз в моей безликой пустоте я была не одна – со мной была спутница. Неожиданно мое пребывание там превратилось в своего рода учебную экспедицию во внешние миры (хотя более внутренних, чем они, не существует), к месту, которого достигают только самые отважные. Этому месту явно было о чем мне поведать. И она, моя спутница, уже знакомая с его языком, могла служить нам переводчицей. Леденящий душу, парализующий мою жизнь звон тревоги и страха вылился в слова: «Кто ты?» – спросила меня моя депрессия, и я все еще отвечаю; самой себе. Как легко, оказавшись, подобно нашей юной метафорической героине, на распутье взросления, быть похищенной в пустоту, очнуться в зловонной утробе хищника. И которая из нас на том жизненном этапе могла дать вразумительный ответ на этот вечный вопрос: «Кто ты?». И сколько из нас могут ответить на него сегодня?
И возрождение Красной Шапочки из волчьего брюха, как и возрождение Адама и Евы из Рая на Землю, не требует ответа на вопрос, а требуют лишь обязательной постановки данного вопроса. Потому что снаружи волчьей утробы, по ту сторону депрессии, извне первородного райского чрева – за пределами всего этого начинается жизнь, начинается путешествие длиной в человеческую жизнь, весь смысл которого – поиск ответа на все тот же вопрос.
И поэтому, когда в буддизме говорится «Я – ничто», когда Ницше говорит «Я – всё»; когда Дедал в романе Джойса утверждает, что он не должен своему другу денег, которые занял у него вчера, так как сегодня он уже абсолютно другой человек; когда Инанна-свет садится на трон Эрешкигаль-темноты и говорит ей: «Я – это ты», – все они в определенном смысле утверждают одно и то же.
Ты скажешь: ночь идет за ночью, день за днем. Года проходят – в сердце ты отметишь. Увидишь молнии и тучи за окном, и только нового под солнцем не заметишь. Но вот придут преклонные года, Ты станешь днями дорожить на их исходе. И скажешь: этот день уходит навсегда. И скажешь: утром новый день приходит. (Гольдберг Л. Песнь конца пути. Пер. Мири Яниловой)Высвобождение
Наелся волк и улегся опять в постель, заснул и стал громко-прегромко храпеть. А проходил в ту пору мимо дома охотник и подумал: «Как, однако, старуха сильно храпит, надо будет посмотреть, может, ей надо чем помочь». И он вошел к ней в комнату, подходит к постели, глядь – а там волк лежит.
– А-а! Вот ты где, старый греховодник! – сказал он, – Я уж давненько тебя разыскиваю.
И он хотел было уже нацелиться в него из ружья, да подумал, что волк, может быть, съел бабушку, а ее можно еще спасти; он не стал стрелять, а взял ножницы и начал вспарывать брюхо спящему волку. Сделал он несколько надрезов, видит, просвечивает красная шапочка, надрезал еще, и выскочила оттуда девочка и закричала:
– Ах, как я испугалась, как было у волка в брюхе темно-темно!
Выбралась потом оттуда и старая бабушка, жива-живехонька, еле могла отдышаться. А Красная Шапочка притащила поскорее больших камней, и набили они ими брюхо волку. Тут проснулся он, хотел было убежать, но камни были такие тяжелые, что он тотчас упал, тут ему и конец настал.
Давайте попытаемся поместить охотника, условно, разумеется, в соответствующий уголок души; – охотник является человечной, окультуренной стороной дикого волка, и он, так же как волк, принадлежит бабушке: не случайно он, не раздумывая, привычно, заходит в бабушкину избушку; он считает своей обязанностью охранять старушку. Он отлично знает и самого волка, ведь их поединок длится уже не один день.
Теперь, когда Красная Шапочка испытала свою внутреннюю волчью сущность до предела, она готова вывернуть ее, как чулок, выйти из нее и испытать ее противоположность – ее охотничью изнанку.
Охотники/охотницы нашей души (к примеру, Артемида с колчаном смертоносных стрел) – это тот душевный элемент, который надолго бросает нас, когда мы находимся в тяжелом душевном состоянии, но он же – и та сила, которая побуждает нас к действию. Возвращение этой силы в нашу жизнь означает и подтверждает окончание депрессивного периода ухода в себя и наше возвращение к действию, хотя мы еще покрыты толстым слоем пыли подземелья, как Инанна, или липким содержимым волчьего брюха, как Красная Шапочка, чтобы заметить, что что-то внутри нас уже сдвинулось.
«Каждую неделю я буду определять для себя опасное поле боя небольших размеров, которое должна буду захватить, – описывала Сильвия Плат свои маленькие шаги по пути к выздоровлению. – Сначала я не могла спать без таблеток, а теперь могу. Сначала я не могла видеть девочек в офисе без того, чтобы меня атаковала слабость, а теперь могу. Я уже в состоянии написать письмо, приготовить вкусную запеканку. Пусть маленькие, но победы!»[65]
Только немногие версии – в основном, последние (например, братьев Гримм) – заканчиваются смертью волка; и тем самым абсолютная победа одного обусловлена абсолютным искоренением другого. Но в лесах подсознания это почти невозможно, да и совершенно не нужно. Охотник и волк, две витальные составные одной души, являются законными и жизненно необходимыми обитателями бабушкиного леса, а значит, и внучка, гуляющая по лесным тропам и собирающая лесные цветы, непременно должна встретить их обоих.
Когда мы – девочки слабых мам и больных бабушек – натыкаемся на нашего внутреннего хищника, существует большая вероятность, что эта встреча окажется настолько мощной, что отзовется в нашей душе депрессией. Но плохо той, кто, отправляясь в свой внутренний лес, не готова предстать пред своим внутренним волком; без него не состоится конфликт, необходимый для перемен, а без перемен мы так и останемся в застое – состоянии, которое во многом противоположно жизни.
Красная Шапочка была не одна в своей депрессии, а вместе с бабушкой, ее шаманкой, и вышла оттуда, вооруженная бабушкиной мудростью и готовая к действию. Подобно Марии из книги профессора Мегеда, которая кружится в танце у костра, Красная Шапочка делает все необходимое, чтобы избавиться от хищного зверя и продолжить свой путь: будто следуя указаниям инструкции по искоренению волков, она «притащила поскорее больших камней и набили они ими брюхо волку»[66]. Наконец-то, повинуясь своей интуиции, она совершенно естественно спешит «притащить» камни; носится туда и обратно, тащит в своих по-детски маленьких нежных ручках тяжеленные булыжники. Красная Шапочка возводит каменную пирамидку; так что, если когда-нибудь ей придется вернуться, она будет знать, что в пропасти этой опрокинутой горной вершины она уже побывала и даже нашла путь наверх[67].
Чем тяжелее становится волк, тем легче становится она; булыжники, наполняющие волчье брюхо, больше не давят на ее плечи. Ну а волк? Он спит. Охотник сдирает с него шкуру, Красная Шапочка набивает в него камни, а он спит таким крепким сном, будто он сам своего рода Спящая Красавица, которой суждено проспать вечность или, по меньшей мере, столетие, будто он взял на себя ее смертельную депрессию. А затем он просыпается, пытается вскочить, и в первый момент кажется – и нам, и волку, – что «жизнь вернулась на круги своя», но камни перевешивают, он не выдерживает их тяжести, падает и умирает. Иногда, уже после того, как депрессия осталась позади и мы даже перешли к активной жизни, проходит немало времени, прежде чем становятся заметными результаты проведенной нами огромной созидательной работы и в результате нашей депрессии становится ясно, что она свою миссию закончила.
Каравай
И были все трое очень и очень довольны. Охотник снял с волка шкуру и отнес ее домой. Бабушка скушала пирог, выпила вина, что принесла ей Красная Шапочка, и начала поправляться да сил набираться, а Красная Шапочка подумала: «Уж с этих пор я никогда в жизни не буду сворачивать одна с большой дороги в лесу без материнского позволенья».
Волчью шкуру забирает себе охотник, являющийся, в свою очередь, одной из дополнительных сторон хищника, она ему, несомненно, понадобится в полнолунные ночи.…
А вот Красная Шапочка не берет себе ничего на память о кровожадном злодее. Ей не нужна его шкура в кровати или ожерелье из его клыков на шее: такого рода амулеты сохраняют энергию их изначальных владельцев, и для того чтобы освободиться от них раз и навсегда, желательно держаться от подобных вещей подальше.
В то время как Красная Шапочка делает выводы и набирается мудрости, бабушка пьет вино и съедает пирог, присланные ее дочкой, и выздоравливает. Ведь с самого начала этот полный приключений поход был затеян с одной целью – поправить здоровье бабушки. И ее дочь, мать Красной Шапочки, использует самое проверенное и надежное лекарство: еда и питье. Сила и радость. Пирог, который вернул к жизни бабушкину душу благодаря своей калорийности, вне всякого сомнения, доставил ей большое удовольствие – непременную составляющую радости и веселья. А вино, кроме своих лечебных свойств, как признавал сам царь Давид, «веселит сердце человека», раскрепощает тело и душу, заставляет их смеяться. «Счастье всегда следует за тем, кто весел» – говорил рабби Нахман из Брацлава тем, кто обращался к нему за рецептом, как вылечить душу. Остается добавить, что вино и пирог издревле символизировали основной матриархальный цикл: вино – конечный результат трансформации, в ходе которой виноград умирает, претерпевает качественные изменения (бродит) и рождается заново; пирог (в некоторых переводах – каравай хлеба), обычно круглой формы, как солнце, как яйцо, которое у многих народов является непременным атрибутом поминальной трапезы, символизирует круговорот жизни, беспрерывно чередующиеся смерть и возрождение. Возобновление этих элементов в исконном женском начале, воплощением которого и служит бабушка, способствовали ее исцелению, а заодно и завершению ученичества Красной Шапочки. Бабушка – «начало всех начал», как называет себя Афродита, богиня красоты и любви, плодородия, вечной весны и жизни – выздоравливает; и все, чего ей не хватало для полного исцеления, содержится в пироге и вине.
Кажется, целая вечность прошла с того самого беззаботного утра, когда эта юная душа отправилась в путь, чтобы вылечить бабушку, и вот, наконец, невзирая на трудности, наперекор депрессии, а возможно, и благодаря ей, необходимое лекарство доставлено, курс обучения завершен. Глубокое женское начало вновь обретает силу, и, как в цепной реакции, это незамедлительно влияет на дочь и на внучку. Новое восприятие и самовосприятие, которые возникают после разрушения, а затем восстановления первичного женского начала, приводят к проявлению внутренних оберегающих родителей: недостаточно хорошая мать, пославшая Красную Шапочку в путь-дорогу без необходимой подготовки и экипировки, рождается заново вместе с дочерью – она становится матерью, к советам и предостережениям которой стоит прислушаться, потому что она знает, зачем и почему она это говорит; и отец, который до сих пор отсутствовал, появляется из глубин депрессии в самый решающий момент в лице охотника и ухитряется войти в список родителей, особо отличившихся в роли защитников. Прощание с депрессией – целебной, но опасной – происходит постепенно: от убийства волка и отказа взять его шкуру до последнего этапа, когда еда придает силы и возвращает способность радоваться. И этот, последний шаг, к сожалению, – самый тяжелый.
Эпилог
В полной и мало знакомой современному читателю версии сказки приключения бабушки и Красной Шапочки продолжаются и после их освобождения. На этот раз Красная Шапочка теперь уже вместе с бабушкой противостоит еще одному волку: Красная Шапочка опять встречает его в лесу. Волк пытается заманить ее в чащу, но Красную Шапочку настораживают его злые глаза. Она спешит рассказать о своей встрече бабушке. Добравшись до домика, волк повторяет свой излюбленный трюк: «Бабушка, это я, Красная Шапочка…», но в домике – тишина.
Бабушка и внучка внутри, и волку до них не добраться – ворота и двери на запоре: бабушка не подведет, потому что она уже не больна; Красная Шапочка не подведет, потому что ее инстинкт самосохранения больше не находится в подавленном состоянии. Они обе стоят на посту, молча, не тратя время и силы на разговоры.
Тогда обошел серый, крадучись, вокруг дома несколько раз, прыгнул потом на крышу и стал дожидаться, пока Красная Шапочка станет вечером возвращаться домой: он хотел пробраться за ней следом и съесть ее в темноте. Но бабушка догадалась, что задумал волк. А стояло у них перед домом большое каменное корыто; вот бабушка и говорит внучке: – Красная Шапочка, возьми ведро – я вчера варила в нем колбасу – и вылей воду в корыто.
Красная Шапочка стала носить воду, пока большое-пребольшое корыто наполнилось все доверху. И почуял волк запах колбасы, повел носом, глянул вниз и, наконец, так вытянул шею, что не мог удержаться и покатился с крыши и свалился вниз, да прямо в большое корыто, в нем и утонул.
Эта добавка кажется, на первый взгляд, пресловутым лишним хвостом на теле добротно сложенной истории, у которой есть начало, середина и конец; но мы, чья жизнь протекает не в сказке, знаем, что в действительности так не бывает и что теоретические выкладки и практические выводы, которые вечером выглядели правильными, нарядными и гладко причесанными, утром воспринимаются совершенно иначе: с помятыми от подушки щеками и растрепанными волосами. Красная Шапочка, нырнувшая в глубины депрессии, выносила в себе новую жизненную силу, исцелила бабушку, закалила свою внутреннюю мать и теперь, казалось бы, находится в эпилоге; но на самом деле она проживает свою жизнь, и в этой жизни – особенно, если иногда необходимо пройти через лес, – неизбежны встречи с волками. Красная Шапочка находится сейчас в том состоянии, когда любой сероголовый, встреченный в чаще леса, – кровожадный хищник, свирепо разевающий свою зубастую пасть навстречу очередной жертве; любая тень на крыше – притаившийся злоумышленник, ждущий удобного момента для внезапного нападения; в состоянии, когда любое переживание, тревога или напряжение угрожают перейти в беспощадную депрессию. Бруно Беттельгейм говорит о Красной Шапочке и ей подобных: «Те, кто родился дважды. Те, кто не только преодолел глубочайший кризис, но и полностью осознал сам факт его существования». Так и я, в то время как какая-то моя часть погребена под каменной пирамидой, которую я сложила внутри себя в память о моей депрессии, а другая родилась заново из чрева моей депрессии, могу засвидетельствовать, что долгое время – очень долгое время – меня преследовал страх, что депрессия может вернуться; и этот страх действовал с такой же подавляющей и разрушающей силой, как и сама депрессия.
«Ужас, ужас всепоглощающий и уничтожающий… Я – в ужасе. Перед чем? Главным образом, перед жизнью без жизни», – так пишет Сильвия Плат в своем дневнике через много лет после перенесенной ею глубокой суицидной депрессии. «Тревожное состояние – это страх перед страхом», – говорила мне моя наставница-шаманка, и я вспомнила один рассказ, который прочла много лет назад. Герой этого рассказа – сбежавший из тюрьмы гангстер, – захватив заложника, оказывается в шумном и людном торговом центре. Арестант, отсидевший несколько лет в одиночной камере, пугается оживленной толпы, и сочувствующий ему заложник (стокгольмский синдром) пытается его подбодрить. «Не бойся!» – истерично повторяет он. И слышит в ответ: «Зря ты так волнуешься! Ну, так я буду бояться!». Итак: можно бояться, страх – чувство естественное и необходимое; нельзя бояться страха! Те, кто это понимает, боятся намного меньше.
Возможно, депрессия уже никогда к нам не вернется; возможно, мы использовали этот опасный и сложный, многослойный и многогранный механизм до конца, но в любом случае жить в беспрерывном страхе, «в оглядку» – значит жить наполовину. Вторая встреча с волком уже не застает Красную Шапочку врасплох. Ее сразу же настораживает его злой угрожающий взгляд, и поэтому она обращается за помощью к своей внутренней бабушке, которая на этот раз абсолютно здорова и в состоянии мобилизовать силы, хотя и дарованные ей природой, но недоступные в предыдущий раз: она использует свой чудодейственный отвар, чтобы утопить в нем кровожадного злодея. И какую же жертву приносят бабушка и Красная Шапочка, чтобы избежать острых волчьих клыков? Остатки воды, пахнущие вчерашней колбасой, то есть ничто – воду и воздух. Воздух, сквозь который он падает, и воду, в которой он тонет. И это еще один немаловажный урок: мы не обязаны выкупать наше счастье и независимость у депрессии, мы только должны убедиться, что мы действительно в ней больше не нуждаемся.
Вы не найдете этого серого коварного хищника в бабушкиной волчьей стае, он даже не кровожадный волк депрессии, потому что Красная Шапочка включила этот амбивалентный механизм (или ее туда затянуло) при совершенно других обстоятельствах: бабушка была больна, внутренняя мать не стояла на страже, внутренний отец отсутствовал; а земля внутреннего леса содрогалась от мощных физических и душевных перемен, характерных для периода взросления.
Этот хитрый хищник, замаскировавшийся под депрессию, – всего лишь страх перед депрессией, который на самом деле совсем не такой страшный, как кажется. Посмотрите ему прямо в глаза и бегите к бабушке за помощью, чтобы избавиться от него любыми доступными вам путями.
Из повествования видно, как важно, чтобы, избавляясь от коварного внутреннего хищника, свести контакт с ним до минимума. Красная Шапочка и бабушка не отвечают волку, не пререкаются с ним, не касаются его. Они не тратят силы на гнев или обиду за вчерашнюю боль, так как гнев, как нам известно, зачастую приводит к сильной и назойливой привязанности, которая толстыми цепями приковывает нас к субъекту, против которого этот гнев направлен. Они даже не насмехаются над ним; они концентрируются только на одном: на избавлении от разрушающего элемента, роль которого на этом этапе повествования полностью закончена.
Есть что-то женское в том, каким образом Красная Шапочка сражается со своими волками. Мы не наблюдаем тех примеров фронтального столкновения, которые ожидали бы увидеть в случае неожиданной встречи с хищником. В распоротое брюхо первого волка она набивает камни и делает это, когда он спит, подобно Психее, стригущей бешеных овец. Второго волка она заманивает в корыто с водой, когда он находится на крыше, все еще дожидаясь ее появления.
«Победу на войне отмечайте траурным обрядом», – написано в «Книге Дао»[68].
«Где стояло войско, там вырастут бурьян и колючки»[69].
Когда бы я ни открывала Книгу, эти строчки первыми выпрыгивали мне навстречу и неизменно вызывали у меня легкое раздражение. В то время я была очень горда своими победами, считала, что заслужила их сполна. Сегодня я считаю, что действительно заслужила их сполна, но заплатила за них слишком высокую цену.
Когда кто-то хочет завладеть миром и переделать его, Я вижу, что не добьется своей цели. Мир – божественный предмет, переделать его нельзя, Кто будет его переделывать, погубит его. Кто будет держаться за него, потеряет его. (Лао Цзы[70])Красная Шапочка и бабушка прекрасно ориентировались в лесу; там им была знакома каждая тропинка. В лесу водятся волки, но это только часть действительности. Там же бродят охотники, растут цветы и деревья; там стоит дом. Красная Шапочка совершила свое путешествие, не пропустив ни одного из этих элементов: она шла по дороге, сошла с нее, собирала (срывала) цветы, стала жертвой хищника; обнаружила в себе силы охотника, а также целебные силы, излечившие внутреннюю бабушку; и даже создала внутри себя сильную внутреннюю мать. Эти силы зародились и укрепились в душе, опустившейся на самое темное и страшное, а может, и самое отвратительное дно (беспросветный лабиринт зловонных волчьих внутренностей) и вышедшей оттуда с полным набором знаний и средств, с помощью которых она сможет противостоять темным кровожадным силам, бурлящим в каждом из нас.
А теперь вопрос: обязательно ли, чтобы стать полноценным человеком, познать хищнические элементы души, смириться с частью из них и избавиться от тех, что угрожают нашей жизни, обязательно ли для этого дойти до крайности и оказаться в тошнотворном брюхе депрессии? Нет, не обязательно.
Но я могу с уверенностью сказать, что глубоко внутри нас, там, где живут сказки, где дремлют архетипы, где свились в один клубок змеи жизни и смерти, именно там звучит знакомый старинный напев:
Бабушка кисель варила На горушечке В черепушечке…И кто этого киселя отведает, камнем скатится в бездну страшную и встретит там чудовище самое что ни на есть чудовищное: саму себя.
Часть третья. Спящие красавицы
Талия
Долгое время лежала Спящая красавица среди страниц моего компьютера и дремала. В то время как Красная шапочка обрастала плотью в зловонном волчьем брюхе, а Белоснежка просыпалась навстречу своему анимусу, за все это время непонятно, почему я ни разу не подошла к девушке, притаившейся в глухом углу, к которому я не могла или не хотела приблизиться.
Сколько раз я повторяла в уме ее историю, удивляясь, как это так, что именно эта самая очевидная из всех сказок возвращения из небытия, не заговаривает со мной на языке ее сестер – тех, что были затянуты водоворотом смерти и выплыли на поверхность. Ведь в данном случае все, казалось бы, абсолютно ясно. Или слишком ясно?
Только когда я случайно наткнулась на текст под названием «Солнце, Луна и Талия», оказавшийся ранней версией известной нам сказки, что-то во мне пришло в движение, словно очнулось ото сна вместе с девушкой, истинная правдивая история которой спала вместе с ней. «Солнце, Луна и Талия» – предшественница «Спящей красавицы», изложенная итальянцем Джамбаттиста Базиле[71], изобилует будоражащими душу деталями, часть которых, несомненно, эротична. Эти детали исчезли с легкой руки популярных рассказчиков вроде Шарля Перро, придворного французского писателя конца XVII века, подвергшего цензуре насилие и адюльтер, и «великих моралистов» братьев Гримм, которые совершенно естественно рассказывали о мачехах, готовых, не моргнув, убить, а порой и съесть невинных детей, но избегали, как огня, любого проявления сексуальности.
Оказывается, что знакомая всем нам «Спящая красавица» и из мастерской Шарля Перро, и вышедшая из-под пера братьев Гримм есть не что иное, как обрубок красавицы: отрубленные голова, грудь и руки – это все, что мы получаем, в то время как все составные части, содержащие в себе страсть, все глубокие басы давным-давно удалены из сказочного сюжета. Они блистают у Базиле; и вот они перед вами:
«Солнце, Луна и Талия»[72]
Жил однажды благородный господин, который по рождению дочери созвал всех мудрецов и прорицателей королевства, чтобы те предсказали ей судьбу. Они предсказали ей страшную смерть: Талия[73] – так назвали принцессу – умрет ото льна или льняного волокна, поэтому отец строго запретил приносить в его дворец лен и пеньку и удалил из дворца все веретена. Когда Талия выросла и стояла как-то у окна, она увидела старую женщину, которая занималась прядением. Она приказала позвать старушку к себе наверх, протянула руку к веретену, уколола палец и тут же упала замертво. Безутешный отец запер бесчувственную дочь в замке, а сам покинул это место, чтобы никогда туда не возвращаться. Но вот однажды случилось, что чужеземный король охотился в тех местах, и сокол его, которого он нес на своей руке, влетел в окно замка. Король последовал за ним и, не встретив на своем пути ни одной живой души, наконец оказался в отдаленной комнате, где находилась зачарованная принцесса. Он позвал ее, так как думал, что девушка спит, но она не отвечала ни на зов его, ни на встряску. А король, все больше и больше разгораясь от ее красоты, на руках отнес ее на ложе и там «собрал цветы любви». После чего оставил ее лежать на кровати, а сам вернулся в свое королевство, и больше о случившемся не вспоминал.
Через девять месяцев, так и не просыпаясь, родила принцесса двойню – мальчика и девочку, Солнце и Луну[74]. Они лежали рядом с ней и сосали ее грудь. Неизвестно, сколько бы это продолжалось, если бы однажды мальчик не потерял материнский сосок и не принялся бы сосать ее палец – тот самый, уколотый веретеном. Так, совершенно случайно, он высосал занозу, и Талия очнулась, как после долгого сна. Наконец-то и король, вспомнив о красавице-принцессе, под предлогом охоты снова оказался возле заброшенного замка. Неожиданно он нашел ее проснувшейся с двумя прелестными ангелами на руках и несказанно обрадовался.
На этом можно было бы и объявить о счастливом завершении событий, но эта повесть отличается особо длинным хвостом:
А его жена, то есть королева, которой он как-то не нашел времени рассказать о новорожденных, что-то заподозрила. Допросив возможных свидетелей, она узнала об измене мужа и решила уничтожить незаконное семейство. Согласно ее коварному замыслу, Солнце и Луна оказались в королевском дворце, и женщина с сердцем Медеи приказала повару убить их и приготовить из детей всевозможные супы и рагу, а затем подать их к столу бедного короля. Но у повара было доброе сердце, он передал двух ангелочков своей жене, а сам же взял двух козлят и приготовил их на разный манер, и королева приняла их с огромной радостью. Когда же вернулся король и стал вкушать яства с большим удовольствием, каждый раз приговаривая: «Ах, как вкусно, душой клянусь!», – королева каждый раз отвечала: «Ешь, и то, что ты ешь, твое!». Король поначалу оставлял ее слова без внимания, но в конце концов не сдержался, в гневе вышел из-за стола и удалился в другой загородный дом, что находился неподалеку, чтобы успокоиться. Но злобной королеве этого было мало. Ослепленная жаждой мести, она велела привести к ней принцессу. «Ты мерзкая тварь, – не скрывая ярости, кричала она, – и я убью тебя!» Принцесса рыдала, что она не виновата, – ведь король «сломал ее форт», пока она спала. Но королева была непреклонна и велела слугам разжечь костер и бросить туда ненавистную блудницу.
Отчаявшаяся принцесса, стеная, попросила исполнить ее последнее желание – раздеться перед смертью. Ее одежды были расшиты золотом и украшены драгоценными камнями, поэтому жадная королева, подумав, согласилась.
Талия раздевалась очень медленно. Снимая каждый предмет своего туалета, она испускала громкий и жалобный крик. И король услышал ее. Он ворвался в подземелье, сбил королеву с ног и потребовал вернуть близнецов. «Но ты же их сам съел», – зло расхохоталась королева. Король зарыдал. Он приказал сжечь королеву в уже разведенном костре. Тут как раз пришел повар и признался, что не подчинился злой королеве. Радости родителей не было предела. Расцеловав повара и друг друга, стали они жить поживать да добра наживать.
На мой взгляд, «Солнце, Луна и Талия» – это одно из самых красивых деревьев, выросших из семян старинных сказаний, развеянных по миру многочисленными рассказчиками. Многое в этой истории, особенно то, каким образом в глубинах депрессии (и внутри нас) зарождаются новые силы, желания и способности, делает Талию яркой представительницей сказок об обратимой смерти, я бы даже сказала, их прототипом. Но есть одна деталь, которая выделяет героиню данного сюжета на фоне всех ее сестер и кажется мне очень важной, а главное, близкой; деталь эта – ее материнское чрево, исключенное из всех известных нам версий, чрево сказки и ее героини: Талия забеременела и родила во сне близнецов Луну и Солнце и очнулась ото сна в процессе их кормления.
Но и у этой сказки, несомненно, есть предшественники: в ней явно угадываются следы «Истории Троила и Зелландин»[75] – эпизода во французском рыцарском романе «Персефорест», тысячи страниц которого (он насчитывает 531 главу) были написаны в первой половине XIV века.
Итак, богини Венера, Люцина (древнеримская богиня родов и материнства) и Темис (Фемида – древнегреческая богиня правосудия) приглашены на бал в честь рождения принцессы Зелландин. Темис обижается из-за проявленной к ней неучтивости и проклинает новорожденную. Проклятие действует: льняное семя застревает под ногтем принцессы, и та засыпает мертвым сном. Проходят годы, и в башне, где покоится спящая принцесса, появляется молодой принц по имени Троилус. Он пытается разбудить ее, но безуспешно. Принц насилует спящую девушку, и она, так и не проснувшись, рожает сына, который однажды как бы случайно – а на самом деле по воле Венеры – сосет материнский палец. Льняное семя выпадает из-под ногтя, и принцесса просыпается.
Мое, можно сказать, интуитивное ощущение, что в материнском чреве Талии зародилось что-то чрезвычайно важное, исключенное из последующих более поздних версий, переросло в уверенность, когда я наткнулась на еще одну, тоже очень чувственную и многогранную вариацию на тему «Спящей красавицы» – рассказ девятого офицера полиции (в английском переводе – девятого констебля) из «Сказок тысячи и одной ночи». В этой версии (мы к ней еще вернемся) Шехерезада искусно прядет рассказ о девочке по имени Ситтукан, которая умерла, коснувшись ниточки льна, очнулась от поцелуев возлюбленного, провела с ним сорок девять бурных ночей в башне своего заточения, после чего была им оставлена, затем похоронила его и вернула к жизни своим поцелуем. Спящие красавицы говорят с нами не только о силах, порождаемых депрессией, но и о смерти, созидании и об амбивалентности наших отношений с этими исконно женскими силами.
Чисто женское созидание, когда женщина является творцом жизни, представляет собой такую же дуальную целительную силу, как и сама депрессия, но превосходит ее в мощности и напряженности. Эта сила способна предотвратить депрессию, даже когда мы оказываемся на самом дне; с другой стороны, она же действует на затаившихся в нас спящих красавиц и сталкивает их в бездну депрессии.
Спящая красавица говорит с нами о непреодолимой тяге, которую мы испытываем к инстинктивной целительной силе созидания, о том, какого труда нам стоит противостоять этим силам, об их непременном спутнике – обязательном взрослении и о нашем страхе перед этим необходимым процессом.
Чуть-чуть отвлечемся от Спящей красавицы и обратимся к Инанне: к связи между рождением (сотворением жизни) и смертью, к напряженной близости, существующей между ними. Эрешкигаль, владычица подземного царства, мучается в родах на «полу» преисподней, в то время как безжизненное тело Инанны подвешено к «потолку» подземелья. И даже в нашей повседневной жизни, когда новое рождается в наших руках, а не в родовых муках, мы опять затеваем двойной роман с жизнью и смертью: создаем керамический сосуд для хранения пищи или пепла умершего, производим белую ткань для свадебного обряда или обряда погребения. Замешанное нами тесто всходит на дрожжах нашего женского начала; засеянная нами земля приносит плоды; мы прядем судьбу; даем жизнь самим себе, взрослеем, умираем от страха; подобно бабочке, рождаемся заново из сотканного своими же руками савана; воскрешаем из амфоры, в которой хранился наш пепел. Мы создаем себя заново, возрождаясь из боли, наслаждения, утрат, открытий – из познания и признания себя и своей жизни.
Женственность, скрученная в нить
Нельзя не обратить внимания на то, что смерть всех Спящих красавиц удивительным образом связана со льном или веретеном. Особенно интересен в этом плане «Рассказ девятого констебля» из «Тысячи и одной ночи», в котором бездетная женщина мечтает о дочери, даже если она окажется «такой хрупкой, что умрет от запаха льна». Сама Шехерезада поясняет, что только очень слабое существо может пострадать от запаха льна, известного своими целебными свойствами, и тем самым еще раз подчеркивает особую ранимость героини ее сюжета. И все же, я думаю, что лен переселился в эту историю из времен гораздо более отдаленных, как и сам прядильный процесс вместе с бессилием этой девушки (подобно всем Спящим красавицам во всех версиях) по отношению ко льну, исконно женскому элементу, символу зарождения, сотворения и воссоздания. Вот и в сказке, рассказанной Шехерезадой, убивающе-оживляющая сила женского созидания находит свое выражение в прядильном процессе: героиня этой истории тоже прядет жизнь.
Только какой будет эта жизнь?
Сознание, что мы в состоянии собственными руками спрясть свою жизнь, может придать нам жизненных сил, а может, наоборот, напугать до смерти. И если наша душа относится к роду спящих красавиц, глубокий внутренний страх предупреждает нас не прикасаться к веретену, в то время как мы стремимся к нему всем сердцем.
В результате рискованная встреча с прялкой, навязанная во всех без исключения случаях самой яркой архетипичной старухой, ввергает эти юные прекрасные души в глубочайшую депрессию. И тогда в процессе депрессии в них просыпается достаточно жизненных и созидательных сил, чтобы сотворить себя заново, но путем несравнимо более тяжелым и жестоким, чем тот, который можно было проделать с прялкой в руках, если бы только этот путь был им доступен.
Во всех версиях сказки, как только родители девочки выслушивают безжалостное предсказание, они немедленно удаляют из замка, а иногда и из всего королевства все, что имеет отношение ко льну: иглы, прялки, веретена, нити – такова обреченная на неудачу попытка обхитрить судьбу или предотвратить будущее. В определенном смысле все эти иглы, прялки, веретена и спицы символизируют муки юности и взросления, которые пытаются предотвратить слишком хорошие родители нашей юной принцессы. И как это ни парадоксально, избавляя ее от страданий, связанных с взрослением, они лишают ее и самого взросления.
Но истинная угроза не таится в игле, и даже укол иглой не является опасным: только прядильный процесс в сочетании со льном может привести к ожидаемому пагубному результату; и точное соблюдение этого сочетания наблюдается во всех сюжетах, какими бы стерилизованными они ни были. Прясть другие нити, к примеру, из хлопка или овечьей шерсти недопустимо. Обычное, не связанное с прядением касание льна или случайный укол иглой тоже не выполняют своей работы. А «работа» в данном случае – это тяжелое противостояние процессу взросления, конечным результатом которого должно стать превращение в женщину, способную дарить жизнь.
И мужчины, и женщины в равной степени не раз испытали на себе как жизнетворное, так и смертоносное влияние творчества в искусстве; и все же существует определенный тип созидательного труда, который в древние времена был доступен исключительно женщинам. В своей книге «Великая Мать» Эрих Нойманн[76] пишет, что прядильное и гончарное ремесло были категорически запрещены (на уровне табу) для мужчин, так как считались исконно женским священнодействием.
Адриенна Рич, для которой (как и для многих из нас) природное женское начало являлось источником силы и вдохновения, писала: «Процесс превращения сырьевых волокон в нить неизменно подразумевал способность управлять вопросами жизни и смерти. Паук, плетущий паутину из своих выделений; Ариадна, протягивающая своему возлюбленному клубок ниток, чтобы вывести его из лабиринта; три сестры, управляющие судьбой, в греческой мифологии или норны из скандинавских мифов; старухи, прядущие нить жизни или разрезающие ее…»[77]
Лен как сырье, издревле используемое женщинами, встречается во всех знакомых нам версиях «Спящей красавицы», но есть и Психея – спящая красавица несколько иного плана – имеющая дело с золотым руном (шерстью бешеных овец), которое всегда считалось уделом мужчин. Несмотря на явную разницу между архетипическими героинями сказок возвращения из небытия и Психеей, я все же отношу ее к спящим красавицам, так как некоторые очень важные детали ее истории вполне соответствуют требованиям этого сюжетного мотива. Многое в ее образе перекликается с уже знакомыми нам сюжетами и помогает понять лицемерно скрываемые внутренние процессы классических красавиц: пусть история Психеи не начинается с ее рождения и она не единственная долгожданная дочь у родителей (у нее есть две старшие сестры), но, согласитесь, нет существенной разницы в том, расти ли под сенью благословения фей, как Спящая красавица, или быть приравненной к эталону совершенства – быть красивее самой Афродиты! Бремя – одно и то же, и я еще остановлюсь на этом подробнее. И Психея, и Спящие красавицы были наказаны (Спящих красавиц наказывает злая фея, а Психею – оракул); дорога познания Психеи проходит через испытания шерстью – правда, иначе, чем у красавиц; ну и в завершении Психея тоже (пусть, только на мгновение) засыпает мертвым сном и просыпается, разбуженная принцем – богом любви Амуром.
И все же основное различие между Психеей и Спящими красавицами кроется в том, что большая часть ее ученичества протекает в соответствии и противостоянии мужским канонам, в то время как непосредственный процесс просвещения Спящей красавицы (подобно большинству героинь сказок возвращения из небытия) контролируется женскими нормами и происходит на исконно женской территории.
Одно из заданий, которое должна была выполнить Психея, чтобы добраться до долгожданного счастливого конца, было связано с шерстью: по приказу Афродиты она отправляется за драгоценной золотой шерстью, которой покрыты откормленные овцы. Все бы ничего, но, как предупреждает Психею прибрежный тростник, «когда палит их солнечный зной, на них обычно нападает дикое бешенство, и они причиняют гибель смертным, то острыми рогами, то лбами каменными, а подчас ядовитыми укусами». Эрих Нойманн, чьи юнгианские комментарии к «Золотому ослу» Апулея причислены к классике[78], видит в этом отрывке гимн мужской силе златокудрых солярных богов: «Яростные солярные овны символизируют преисполненное архетипической энергией духовное мужское начало, противостоять которому фемининность не в силах». Нойманн видит в солнце мужскую основу, чьи золотые кудри стремится остричь матриархия, тем самым лишая его силы, подобно Далиле, обрезавшей кудри Самсона, которого он (как и многие авторы) тоже считал солярным героем наравне с другими героями народных эпосов, например, с Геркулесом.
Женщина, пытающаяся уцелеть в мире «всепоглощающего мужского (маскулинного) принципа», по словам Нойманна, обязана полностью ему подчиниться: «Только абсолютная искренность и благоговение перед данной энергией могут позволить фемининности выжить – но в этом случае она станет пленницей маскулинности, обретя всю благодать такого положения и подвергаясь всем его опасностям». Казалось бы, Психея обречена на смерть, но тут ей на помощь приходит речной тростник, вернее, речная тростинка с ее женской растительной силой-мудростью. Эту речную тростинку Нойманн называет «волос земли», а «нижние воды», которыми она питается, считает элементом, противоположным пламени солярных богов; и именно из этих глубинных вод черпает «тростинка зеленая» свое умение быть упругой и гибкой. «Не спеши, наберись терпения, – нашептывает Психее мудрый тростник. – Все течет, все меняется, и всему свое время». На исходе дня успокаиваются солярные боги – спят, словно невинные ягнята, убаюканные мягким теплом матери-земли… Вот и настал час великой женской силы: теперь-то она получит «то, что ей нужно». Психея может беспрепятственно собрать клочки золотого руна, запутавшегося в кустарнике, – «плодотворное световое семя», как называет драгоценную шерсть Нойманн. И этой «смертоносной силе мужского солярного духа» противостоит Психея, достойная воспитанница Великой Матери – «как великая Ткачиха, плетущая из нитевидных токов солнечного семени единую ткань природы».
В то время как наши спящие красавицы приступают к процессу изготовления пряжи, беря за основу лен – растительно-женский компонент, противоположный животно-мужскому началу или дополняющий его, Психея вынуждена противостоять Амуру – ее мужскому компоненту, поэтому ее неизбежная встреча с шерстью (так как этот курс относится к разряду обязательных в ее учебной программе) происходит на мужской территории.
Вопрос о том, прядем ли мы нить нашей жизни из шерсти бешеных баранов или изо льна, не имеет значения на протяжении самого процесса, но с наступлением периода созерцания (или во время наблюдения) этот вопрос может обеспечить нас ключами ко многим замко́м.
Что касается олицетворяемого Психеей конфликта между мужским и женским началом, можно только коротко заметить, что под влиянием этой загадочной отталкивающе-притягательной комбинации никому из нас не удалось избежать встречи с нашими двуликими силами: мужчины, уходящие в море, говорят о нем как о коварной женщине-соблазнительнице, известной своим непостоянством, которая и дает жизнь, и забирает ее; для женщин, стоящих на берегу, море – это мужская сила со спокойным лицом, под маской которого скрываются бездонные глубины невосполнимых утрат. Наша вера в то, что эта многогранность, это наше двуликое море, прячет в своих глубинах изумрудные россыпи и неизведанные останки затонувших кораблей, толкает нас снова и снова бросаться в его пучину. На самом деле это страстное желание при всей его загадочности есть не что иное, как эволюционная потребность души: ведь то, что нам действительно необходимо, – это не изумруды, а само дальнее плавание, покорение глубин, единоборство с волнами; нам необходимо искать, подвергаться опасности, терять и в конце концов найти что-то очень ценное (даже бесценное), но совершенно не то, за чем мы пустились в эти изнурительные поиски.
Принимаясь за работу с женскими установками, наши героини автоматически становятся участницами «пакетного соглашения», предписывающего как материал (лен), так и способ его обработки. Женским элементом является не только сам лен, но и путь его превращения в нить – однообразное вращение прядильного колеса напоминает цикличную смену жизни и смерти в бесконечном матриархальном круговороте.
Спиралью скрученная нить в нашей сказке или круговые движения при помешивании варева в других, несомненно, имеют отношение к спиралевидному символу возрождения, дошедшему до нас из глубокой древности[79]. Так что на первый взгляд непредвиденная встреча Спящих красавиц со спиралью в виде крутой винтовой лестницы (ведущей на чердак) и вращающегося вокруг своей оси колеса прялки за несколько минут до их обратимой смерти, оказывается вовсе не случайной.
Так же, не спеша, большими кругами в такт движениям колдуньи, помешивающей свое варево, вращается вокруг своей оси и повествование о котле Керидвен, современнице древних кельтов: душа сменяет душу, исчезая и возникая в новом образе; кружатся в бесконечном хороводе жизнь, смерть и возрождение.
Расстроенная невероятным уродством своего сына, Керидвен решила сделать его мудрым и всесильным обладателем пророческого дара. Один год и один день варила она в котле знания свой напиток, присматривать за которым был поставлен другой ее сын, Гвион Бах. Но судьба распорядилась по-своему: однажды три капли зелья упали на палец Гвиона Баха, и он, как это часто бывает, слизнул их, получив таким образом знания и силы, которые предназначались не ему. Как Гвион Бах и предполагал, Керидвен рассвирепела и начала его преследовать. Спасаясь от погони, Гвион превратился в зайца, но Керидвен стала охотничьей собакой; он принял облик рыбы и прыгнул в реку, она бросилась за ним, превратившись в выдру; он взвился ввысь птицей, но чуть не стал добычей Керидвен-ястреба. Упав на землю, Гвион Бах превратился в пшеничное зернышко; черная толстая курица проглотила его и вернулась к своему первоначальному облику. Из зернышка в чреве Керидвен развился младенец необыкновенной красоты. Керидвен не смогла убить новорожденного сына, хотя и знала, что это ненавистный Гвион, положила его в кожаный мешок и бросила в океан. Рыбачивший на плотине сын местного властителя Элфин спас мальчика и, пораженный его красотой, воскликнул: «Taliesin!» – прекрасное чело. Позже Талиесин стал великим бардом и пророком при дворе своего спасителя[80].
Во многих сказках процесс прядения окружен ореолом волшебства, колдовства и тайны. Примером явного колдовства может служить сказка о Мельниковой дочке, якобы прядущей золотые нити из обычной соломы, хотя на самом деле эту работу выполняет за нее гном. Да и сами архетипические старухи, подобные той, что поджидает нашу Спящую красавицу на чердаке высокой башни, будь то шумерская Намтарта, Моргана ле Фай у древних кельтов или любая другая фея судьбы, прядущая свою льняную нить, – все они колдуют своими узловатыми жилистыми руками над диким, первозданным, необузданным сырьем, превращая его в мягкую, послушную пряжу. Из этих длинных, свитых в огромные клубки, нитей судьбы они ткут нескончаемые полотна жизни и смерти. Вращая гончарный круг или прядильное колесо, великие женщины легенд и сказок следуют накопленным человечеством знаниям о законах бытия. И не только это. Не только следуют и подтверждают, но создают и утверждают эти законы заново.
«Каждую ночь мне снится крошечная старушка – Баба Яга, похожая то на обыкновенную бабушку, то на колдунью; крошечная, худенькая, в черном платке на голове. Будто бы сидит она, высохшая и сгорбленная, в глубине нашего двора на крошечной скамеечке, – пишет Эва Хоффман[81] в своей книге „Искусство потерь“. – Она очень-очень старая и очень-очень маленькая… И смотрит на меня узкими, как щели, злыми глазами. А может, умными глазами? И кто знает, быть может, я – это она. Возможно, я нахожусь здесь, на этом свете, уже давным-давно, и поэтому мне понятен язык ее глаз. А вдруг эта детская маска – всего-навсего окно? И вообще это я – сон какой-то Бабы Яги, которая была здесь всегда, веки вечные, и это я выглядываю из ее древнего тела, смотрю и понимаю, что все неизменно и предопределено испокон веков»[82].
Когда я читала эти строчки, во мне беспокойно шевелилась, ныла, как тупая боль, одна догадка: значит, это и есть то, от чего мы убегаем, уже многие поколения, прямо под безжалостные копыта, навстречу смертоносному стаду, требующему полного безоговорочного подчинения; и это и есть то, к чему так страстно стремится Спящая красавица, то, в чем она так остро нуждается, что-то, обладающее особыми целебными силами. Это то, что слишком долго скрывалось, было ей недоступно; и это то, что открылось перед ней внезапно, без предупреждения и ввергло ее, лишенную какой-либо защиты, в беспробудный сон депрессии. И как же мне назвать это что-то? Можно ли ограничиться тем, что ты являешься сном Бабы Яги, которая есть не кто иной, как ты сама? По-моему, нет.
Попробую еще раз: я опасаюсь, что то, от чего мы убегаем, есть заложенное в нас издревле сознание того, что мы являемся рабочим материалом в руках умерщвляюще-оживляющей силы матриархального колеса и что мы – да, мы, такие крошечные, – вращаем это колесо собственными руками. В определенном смысле, возможно, несколько эзотерическом, «Спящая красавица» может служить списком ингредиентов в матриархальной аптечной книге: лен, женский созидательный труд, депрессия. Это все, что мы можем предложить. В легких случаях достаточно льна; если это не помогло, мы горячо рекомендуем заняться важным женским ремеслом: спряди нить судьбы и свяжи мягкую теплую шаль; прочувствуй землю под ногами, напои ее слезами, слепи из нее горшок, вылепи себя. И это не получается? Возможно, тебе придется впасть в депрессию – горькое и эффективное лекарство, которое выгонит из тебя все горшки, которые ты не соглашалась лепить. Вот они перед тобой сверкают на солнце. И что ты теперь будешь с ними делать?
Проклятие
Уже первая фраза повествования предупреждает нас и наших героев: малышка Талия в опасности – в смертельной опасности! Во всех версиях сказок, обратимой смерти красавицы, кем бы она ни была, всегда предшествует предсказание, предвидение, обещание или проклятие. В знакомых нам вариантах, авторами которых являются Шарль Перро и братья Гримм, бедная принцесса становится жертвой проклятья из-за «ошибки» ее родителей (внутренних, как мы помним), хотя в действительности речь идет о гибрисе – понятии, взятом из греческой трагедии, за которым обязательно следует неминуемое возмездие.
У Спящей красавицы гибрис проявляется во внутреннем родительском желании управлять ее душой, а точнее, душевными качествами, ведь на балу в честь новорожденной должны определить ее характер, одарить ее теми или иными качествами. Давайте сделаем ее совершенной, решают родители.
Вот и родители Психеи хотят видеть свою дочь совершенной; хотят так сильно, что в конце концов действительно видят в ней верх совершенства.
Но снежный ком совершенства толкают не только внутренние родители: и детская составляющая – развившаяся в соответствии с ожиданиями «настоящих» родителей – тоже старается изо всех сил внести свою лепту. Тема реальных родителей поднималась в этой книге уже не раз, и все-таки, на мой взгляд, граница между настоящими и внутренними родителями остается очень тонкой и хрупкой.
Мне абсолютно ясно, что наши «настоящие» родители – те, что вытирали нам нос и за руку вели нас в садик, – влияют на наших «внутренних» родителей, но каждый раз я поражаюсь тому, как перемены, происходящие в моих внутренних родителях, отражаются и в этих, остающихся снаружи.
Итак, родители, кем бы они ни были, пытаются всеми доступными им путями удалить из королевства любые шипы, иглы, спицы или иголочки, которые могут оказаться на усыпанном розами пути их ненаглядной малышки. И когда, как им кажется, уничтожены все шипы, засыпают властные родители вместе с дочкой (такой вариант встречается во многих сказках) долгим глубоким сном, может, просто потому, что они не в состоянии отпустить свое чадо из-под родительского крыла.
Когда родительские душевные силы, которые должны защищать, вместо этого начинают властвовать, они слабеют, и это наряду с некоторыми другими факторами быстро приводит к полному бессилию перед набирающим обороты безжалостным механизмом депрессии.
Заглянем ненадолго к Перро и братьям Гримм: король и королева устраивают пир в честь долгожданного рождения принцессы; приглашены все феи королевства, и каждая из них наделяет малышку чудесными дарами – достоинствами или добродетелями. Одна обещала, что она будет петь, как соловей, вторая, что принцесса будет превосходно танцевать, третья, что она будет прекрасней и умнее всех на свете, четвертая одарила ее богатством, пятая – здоровьем, шестая – сердечной добротой и так далее, каждый подарок красивее и дороже предыдущего… И вдруг в разгаре бала появляется еще одна – старая фея, про которую все забыли, потому, что «больше пятидесяти лет она не выходила из своей башни, и все думали, что она давно умерла». Склонившись над кроваткой и «тряся головой больше от досады, чем от старости», старуха произносит страшное предсказание: принцесса умрет от укола веретеном.
Во всех без исключения вариантах злой фее нанесена обида (мелочная, стоит отметить), и она спешит отомстить (не мелочась) своим обидчикам. В одном случае про нее просто забыли («на что нам эти брюзгливые старухи, подагра, хвори, бесконечные жалобы, – нашептываем мы нашей наивной душе, – давай не будем приглашать эту злую фею»); в другом не положили нож возле ее тарелки или поставили обыкновенную посуду вместо драгоценной.
Родители Талии, в свою очередь, не нуждаются в феях, колдунах или любых других посторонних факторах, чтобы полностью поверить в горькую судьбу, уготованную их дочери; нет фей, есть только предсказатели, читающие судьбы, – беда исходит изнутри.
Здесь, можно сказать, нет виноватых: это воля судьбы, таковы «небесные указания», так требует жестокий милетский (внутренний) оракул: «Царь, на высокий обрыв поставь обреченную деву И в погребальный наряд к свадьбе ее обряди…»
Счастье, здоровье, долгие годы жизни, мир да любовь – все эти слова кажутся пустыми, ничего не стоящими обещаниями, почти такими же, как те, что произносят добрые феи над колыбелью принцессы, в то время как над ее головой уже витает смертный приговор.
Эта ее суицидальность как раз-таки во многом и объясняется неподъемной тяжестью великолепных даров, которыми осыпали принцессу «добрые» феи. Их не забыли пригласить на пир, и перед ними поставили драгоценную посуду.
И действительно, злая фея зарождается в душе только после того, как в ней уже запущены жернова многопудовых требований (поет, как соловей; прекрасна, как Афродита, и т. д). «Смертного зятя иметь не надейся, несчастный родитель:
Будет он дик и жесток, словно ужасный дракон… Раны наносит он всем, пламенем жгучим палит», – обращается внутренний оракул Психеи к ее внутреннему отцу.
Вот и Сильвия Плат не раз надрывалась под гнетом непосильного груза: «Самым изощренным оружием в его <сеющем смерть самовосприятия> арсенале всегда было мое собственное мнение о себе, как об абсолютно успешном человеке… и как только я улавливаю самый легкий запах неудачи… я обвиняю себя в лицемерии, в том, что я притворяюсь кем-то, кто во много раз лучше меня, в то время как я на самом деле ничего не стою»[83].
Я уже обсуждала эту тему в предыдущих главах, особенно относительно разлада в душе Белоснежки, но, думаю, стоит коротко напомнить: Спящая красавица, подобно Психее, подобно Сильвии Плат, подобно многим детям, оказывается на краю непреодолимой пропасти между воплощенным совершенством в глазах родителей, переполненных любовью и добрыми намерениями, – совершенством, о котором они говорят и которого ожидают (ведь феи обещали!), и обычным, свойственным человеку ощущением своего несовершенства.
Эта пропасть между «подлинной девочкой» в том виде, в каком она себя воспринимает, и «идеальной девочкой», какой, по ее мнению, она выглядит в глазах родителей, вызывает трещину в душе, которая уже напрямую выводит к замешанному на крови замужеству Психеи или к потере опоры в жизни, как это происходит у Талии и Ситтукан. Чувство собственного достоинства (вернее, собственная самооценка), основанное на ошибочном, я бы даже сказала, иллюзорном, взгляде извне, не может быть достаточным, чтобы поддержать Персону, и вот уже ничто не в состоянии удержать тягу к самоубийству.
Я вспоминаю одну мать на уличной детской площадке, которая устало смотрела на своего трехлетнего сынишку, резвящегося на горке, и вдруг сказала, обращаясь ко мне: «Иногда я говорю себе, пусть это самое страшное уже случится! Тогда я буду знать, что это уже произошло, и перестану умирать от страха».
Жить в вечной тревоге означает не жить. «Безжизненная жизнь, – говорила о себе Сильвия Плат, – это то, чего я боюсь больше всего».
«Но тогда выступила двенадцатая ворожея – она не высказала еще своего пожелания. Отменить роковое предсказание она уже не могла, но смягчила его, сказав: „Но то будет не смерть, а глубокий сон, в который королевна погрузится на сто лет“».
Погружение в депрессию и есть тот бесценный дар, который преподносит добрая фея, чтобы исцелить от приговора к смерти.
Ситтукан
Сладострастная чувственность в храме смерти
А теперь, когда мы пробрались сквозь заросли колючек, за которыми скрывался замок Спящей Красавицы; когда преодолели лен и веретено, проклятие совершенства и смертоносно-оживляющее вращение прядильного колеса, – теперь, я думаю, мы готовы откинуть тяжелый полог над кроватью со спящей на ней красавицей: под плотным покрывалом притаилась одна из самых ранних и, несомненно, самая красочная история – один из сюжетов «Сказок тысячи и одной ночи», в центре которого – спальное ложе с уснувшей мертвым сном будоражаще благоухающей девушкой.
Рассказ девятого констебля[84]
Жила была женщина, которая никак не могла забеременеть, потому что муж был с нею груб и часто брал ее силой. И вот однажды она обратилась к Аллаху со словами: «Пошли мне дочь, пусть такую, что окажется беззащитной даже перед запахом льна». Говоря о запахе льна, женщина подразумевала, что она хочет иметь дочку, пусть даже такую хрупкую и чувствительную, что легкий успокаивающий запах льна способен стиснуть ей горло и убить ее. Аллах услышал ее молитвы, и вскоре у нее родилась дочь, такая прекрасная, как восходящая луна, и такая бледная и нежная, как лунный свет. Родители любили ее больше всего на свете и берегли, как только могли. Когда маленькая Ситтукан, так они ее назвали, достигла десяти лет, проходивший под ее окном сын султана увидел ее, влюбился и заболел. Лекарь за лекарем беспомощно разводили руками у его постели, и только одна старая женщина, ощупав его с головы до ног, сказала:
– Ты влюблен.
Да, я влюблен, – ответил юноша.
И как ее зовут? – спросила старая женщина. – Ее имя Ситтукан, – сказал он, и старая женщина обещала найти и привести ее во дворец султана.
Она пустилась на поиски и, наконец, нашла девочку, когда та вышла во двор материнского дома подышать свежим воздухом. Поздоровавшись и отдав должное ее красоте, старая женщина обратилась к юной красавице с такими словами:
– Девушки со столь прелестными пальчиками должны учиться прясть лен; нет ничего восхитительнее, чем тонкое веретено в тонких пальцах.
Сказала и ушла. А девочка побежала к матери и не успокоилась, пока та с тяжелым сердцем не согласилась взять ее к пряхе. Целый день провела она у мастерицы, постигая секреты прядильного ремесла, и ее товарки не могли надивиться на красоту и ловкость ее рук. Но стоило крошечному, с пылинку, кусочку льна попасть ей под ноготь, как она, лишившись чувств, упала на пол. Все решили, что она мертва и послали за родителями. Родители услышали страшную весть: «Ваша дочь мертва», разорвали на себе одежды и, убитые горем, вышли ее хоронить.
На пути им повстречалась старая женщина, которая сказала:
– Вы богатые люди, не подобает вам такую красавицу в пыль и грязь хоронить! Постройте беседку посреди реки, и пусть покоится там на ложе – так вы сможете ее навещать.
Родители так и сделали: на высоких сваях построили мраморную беседку, положили дочь свою на кровать из белого мрамора, вокруг беседки посадили великолепный сад и сюда же приходили ее оплакивать.
А что же произошло дальше?
Старая женщина вернулась к больному от любви сыну султана и обратилась к нему со словами:
– Иди со мной, я отведу тебя к девице – она ждет тебя в беседке посреди реки.
Он встал и попросил одного из визирей проводить его. Когда они подошли к беседке, он приказал визирю:
– Подожди меня здесь, у дверей: я не задержусь.
Юноша вошел в беседку, бросился к мраморной постели и, рыдая, стал сквозь слезы воспевать в стихах красоту своей возлюбленной. Он потянулся поцеловать бледные безжизненные пальцы красавицы, но вдруг заметил у нее под ногтем льняное семечко, удивился и осторожно его высвободил. Девушка очнулась, села на край беломраморного ложа и, улыбнувшись, прошептала:
– Где я?
– Ты со мной, – отвечал сын султана, прижимая ее к себе.
Он поцеловал ее и разделил с ней ложе. Они оставались неразлучны сорок дней и сорок ночей, после чего юноша покинул свою возлюбленную со словами:
– Мой визирь ждет меня за дверями. Я отведу его во дворец и сразу же вернусь.
Он нашел визиря там же, где оставил, и они ступили на садовую дорожку, ведущую к воротам. Но тут он увидел куст белой розы, обвитый ветками жасмина, и взволнованно воскликнул:
– Розы и жасмин так же белы, как бледные щеки Ситтукан! Подожди меня здесь еще три дня, пока я не насмотрюсь на ее щеки.
Он вошел в беседку и оставался там еще три дня, любуясь белизной роз и жасмина на ее щеках. Затем вернулся к визирю и отправился с ним через сад к воротам, но тут на его пути возникло рожковое дерево с длинными черными плодами. Взволнованный юноша пробормотал:
– Эти рожки длинны и черны, как брови моей Ситтукан! О визирь, подожди меня еще три дня, пока я не налюбуюсь на ее брови.
Он вернулся в беседку и оставался там три дня, любуясь великолепными бровями красавицы, а затем вернулся к визирю. Они шли по саду, пока не остановились перед весело журчащим фонтаном, и взволнованный юноша промолвил:
– Эта струящаяся вода подобна талии Ситтукан!
Он опять вошел в беседку и оставался там еще три дня, наслаждаясь талией Ситтукан, изящной, как фонтанная струя. А через три дня снова вышел к визирю, и они пошли к воротам. На этот раз Ситтукан прокралась за ним и спряталась за дверью, ведущей в сад, так как ей было интересно узнать, что же заставило сына султана трижды вернуться к ней в беседку. И надо же было такому случиться, что юноша обернулся и заметил выглянувшую из-за двери красавицу. Побледнев от негодования, он повернулся к девушке.
– Ситтукан, о Ситтукан, – произнес он, – я никогда тебя больше не увижу. Никогда, никогда!
И он ушел, зная точно, что никогда не вернется.
Вся в слезах бродила несчастная Ситтукан по саду и жалела только об одном: что не умерла в одночасье. Она шла вдоль реки, как вдруг заметила в траве какой-то сверкающий предмет и подняла его. У нее в руках оказалось волшебное кольцо. Девушка потерла отливающий красной медью рисунок, и кольцо произнесло человеческим голосом:
– А вот и я! Скажи, чего ты желаешь?
Ситтукан попросила дворец рядом с дворцом султана, сын которого любил ее, а для себя – красоты, превосходящей ее собственную. «Закрой глаза» – приказало кольцо. Девушка сделала, как было сказано, и оказалась в великолепном дворце по соседству с дворцом султана; она взглянула в зеркало и поразилась своей красоте. После этого она облокотилась на окно и стала ждать, когда ее вероломный возлюбленный ее заметит. И он действительно ее увидел, не узнал, но сразу влюбился и поспешил к матери со словами:
– Есть ли у вас какая-нибудь прелестная вещица, которую Вы могли бы преподнести в подарок госпоже, поселившейся в новом дворце, и не могли бы Вы заодно попросить ее руки?
Взяла мать два отреза расшитой золотом парчи, отправилась в соседний дворец и обратилась к красавице-хозяйке со словами:
– Дочь моя, я прошу тебя принять этот подарок и выйти замуж за моего сына.
Девушка позвала служанку и приказала разрезать дорогую ткань на половые тряпки. Разгневанная женщина поспешно вернулась в свое жилье. Там ее встретил сын и, узнав, что девушка распорядилась порвать золотую ткань на тряпки, попросил у матери, чтобы та выбрала подарок подороже и вновь попросила руки красавицы. Подавив обиду, мать взяла неописуемой красоты изумрудное ожерелье и вновь предстала перед Ситтукан.
– Прими этот подарок, дочь моя, и выйди замуж за моего сына, – сказал она.
И девушка ответила:
– Ваш подарок принят.
Затем она позвала служанку и спросила:
– Кормили ли сегодня голубей?
– Нет, госпожа, – отвечала служанка.
– Тогда возьми эти зеленые зерна и покорми их, – приказала Ситтукан.
Разгневанная женщина больше не пыталась скрыть свою обиду и возмутилась:
– Ты унизила нас, дочь моя! Но хотя бы скажи мне прямо, ты желаешь выйти замуж за моего сына, или нет?
– Если вы так страстно хотите, чтобы я стала его женой, – холодно отвечала Ситтукан, – велите своему сыну притвориться мертвым, заверните его в семь саванов, пронесите его, оплакивая, через весь город и велите своим людям похоронить его в моем саду.
Потрясенная мать передала все сыну, на что тот обрадовано воскликнул:
– И это все, дорогая матушка? Так разорвите свои одежды, плачьте и кричите: «Наш сын мертв!».
Все было сделано, как велено: похоронная процессия прошла через весь город и закончила свое шествие в саду нового дворца. Как только последний из людей покинул сад, девушка, которая однажды умерла от крошечного льняного семени, чьи щеки были белы, как розы и жасмин, чьи брови были подобны плодам рожкового дерева, а талия изящна, как фонтанная струя, спустилась к носилкам и развернула один за другим все семь саванов. А затем она спросила:
– Это ты? Ты, наверное, очень любишь женщин, если готов зайти ради них так далеко?
Сын султана от смущения укусил себя за палец, но Ситтукан успокоила его, сказав:
– На этот раз это не имеет никакого значения.
И жили они вместе в любви и согласии.
Здорово, не правда ли? Подобно другим версиям, этот вариант «Спящей красавицы» начинается с рассказа о бесплодной паре[85], которая долгие годы мечтает о ребенке. Более поздние, подвергшиеся цензуре истории преподносят эту деталь просто как факт, возможно даже, предопределение свыше, но Шехерезада, виртуозная исполнительница танцев с шарфами, именно в этом месте, пусть на мгновение, но все же замедляет свое плавное движение и сбрасывает тончайшее покрывало с родительской постели – места, куда, как водится, «посторонним вход запрещен»: «Рассказ девятого констебля» начинается с того, что женщина не в состоянии забеременеть, потому что муж бьет ее и даже насилует. В отличие от других сказок, где бесплодие преподносится как тяжелая несправедливость или как наказание свыше, здесь оно является следствием дефектных половых взаимоотношений, ущербной женственности и грубой мужской силы.
Итак, в сказках, подобных сказкам Базиле и Шехерезады, насилие представлено как неотъемлемая часть взаимоотношений между полами. А когда насилие является правомерным компаньоном сексуальности, то с ним вместе селятся в глубоких, скрытых от поверхностного взгляда тайниках повествования неподъемная ноша депрессии, неподвластный разуму страх и непреодолимая тяга к смерти. Мать Ситтукан насилуют, а Талией овладевают во сне – значит, и ее насилуют. Неполноценный секс, вне всякого сомнения, занимает немаловажное место в этой истории, так что забудем о «приличиях» и заглянем в окно девичьей спальни.
Ножны и кинжал
Куда бы мы ни обратились: к народным сказкам, старинным легендам или древним мифам, – всюду в центре сюжета располагается тема сексуальных взаимоотношений между людьми. Но только кто рассказывает эти истории? В далеком прошлом, возможно, их и пересказывали греющиеся у костра древние старухи, но большинство преданий, которые после длительных скитаний дошли до наших дней, были донесены до нас мужчинами[86].
Читая эпизод сказки, когда король, насилует спящую Талию – «король, все больше и больше разгораясь от ее красоты, на руках отнес ее на ложе и там собрал цветы любви», – трудно вообразить более сочувственную форму описания насильственного овладения человеком.
Можно ли из этого сделать вывод, что в образе девушки из «наивной детской сказки», которой овладели во сне, кроется тонкий намек, что именно такими, принявшими облик мертвых предпочитает видеть женщин каждый рассказывающий эти истории мужчина?[87] Или, скажем, что обладание каким бы то ни было мужчиной телом какой бы то ни было женщины настолько естественно, что рассказчику и в голову не приходит задуматься над правомерностью происходящего? В древней валлийской легенде, героем которой является король Мат ваб Матонви, есть фраза, указывающая на странную деталь: «И в то время Мат, сын Матонви, не мог прожить без того, чтобы, когда он сидел, ноги его не покоились на коленях девушки, за исключением времени, когда он отправлялся на войну»[88]. Мат имел безграничную королевскую власть, ему приписывались сверхъестественные силы: как говорил один из его приближенных: «Если самый тихий шепот двоих будет подхвачен ветром, он услышит его», и, несмотря на это, ему необходимо было держать ноги на коленях девственницы, если только он не отправлялся в очередной военный поход. И девушку эту звали Гэвин, дочь Пебина, и краше ее не было во всей округе. Поборники патриархии зачастую используют очень выразительные и впечатляющие средства для того, чтобы приучить нас, обычно еще в раннем детском возрасте, к мысли, что они полностью обладают нами, иногда даже под видом обсессии, и в этом нет ничего предосудительного. Как бы не замечая всей абсурдности происходящего, судя по участливому тону рассказчика, он ожидает от нас сочувствия к воинственному королю со странным дефектом.
Что же касается короля, овладевшего спящей девушкой по имени Талия, то тут, возможно, мы должны проникнуться его непреодолимой страстью или прочувствовать вместе с ним неописуемое одиночество, которое он испытал, совокупляясь с женщиной, принадлежавшей ему только физически, только телом…
В конце концов Талия очнулась от депрессии с двумя младенцами на руках, и вряд ли она задает себе подобные вопросы: скорее всего, она слишком озабочена повседневными проблемами элементарного выживания; но действительность, в которой тело всякой женщины всегда принадлежит мужчине, по сути своей, является депрессивной. И в этой действительности были рождены Талия и Ситтукан, и это та действительность, в которой они должны были существовать.
А поскольку женщины испокон веков вынуждены прокладывать себе дорогу в сугубо мужском пространстве, те из них, которые чего-то достигли в этом мире, в большинстве своем приспособились к мужской системе ценностей. Женщины, ведомые патриархией, – так мы здесь называем их и себя.
Традиционно способность открыться, раскрыться и отдаться являются исконно женскими качествами, но для многих из нас очень тяжело реализовать эти свойства даже в процессе самого соития. Неважно, относимся ли мы к «женщинам, ведомым патриархией» или страдаем от какого бы то ни было ущемления из-за своей принадлежности к женскому роду. Многие из нас не осмеливаются, не позволяют себе испытать полное душевное и духовное раскрытие в той мере, в которой это предполагает половой акт.
«Намекают нам, что вот есть и другой секс… Пускай приведут его сюда, – произносит от имени мужчин известная своим новаторством израильская поэтесса Иона Волах („Стихи предгодомснов“[89] в переводе Савелия Гринберга) и поясняет: —…мы ведь уже утомленынче нашими женами и подругами-девственницами…». А мы, женщины, если заговорим от нашего имени, скажем, что, возможно, мы и стали «утомляющими девственницами» именно потому, что такими нас воспитали, и, возможно, мы тоже хотим другого секса: секс, в котором мы не исполняем роль, написанную специально для нас руками – ногами – ртом – членом мужчины, а продиктованную нам нашим собственным телом, в такт ударам нашего собственного сердца. «Познать женственность со всеми ее страстями, недостатками, ограничениями и ранимыми местами – это только часть дела», – пишет сексопатолог Майтреи Д. Пионтек и рассказывает, как под влиянием Дао, с помощью медитации ступила «на забытую женскую территорию, в священный храм (матку). Это место, куда мозгу вход запрещен, место, где кончается разум и растворяются все образы и понятия: это дверь в женственность в новом измерении»[90].
А может, это не одна дверь, а целая анфилада, ведущая в святая святых нашей сексуальной самобытности.
Адриенна Рич, как мне кажется, распахивает одну из этих дверей, когда осознает, что источник ее сексуальной энергии, искра, из которой возгорается восторженное, ликующее пламя страсти, находится внутри нее, создается ею и только она одна выбирает, как и куда ее направить:
Похоть: да: осознание, внезапное, как избавление от гриппа, что тело мое сексуально.
Иду по улицам, сознавая это.
Тот вечер в самолете из Питтсбурга, фантазирую, как встречу тебя.
Иду по аэропорту, разгоряченная энергией и восторгом.
Но в то же время знаю, не ты источник энергии и восторга; ты был мужчиной, чужим, именем, голосом в телефоне, другом: эта же похоть была моей, эта энергия – моя; для нее можно выбрать сто путей и пойти на встречу с тобой – мог быть один из ста.
(Rich A. Reforming the Crystall[91])За следующей дверью, отворяемой Адриенной Рич в том же стихотворении, ее поджидает женщина: «…предводительница племени, осторожно и старательно выводящая на ребрах вулкана имя своей избранницы».
И здесь она не столько спасается бегством от внедрения в нее члена, который свяжет ее и ее мужчину в единое целое, сколько бежит от собственнического мужского взгляда – того, что подгоняет женщин под его нужды, того, что устанавливает порядок вещей в этом мире. Она бежит подальше от центра, на незнакомую, а возможно, и почти нереальную (по крайней мере, в мужском мире) окраину, где, несмотря ни на что, живут – скрытые и непризнанные – предводительница племени и ее возлюбленная:
Всякий раз, когда мы в этом городе, щиты рекламные мерцают порнографией, вампиршами научно-фантастическими,
<…> Нас же никто не выдумал. Мы хотим жить, подобно деревьям, как платаны, полыхающие в серой пропитанном воздухе, испещренные шрамами, но буйно усыпанные почками; наша животная страсть пустила корни в этом городе.
(Rich А. Twenty One Love Poems[92])Разница между теми, какими нас видит – необоснованно, конечно – мужской глаз («вампиршами научно-фантастическими»), и теми, какими мы являемся в нашем собственном восприятии (пылающие платаны, «испещренные шрамами, но буйно усыпанные почками»), кажется почти абсурдной. Когда мужчина смотрит на женщину своим хозяйским, собственническим взглядом, женщина, как говорит Симона де Бовуар, всегда «иной», «другой пол». Существо абсолютно фантастическое. Когда же мы вглядываемся в себя, мы видим имманентные силы; видим себя, уходящими в землю, подобно деревьям: касающимися небес огненными кронами, укоренившимися в этом мире – здесь и сейчас. И снова: когда мы воспринимаем свою сексуальность сквозь призму мужского хрусталика, мы превращаемся в порнографию. Гигантское, с трудом вообразимое несоответствие.
«На предметах искусства, дошедших до нас с древнейших времен, нам представлена женщина как высшая сила… ее красота определяется совершенно забытыми нами понятиями, которые сегодня зачастую считаются признаками уродства, – пишет Адриенна Рич, делясь с нами своими размышлениями о культе богини-матери. – У ее тела есть масса, внутренняя глубина, внутренний покой и стабильность. Она не улыбается; на лице выражение погруженности в себя или полной отрешенности, а иногда кажется, что ее глаза полыхают огнем. Если, как это часто бывает, она держит на руках или прижимает к груди младенца, ее взгляд не устремлен на ребенка (поклонение деве с сыном, вокруг которого вращается мир, пришло гораздо позже) <…> она вся ушла в себя. Она существует сама по себе, не для искушения мужчины и не для его умиротворения, а только ради себя самой»[93].
Но давайте на короткое время вернемся к королю Мату, сыну Матонви. То, как великий вояка не смешивает свои отношения с женой, включая все, что она может ему дать, с особым взаимодействием между его ногами и прелестями невинной девицы, напоминает мне гангстера в исполнении Роберта де Ниро в фильме «Славные парни». «Парни» говорят о сексе и любовницах, и один из них спрашивает Генри – героя де Ниро, сосет ли его жена. «Ты что, рехнулся? – возмущается тот, – она же этим ртом целует моих детей!».
Вот так опять возвращается четкое разграничение между выше– и нижестоящими, между грехом и праведностью; разграничение, создавшее небо и землю, Инанну и Эрешкигаль, дозволенное и запретное, рай и ад.
Продолжим обсуждение сказки о короле Мате и его девственнице и познакомимся с еще одной юной беременной, которая, как и Талия, понятия не имеет, откуда у нее появился младенец.
А дело было так: Гилфайтви, племянник короля, приметил Гэвин, девушку при короле, и влюбился так, что не находил себе места, и его вид так изменился от любви к ней, что его трудно было узнать. Он и его брат Гидеон хитростью выманили короля из дворца, затеяв войну с соседским королевством, а сам Гилфайтви тайком пробрался во дворец и соединился с Гэвин, дочерью Пебина, на ложе короля Мата против ее воли. А утром следующего дня он вернулся в то место, где был Мат, сын Матонви, со своим войском. Одержав победу, Мат вернулся во дворец, вошел в свои покои и увидел место отдыха, приготовленное для него так, чтобы он мог поставить ноги на колени девушки, как он это делал.
– О господин мой, – сказала тут Гэвин, – найди другую девушку, кто будет держать твои ноги, ибо я стала женщиной.
Она рассказала все, что с ней случилось.
– Что ж, – сказал король, – я сделаю все, что смогу. Я защищу твои права и сделаю тебя своей женой и дам тебе власть над всеми моими землями.
Гилфайтви и помогавший ему во всем брат Гвидион не вернулись ко двору, но продолжали объезжать земли, пока не дошла до них весть, что они лишены всех прав. Сначала они не хотели возвращаться, но наконец пришли к Мату, и тот назначил им наказание. Он поднял волшебный жезл и ударил им Гилфайтви, и тот превратился в олениху. Он ударил и Гвидиона, который хотел убежать, и тот стал оленем.
– В наказание я велю вам жить вместе, как диким зверям, облик которых вы приняли. И у вас будет то же потомство, что и у них. Через год в этот же день вы придете ко мне.
И ровно через год он услышал шум и лай собак за стенами дворца.
– Господин, – доложили ему слуги, – там олень с оленихой и с ними детеныш.
Услышав это, он встал и вышел на крыльцо. И там он увидел трех зверей: оленя, олениху и прелестного олененка. И тогда он поднял свой жезл.
– Тот из вас, кто был этот год оленихой, станет диким кабаном, а тот, кто был оленем, станет свиньей, – сказал он и ударил их жезлом, – но детеныша я беру на воспитание.
И он дал ему в крещении имя Хиддин.
– Идите же и будьте животными, в которых я обратил вас, а через год приходите ко мне в этот же день вместе с потомством.
Через год вернулись дикие свиньи, и с ними – маленький поросенок.
– Что ж, – сказал Мат, – я возьму его и воспитаю.
И он ударил поросенка волшебным жезлом, и тот превратился в прекрасного юношу с каштановыми волосами. И при крещении он получил имя Хикдин. А диких свиней король превратил в волка и волчицу и велел им вернуться ровно через год, вместе с их потомством. И ровно через год они вновь предстали перед ним вместе со здоровым и сильным волчонком.
– Я возьму его, – сказал Мат, – и воспитаю, и у меня уже есть имя для него. Пусть он зовется Бледдин.
После этого он коснулся их обоих волшебным жезлом, и они обрели свой первоначальный облик.
– Люди, – сказал король, – если вы мне сделали зло, то вы искупили его. И он приказал приготовить им баню и новую одежду. И, одевшись, они пришли к королю.
– Люди, – сказал он им, – вы заслужили прощение, и я одарю вас дружбой, если вы посоветуете, какую девушку могу я приблизить к себе.
– Господин, – сказал Гвидион, сын Дон, – с легкостью скажу, что это Арианрод, дочь Дон[94], твоя племянница.
И ее привели к нему, и она вошла.
– О дева, – спросил он ее, – девушка ли ты?
– Я не знаю, господин, кем же я еще могу быть.
Тогда он взял волшебный жезл и положил его на пол.
– Перешагни через него, – сказал король Мат, – и если ты девушка, я увижу это.
И она перешагнула через жезл, и тут позади нее возник золотоволосый младенец, который поднял крик.
Каким образом там возник младенец? Об этом не сказано ни слова. Возможно, и Арианрод, подобно Талии, только что очнулась от глубокого сна, в который была погружена ее душа, в то время как тело продолжало бодрствовать. Да и братья Гилфайтви и Гвидион производят потомство неосознанно: их внутренние олени, кабаны и волки вырываются наружу и берут власть в свои руки, определяя их бытие.
Рудольф Штейнер первым ввел понятие «umkreisbewusstsein», которым описывал своего рода сон наяву, отрешенность, полный отказ от контроля, полное саморастворение в окружающей сфере, в то время как наше сердце находится в самом центре, бодрствует и активно бьется. Оно не спит, равно как ни на минуту не засыпает лес Белоснежки, наполненный жизнью, надеждами, страхами, гномами, дикими зверями и прискакавшими издалека принцами – и все это, когда Белоснежка, Талия и Ситтукан погрузились в глубокий сон, глубокий внутренний сон. В условиях обычного сознания мы активны в своих мыслях и поступках, прокладываем свой жизненный путь, проходим сквозь мир, оставляя в нем свой след; когда же наше сознание находится в сонном состоянии – мир проходит сквозь нас. Скорее всего, именно в этом состоянии и пребывают Талия и Ситтукан, когда их посещает король и султанский наследник.
«Я сплю, но бодрствует сердце мое», – говорит возлюбленная в «Песни Песней». Но когда она встала отворить двери своему любимому, когда с ее рук «капала мирра», а с ее пальцев «мирра стекала на скобы замка» – друг ее «ускользнул, сокрылся»… Точно так же исчезает сын султана, прячась от взгляда своей возлюбленной, от ее права на действие, от ее права на взгляд[95].
Несмотря на то, что все наши истории происходят на фоне внутренних пейзажей в той или иной части души, мы, к сожалению, не можем рассматривать насилие, распоряжение женским телом или превращение его в чью-либо собственность только в духовно-символическом аспекте. В мире, где царит идиллия, мы бы могли «положить ногу на ногу» и отнести короля, насилующего Талию, или короля Мат, нуждающегося в коленях девственницы, к разряду символов и не более, но эти истории отражают действительность.
А в этой действительности тысячи лет власти мужчин исказили отношение к женщинам, к женственности и женской сексуальности. Если в глубокой древности наши предки рисовали у входа в пещеру треугольные знаки женских половых органов как символ благословения и защиты, то со временем плодоносные силы были обесточены и в женском сексуальном наслаждении увидели причину всех бед – «греховное начало», как выражаются монотеисты, смертоносную дыру. «Vagina dentata», зубастое влагалище – это народное выражение использовал Фрейд, описывая страх кастрации, который испытывает мужчина перед женщиной.
Несущий в себе опасность или искушение, женский половой орган (как и вся женщина в целом) воспринимается нашей культурой как что-то, что не существует само по себе, а предоставляет услуги мужчинам и находится в их полном распоряжении. На иврите весь женский пол ассоциируется с дырой (в русской транскрипции «нэкейва» – существо женского пола имеет тот же корень, что и «нэкев» – дыра, отверстие), а латинское слово «вагина» (влагалище) изначально означало «ножны для кинжала»; так или иначе оно предназначено для мужского члена.
Как нелепо выглядит то, каким образом мужчины воспринимают свой половой орган: он не только служит для получения удовольствия, но и является орудием агрессивного захвата. Согласно этой терминологии, король, воспользовавшийся телом спящей Талии, «вставил свой кинжал в ее ножны».
Говоря о женской депрессии, мы, естественно, ни на минуту не забываем о женском теле, с которым неразрывно связано ее появление, существование и проявление. О теле бездетной женщины, муж которой «был с нею груб и часто брал ее силою»; о теле Талии, которым овладели без ее ведома; о теле Арианрод, из которого неожиданно для всех и, в первую очередь, для нее самой появился младенец; о теле девственницы, на котором так удобно покоятся королевские ноги; о подвешенном гниющем теле Инанны; о корчащемся в родовых муках теле Эрешкигаль; о разомлевшем от наслаждения теле Ситтукан, брошенном возлюбленным, – у каждой женщины свои взаимоотношения, свой симбиоз, между телом и душой.
Значит ли это, что во времена, когда тело женщины принадлежало только ей самой, депрессии не существовало? Правда ли, что, когда женщины жили в мире, который не являлся мужской территорией, в их жизни не было места депрессии? Ответа мы, скорее всего, так никогда и не узнаем. Но депрессия в том виде, в котором она существует последние несколько тысяч лет, зачастую служит средством защиты или способом бегства от навязанной нам патриархальным обществом (обычно не без помощи наших спутников жизни) роли жены, матери, жрицы любви, внемлющего уха, надежной опоры, громоотвода и т. д.
Существование «мужской территории» сопряжено не только с преступным овеществлением женского тела и его порабощением, оно привело к ставшему неотделимым от нашей культуры восприятию женщины как «иной». Отсюда вытекает неспособность предоставить необходимые время и место наиважнейшим женским потребностям; это же вызывает многочисленные неудобства и ограничения. Подтверждением вышесказанному могут служить такие тривиальные явления, как считающееся неприличным (а в некоторых странах даже запрещенное законом) кормление грудью в общественных местах, или пошлое использование женского тела в рекламе, или, возьмем, к примеру, мой случай, когда я не получила возможности (или не воспользовалась ею) пережить сполна душевную боль, связанную с выкидышем, и оплакивать его ровно столько, сколько было необходимо лично мне, или, скажем, полное отвращения и брезгливости отношение (как женщин, так и мужчин) к менструальной крови, в то время как кровотечение из любой другой точки человеческого организма воспринимается окружающими с пониманием и сочувствием.
Симона де Бовуар приводит множество примеров отношения к женщине в мире, где царят мужчины, и я уже цитировала ее высказывания, но вот еще капля из моря под названием «Другой пол»: «У них [96] нет ни религии, ни поэзии, которые принадлежали бы собственно им: они и мечтают посредством мужских мечтаний. Они поклоняются богам, придуманным мужчинами. Последние для собственного восхваления создали великие мужественные образы: Геракла, Прометея, Парсифаля; в судьбе этих героев женщина играет второстепенную роль». Де Бовуар говорит и о том, что мужчина является сексуальным объектом для женщины в той же степени, что и женщина для мужчины: «А что для женщины сексуальное и плотское воплощено в мужчине – это истина, которая не провозглашалась никогда, потому что провозглашать ее было некому. Изображение мира, как и сам мир, – это дело мужчин; они описывают его со своей точки зрения, которую они путают с абсолютной истиной»[97].
Матриархальная аптека
Независимо от того, спустились ли мы в эти адские катакомбы сами, на своих ногах, или, проснувшись одним мрачным утром, просто обнаружили, что мы там, пребывание в преисподней депрессии порождает силы и качества, подобные тем, что прорастают в нас, когда мы опускаем руки перед беспощадными явлениями бытия: опустошенность и бездонная пустота, безнадежность и безмолвие, непротивление и бездействие.
Когда переполненные, словно плоды граната, таинственными дарами подземелья, мы отправляемся в обратный путь, дорога наверх неожиданно оказывается непомерно тяжелой – непосильной без посторонней помощи и поддержки. Именно такую помощь и предлагают нам сказки, чтобы мы смогли, как сказала великая башня, напутствуя Психею, снова вступить на прежнюю дорогу и снова увидеть хоровод небесных светил. Все сказки и мифы о временной смерти обязательно несут в себе и целительное семя, но обычно большая часть повествования посвящена нисхождению в подземное царство теней, а процессам возвращения (к жизни и на земную поверхность) отводится скромное пространство в конце поучительной истории: «принц» или «боги», или «охотник» будят прекрасную героиню и через пару предложений наступает счастливый конец, но не раньше, чем сведены счеты с теперь уже бесполезным внутренним фактором (злую королеву заставляют до смерти плясать в раскаленных туфлях, волка оставляют с распоротым брюхом, а Думузи отправляют в ад). У наших красавиц, Талии и Ситтукан, все происходит несколько иначе: они засыпают почти в начале повествования, довольно скоро просыпаются, а большая часть сюжета занята процессом их исцеления.
Из всего богатого, а возможно, и безгранично широкого ассортимента лечебных средств, предлагают нам наши спящие красавицы четыре исконно матриархальных и наиболее эффективных лекарства: сексуальность, взгляд, созидание и землю. Попробуем и мы отнестись к ним с должным вниманием.
Секс как жизненная сила
Я уже упоминала книгу Майтреи Д. Пионтек, посвященную целебным силам женской сексуальности, и теперь хочу добавить, что эта книга открыла для меня два волшебных мира, в которых сама Пионтек пребывает постоянно, а я периодически заглядываю туда не только из любопытства, но и с заметно растущим ощущением комфорта: мир Дао и силы женской сексуальности – два вековых ствола, издревле неразрывно сплетенных друг с другом. Удивительным и абсолютно непредсказуемым образом именно секс высвобождает как Талию, так и Ситтукан из липкой паутины сна. Жизненные силы, проснувшиеся в бесчувственном теле Талии, отвечают за появление молодого короля, который, следуя за своим соколом, всколыхнувшим неподвижный безжизненный воздух дворца, проник сначала во внутренние покои, а затем и в саму девушку. Произведенное действие – сексуальное, агрессивное – приводит в движение какие-то скрытые механизмы, которые в конце концов пробуждают в ней жизнь. Ситтукан, в свою очередь, просыпается на любовном ложе, отдаваясь любви.
Место, в котором происходит этот процесс пробуждения, находится в самой глубине, далеко от посторонних глаз: погрузившийся в сон замок, одинокая беседка, спрятавшаяся в густых лесных зарослях, окруженная непроходимым колючим кустарником или построенная на островке посреди глубокого озера. Это место, где в тишине и темноте зарождается жизнь.
Широко цитируемое выражение алхимиков «Visitetis interiora terræ» (посетите недра земли) могло бы стать девизом юнгианцев в их традиционном отношении к глубинам души, но для нас, дочерей земли, оно звучит призывом постичь физическую сущность плодоносной земли, нашу собственную физическую сущность. Оно призывает нас погрузиться в земные глубины, спуститься в архетипичную подземную пещеру, женскую пещеру – матку, в которой происходит извечный процесс передачи и усвоения знаний; увидеть, что женское чрево – это место, в котором каждая из женщин, может зарядиться силами, любовью, осознанием себя и превратить его в пространство, где происходит таинство внутренней алхимии[98].
В каждой из нас живет первозданная мать, являющаяся одновременно и чревом, и могилой. Чревом, в котором мы себя создаем, и могилой, в которой, спустившись, замираем. Вне всякого сомнения, существуют разные пути, ведущие к превращению матки из места, в котором мы хороним многое, что нам не угодно (к примеру, нас самих…), в место, откуда пробиваются сочные и сильные свежие ростки (к примеру, мы сами), но один из них, надежный и верный, – это познание целебной силы сексуальности; возделывание плодородной почвы внутри нас; воссоединение, которое, возможно, является сочетанием покорности и влюбленности с мощной сексуальной энергией.
«Матка энергетически связана с самоощущением женщины, с познанием своего самого внутреннего „Я“… Она – символ ее грез и своего „Я“, которое она мечтает родить», – говорит Нортроп[99]. И мы, которые в течение всей депрессии оказались невольницами в своих собственных застенках, когда наше чрево являлось не чем иным, как погруженной во тьму пещерой, можем, вновь обретя силы, вернуться вовнутрь и осветить фонариком сострадания и любви каждый, даже самый отдаленный и темный уголок.
Объемистая по форме и всеобъемлющая по содержанию книга Майтреи Д. Пионтек о женской сексуальности почти не касается (ну, может, только легким намеком) предположения, что возможна связь между сексуальностью и непосредственно сексом. Она предлагает широкий ассортимент замечательных упражнений для повышения сексуальной энергии нашего как физического, так и этерического тела и наполнения светом самых запущенных, заброшенных уголков. Это внутренние странствия, совершаемые в одиночку, в глубины нашей сексуальности – великой силы, управляя которой мы сможем познать радость жизни: обретем способность радоваться, способность ощущать себя здоровыми, мы обретем волю и свое собственное лицо. И все же чего-то мне там не хватает.
Иной подход у Барри Лонга, харизматичного автора книги «Занимаясь любовью». Он комфортно устроился во внутренних покоях полового акта и деловито разбирает его на составные части. И несмотря на то что для многих пар эта книга стала своего рода лечебным источником, исцелившим, укрепившим и закалившим их любовь, не побоюсь признаться: лично мне это напомнило школьный урок ботаники, когда, изучая строение цветка, мы раскладываем в ряд лепестки, тычинки, пестик – а где же чудо?
Побуждения Лонга понятны. Основной причиной болезней в современном мире является, по его мнению, катастрофическое ослабление ресурсов любви: тех волшебных, божественных энергий, заключенных в женщине – в ее теле и душе, которые должны высвобождаться в акте любви. Когда эти силы остаются в заключении, они, как утверждает Лонг, атрофируются и вызывают широкий спектр заболеваний, физических и душевных. Неудовлетворенная матка рождает болезни, депрессии, обиды, разочарование.
Но так было не всегда. Когда-то, как он выражается, «в начале времени», физическая любовь мужчины и женщины была экстатичной: «Божественная энергия, которая высвобождалась, была настолько мощной, что их тела излучали невероятное сияние. Это светящееся излучение Духа или Любви создавалось в их телах благодаря физическому единению <…> и они сохраняли свою осознанность и присутствие своей божественности, своей безвременности, занимаясь Божественной Физической Любовью»[100]. Еще один автор, который говорит о тесной связи между священной и чувственно-сексуальной жизнью в нашей душе, это Кларисса Пинкола Эстес: «…ведь и ту, и другую пробуждает чувство удивления – не размышление, а переживание, когда что-то трогает физические струны тела, что-то мимолетное или вечное…»[101].
Лонговские современницы и современники сотворения мира, занимаясь Любовью (у Лонга с заглавной буквы), подтверждали свою божественность, создавали и наполняли энергией жизнь на Земле и сами питались этой же энергией, регенерируя себя заново. Что-то от той божественной искры должно было остаться и в нас, а как же иначе? Мне кажется, что каждая из нас на том или ином жизненном этапе делает попытки разобраться в секретах своей сексуальности. Запреты, шаблоны, страхи и маски должны быть постепенно отодвинуты в сторону, и это не просто! Но я знаю точно: в те отрезки времени, когда я живу в своей сексуальности, я – живу!
Соприкосновение с раскрепощенной сексуальностью, чувственностью, будь то поцелуй, видение или, по словам Эстес, утробный смех, «пробирает душу до самой глубины, снимает напряжение, сотрясает кости и создает во всем теле приятнейшее ощущение <…>, изменяя нас, разглаживая наши морщины, потрясая, вознося на небо, приглашая нас на танец, заставляя нас посвистывать, позволяя ощутить истинное биение жизни»[102].
Два круговорота женской энергии несут в нас свои потоки, как две великие реки-спутницы: река тела, прокладывающая свой путь через менструацию, половой акт, оплодотворение, беременность и роды, а рядом с ней река души, протекающая в долине созидания. Наша чувственно-сексуальная жизнь протекает параллельно в обоих руслах, которые отражают и питают друг друга. Жизненные силы, источником которых является наша сексуальность, не в состоянии проявить себя только в теле, точно так же как они не проявятся и только в «духе», без тела, без женского тела, без матки[103].
Вернуть себе взгляд, определяющий сущность
Прошло сорок дней и сорок ночей любви, прежде чем султанский сын смог оторваться от Ситтукан, чтобы сопроводить своего верного охранника во дворец и немедленно вернуться в объятия возлюбленной. Юноша вышел с визирем в сад, но тут он увидел куст белой розы, обвитый ветками жасмина, и взволнованно воскликнул: «Розы и жасмин так же белы, как бледные щеки Ситтукан! Подожди меня здесь еще три дня, пока я не насмотрюсь на ее щеки». Он вошел в беседку и оставался там еще три дня, любуясь белизной роз и жасмина на ее щеках. Затем снова вышел, но тут же вернулся, чтобы насладиться красотой ее бровей, подобных плодам рожкового дерева. Через три дня он вновь отправился в путь, но опять вернулся, так как тонкие струи фонтана напомнили ему изящную талию его возлюбленной. Прошло еще три дня, прежде чем он покинул ее ложе.
Юный принц не может насмотреться на Ситтукан: повсюду, в каждом предмете он видит только ее, а глядя на нее, он видит весь мир. На первый взгляд, перед нами прямое продолжение сказания о Великой Богине, где женщина/богиня погружена в себя, в то время как мужчина восторженно ей поклоняется. Но со временем на просторах аравийских пустынь произошли изменения, настолько серьезные, что они привели к объективизации – опредмечиванию, овеществлению – женщины.
И вот, как только Ситтукан осмеливается «выйти из себя» – выглянуть из своей маленькой беседки, взглянуть на юношу, он не может вынести ее взгляда. На этот раз Ситтукан прокралась за ним и спряталась за дверью, ведущей в сад, так как ей было интересно узнать, что же заставило сына султана трижды вернуться к ней в беседку. И надо же было такому случиться, что юноша обернулся и заметил выглянувшую из-за двери красавицу. Побледнев от негодования, он повернулся к девушке. «Ситтукан, о Ситтукан, – произнес он, – я никогда тебя больше не увижу. Никогда, никогда!». И он ушел, зная точно, что никогда не вернется.
На самом деле, робкие действия Ситтукан – это неумелая попытка вернуть себе свой взгляд: она осмеливается поднять глаза на сына султана, который до этого момента был единственным – единоличным и единовластным – обладателем и хозяином взгляда. Теперь же, ее направленный на него взгляд недвусмысленно намекает, что Ситтукан действительно существует, причем не только как предмет его страстных желаний, но и как реально существующий человек. Часть внутреннего принца, принца-ребенка, в одно мгновение переносится из состояния единственного властелина и создателя вселенной в мир, который уже не принадлежит только ему одному. И наш герой, как и Амур, сбежавший от Психеи, когда она, воспользовавшись светом факела, осмелилась взглянуть на его лицо, уверен, что уходит навсегда.
Наши взаимоотношения в этом мире отражают самые внутренние состояния и претворяют в жизнь самые внутренние побуждения души, поэтому такого рода отношения между негодующим анимусом, когда он лишается взгляда или инициативы, и анимой, которая присваивает себе право на взгляд, на протяжении веков повторяются и перевоплощаются – с теми или иными поправками – из прозы в мифы, из мифов – в действительность. Раскаленной смолой-миррой выжжены строки «Песни Песней», остановившие для нас одно из таких мгновений:
Возлюбленный мой простер руку свою сквозь отверстие (в двери) и нутро мое взволновалось о нем. Встала я отворить возлюбленному моему, и с рук моих капала мирра, и с пальцев моих мирра стекала на скобы замка. Отворила я другу моему, а друг мой ускользнул, сокрылся. Души во мне не стало, когда он говорил! Искала я его, но его не находила я, звала я его, но он мне не ответил. Повстречали меня стражи, обходящие город. Побили они меня, изранили; сорвали с меня покрывало мое стражи стен (городских)[104].
На необходимости «взгляда» основана система психологической взаимопомощи, так называемое «переоценочное со-консультирование» («Re-evolution Counseling» или «Co-Counseling»)[105], к которой я не раз обращалась в период моих странствий в преисподнюю и назад, вверх и вниз. «Со-консультирование» открыла для меня моя близкая подруга, отважный исследователь исчезнувших в бескрайних морях мужской культуры островов нашей жизни: женской потребности и способности видеть нас своими собственными глазами и тем самым определять образ, в котором мы предстаем перед миром; нашей способности и потребности вызывать и порождать взгляд в мужском сообществе[106] в целом и в наших спутниках жизни в частности.
Это тот самый взгляд, о котором говорит Адриенна Рич: взгляд первозданной женщины, направленный вглубь себя, взгляд вселюбящий, всепрощающий и всепринимающий. Этот взгляд надо воспринимать как личный долг каждого (как женщины, так и мужчины) перед самим собой. С этой позиции женщина, смотрящая на себя своими собственными глазами, является богиней.
Ситтукан, которая вначале еле осмелилась робко взглянуть на султанского сына и была полностью зависима от его к ней отношения (от того, как «он на нее посмотрит»), к концу истории находит в себе силы не только раскрыть свои глаза, но и обрести взгляд, благодаря которому теперь только она сама решает, как она будет выглядеть. Сын султана даже не узнал ее, когда Ситтукан с помощью волшебного кольца превратилась в богатую красавицу и поселилась в роскошном дворце по соседству с султанским.
Этот мотив знаком нам, как собственные пять пальцев: девушка или юноша, простые, но обладающие добрым сердцем, брошены своими возлюбленными (из-за того, что они недостаточно красивы/интересны/изысканны) и переживают перевоплощение. Еще одна встреча – и экс-возлюбленный очарован и влюблен теперь уже в новый образ незнакомки/ незнакомца. А затем им предоставляется возможность продемонстрировать свою старую новую любовь, и они живут вместе в счастье и довольствии до глубокой старости. Именно так Оливия Ньютон-Джонс в кинофильме «Бриолин» («Grease») пробивается сквозь гладко причесанный и скромно одетый образ замухрышки прямо в златокудрую, затянутую в черные легинсы красавицу, из Золушки – в Принцессу мечты.
Что же это за сила, позволяющая осуществить такого рода трансформацию? Это та же сила, с помощью которой волшебники меняют свой облик: они всего лишь решают внутри себя, как они будут выглядеть, и, соответственно, так и выглядят. Они «берут в свои руки» взгляд, определяющий сущность.
Когда Думузи, спасаясь от преследования бесов, просит солнечного бога Уту превратить его в белого оленя, он находит в себе внутреннего оленя и, можно сказать, влезает в его шкуру. Когда Керидвен превращает себя в охотничью собаку, в тюленя, в ястреба или в черную курицу, она «просто» находит эти свойства внутри себя и делает их, соблюдая строгую очередность, доминирующими. В каждой из нас живет охотничья собака, черная курица, замухрышка и принцесса, и мы сами можем решить, кто из них будет нашим представителем в этом мире.
Теория, на которой построено «со-консультирование», утверждает, что все, что нас отделяет от исполнения всех наших желаний, включая способность распоряжаться своим собственным взглядом, – это эмоциональная разгрузка. До того, как Ситтукан находит в траве волшебное кольцо, она горько плачет, громко хлюпает носом, кричит, топает ногами, бросается на землю и, возможно, даже рвет на себе волосы.
Так как в каждой группе сказок, объединенных по тому или иному признаку, существуют характерные детали, присутствующие во всех пересказанных версиях и вариациях, мы можем воспользоваться еще одним примером: на этот раз – приговоренной к сжиганию на костре Талии, стенающей перед безжалостной Королевой. Выпустив наружу леденящий душу страх, она находит в себе внутренние силы, которые в состоянии противостоять этой, казалось бы, безвыходной ситуации и, как по волшебству, повернуть ее в свою пользу.
Когда мы вот так, горько и громко плачем (желательно перед тем, кто действительно слушает и сочувствует), мы избавляемся от придавившего нас груза боли, общепринятого поведения, привычного образа мыслей, детских травм – всего того, что мешает нашему зрению, заслоняет картину реально существующего мира; не позволяет нам взглянуть на него нашими подлинными глазами, действовать в полную силу, претворить в жизнь гигантский потенциал, заложенный в каждой из нас.
Способность творить: способность к созиданию
Там, в глубинах депрессии, Талия рожает сына и дочь, Солнце и Луну. В более глубоком смысле, она рожает само солнце и саму луну. И Ситтукан тоже рожает – она создает себя заново.
Многие религиозные источники утверждают, что Бог сотворил мир несовершенным, и что на человека возложена ответственность исправить его дефекты. Рав Натан, ученик Рава Нахмана, говорил, что любая несовершенная частичка в нашем мире означает, что за нее не молились или молились недостаточно. Человек является партнером Творца, а орудием труда ему служит молитва. Именно так, согласно Каббале, способны праведники создавать миры силой своих речей – их устами говорит Бог. Подобным же образом, следуя популярным учениям и методикам самосовершенствования (к примеру, «Положительное мышление» и «Тета-Хилинг»), наши мысли и слова не только влияют, но и непосредственно создают ту действительность, в которой мы живем. Когда мы, находясь в состоянии медитации, повторяем, словно молитву, наши мысли или слова, мы становимся одним целым с тем, к чему стремимся, с нашими мечтами и стремлениями, и начинаем их осуществлять, обращая мечту в реальность.
Ситтукан и Талия идут разными путями, но каждой из них удается, превратив молитву в настоящее волшебство, создать для себя свой собственный мир. Ситтукан, пользуясь приобретенной силой взгляда, произносит вслух свое желание и меняет свой облик. А Талия, в свою очередь, рожает – извлекает из себя – солнце и луну, мужское и женское, свет и тень, другими словами, женщину в полном ее совершенстве, объединяющую в себе все устои мира. Но только в последней части повествования драма достигает своего апогея: Талия оказывается перед костром, пылающим по указу жены ее возлюбленного, и молит о спасении. Ее полные отчаяния крики побуждают короля к действию, и он, безжалостно расправившись с королевой, берет Талию в жены.
Еще одним примером волшебной силы молитвы, создающей новую картину действительности, может служить «Синяя борода»[107]:
Синяя борода – богатый человек, которого все в округе знают и боятся, во-первых, из-за необыкновенного цвета бороды, а во-вторых, из-за необъяснимой пропажи всех девушек, которые выходят за него замуж. И все же находится девушка, которая соглашается стать его женой. Он привозит ее, ее сестру и подружек в замок, где оставляет их на неделю, а сам отправляется в дальнюю поездку, предварительно оставив молодой супруге связку ключей от всех комнат и кладовых замка. Он наказывает своей жене гулять и развлекаться, пользоваться любыми богатствами, но только не заглядывать в «каморку». Естественно, она отпирает запретную дверь, и ее взгляду открываются залитый кровью пол и привязанные к стене трупы ее предшественниц. От ужаса молодая женщина роняет ключ, и на нем остается несмываемое кровяное пятно, по которому Синяя борода сразу догадывается о ее проступке.
– Ты хотела войти в каморку, – в бешенстве кричит он. – Хорошо же, ты войдешь туда и займешь место возле тех женщин, которых ты там видела.
Девушка взывает о милосердии, но все, что получает в ответ, – это несколько минут на предсмертную молитву. Синяя борода спускается в каморку, а несчастная жертва зовет свою сестру:
– Сестра моя Анна, взойди, пожалуйста, на самый верх башни, посмотри, не едут ли мои братья? Если ты их увидишь, так подай им знак, чтобы они поторопились.
Несколько раз она спрашивает, не видно ли братьев, и слышит в ответ:
– Я вижу, солнышко яснеет и травушка зеленеет.
<…>
Теряя терпение, Синяя борода требует от нее спуститься, но на этот раз сестра Анна видит большое облако пыли и принимает его за стадо баранов. Отчаявшаяся женщина спускается в подземелье, когда до нее доносится голос сестры: «Я вижу двух верховых, которые сюда скачут, но они еще далеко. Слава Богу, – прибавила она, погодя немного. – Это наши братья. Я им подаю знак, чтоб они спешили, как только возможно». Но отведенное время истекло, и Синяя борода одной рукой хватает беззащитную женщину за волосы, другою поднимает свой страшный нож. Именно в это страшное мгновение на пороге каморки возникают два молодых человека, убивают Синюю бороду и спасают свою сестру.
Нигде ранее в сюжете не упоминается, что у героини есть братья. И понятно, почему: она создала их силой своей молитвы. В момент, когда сестра Анна поднимается на башню, кажется, что это всего лишь безнадежная попытка приговоренной жертвы отодвинуть неизбежный конец, что она старается спрятаться от реальности, но неожиданно оказывается, что молодая женщина взяла власть над действительностью в свои руки и управляет ею по своему усмотрению. В сказках, как в жизни, «строительство действительности» является обратной стороной «укрытия от действительности», и зачастую внешние проявления этих состояний настолько похожи, что иногда трудно определить, находимся ли мы «в бегах» или «в процессе творчества». Оба эти процесса характеризуются погружением в себя, страстным желанием достичь воображаемого, но «побег от действительности» означает капитуляцию перед парализующей силой непротивления, отказ от полного разочарований внешнего мира и существование на воображаемых, не требующих борьбы просторах мира совершенного, в наличие которого мы никогда не верили; в то время как «сотворение действительности» предполагает временное погружение – медитативное и творческое – в себя и возрождение оттуда (из бескрайней веры в наши собственные силы, в себя и во все хорошее, что нас окружает) того, что уже существует в этом мире.
Ты видела ливень? Здесь царствует тишь. Три Ангела древней истории той Идут средь дерев, среди мокнущих крыш. Тут все, как и прежде. Лишь капли стучат О камни на улице этой пустой. Они не спешат, подошли и молчат — Три Ангела древней истории той. Распахнута дверь. Накрывается стол. И чудо свершилось, и ливень прошел. (Гольдберг Л. Миниатюры[108])В каждой из женщин живут, если не сказать бурлят, творческие силы, которые, по словам К. П. Эстесс, как мощный подземный поток находят в нашей душе «устья и рукава», выливаются в «дикую реку», наполненную «живой водой», и мы, женщины, являемся в равной степени как ее источниками, так и ее потребительницами.
Жизни Ситтукан и Талии обрываются в тот самый момент, когда нарушается течение их творческой реки: веретено – орудие творчества – становится орудием смерти; оно не создает их, а уничтожает; не обеспечивает им непрерывности, а прекращает их поступательное движение, последовательность, преемственность – лишает их всех тех элементов, которые необходимы нам, чтобы творить, чтобы дышать.
Если наше творческое русло перекрыто, мы, как утверждает Эстес, уподобляемся гибнущей реке: усталые, лишенные энергии, почти неподвижные, мы медленно увядаем, отравленные ядами застоя и гниения наших же собственных глубинных богатств[109]. Мы творим потому, что нам необходимо творить. Временами этот процесс напоминает тлеющий уголек, на который надо дуть, чтобы он не угас, а иногда – пожар, пламя которого пожирает и ту искорку, из которой оно возгорелось. И из него появляемся мы, как птица Феникс из пепла, расправляем крылья и, вскрикнув то ли от боли, то ли от радости, устремляемся ввысь.
Все мы знаем, что пребывание в мире муз изобилует трудностями и разочарованиями, но тем, кто отрицает свою потребность в созидании, кто подавляет свое творческое начало и препятствует его проявлению, придется, рано или поздно, столкнуться с продуктами гнилостного разложения. Чем богаче наши внутренние ресурсы, тем больше запасы горючих материалов, поддерживающих творческий огонь, но, соответственно, и больше материала, который, оставаясь неиспользованным, склонен к разрушению и разложению.
Подобно многим из нас, Ситтукан и Талия проделали длинный и тяжелый путь, прежде чем обрели, казалось бы, простейшие, лежащие в основе всего умения, которые должны были быть заложены в них, как и в каждой женщине, с момента рождения. И как многие из нас, они получают свои жизнетворные силы во сне. Прошло уже немало лет с тех пор, как я впервые прочла историю о шамане из Мексики по имени Дон Люсио Кампос, и она, как и положено истории о колдуне, околдовала и меня. Дон Кампос, «Служитель всех ветров», был поражен молнией и провел в коме долгих три года. Тогда же он научился беречь облака, управлять молниями, понимать почву, семена и растения, пасти стада и, наконец, познал тайну красок[110].
Так и наши героини, Ситтукан и Талия, лишенные, как и многие из нас, врожденных жизнеутверждающих сил, открывают их секреты в процессе своей депрессии. Они не смогли постичь тайны прядильного ремесла в юности, и теперь, подобно мексиканскому колдуну, уже во взрослом возрасте познают и создают остов своего реального существования.
Молодые женщины, жизнетворные и жизнеутверждающие силы которых были блокированы настолько, что попытка самостоятельно сплести нити своей жизни повергла их в состояние спячки (или полной отрешенности), в конце своего путешествия (первого) в небытие и назад открывают в себе бурлящие, рвущиеся наружу силы созидания, воспроизведения и возрождения, которые оказываются для них такими же естественными, как их собственное дыхание. Не стоит думать, что этот родник никогда не истощится, или что камни, ветки и сухие листья никогда не помешают его течению… Хождения в глубины целительного небытия – это часть женского сезонного промысла, и если нам удается не испугаться, взглянуть на очередную преграду не как на «удар судьбы», а как на ее подарок, дополнительный шанс; если мы сумеем воспользоваться нашим созидательным началом как внутренним шаманом, сопровождающим нас в наших нелегких походах, то с каждым разом эти путешествия будут становиться все легче и легче.
Творчество – созидание многолико. На мой взгляд, кармическая йога (или карма-йога), чей основной смысл состоит в осознанном выполнении человеком всех предписанных ему обязанностей без привязанности к плодам труда, отличается самым полным, всеохватывающим восприятием созидательной деятельности. После моей поездки в Индию я стала горячей поклонницей этого учения, настаивающего на необходимости полного (близкого к медитативному) присутствия при совершении самых простых, обычных и привычных нам действий, с непременным разграничением между самим действием и его результатом, и призывающего наполнить смыслом каждый наш миг и каждый наш жест. Но я согрешу перед правдой, если скажу, что мне достаточно того элемента творения, который является составной частью моей повседневной жизни и проявляется в приготовлении еды, наведении образцово функционального порядка в шкафах, в продуманной организации распорядка дня детей и бережном отношении к природе. Всего этого не достаточно, чтобы полностью реализовать живущий во мне дар созидания. Заложенная в наши души исконно женская способность порождать полностью повторяет ту же способность, которая – в ее материальном аспекте заложена в нашем женском теле. В лоне нашего тела развиваются младенцы, в лоне нашей творческой души – идеи. И, как любые роды, эти, духовные, сопровождаются болью, подъемом сил и страхом.
Многим беременным женщинам снятся кошмары, будто бы в их чреве произрастает чудовище. Так и духовная беременность нередко сопровождается навязчивыми страхами: мы боимся, что наши труды не принесут достойных результатов, боимся оказаться непонятыми, боимся столкнуться с критикой или, не дай бог, с отказом. А так как нам, к сожалению, кажется, что мы управляем этими духовными беременностями и полностью подчиняем их нашей воле, то мы крепко-накрепко затыкаем все входы и выходы и закупориваем несостоявшихся детей души нашей – оставляем их в состоянии вечного зародыша.
Но ведь произведение, чтобы быть созданным, не обязано быть идеальным, равно как и мы не обязаны быть верхом совершенства, чтобы его создать. Наоборот, недостаток совершенства является одним из условий, одним из основных двигателей образования всего живого в этом мире.
Я люблю повторять слова моей подруги Анат, которая говорит по этому поводу: «совершенный» – значит «совершенный», «за-конченный», а мы не «конченные», мы – «живые». Так и наше творчество, наша любовь, наш труд – все они тянутся к жизни.
В каменной глуши Нью-Мексико расположилось место под названием Пуйе, куда каждый год стекаются толпы туристов. Здесь же собираются хикарильские апачи, южные юты, пикурис, тесуке – все эти племена пустыни пляшут, превращаясь в сосны, в оленей, в орлов и могучих духов. Многочисленные гости приезжают сюда за сотни, если не за тысячи километров, чтобы увидеть одно из самых фантастических зрелищ, живое божество, La Mariposa – женщину-бабочку. И вот, наконец, барабанщики начинают выбивать священный ритм бабочки, хор принимается изо всех сил возносить призывы богам, и перед изумленной публикой появляется очень старая женщина, обладательница могучего тучного тела на тонких ногах, с длинными до земли толстыми косами и крыльями бабочки, знакомыми нам по детским карнавальным костюмчикам. Она прыгает, но вовсе не порхает, а так, что земля содрогается…19 У нее широкая спина, огромные бедра и толстенные ягодицы, ее движения далеки от совершенства, но она танцует. Это и есть мое, адресованное всем нам пожелание.
Целебные силы матушки-земли
На мой взгляд, основным отличительным свойством земли, ее сущностью является способность и готовность земли вмещать, хранить и оберегать; а так как женские элементы внутри нас, следуя природе, тянутся именно к этому ее качеству, то, когда наступает момент трансформации, именно туда мы и направляем нашу мужскую составляющую. Преобразование, принятие, покорность, непротивление и преданность требуют почти физического погружения в недра земли[111]; именно поэтому отправляет Инанна своего мужа Думузи в подземные глубины, а Ситтукан готова выйти замуж за султанского сына только после того, как его мать завернет его в семь саванов, пройдет с похоронной процессией через весь город и похоронит его во дворцовом парке. На все эти условия отвечает султанский сын (в отличие от Думузи): «И это все…?!».
Подневольное нисхождение негодующего Думузи в преисподнюю порождает в нем покорность перед матриархальным колесом жизни – смерти – жизни и смирение с ним, в то время как похороны довольного приговором восточного принца приносят еще и другие плоды: возрождение из земли обогащает как женскую, так и мужскую составляющие души – Ситтукан становится женщиной, знакомой с секретами вращающегося колеса жизни, а избалованный сын султана превращается в ответственного мужчину, который способен связать себя брачным обетом.
Похороны заживо юного возлюбленного Ситтукан напоминают мне закон кашрута относительно посуды, предназначенной для молочной пищи, которая оказалась в контакте с мясом: посуду опускают в землю особым образом, тогда она опять становится кашерной.
Для многих из нас работа с землей, на земле, да и просто контакт с ней становятся источником новых жизненных сил и даже чудодейственным лекарством. Именно об этом пишет в своей книге «Лекарственные растения и пряности» Дрора Хавкин[112]: как-то в самый разгар болезни, возвращаясь с очередного сеанса химиотерапии, она зашла в садоводство и неожиданно для себя самой купила два горшочка с саженцами. Этот поступок так и остался для нее загадкой, ведь она никогда не занималась и не интересовалась разведением растений… А затем: «Еле живая я пересаживаю жасмин и бугенвиллию в землю и валюсь на кровать. Только спустя несколько часов я вновь выхожу во двор навестить моих новых жильцов. Похоже, они начинают приживаться, набираться сил, и я вдруг понимаю, что между нами много общего. Каждый из нас набирается сил по-своему, однако между нами установилась какая-то скрытая связь. И чем больше я касаюсь земли или саженцев, тем лучше я себя чувствую». Вот так, наслаждаясь своим цветущим садом, каждым его кустиком, каждым цветком, грядкой и даже кучей компоста, Дрора победила свою болезнь. Это заняло у нее два года.
Стоит нам, превозмогая усталость или недомогание, выйти в сад, присесть среди зеленой листвы и ярких цветов, дотронуться рукой до коричневой земли или выдернуть несколько упрямых травинок, и мы почувствуем, как постепенно набираемся сил – земля отдает нам свою целительную силу. А может, это наша болезнь уходит в воду, которой мы поливаем цветы, и вместе с ней – все дальше и глубже, в самое сердце земли.
Древние люди понимали и чтили духовную связь между небом и землей, между солнцем и золотистым колосом, между молодой луной и семенем, дремлющим и просыпающимся в сырой земле; между звездами и цветами; между водой, что на небе, и той, что на земле. Возьмем, к примеру, древнеперсидский миф о войне сил добра и света во главе с Ахуромаздой, сотворившим скот, растения и воду, с его вечным врагом, носителем тьмы и зла Ахриманом – источником вредных сил природы, болезней, неурожая, творцом хищных зверей и ядовитых змей. Легенда рассказывает, что Ахуромазда явился персидскому царю Джамшиду, как водится, во сне и дал ему золотой плуг. А древние персы действительно научились пахать, сеять и растить хлеб. Каждая вспаханная борозда была их вкладом в борьбу с демоническими силами Ахримана, каждое брошенное в землю семя приближало их бога Ахуромазду к победе над носителями зла и мрака. Они трудились на земле, и она давала им жизнь. Земля была для них домом.
Дети, подобно нашим предкам, верят в святость земли и в святость всего, что она порождает. Девочкой я чувствовала пульсацию земли у себя под ногами; просила разрешения у куста сорвать с него цветок и устраивала похороны нечаянно сорванным листьям…
Как я уже упоминала, мне было неполных пять лет, когда мои родители вместе со мной эмигрировали из тогда еще советской Латвии в Израиль. Очень скоро мы оказались в кибуце, где я делала все что могла, чтобы быть «как все»: ведь только так я могла почувствовать себя «дома». Детская интуиция мне подсказывала, что секрет деления на «своих» и «чужих» каким-то образом связан с землей. К детскому корпусу прилегало поле, в котором я и еще одна девочка, ставшая моим первым личным инструктором, обнаружили длинную тропу. Вот по этой каменистой, усыпанной колючками тропинке я и заставляла шагать мои бледнокожие ноги. Побитые и исколотые, они упрямо шагали навстречу прекрасному будущему.
Не было там широких зеленых лужаек, которые могли бы раскрыть мне всю правду о наших отношениях с землей: единственная дорожка, ведущая к бассейну, была покрыта плавящимся на солнце черным асфальтом; и ни один ребенок даже не пытался нарушить негласный закон: «Кибуцные дети ходят босиком». Очень скоро кожа на наших ступнях могла соперничать с лошадиными копытами, и мы спокойно вышагивали по раскаленной тропе. И вместе с тем, как нас научили подавлять боль и как загрубела наша кожа, в нас заглушили и многое другое, а чувство коллективизма стало заменой всему: независимости, любви, самовыражению…
Когда был убит премьер-министр Рабин, люди вокруг меня говорили: «У нас отняли нашу Землю». А я молчала. У меня не отняли землю, потому что у меня ее не было. Через несколько лет я вспомнила это ощущение неприкаянности, когда как-то услышала девушку-бедуинку, которая сказала в споре об обязательной военной службе: «Если бы у меня была земля, ради которой я должна была бы пойти в армию, я бы пошла. Но у меня ее нет». Я не уверена, можно ли сравнивать отсутствие привязанности к этой земле у меня – эмигрантки с тем, что чувствует юная бедуинка по отношению к земле, которая ее отвергает. Причины недуга, скорее всего, разные, а следствие одно: отсутствие связи, оторванность.
Мне кажется, я не знала, что значит чувство настоящей причастности, пока не оказалась в Индии. Именно там по пути из одной деревни в другую среди бескрайних зеленых полей, расположенных по обе стороны пыльной разбитой дороги, по которой полз наш допотопный маршрутный автобус, я увидела местного мужчину. Он просто стоял на невысоком пригорке неподалеку от дороги, но что-то в его позе поразило меня. Я сразу поняла: это хозяин земли. Глядя на него, я поняла, что равно как он принадлежит земле, земля принадлежит ему.
Несколько лет назад я слушала лекцию известной в Израиле ученой и общественной деятельницы по имени Амаль Сана аль-Хаджадж о высокой цене, которую платят женщины-бедуинки за невозможность жить привычной им жизнью. По ее словам, раньше бедуинская женщина жила в открытом шатре, стенки (крылья) которого опускались только в непогоду. Она была защищена, но при этом могла наблюдать за всем происходящим вокруг на расстоянии трех километров. Если кто-то приближался к шатру – друг или враг – она успевала подготовиться к встрече. Все пространство вокруг принадлежало ей. Даже когда семья покидала одно место и переходила на другое, ее мир оставался нетронутым; она по-прежнему продолжала отвечать за главные энергетические ресурсы семьи: землю, скот и воду. Прежде чем поставить шатер, муж был обязан посоветоваться с ней, достаточно ли близко выбранное место к колодцу, хороша ли земля и подходит ли место для стада?.. Сегодня бедуинская женщина живет в поселке городского типа, в закрытой типовой квартире. Если кто-то стучит в дверь, у нее нет времени подготовиться. Если она открывает окно, муж требует его закрыть: живущие рядом соседи относятся к другому племени, и это считается неприличным. Она отрезана, оторвана от колодца, от земли, от стада – она беспричастна. То более чем скромное влияние, которое имела бедуинская женщина в жестко организованном патриархальном обществе, традиционно привязанном к земле, было сведено к нулю государством, не признающим ее права быть хозяйкой своей земли и запершим ее в современной городской квартире. «Эти квартиры проектируют мужчины, – добавила Амаль с грустной улыбкой, – и поэтому там всегда большой диван (салон, гостиная), где они по-хозяйски принимают своих гостей, а кухня, принадлежащая женщине, стала больше похожа на небольшую нишу или на тесный склеп».
Я не думаю, что это отдаление, этот уход от земли является случайным. Чем больше человечество (ведомое мужчинами) подчинялось разуму – двигалось от поклонения материнству и природе в сторону религий отцов и индустриального производства, тем более оно страшилось своей связи с бурым, излучающим тепло, всепоглощающим перегноем, терпеливо ожидающим нашей смерти, чтобы принять в себя и нас, и тем чаще оно поднимало свой взгляд вверх, ввысь – к ясным, прозрачным небесам.
И вот, земля, которая дает нам жизнь, пищу, среду обитания, чью твердую поверхность мы ощущаем под своими ногами, постепенно стала восприниматься как огромное скопище мертвых минералов и организмов на разных стадиях их распада или разложения, как глобальное кладбище, где из смерти прорастает жизнь (на основе воды и воздуха, так или иначе «сворованных» у неба). «Земля как темная и при этом женская материя представляет собой материю грубую и в физическом, и в духовном смысле, – пишет на эту тему Эрих Нойманн, – это зловещий организм, порочная плоть этого мира. Это лоно смерти, кровожадный зев мрака; это могила, подобно саркофагу пожирающая живое мясо»[113][114].
Мне, как женщине, тяжело понять мужской страх погружения их бесценного члена в женщину, который вызван ассоциацией этого процесса с актом погребения их тела в землю, но, похоже, что эта ассоциация одинаково работает и когда они дрожат от страсти к женщине, и когда их бьет озноб перед боем. Неясно, пытался ли патриархат растоптать женщину, потому что та своими качествами напоминала вызывающую отвращение землю, или, наоборот, земля страдала, потому что ассоциировалась в патриархальном мозгу с ужасной женщиной, так или иначе, эта двусторонняя метафора продолжала самозаряжаться и поддерживать стереотипные абсурдные чувства, которые испытывали мужчины по отношению к ним обеим.
Я не уверена, был бы земной шар лучше при матриархате, но так как единственная знакомая нам действительность – это тысячелетия патриархата, и так как земной шар находится, как известно, в весьма плачевном состоянии, было бы наивно (или лицемерно) не признавать явную связь между эксплуатацией, унижением, угнетением, подавлением всего женского и женщин в целом и тяжелой долей их метафорического аналога – земли.
Об огромном ущербе, нанесенном нам, женщинам, патриархатом, сказано мною не так уж и мало, что же касается земли, то и она страдала не меньше от того же недружелюбного, враждебного отношения, что в последние сто лет выразилось в бесконтрольном хранении отбросов, загрязнении водоемов, бездумном использовании химикатов и превратилось в настоящую угрозу всему живому на земле.
Когда Ситтукан и Инанна предложили нам обратиться к целительным свойствам земли, они вряд ли могли предположить, что придет день, и сама земля будет нуждаться в лечении; что это будет земля, которую насиловали, использовали и практически загубили полностью. И теперь наша земля заражена, больна и, возможно, даже в состоянии при смерти – и сам факт нашего существования зависит от ее спасения.
Вот уже много лет я знакома с одной женщиной, живущей в Санкт-Петербурге, большом городе, где осталось очень мало голой свободной земли. Но в часе езды оттуда ее терпеливо дожидается небольшой садик: на скромном дачном участке расположился маленький летний домик, окруженный огородными грядками. Она приезжает туда на выходные, нагруженная бидонами, а в них – ее подношение земле: в течение недели она складывает туда пищевые отходы, чтобы потом накормить ими кусочек земли. Яичная скорлупа и овощные очистки, чайная заварка, кофейная гуща и даже волосы из шерсти ее собаки – все тщательно собирается и хранится: она заботится о питании кормящей ее земли.
Когда-то давно в начале нашего знакомства эта женщина подарила мне замечательное упражнение, которым я пользуюсь, когда чувствую необходимость подключиться к целебным токам земли: «Представь себе, – сказала она, – место, где ты всегда чувствуешь себя уютно и спокойно. Найди там свободный участочек голой земли. Встань на него. А теперь мысленно заройся в нее так глубоко, как тебе захочется. Ты сама почувствуешь нужную глубину: до колен, до пояса, а может, по шею. Оставайся там ровно столько, сколько понадобится, пока почувствуешь, что к тебе вернулись силы».
Матушка земля всегда готова быть в нашем распоряжении, чтобы обеспечить нас пищей, чтобы служить нам убежищем, чтобы дать нам приют, чтобы учить и приобщать; она с нами в смерти и в рождении. И у меня вызывает боль мысль о том, с какой легкостью мы отказываемся от ее щедрот, или, наоборот, насколько тяжело нам, одержимым горячкой перемен, принимать ее дары. Я жила в Латвии, в кибуце «Рашафим» и в Тивоне, в Эйлате, Нью-Йорке и Сиднее, в Иерусалиме и в Тель-Авиве, в Вифлееме Галилейском и Ципори. А теперь, после двух лет в Ципори, в доме, который мы спроектировали и построили «своими руками», мы опять переезжаем в Галилейский Вифлеем. Мы покидаем пятилетние деревья, на которых только что появились первые плоды. Каждое дерево принесло в подарок один плод, совсем маленький, птицы опередили нас, забрав его себе. Мы покидаем сплетающиеся виноградные лозы и их наполняющиеся соком гроздья; покидаем розовые кусты, которые успели забраться под самую крышу, и древние оливковые деревья на заднем дворе, которые посадили жители арабской деревни, стоявшей здесь до войны. Теперь жители этой деревни живут в нескольких километрах отсюда в тесном современном пригороде Назарета, чье название – Спафра очень напоминает название разрушенной более шестидесяти лет назад Сафории.
Как-то, в первый год нашей жизни здесь на застраивающейся новыми домами окраине Ципори я увидела, как к двум «нашим» оливковым деревьям подошла арабская семья – бабушка, мать, отец, тетя и их взрослые сыновья – и начала собирать маслины. Старухи с невероятной проворностью взобрались на верхние ветки, а старик стал ударять длинной палкой по стволу. Мы вынесли им кувшин с чаем, завязался разговор. Как выяснилось, тетя родилась в Сафории. Мать попросила, чтобы я принесла пустую пластмассовую бутылку, наполнила ее маслинами и солью и сказала, что я могу открыть бутылку через три недели. Нази, молодой рослый мужчина, оказавшийся их сыном, посадил у нас во дворе побеги дикого винограда и регулярно заглядывал к нам, чтобы проверить, как чувствует себя подрастающая лоза.
В День Независимости возле нашего дома остановилась группа всадников, среди них – крупная фигура, это был Нази. Казалось, у него за спиной выросли крылья. Довольно улыбаясь, он проскакал с нашей счастливо визжащей дочкой вверх и вниз по улице и аккуратно опустил ее на землю. Он сказал, что обожает ездить верхом, что здешние поля для него все равно, что дом родной, и с лихим цокотом присоединился к товарищам.
Теперь мы переезжаем. Что-то гонит нас дальше; и одна лишь дочка не скрывает своего сожаления: «Мама, – грустно повторяет она, – мы только привыкли к этому месту и уже опять перебираемся…».
Наступит день, я надеюсь, и в каком-то месте у меня будет земля, которая станет моим домом, которая одарит меня радостью, легкостью, покоем… А покамест я ограничиваюсь простым прикосновением к пульсирующей земле. Лечь на траву, ощутить, что она живая и начать дышать в такт ее дыханию. Полить цветы; выдернуть вьюнок, грозящий задушить розовый куст; нарвать листьев рукколы, от свежей горечи которых щекочет в носу. Наслаждаться запахом лаванды, пить чай из чудотворных трав, растущих на нашем дворе: мелиссу – от боли в животе, алоизию – для хорошего настроения, базилик – от головной боли, микромерию – от кашля, ну и мяту – потому что она издревле растет на этой земле…
Много лет назад я получила в подарок от подруги небольшую книжку – сборник стихов Леи Гольдберг. Стихи показались мне до скуки повседневными, ничто в них меня не задевало. И вот в последнее время меня вдруг потянуло к этим стихам – я подолгу задерживаюсь на них, будто ныряю вглубь; то, что казалось мне одновременно чуждым и банальным, стало близким и волнующим. Меня особенно влекут строки, которыми я бы и хотела закончить – они звучат и как надежда, и как обещание:
Надо ждать. И придут Еще милости дни И прощенья, наверно. Ты по полю пойдешь Так, как детям дано лишь шагать. И босые ступни Будут гладить тебе Нежно листья люцерны, Колосками жнивье Будет сладкой щекоткой ласкать. Иль настигнет тебя Дождь, и капель иголки Тебе голову, плечи И грудь освежат. Ты по мокрому полю пойдешь И волненье умолкнет, Как тихим бывает закат. Будешь, будешь вдыхать Воздух пашни весенней, Где запахи вьются И где золото солнца Можно в зеркале луж отразить. Так просты будут вещи, Проста будет жизнь, Что их можно коснуться И что можно любить, И что можно, что можно любить[115].Эпилог. Дети света и тени
До тех пор, пока вы не осознали непрерывный закон умирания и рождения вновь, вы просто смутный гость на этой Земле.
(Гёте И. В.)Наша совместная экспедиция подходит к концу, но прежде чем мы расстанемся, я бы хотела еще чуть-чуть задержаться на истории Персефоны, вместе с которой мы начали наш путь: именно она в том образе, в котором она предстает перед нами в конце волшебной истории, является для меня символом вожделенной внутренней интеграции. Покинув преисподнюю, Персефона больше не отрекается от своей тени, но и не позволяет ей поглотить себя полностью, безвозвратно – она управляет циклами ее появления и исчезновения. В Персефоне живет Деметра – сильная, щедрая и любящая внутренняя мать, но рядом существует и Аид – внутренний демонический муж, который оставляет за ней право быть самой собой: уходить и возвращаться, вновь уходить и вновь возвращаться. Жизнь Персефоны, теперь уже зрелой женщины, движется в постоянном внутреннем ритме; она замыкает круг и тут же начинает его с начала: цветение – увядание – цветение, жизнь – умирание – жизнь. Пятна света и тени мелькают, сменяя друг друга на просторах ее души – там, где шумят густые зеленые кроны деревьев, посаженных ее матерью. Мужское и женское больше не соперничают между собой: мир царит между светом и тенью; между зимой и летом. Подарки, приготовленные каждым из них, принимаются с радостью и любовью. Всему свое время: время для фей подносить подарки и время – произносить проклятья.
Экклезиаст (познавший, благодаря своим женщинам, что такое цикл и цикличность) сказал:
Всему (свое) время, и (свой) срок всякой вещи под небом:
Время рождаться и время умирать;
Время насаждать и время вырывать насаженное;
Время убивать и время исцелять;
Время взламывать и время строить;
Время плакать и время смеяться;
Время скорбеть и время плясать;
Время разбрасывать камни и время собирать камни;
Время обнимать и время удаляться от объятий;
Время искать и время терять;
Время хранить и время бросать;
Время разрывать и время сшивать;
Время молчать и время говорить;
Время любить и время ненавидеть;
Время войне и время миру.
Героиням сказок возвращения из небытия хорошо знаком круговорот тьмы и света, нашего погружения во мглу и восхождения к свету. Персефона, которая возвращается из царства теней, неся в себе плод от семени Аида; Талия, из чрева которой вышли ее Солнце и Луна; Ситтукан – девочка, которая вернулась королевой; Иннана, рожденная заново сестрой, корчащейся в родовых муках на дне преисподней, – история каждой из них – это образ нашего (объединяющего в себе свет и тень) возрождения. Круговорот этот – тяжкое бремя. Я и не пытаюсь скрыть всей тяжести пути вниз, на самое дно, но когда мы, ослабляя хватку, подчиняемся влекущей силе движения, это движение становится более мягким, менее резким и травматичным.
Было бы лучше, если бы мы, подобно Иннане, сами находили дорогу вниз и не нуждались бы, подобно Сильвии Плат, в том, чтобы нас похитили. А иначе мы действительно оказываемся похищенными: наша безвыходность похищает нас, застывших от ужаса, в чужие края депрессии, страха, болезни, оцепенения.
Когда мы отдаемся во власть круговорота, когда подчиняемся его ритму и становимся его частью, он становится частью нас: он больше не угрожает нам извне, а является той внутренней силой, которая толкает нас вверх сквозь жесткую почву наших будней изо дня в день, из месяца в месяц.
Если бы я знала дорогу туда и назад, если бы ходила по ней с юности, если бы признала ее существование и осознала ее необходимость, тогда, возможно, я бы спускалась по ней сама – иногда и по своей воле – увядать, оплакивать, умирать и рождаться заново.
И было бы хорошо, если бы у меня внутри хранилась карта с подробными указаниями, подобная той, которую получила Психея от прозорливой башни: с хромым погонщиком хромого осла не заговаривать, заплатить одним из медяков за переправу через реку, не поддаваться жалости и мертвеца за гнилую руку из реки не вытаскивать, старым ткачихам не помогать и их тканей не касаться, бросить ячменную лепешку в пасть преогромного пса с тремя головами; встретив Прозерпину, сесть перед ней на голую землю и съесть только простого хлеба; приняв, что дадут, тем же путем и вернуться, снова вступить на прежнюю дорогу и снова увидеть хоровод небесных светил.
Представьте себе спускающуюся в преисподнюю Иннану или Психею, принесшую себя в жертву дракону. Представьте Андромеду, бросившуюся в волны навстречу своему чудовищу: девушка, подчиняясь чувству долга, устремляется в покрытые мраком глубины своей души, встречает там своего таинственного анимуса, свои страсти и инстинкты, свои красное и черное, свое умирание, свое увядание… Она предается любовной игре, борется, кричит, смеется. Собравшаяся на берегу толпа заворожено следит за мелькающими над водой хвостами, рогами, руками и ногами, на мгновение появляющимися на поверхности и вновь исчезающими в пучине. А затем вода затихает на одну минуту, неделю, месяц, год, семь лет, сто лет, вечность.
Разочарованные зрители расходятся по домам. Гномы остаются сторожить гроб. Родители Психеи, отгородившись от внешнего мира стенами дома, тайно оплакивают свою дочь. Деметра скитается по бесплодной земле. Родители спящей красавицы погружаются в бездну вместе с ней. Пока однажды… Легкая зыбь на поверхности озера, еле различимый всплеск, чуть заметная тень – и вот она появляется: не Афродита-богиня, сотворенная из морской пены, а настоящая женщина из плоти и крови. С большим трудом, очень медленно она выбирается на берег, тихая, погруженная в свои мысли: ее мозг все еще продолжает перерабатывать то, что она видела во сне.
Безмолвие. Нет публики, которая бы восторженно встретила ее возвращение, но она не одна. Она прижимает к сердцу дитя света и тени – саму себя.
Неважно, как мы там оказались – преисподняя всегда одна и та же преисподняя, а совершаемая там работа всегда одна и та же работа: все та же «грязная» работа, все то же глубокое погружение в нечистоты нашей жизни; все те же попытки сдуть толстые слои пыли забвения и подавления, которые покрывают «некрасивые», «нежелательные», «гадкие» участки нашей души. И почти всегда свершается чудо: и там, среди запустения и грязи, подобно тому, как мы все «из пыли вышли», появляется девочка света и тени, которую мы поднимаем вместе с собой из бездны, чтобы растить и любить под голубым бездонным небом, прояснившимся после бури. Эта девочка всегда там, ждет не дождется, чтобы мы ее позвали, дали ей имя, чтобы мы ее помнили и любили.
Женщины, побывавшие внизу и поднявшиеся оттуда наверх, пишут о ней, изображают ее в рисунках, рожают и растят ее. А она учит нас: открывает перед нами нашу способность, нашу обязанность принимать и любить себя такими, какие мы есть.
Когда я была там, на дне пропасти, я искала дорогу назад, но не верила, что найду ее когда-нибудь. Я думала, что моя внутренняя преисподняя проглотила меня навечно, что ядовитое яблоко никогда не выскользнет из моего горла. И когда я стояла двумя ногами на краю пропасти и смотрела вниз, то не чувствовала никакой гордости и не испытывала чувства победы, а только безумный страх перед черной зловещей бездной, которая выплюнула меня назад. В ее глубоких глазах стоял вопрос, которого я раньше не замечала: кто ты? Она спрашивала меня, крича на своем немом языке, и я до сих пор стараюсь ей ответить, каждый день заново.
Долгое время я отлеживалась на берегу – отдыхала, наслаждаясь голубым небом и прозрачным чистым воздухом. Я не могла поверить, что больше никогда не соскользну вниз, и поджимала ноги, крепко прижимая их к телу, чтобы они не утащили меня назад в жуткую бездонную яму. Только намного позже, оглядываясь назад, я поняла, что все это время прижимала к груди девочку, дитя из света и тени, о существовании которой я и не догадывалась.
Когда рождаются наши дети, они кажутся нам детьми солнца… Их луна открывается нашему взгляду медленно-медленно – пока они предстают перед нами как одно целое, как один целостный человек, содержащий в себе и солнце, и луну, свет и тень. Наша первая встреча с теневой стороной наших детей может оказаться очень тяжелой. Может пройти много времени прежде, чем мы начинаем понимать, что и нашим солнечным детям иногда необходим отдых в своей собственной тени.
Я смотрю на своих детей, и они напоминают мне эльфов или нимф, мелькающих, вспыхивающих на солнце и исчезающих в тени среди деревьев. На них пляшут пятна света и тени, и капли росы искрятся на их лицах. Только так они совершенны, только так они существуют – и только так существую по-настоящему и я сама. Мои дети открыли мне солнце и луну, которые во мне. Мою любовь к детям, таким, какие они есть, с луной и солнцем, заключенным в одно целое, я учусь проявлять и по отношению к самой себе.
Теперь я готова заговорить с бездной, превратившей меня в ту, кем я являюсь сегодня, и сказать ей спасибо.
Примечания
1
Сокращение английского «miscarriage» – произвольный выкидыш.
(обратно)2
«Необычно преданные родители» – парафраз известного выражения Д. В. Винникотта «обычная преданная мать», объединяющего бесконечный перечень желаний, намерений и представлений, о которых он говорит, исследуя взаимоотношения родители – дети. Кларисса Пинкола Эстес пишет о матери из раннего детства как о «слишком хорошей» или «слишком преданной», когда она, укрывая свою дочку у себя под юбкой, невольно препятствует ее развитию и взрослению. Такая мать обязана «умереть», чтобы предоставить сцену матери подростка. Такого рода мать изображена (совсем нелестно) во многих сказках как «мачеха» в самой что ни на есть отрицательной коннотации.
(обратно)3
В аналитической (юнгианской) психологии Тенью называют набор тех негативных качеств человека, которыми он обладает, но не признает своими собственными. Это те свойства характера, которые человек не приемлет в других людях, не замечая при этом, что и сам наделен ими в не меньшей степени. Они образуют теневой образ человека, «темную сторону» его личности. Зачастую Тень заключает в себе загадочные, пугающие свойства – это, по мнению Юнга, нашло отражение во многих литературных и мифологических образах. Если мы обратимся к шаманству, то там роль Тени исполняет «внешняя душа», которая обычно принимает образ того или иного животного. «Если с тенью случится что-то серьезное, то человек – хозяин тени вскорости распрощается с жизнью» (Nahum Megged. Portals of Hope and Gates of Terror: Shamanism, Magic and Witchcraft… Tel-Aviv, Modan).
(обратно)4
Winnicott D. W. Home is Where We Start From: Essays by a Psychoanalyst / Ed. by C. Winnicott. N. Y. – London: W. W. Norton; Har mondsworth: Penguin, 1986. Далее: D. W. Winnicott, Essays.
(обратно)5
Там же.
(обратно)6
Все фрагменты сказки «Белоснежка» взяты из сборника сказок братьев Гримм.
(обратно)7
Подобную картину мы наблюдаем в повествовании о Психее, героине греческой мифологии: и там капли крови нарушают ленивое течение дремлющего сюжета. Ночь за ночью Психея и ее возлюбленный отдаются любовной страсти, пока Психея, случайно уколов палец об одну из стрел Амура, не наклоняется поцеловать своего таинственного мужа, и капля раскаленного масла из ее светильника капает на его плечо. Боль от ожога прогоняет сон, и разгневанный Амур убегает, тем самым вынуждая Психею отправиться в длительные и опасные поиски, в течение которых она, естественно, взрослеет, и боги в конце концов меняют гнев на милость.
(обратно)8
Plath Sylvia. The Unabridged Journals of Sylvia Plath / Ed. by Karen V. Kukil. N. Y.: Anchor books, 2000. Далее: Plath S. The Journals.
(обратно)9
Алис Миллер (1923–2010) – психолог, исследователь и писательница. Ее книга «Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я» переведена на русский язык (М.: Академический проект, 2001). В конце 1970-х годов, разочаровавшись в психоанализе, Миллер разработала собственную систему, основанную на опыте швейцарского психотерапевта Конрада Штетбахера. Миллер утверждает, что фрейдианская школа относится к фактам как к фантазии и тем самым препятствует поискам правды, утерянной в детские годы. По ее утверждению, такого рода терапия может оказаться не только безрезультатной, но и опасной.
(обратно)10
Маргарет Малер (1897–1985) – врач-педиатр, исследователь и психиатр, занимавшаяся аспектами становления собственного «Я» у ребенка – процессом разделения и приобретения собственной, отдельной и отличной от матери, индивидуальности. Она утверждала, что этот процесс не ограничивается периодом детства, а продолжается в течение всей жизни индивидуума.
(обратно)11
Plath S. The Journals. От 5.02.1958.
(обратно)12
Бринтон Перера Сильвия. В подземном царстве темной богини. Символический путь женской инициации. Интернет-издательство Эксклюзив-книга, 2010. Далее: Бринтон П. С.
(обратно)13
Мириам Ялан Штекелис. Дани – гибор (на иврите).
(обратно)14
Персона – маска актера (лат.).
(обратно)15
Plath S. The Journals. Oт 27.12.1958.
(обратно)16
Winnicott D. W. Essays.
(обратно)17
Миллер Алис. Драма одаренного ребенка и поиск собственного Я. М.: Академический Проект, 2001.
(обратно)18
«Новые волшебные сказки» – название сборника переведенных на русский язык сказок графини де Сегюр, написанных в середине XIX века (прим. пер.). // Заблудившаяся в волшебном лесу Блондина не может вернуться к своему доброму отцу королю, пока не пройдет сложнейший подготовительный курс под присмотром доброй феи, которая ради такого случая принимает облик лесного оленя. Чтобы хоть как-то облегчить столь болезненный процесс взросления, она усыпляет свою воспитанницу на целых семь лет, в течение которых обучает ее всем премудростям, необходимым любой принцессе – дочке короля: проснувшаяся Блондина великолепно играет на пианино и скрипке, мастерски владеет пером и кистью и, перелистывая книги в библиотеке, вдруг осознает, что все это она уже читала во сне. Девушка бросается к фее со словами благодарности, а затем, преодолев еще ряд затейливых препятствий, достигает победного финиша.
(обратно)19
Там же.
(обратно)20
Соль, добавленная в воду, в которой должна вариться Белоснежка, – это не только пикантная приправа к этой жуткой истории, но и консервант – для длительного хранения тех элементов, которые особенно привлекали королеву.
(обратно)21
Мария – Луиза фон Франц считает, что образ Кроноса связан с темой депрессии. Отсюда следует, что акт поедания «внутреннего другого» (бог поедает своих детей, Тень пожирает Персону) напрямую связан с депрессивным состоянием, сопутствующим расслоению, и, как следствие, с потребностью вновь объединить все душевные компоненты.
(обратно)22
Бруно Беттельгейм, автор «Психоанализа волшебной сказки», проецирует образ отца на образ охотника, так как никто другой не сможет защитить девочку в тот момент, когда он будет притворяться, будто бы выполняет приказ мачехи-королевы. По его словам, любой ребенок, читая сказки, архетипически склонен видеть в образе охотника своего отца. Правда, в «Белоснежке» – в отличие от по-отечески надежного и заботливого охотника, спасшего Красную шапочку, – образ внутреннего отца слаб и ненадежен: охотник/отец не уничтожает Белоснежку, но и не предпринимает ничего для ее защиты. Только пережив глубокую депрессию, Белоснежка найдет в себе силы воспроизвести на свет своего принца.
(обратно)23
Plath S. The Journals. От 3.01.1959.
(обратно)24
По словам профессора Меггеда, индейцы Средней Америки верят, что источником большинства психических расстройств, в том числе и «болезни ужаса», соответствующей депрессивному состоянию, служит потеря человеком своего «животного двойника» (нагуаля): той части души, которая существует абсолютно отдельно от нашей персоны. Этот «животный двойник» и есть наша интуитивная, инстинктивная, примитивная часть, которую в западной культуре принято считать низменной, нежелательной и постыдной. Нагуаль в моем понимании – это тот же душевный компонент, который присутствует во всех сказках обратимой смерти в виде «королевы подземного царства» или «злой колдуньи». Его подавление может привести к тревожному состоянию и депрессии. Меггед пишет: «Неподвластный страх, который иногда сопровождается бегством животного двойника, является самым знакомым и распространенным расстройством, а его физические и душевные последствия – потеря сил, слабость, отсутствие аппетита, потеря в весе и зачастую апатия по отношению окружающим – ясно видны каждому» (Ворота надежды, ворота ужаса. Шаарей Тиква, Шаарей Эйма. Модан, 1980 (на иврите)).
(обратно)25
Меггед Нахум. Шеарей Тиква ве Шеарей Эйма. Бен-Шемен: Модан, 1998 (на иврите). Далее: Меггед Н. Шеарей.
(обратно)26
В отдаленных индонезийских селениях можно и сегодня встретить женщин, которые, перечисляя рожденных ею детей, с гордостью назовут крокодила. В раннем возрасте животное живет наравне с другими членами семьи, ест вместе со всеми и спит на мягком матрасе в том же помещении. Оно помогает семье в заработке: в праздники вся деревня, поклоняясь святому животному, приносит дорогие подарки. Когда детеныш достигает угрожающих размеров, становится грозою кур и не прочь полакомиться своими «братьями» и «родителями», ему устраивают праздничное новоселье в просторном вольере, и семья продолжает о нем заботиться зачастую до его глубокой старости. Нередко такой святой крокодил нападает на «самых близких ему людей», и его жертвой становится «родившая» его женщина.
(обратно)27
Ламдан Арэла. Мештика ле Заака ве Дибур. Тель-Авив: Йад Табенкин, 2004 (на иврите).
(обратно)28
Герои сказки Ганса Христиана Андерсена «Тень» по воле автора меняются ролями. Тень покидает своего хозяина, живет отдельной, независимой от него жизнью и только изредка навещает своего прежнего владельца. Чем сильнее и увереннее становится тень, тем слабее становится человек. Его состояние ухудшается настолько, что он готов стать тенью своей тени и даже обещать, что никто никогда не узнает правды; и все же – он умирает. По другой версии, тень предает своего хозяина, и он, чудом избежав смертной казни, покидает город, селится в тихой деревне, чтобы там вдали от всех вырастить себе новую тень.
(обратно)29
Эту замечательную легенду о женщине-скелете можно найти в книге Клариссы Пинкола Эстес «Бегущая с волками»: жила-была девушка, которую разгневанный отец сбросил со скалы в море. Как-то, заброшенный рыбаком крючок зацепился за обглоданный рыбами скелет. Рыбак с трудом добрался до берега и в ужасе бросился бежать к стойбищу, но запутавшийся в леске скелет преследовал его и в покрытой снегом тундре. Добежав до деревни, он с облегчением юркнул в юрту, но и там, к своему ужасу, обнаружил сваленные в углу в кучу, опутанные леской кости. Страх сменился жалостью, и он начал распутывать леску и складывать кости по порядку: сначала пальцы ног, затем – лодыжку. Все это он проделывал, тихо напевая колыбельную, которую когда-то пела его мать. К концу ночи леска была распутана, женщина-скелет собрана, и рыбак заснул. Во сне у него скатилась слезинка, при виде которой женщина-скелет почувствовала непреодолимую жажду. Она долго пила из слезинки, а затем протянула руку к его груди и вынула оттуда сердце. Женщина начала бить в него, словно в бубен, сопровождая громкие звуки словами: «Плоть-плоть-плоть». Ее кости обрастали плотью, а она продолжала петь. Так она напела себе волосы, грудь и бугорок между ногами. Той же песней она раздела рыбака и, прижавшись к его телу, вернула ему сердце. Так они и проснулись, сплетенные новой любовью (Эстес К. П. Бегущая с волками. Глава 5. Пер. Т. Науменко).
(обратно)30
О двойственности анимуса: во всех сказках возвращения из небытия присутствует персонаж, благодаря которому героини просыпаются от глубокого длительного сна, и во всех сказках этим персонажем является мужчина. Возможно, что в древних версиях, следы которых просматриваются в мифах об Инанне и Персефоне, источником такой пробуждающей к жизни силы могла быть и женщина, но дошедшие до наших дней сказания слишком долго переваривались в брюхе патриархата. // К. Г. Юнг говорил о двух составных частях души: анима – понятие, которое он позаимствовал у античного «anima mundi» («мировая душа»), оно относится к женскому началу в мужчине, а анимус – «дух», мужское проявление в женщине. Юнг и его современные последователи используют термин «анимус» как определение активного мужского начала. При этом сам Юнг связывал рационально-критические, аналитические, решительные стороны женской души с ее мужской составляющей и считал, что эти свойства способны проявиться только при наличии в женщине мужского элемента. Я беру на себя смелость заявить, что, несмотря на всю значимость теории Юнга, он являлся представителем патриархального общества, воспитывался на его канонах и находился под влиянием традиционного патриархального отношения к миру. По-моему, ничто, кроме презрительного отношения к женщине, не может стать основой стереотипного восприятия мыслительных способностей как исконно мужского качества. Кроме того, основываясь на идеях антропософии, я считаю, что существует конфликт между элементом мышления (содержащим, по Р. Штайнеру, компоненты смерти) и активным, деятельным, элементом – элементом, несущем в себе жизнь. Такой же конфликт наблюдается между аналитическими – сдерживающими – силами и созидательными – двигающими вперед. Юнг же почему-то все эти элементы относит к одному и тому же – мужскому – началу, т. е. – к анимусу. // Когда я пользуюсь термином «анимус», я имею в виду активную, жизненную, пробуждающую силу, а не критично-аналитические компоненты умирания, которые в наших сказках прячутся в совсем других уголках души: например, в углу, отведенном для внутренних родителей, который, как и анимус, может тоже находиться под контролем общества, а оно, как мы уже усвоили, патриархальное.
(обратно)31
Многие авторы, в частности Роберт Грейвс, приводят доказательства того, что в отличие от современного западного общества, где красный цвет традиционно считается «живым» цветом, а белый символизирует смерть (саван, привидения и т. п.), в древнем мире эти цвета означали обратное: «Пища богов», вероятно, предполагает, что табу на красную еду возникло из табу на поедание мухоморов, ибо поганые грибы, судя по греческой поговорке, которую цитировал Нерон, были «пищей богов». В Древней Греции вся красная еда – омар, бекон, барабулька, лангуста и красные ягоды и фрукты – была запрещена, кроме как во время праздников в честь мертвых. (Красный цвет – цвет смерти в Греции и Британии в бронзовом веке: красная охра была обнаружена в захоронениях эпохи мегалита в горах Пресцелли и на равнине Солсбери.) (Грейвс Р. Белая богиня. Пер. И. А. Егорова).
(обратно)32
Беллоу Сол. Кража: Собрание рассказов в одном томе. М.: АСТ – Астрель, 2010.
(обратно)33
Если яблоко разрезать поперек, то в центре каждой половинки будет пятиконечная звезда, символ бессмертия, который представляет Богиню в ее пяти воплощениях: от рождения до смерти – и обратно: от смерти к рождению (Грейвс Роберт. Белая богиня).
(обратно)34
Alisier – догальское слово, обозначавшее ягоду, яблоко, – и артуровский Аваллон означают одно и то же (Эстес К. П. Бегущая с волками).
(обратно)35
Плат Сильвия. Жала (из книги стихов «Ариэль»). Пер. с англ. Яна Пробштейна.
(обратно)36
«Очевидно, что западная культура лишила женщин уверенности в себе, позволяющей заявлять об объективной возможности фемининности. Эта идея считается чудовищной; таким образом, женщин поощряют быть послушными и „связанными с Эросом“, с садистскими образами покровителя-анимуса, а не заявлять о своей собственной, такой же садистски самоуверенной власти» (Бринтон П. С. В Подземном царстве темной богини. Пер. В. Мершавки. 2010).
(обратно)37
У моей дочки, в то время двух с половиной лет, была любимая игра: она с гордостью хлопала себя по смешно выпирающему животику и объявляла, что беременна. «Мой ребеночек еще не родился, – говорила она, – только его тень уже родилась».
(обратно)38
Бринтон П. С.
(обратно)39
Von Franz Marie-Louise. The Psychological Meaning of Redemption Motif in Fairytales.
(обратно)40
Rich Adrienne. Of Woman Born: Motherhood as Experience and Institution. N. Y. – London: W. W. Norton, 1976. Далее: Rich A. Of Woman.
(обратно)41
Там же.
(обратно)42
Plath S. The Journals.
(обратно)43
У многих древних народов было принято помещать в рот усопшего монеты или другие предметы, те же корни имеет древний обычай класть серебряные монеты на веки умершего.
(обратно)44
Сестра из сказки «Двенадцать братьев» вынуждена молчать семь лет ради того, чтобы спасти своих братьев, превратившихся в воронов. «Надо семь лет молчать, нельзя ни смеяться, ни говорить; а если ты вымолвишь хоть одно слово или до исполнения срока недостанет хотя бы одного часа, то все тогда пропадет, и одно твое слово убьет твоих братьев», – говорит вышедшая из лесу старуха. Через какое-то время в нее влюбился король, и они отпраздновали пышную свадьбу (невеста на свадьбе не говорила и не смеялась). Молодая королева продолжала молчать, из-за чего все решили, что она колдунья и приговорили ее к сожжению. Но и вид пылающего костра не заставил девушку нарушить клятву. Только когда языки пламени коснулись ее одежды, прошли отведенные семь лет – и она была спасена.
(обратно)45
Добрая фея, которая воспринимается как доступный человеческий образ внутренних материнских сил, встречается только в довольно поздних версиях сказки. До этого они воплощаются в природе: в дереве и голубях.
(обратно)46
Адриенна Рич пишет в своем дневнике о героине романа Вирджинии Вульф «На маяк»: «Миссис Рэмзи – фигура многоцветная, калейдоскопическая, и при повторных чтениях романа она меняется почти так же, как параллельно переменам в нас в наших глазах меняются наши матери» (Рич А. Рожденные женщиной. Пер. Т. К.-С.).
(обратно)47
Термин «антагонист» я позаимствовала из мира драмы и кино: это персонаж, активно противодействующий протагонисту, чаще всего, главному герою. В классической литературе антагонисту обычно отводится роль злодея, но зачастую он – тот, кто запускает в действие весь сюжет, заставляет главного героя снять домашние тапочки и взяться за работу. Без антагониста не было бы конфликта, не было бы драмы, не было бы фильма.
(обратно)48
Там же.
(обратно)49
«Второй пол». Женщины, которые, видя, что их мужья проявляют недостаточно (в отличие от них самих) благоговения перед младенцем и требуют от них своей доли любви, внимания и сил, для того чтобы разрешить этот конфликт, берут на вооружение очень распространенное высказывание: «Мой муж – ну просто взрослый ребенок. Ему тоже нужна мама».
(обратно)50
Там же.
(обратно)51
Там же.
(обратно)52
Там же.
(обратно)53
Это та же ступа, в которой сказочные ведьмы толкут (к примеру) хвост ящерицы, кошачьи фекалии, трех пауков и змеиный глаз, ею пользовались в своих ритуалах древние жрицы; к ним она перешла в наследство от их первобытных предшественников. Эрих Нойманн утверждает, что изготовление ступ было исконно женским ритуальным ремеслом. Скорее всего, ступа являлась символом материнского чрева, а кроме того, полного матриархального цикла: хранение (жидкости или зерна), видоизменение (брожение или варка) и захоронения.
(обратно)54
Battelheim Bruno. The Uses of Enchantment: Meaning and Importance of Fairy Tales. N. Y.: Knopf, 1976.
(обратно)55
Эстес Кларисса Пинкола. Бегущая с волками: Женский архетип в мифах и сказаниях. Киев: София, 2002. Далее: Эстес К. П. Бегущая.
(обратно)56
Меггед Н. Шеарей.
(обратно)57
шамана
(обратно)58
о том, что видела во сне
(обратно)59
Еврипид. Вакханки. Пер. Ф. Ф. Зелинского.
(обратно)60
Многие антропологические исследования сообщают о случаях, когда у всех женщин одного и того же племени / семейства наблюдается одинаковый менструальный цикл. И в наше время многие женщины рассказывают, что у них происходят колебания месячного цикла до тех пор, пока их менструация не выпадает на те же числа, что и у их сестер и близких подруг. Во многих культурах до сегодняшнего дня принято изолировать женщину во время ее месячных кровотечений. В иудаизме этот ритуальный статус женщины называется нида (от корня, выражающего отдаление) и он запрещает любое физическое сближение между мужчиной и женщиной вплоть до касания и передачи предметов из рук в руки. // Противоречие между коллективным месячным циклом и традицией изоляции во время месячных можно объяснить борьбой мужских и женских сил в истории человечества: если в период матриархата мужская часть племени была вынуждена покинуть селение на время женского цикла («Идите поиграйте, сходите на охоту, займите себя чем-нибудь»), а женщины посвящали это время отдыху и священным обрядам, то при патриархате, когда мужчина стал хозяином дома (и в прямом, и в переносном смысле), женщинам приходилось уходить из деревни на время месячных.
(обратно)61
Бовуар Симона де. Второй пол. М.: Прогресс, 1997. Далее: Бовуар С. Второй пол.
(обратно)62
Лейрис Мишель. Возраст мужчины. СПб.: Наука, 2002.
(обратно)63
Plath S. The Journals. От 19.07.1958.
(обратно)64
Шимбровска Вислава. Небо. Пер. Г. Ходорковского.
(обратно)65
Plath S. The Journals. От 5.11.1957.
(обратно)66
Мотив заглатывания камней вместо одушевленной жертвы перекликается с историей спасения Зевса от его плотоядного отца Хроноса, который пожирал своих новорожденных детей: мать Зевса протянула его отцу вместо младенца камень, завернутый в пеленку, и ничего не подозревавший Хронос проглотил его, так и не заметив подмены.
(обратно)67
Невысокие каменные пирамидки встречаются на горных вершинах Тибета и Гималаев; их возводят альпинисты и паломники в память о победе над телом и духом и в честь наступающего после этого чувства величайшего облегчения.
(обратно)68
Цзы Лао. Дао Дэ Цзин. Канон пути и благодати. Ростов-на-Дону: Феникс, 2003.
(обратно)69
Там же.
(обратно)70
Там же.
(обратно)71
Джамбаттиста Базиле, 1575–1632 (Giambattista Basile) – итальянский поэт и писатель-сказочник. Его книга «Сказка сказок», вышедшая в свет в 1634 году, была издана через 40 лет под названием «Пентамерон» как парафраз «Декамерона» Бокаччо и содержала 50 историй, которые рассказывают 10 женщин на протяжении 5 дней. В основу этих сказок положен крестьянский фольклор, корни которого уходят в глубины веков.
(обратно)72
Краткое изложение в свободном переводе сказки, рассказанной Базиле.
(обратно)73
Имя Талия созвучно имени другой девушки, которая тоже умерла и очнулась: Талифа из Нового Завета, воскрешенная Иисусом двумя властными словами «Талифа куми», что в переводе с арамейского значит «девица, встань». Кроме того, Талия на древнееврейском языке – это молодая овца. Если предположить, что оба эти источника нашли отражение в итальянском имени нашей героини, то становится несомненной важность ее молодого возраста, вернее, важность того, что ментально она все еще ребенок.
(обратно)74
По всей вероятности, Базиле выбрал эти имена, отдавая дань древнегреческим близнецам Аполлону, богу Солнца, и Артемиде, богине охоты и Луны. Оба они были рождены богиней Лето от ее возлюбленного Зевса, который, как и король в сказке о Талии, имел законную жену.
(обратно)75
История о Зелландин считается самой ранней версией «Спящей Красавицы». Но еще в германо-скандинавской мифологии, записанной в XIII веке, мы встречаем Брунхильду, валькирию из «Песни о Ниберлунгах», находящуюся на службе у бога Одина и наказанную им за непослушание. Один изгнал ее с небес и приговорил к замужеству с обычным смертным. Но Брунхильде не давали покоя опасения, что она может связать свою жизнь с трусом, и поэтому Один усыпил ее уколом заколдованного кинжала и поместил в замок, окруженный стеной огня. Там она дожидалась смельчака, который победит пламя и освободит ее из плена долголетнего сна. Эта версия вполне уверенно выводит нас на уже знакомую тропу: принцесса, укол, замок, окруженный непроходимыми зарослями, и смелый принц легко преодолевают путь в несколько столетий – прямо в «Шиповничек», общеизвестный вариант «Спящей красавицы» в пересказе братьев Гримм.
(обратно)76
Эрих Нойманн – психоаналитик и один из самых известных учеников Карла Юнга. Родился и учился в Берлине, с 1934 года жил и практиковал в Тель-Авиве. Карл Юнг сказал о нем: «Там, где я закончил, начал Нойманн». Эрих Нойманн написал 11 книг (все по-немецки), наиболее известными из них являются «Глубинная психология», «Великая Мать», «Амур и Психея».
(обратно)77
Rich A. Of Woman.
(обратно)78
Нойманн Эрих. Комментарии к «Эросу и Психее». Интернет-проект Касталия, 2012.
(обратно)79
«Палочка друидов с рисунком в виде спирали… Ольховая ветка… знак воскрешения, ибо почки на ней расположены в виде спирали. Ну а уж сама спираль и вовсе древняя. Самые ранние шумерские святилища… защищены спиралевидными столбами» (Р. Грейвс. Белая Богиня).
(обратно)80
Мой очень упрощенный и короткий пересказ ирландского мифа «Котел Керидвен» сделан на основе нескольких источников. Легенда переведена с древневаллийского языка на английский примерно 150 лет назад. Талиесин выступает здесь в роли сказочного героя, но сохранились письменные свидетельства, подтверждающие, что поэт, носивший это имя жил и творил в VI веке н. э. в древнем Уэльсе. Он является древнейшим из поэтов, писавших на валлийском языке, чьи произведения дошли до наших дней.
(обратно)81
Эва Хоффман – американская писательница еврейско-польского происхождения. Родилась в Кракове в еврейской семье, пережившей Холокост. В 13-летнем возрасте вместе с родителями эмигрировала в Канаду. Эва Хоффман окончила университет Райса в Хьюстоне, получила степень доктора в Гарварде, работала журналистом и редактором в «Нью-Йорк Таймс». Ее первая книга-автобиография «Lost in translation…» переведена на русский язык А. Л. Борисенко под названием «Искусство потерь, или Опыт жизни в новом языке».
(обратно)82
Hoffman Eva. Lost in Translation: Life in a New Language. Penguin Books, 1990.
(обратно)83
Plath S. The Journals. От 1.10.1957.
(обратно)84
The Book of the Thousands Nights and One Night. London – N. Y.: E. Powys Mahthers, 1986.
(обратно)85
Работая над переизданием своей книги «Рожденные женщиной», Адриенна Рич решила заменить понятие «бесплодная женщина» выражением «бездетная» и объяснила это неприятием тезиса, что «материнство – это главное и единственное предназначение женщины». Женщина без детей не бесплодна. Она создает, она творит, как любая другая женщина. В данном случае я сознательно выбрала «неполиткорректный» термин «бесплодие», чтобы передать боль, сопровождающую бездетную женщину практически всегда и везде из-за частично сочувственного, частично осуждающего отношения к ней общества.
(обратно)86
Одним из немногих текстов, написанных женщиной, является «Гептамерон»: незаконченный сборник, состоящий из 72 историй, принадлежащих перу Маргариты Наваррской, принцессы по крови и королевы Наварры. При всем разнообразии сюжетов основное место в новеллах, написанных, как принято считать, в середине XVI века, занимают любовные истории. Но так как ни по стилю, ни по характеру эта книга ничем не отличается от других, написанных в ту же эпоху писателями-мужчинами, я привожу ее в качестве примера как произведение, характерное для женщин, усвоивших мужской кодекс господствующего над ними патриархального общества.
(обратно)87
Существует теория – хотелось бы верить, что шуточная, – которая объясняет, почему мужчин так влекут блондинки. Оказывается, бледный цвет волос ассоциируется со смертью; а так как напористая энергичная женщина вызывает у мужчин ужас, они, естественно, предпочитают бледную вялость смерти.
(обратно)88
«Мабиногион», часть четвертая. Небезынтересно напомнить, что Бруно Баттельгейм, видный американский психолог и психиатр, много писавший о роли волшебных сказок, указывал на метафорическую связь между ногой и мужским членом. В этой же легенде упоминается волшебный жезл (несомненно, фаллической формы), через который должна была перешагнуть другая девушка; мы еще к ней вернемся.
(обратно)89
Одним из стилистических новшеств Ионы Волах было слияния двух или более слов в одно.
(обратно)90
Piontek Maitreyi D. Exploring the Hidden Power of Female Sexuality. York Beach, Me: Weiser Books, 2001. Далее: Piontek M. D. Exploring.
(обратно)91
Rich Adrienne. Reforming the Crystall. 1973.
(обратно)92
Rich Adrienne. Twenty One Love Poems. 1976.
(обратно)93
Рич А. Рожденные женщиной.
(обратно)94
Дон – богиня у древних кельтов, скорее всего, перевоплощение древнеримской Дианы или вавилонской Иннаны.
(обратно)95
Я вернусь к этому в следующей главе «Матриархальная аптека».
(обратно)96
женщин
(обратно)97
Бовуар С. Второй пол.
(обратно)98
Piontek Maitreyi D. Exploring.
(обратно)99
Нортроп Кристиан. Женское тело, женская мудрость. М.: АСТ – Астрель, 2004.
(обратно)100
Long Barry. Making Love: Sexual Love the Divine Way. Barry Long Books, 1998.
(обратно)101
Эстес К. П. Бегущая.
(обратно)102
Там же.
(обратно)103
К. Г. Юнг любил повторять, что в большинстве случаев, когда пациент обращался к нему с жалобами на сексуальные расстройства, их источником оказывались проблемы душевные; когда же кто-то жаловался на душевные проблемы, очень часто их причиной оказывались проблемы в сексе.
(обратно)104
Библия. Песнь песней.
(обратно)105
Переоценочное со-консультирование – это система практической психологии, разработанная Харви Джекинсом, которая утверждает, что процесс эмоциональной разгрузки, проявляемой в крике, плаче, дрожи, смехе или даже «просто» в разговоре при соучастии второго лица, который способен выслушать и проявить эмпатию, – такой процесс способствует избавлению от накопленных негативных переживаний (страх, физические травмы, потери, боль, гнев и т. д.) и претворению в жизнь огромного потенциала, заложенного в каждом из нас с рождения.
(обратно)106
К этой теме мы обращались в главе «Ножны и кинжал».
(обратно)107
«Синяя борода» – сказка-страшилка, вышедшая из-под пера Шарля Перро и впервые опубликованная в сборнике «Сказки моей матушки Гусыни, или Истории и сказки былых времен» в 1697 году.
(обратно)108
Гольдберг Лея. Миниатюры (на иврите). Пер. Мири Яниковой.
(обратно)109
Эстес К. П. Бегущая.
(обратно)110
Меггед Н. Шеарей.
(обратно)111
Недра земли являются традиционным местом ученичества. «Первоначальное значение термина Inire внутренний) на латыни, используемого в отношении к ученичеству, подразумевает, скорее всего, „войти в земные недра“; местом этого самого ученичества была пещера, чрево Великой Матери», – пишет Эрих Нойманн в своей книге «Человек мистический» (пер. Т. Курман-Сноп).
(обратно)112
Дрора Хавкин была композитором-песенником и певицей. Заболев раком в молодом возрасте, открыла для себя целебную силу растений, победила болезнь и умерла в возрасте 61 года от сердечного приступа у себя в саду.
(обратно)113
Саркофаг – резной каменный гроб. В древности так называли гробы из троадского известняка, якобы способного быстро впитывать в себя человеческие останки.
(обратно)114
Neumann Erich. The Fear of the Feminine and Other Essays of Feminine Psychology (p. 4: The Meaning of the Earth Archetype for Modern Times, 1953). Princeton University Press, 1994.
(обратно)115
Гольдберг Лея. Ты по полю пойдешь (на иврите). Пер. А. Гомана. 2011.
(обратно)


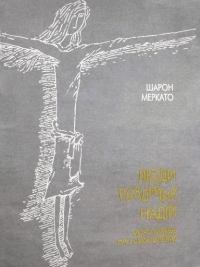








Комментарии к книге «Сказки обратимой смерти. Депрессия как целительная сила», Симона Мацлиах-Ханох
Всего 0 комментариев