Александр Невеев Ловушки разума и Ловцы душ. Убеждения, меняющие нашу жизнь, или Что заставляет нас купить дырку от бублика
© ООО Издательство «Питер», 2019
© Серия «Сам себе психолог», 2019
© Александр Невеев, 2019
Введение
Как мы попадаемся на чью-то удочку? Почему начинаем плясать под чужую дудочку? Что заставляет нас верить продавцам воздуха, покупать дырку от бублика вместо самого бублика, считать уши мертвого осла ценным приобретением? Что мешает отличать полезные товары и услуги от бесполезных?
Об этом рассказывает книга, которую вы держите в руках.
В 1990-е годы все стали свидетелями краха МММ, однако в 2000-х множество людей снова втянулись в эту пирамиду. Почему?
Проповедник Уильям Миллер пришел к ошибочному выводу, что второе пришествие произойдет 21 марта 1843 года. Однако после наступления этой даты его последователи не просто не разбежались, но даже объединились в новое религиозное движение под названием «адвентизм». Почему?
Эзотерический гуру Джеймс Артур Рэй отсидел срок за непредумышленное убийство трех своих адептов (по сути, он до смерти запарил их в «индейской бане»), однако после окончания срока заключения его эзотерические услуги по-прежнему были востребованы. Почему?
Компания «Лайфспринг», проводившая массовые тренинги, результатами которых стали многочисленные случаи сумасшествия и самоубийства среди участников, закрылась из-за вала соответствующих судебных исков, однако основатель этой фирмы Джон Хенли до сих пор успешно продвигает свои тренинги и семинары. Почему?
Неужели все эти люди: клиенты шарлатанов, адепты гуру, сектанты, короче говоря, жертвы ловцов душ, – глупцы или даже сумасшедшие? Или, может быть, все они просто находились в тот момент в сложной, стрессовой ситуации? Или же все они безвольные и внушаемые люди, которые только и ищут, под чье бы влияние попасть?
Ответ на все эти вопросы один – нет.
Главная причина успеха ловцов душ заключается в том, что наш разум склонен попадать в ловушки, умело этими ловцами расставляемые.
Что же это за ловушки? Как именно ловцы душ расставляют их? Возможно ли защитить свой разум от попадания в ловушку? И если возможно, то как это сделать?
Давайте разбираться.
Как нас ловят
Если вам кажется, что вы никому не нужны, вы ошибаетесь. Вы очень нужны. Вы просто необходимы! Прежде всего как клиент, покупатель и потребитель. Фактически на нас с вами ведется охота и каждую минуту расставляются силки и ловушки, чтобы взять с нас деньги.
К счастью, большая часть этих ловушек не похожа на мышеловки и капканы: никто не ведет нас силой в магазин, не загоняет в парикмахерскую, не привязывает к креслу в кинотеатре. В то же время ловушки, которые на нас расставляют, не менее действенны, чем мышеловка.
Простейшим примером таких ловушек может быть цена, оканчивающаяся на девятки. Охотники за нашими деньгами действительно очень любят назначать за свои товары или услуги цену, которая оканчивается на девятки (это может быть целое число, например 1599 рублей, или десятичная дробь, например 5689,99 рубля). И научные исследования показывают, что такая цена действительно стимулирует покупку.
Охотники на нас называют свои ловушки рекламой, маркетингом, связями с общественностью, технологией продаж. Реклама и прочие способы продать нам продукт или услугу фактически образуют мир вокруг нас. В глазах рябит от ярких вывесок и манящих рекламных плакатов, мигающих баннеров и навязчивых всплывающих окон.
Особенно интенсивно на нас воздействуют в супермаркетах, этих храмах потребления. Здесь используется масса приемов, направленных на то, чтобы мы купили именно нужный продавцам товар и как можно больше. Так, товары, цена которых выше или срок годности которых подходит к концу, продавцы разместят на уровне наших глаз, причем так, чтобы нам было предельно просто их взять и положить себе в корзину.
Продажа товаров не по отдельности, а в удобных небольших упаковках (например, четыре банки пива в пластиковой упаковке с ручкой) хорошо стимулирует покупку (и мы можем купить четыре банки вместо двух).
Тележки в продуманных супермаркетах всегда очень большие. Почему? Потому что полупустая тележка выглядит «не круто» и в ряде случаев может стимулировать нас приобрести больше.
Товары, которые обычно покупают вместе, такие как хлеб и сыр, или мука, масло и яйца, или мясо и приправы к нему, хитроумные продавцы расположат не рядом, а, наоборот, как можно дальше. Расчет тут на то, что, пока вы ищете необходимый вам продукт, пройдете мимо нескольких витрин с другими товарами и с высокой вероятностью совершите импульсивную покупку – купите то, что вам не нужно, но что случайно привлекло ваше внимание.
Большое количество мелких товаров рядом с кассой тоже нужно для того, чтобы заставить вас совершить импульсивную покупку. Стоять в очереди скучно, и вы всегда можете развлечь себя, рассмотрев полки, а там уже и рука потянется за какой-то мелочью, например шоколадкой.
Различные платежные терминалы и банкоматы грамотный владелец супермаркета размещает не у входа, а в самом магазине – среди витрин, заполненных товарами: придет человек положить деньги на мобильный, пройдет мимо красиво упакованных товаров и неожиданно для себя возьмет да и купит что-нибудь.
А уж как распаляют наш покупательский азарт различные распродажи и скидки! И ведь нам не приходит в голову, что скидки, которые нам якобы предоставляют, на самом деле таковыми не являются. Мы не думаем, что перечеркнутая старая цена никогда не имела места и написана хитроумным маркетологом просто для создания иллюзии скидки.
Кстати, есть и более продвинутый прием создания ажиотажа. Он заключается в том, что продавец не только заявляет о скидке, но и вводит ограничение на количество товара, которое может приобрести один человек. Например, это может быть сделано с помощью следующего объявления:
«Распродажа!
Уникальное мыло “Гуру” по сверхнизкой цене!
Спешите! Не более 10 пачек в одни руки!»
Как показывает практика, при таком подходе продажи возрастают: может быть, человек и не купит ровно десять пачек мыла, но он купит его больше, чем купил бы, не будь этого ограничения в десять штук.
И действительно, в одном исследовании, проведенном в супермаркете, ограничение на покупку консервированного супа (со скидкой 10 %) – не более 12 банок в одни руки – привело к тому, что покупатели приобретали в среднем семь банок. Тогда как без такого ограничения люди покупали в два раза меньше [4].
Кстати, на мой взгляд, такой подход – не более Х товаров в одни руки – еще и убеждает покупателей, что скидка действительно имеет место. «Не просто же так продавцы ограничивают количество товара, которое я могу купить!» – думает наивный покупатель.
Подобные маркетинговые ходы можно описывать еще долго, но книга не совсем об этом. Дело в том, что нужно различать охотников за нашими деньгами, которые, по сути, являются добросовестными, то есть стремятся продать то, что нам действительно нужно (эти продавцы просто добиваются того, чтобы мы купили именно у них, а не у их конкурентов и/или чтобы мы купили больше, чем в том случае, если нас предоставить самим себе), и охотников недобросовестных. Последние стремятся продать нам то, что нам не нужно, то, что у нас и так есть (продавцы воздуха), или вообще продают нам совершенно бесполезные товары и услуги – дырки от бубликов и уши мертвых ослов.
Именно последней категории – недобросовестным охотникам – мы будем уделять самое пристальное внимание на страницах этой книги. Ну а называть их мы будем ловцами душ.
Самыми опасными ловцами душ являются как раз представители духовной сферы – создатели различных сект, продавцы всевозможных «духовных практик». Такого рода «духовным» дельцам мы тоже уделим здесь внимание.
Итак, нас ловят недобросовестные охотники за нашими деньгами, недвижимостью. Но на что они ловят нас? Только ли на наши тайные и явные желания, приемлемые и запретные потребности? Нет, не только!
Они ловят нас, расставляя ловушки, предназначенные для нашего разума (для простоты мы будем называть их ловушками разума). Такие ловушки возможны потому, что нашему разуму присущи различные слабости и ограничения. И вот эти слабости и ограничения активно используются охотниками, чтобы облегчить наш кошелек и опустошить наши карманы.
Соответственно, мы попадаемся ловцам душ не только тогда, когда действуем бездумно, повинуемся сиюминутным переживаниям, совершаем импульсивные покупки (хотя надо заметить, что ловцы душ очень любят отключать наш разум и в ряде случаев прямо внушают: «выбирай сердцем», «отдайся своим желаниям», «не напрягайся», «отключи сознание и доверься подсознанию»).
Самое печальное, что мы попадаемся им и тогда, когда включаем голову, задумываемся, пытаемся анализировать и принимать обдуманные решения. В последнем случае как раз и сказываются слабости и ограничения нашего разума, когда в целом правильные реакции, следуя друг за другом, в конечном счете приводят к тому, что мы попадаемся, совершаем ошибку, принимаем невыгодное нам решение.
Что же это за ограничения нашего разума, которые умело и даже изощренно используют в собственных интересах разнообразные ловцы душ?
Давайте детально разберем этот вопрос.
Глава 1 Главная ловушка разума
Как ни странно, но главная ловушка разума – это излишнее доверие ему. Ученые называют такое доверие по-разному – «наивный реализм», «то, что я вижу, – это все, что есть», но суть от этого не меняется. Пока мы считаем, что наш мозг все правильно трактует и верно понимает, мы подвержены попаданию в различные ловушки, основанные на ограничениях разума.
По сути, здесь речь идет примерно о той же ситуации, которая часто возникает при игре в наперстки. Человеку кажется очевидным, что шарик находится под одним наперстком, но оказывается, что он совсем под другим.
Да и вообще, многие вещи, которые представляются нам очевидными, само собой разумеющимися и, главное, истинными, на самом деле оказываются иллюзиями и заблуждениями.
Простейший пример такого рода иллюзий (а для лучшего понимания ограничений нашего разума правильнее всего двигаться именно от простого к сложному) – это оптические иллюзии.
Сущность любой оптической иллюзии заключается в том, что человек видит на рисунке одно, а изображено на нем совершенно другое, он уверен в том, что видит правильно, но на самом деле ошибается.
Рассмотрим для примера иллюзию Понцо (названа по имени открывшего ее итальянского психолога Марио Понцо).
Не очевидно ли, что правая линия длиннее левой? Очевидно. Но это ошибка. Правая и левая линии равны. И вы можете убедиться в этом с помощью обыкновенной школьной линейки.
Более знакомой вам, возможно, покажется иллюзия Мюллера-Лайера.
Кстати, Мюллер-Лайер – это не два человека, как в случае синдрома Клерамбо – Кандинского или закона Бойля – Мариотта, а один – Франц Карл Мюллер-Лайер. Это немецкий психолог, который, по-видимому, кроме открытой им иллюзии, больше ничем не примечателен.
Большинству людей при взгляде на размещенный здесь рисунок кажется, что верхняя горизонтальная линия длиннее нижней, хотя в действительности они равны.
А вот так называемая вертикально-горизонтальная иллюзия.
Приглядитесь, правда же, вертикальная линия длиннее горизонтальной?
Если вы ответили на мой вопрос утвердительно, то ошиблись, поскольку линии на рисунке в действительности равны (вертикальная линия имеет ту же длину, что и горизонтальная).
Очень важное свойство оптических иллюзий заключается в том, что они сохраняются даже у людей, которые знают, что это иллюзии. Теперь, когда вы знаете об иллюзиях Понцо, Мюллера-Лайера и о вертикально-горизонтальной иллюзии, посмотрите снова на приведенные рисунки и убедитесь, что иллюзии сохранились. На самом деле это очень интересная ситуация: глазами вы видите, что линии различаются по длине, а умом понимаете, что они равны.
В похожей ситуации находятся жертвы шарлатанов, финансовых пирамид, эзотерических гуру: умом они понимают, что попались в лапы ловцов душ, но их глаза по-прежнему их обманывают и, соответственно, шарлатанские снадобья кажутся действенным лекарством, вложение в финансовую пирамиду – рациональной инвестицией, а пустые слова гуру – квинтэссенцией истины.
Но оптические иллюзии – это лишь один пример множества ситуаций, в которых очевидное оказывается обманчивым, нереальным, а наш разум подводит нас и мы ошибаемся, доверяя ему.
Приведу еще один пример того, как разум может нас подводить. Ответьте на простой вопрос.
Ракетка для бадминтона и волан вместе стоят 1100 рублей. Сколько стоит волан, если ракетка стоит на 1000 рублей дороже?
Обычно человек отвечает, что волан стоит 100 рублей. И я уверен, что вам этот ответ тоже кажется правильным. Но это как раз тот случай, когда разум нас обманывает, а то, что видится правильным и очевидным, оказывается ошибочным.
Действительно, если волан стоит 100 рублей, то ракетка – 1000 рублей, но 1000 больше 100 лишь на 900 рублей, что противоречит условию задачи.
На самом деле волан стоит всего лишь 50 рублей, тогда как ракетка – 1050 рублей, что ровно на 1000 больше стоимости волана, а значит, условие задачи соблюдается.
Если человек не доверяет своему разуму, не спешит дать первый, лежащий на поверхности ответ, а решает уравнение, то ошибки не возникает.
На всякий случай приведу это уравнение:
х + (х + 1000) = 1100,
где х – цена волана, а (х + 1000) соответственно цена ракетки.
Решается оно так:
2х + 1000 = 1100,
2х = 1100–1000,
2х = 100,
х = 100/2,
х = 50.
Приведу еще одну задачу, которая понадобится нам чуть позже. Запомните, пожалуйста, следующее предложение.
Четыре дня назад школьник Вася купил в спортивном магазине «Олимп» две теннисные ракетки и пять теннисных мячей.
Запомните это предложение как можно лучше, прочитайте его несколько раз.
А пока продолжим наше исследование и решим еще одну задачу.
Если пять машин за пять минут делают пять деталей, то за какое время 100 машин сделают 100 деталей?
И снова ответ, который нам так хочется дать, – «за 100 минут» – оказывается неправильным. Действительно, из условия задачи следует, что одна машина делает одну деталь за пять минут. Таким образом, 100 машин сделают 100 деталей опять-таки за пять минут (за это время каждая машина сделает одну деталь, а поскольку машин у нас 100, то и деталей через пять минут будет изготовлено ровно 100).
Ну и еще одна задача.
На озере растут кувшинки. Покрытая ими площадь каждый день удваивается.
Известно, что кувшинки полностью покрывают поверхность озера за 48 дней. Сколько же дней потребуется для того, чтобы кувшинки заняли половину поверхности озера?
И снова в голову сразу приходит неправильный ответ – 24 дня. Этот ответ возникает во многом потому, что мы делим на два количество дней, а надо делить площадь, покрытую кувшинками.
Действительно, если каждый день покрытая кувшинками площадь поверхности озера увеличивается в два раза, а полностью кувшинки покрывают поверхность озера за 48 дней, то ровно половину кувшинки покрывали в 47-й день.
Впрочем, все эти расчеты, да и в целом математика не всем нравятся, поэтому давайте отвлечемся и выполним следующее простое задание.
Расположите пальцы вашей руки по длине от самого длинного (1) до самого короткого (5).
Пожалуйста, выполните это задание, прежде чем читать дальше.
Когда я даю этот тест аудитории на лекции или тренинге, обычно люди приводят такой список.
1. Средний.
2. Указательный.
3. Безымянный.
4. Большой. 5. Мизинец.
Не знаю насчет длины большого и мизинца (по-видимому, мизинец действительно короче), но вот безымянный палец у подавляющего большинства людей длиннее указательного, а значит, именно он должен стоять на втором месте.
А ведь вам, должно быть, казалось очевидным, что указательный палец длиннее безымянного.
История человечества также дает нам массу примеров того, как наши глаза и разум обманываются сами и в результате обманывают нас. Давайте вспомним несколько примеров такого рода.
Веками люди считали, что Солнце встает и садится. Затем люди стали полагать, что Солнце вращается вокруг Земли. И только позднее в науке восторжествовала правильная гелиоцентрическая модель.
Тысячелетиями люди считали, что легкие тела падают медленнее тяжелых, причем скорость тел при падении не изменяется, остается постоянной.
Долгое время люди были уверены, что масса веществ, участвующих в химической реакции, в процессе реакции изменяется. Тогда еще не был известен закон сохранения массы.
Наконец, долгое время люди считали, что жизнь может зарождаться из грязи, из прокисшего супа, из гнили.
Было очень сложно избавиться от этих неверных представлений, освободить разум из ловушек ложных концепций. И несколько позже мы рассмотрим, как именно произошло это освобождение разума и какие инструменты помогли нам увидеть истину.
Ум не-ума?
«Но что это за пропаганда интуитивизма и иррационализма? – воскликнет кто-то. – Вы что же, уважаемый автор, призываете нас не доверять нашему разуму? Отказаться от разумного анализа возникающих в нашей жизни ситуаций? Выбирать сердцем? Доверять интуиции? Думать, не думая? Стяжать силу не-ума?»
Нет-нет, здесь речь идет совсем не об этом. Я вовсе не утверждаю, что для принятия верных решений надо отключить сознание и довериться интуиции, подсознанию и т. п. Более того, попытки и полагаться на свою интуицию, и получать ответы из некоего «подсознания» являются как раз яркими примерами попадания человека в главную ловушку разума, когда он слишком доверяет себе, своим субъективным ощущениям.
Вдобавок подобные призывы к отказу от разума очень часто используются различными ловцами душ – шарлатанами, лжеучеными и продавцами воздуха. Используются для того, чтобы притупить критичность нашего мышления и, что называется, взять нас тепленькими.
Помните, как говорил Мефистофель?
Мощь человека, разум презирай, Который более тебе не дорог! Дай ослепленью лжи зайти за край, И ты в моих руках без отговорок!Активно использовать разум, продумывать, осмысливать, анализировать, критически воспринимать информацию, которую нам предлагают, необходимо. Но использовать разум следует с оглядкой на присущие ему ограничения, на те ловушки, в которые он склонен попадать.
Ограничения разума
К счастью, человек готов поверить в то, что у его разума есть ограничения. Во многом ему легко поверить в это потому, что он знает: подобные ограничения есть у его тела и органов чувств.
Но, в отличие от ограничений тела, об ограничениях разума обычный человек знает гораздо меньше, а сами они не столь явные. Попробуйте не учесть, например, ограничение подвижности суставов: выверните руку – и вы сразу почувствуете боль. С ограничениями разума не так. Человек может попадаться в ловушки разума снова и снова, но так и не понять, в чем причина его проблем.
Ограничения разума подобны ограничениям органов чувств. Кстати, на ограничениях, присущих нашим органам чувств, тоже построены многие честные и не очень способы отъема денег. Действительно, если бы мы, например, видели сквозь стены, многие формы мошенничества были бы просто невозможны.
Каковы же естественные ограничения наших органов чувств?
Зрение. Мы не видим ультрафиолет и инфракрасное излучение. Если бы мы видели ультрафиолетовое излучение, то не сгорали бы на солнце, всегда могли бы выбрать место, где это излучение наименее интенсивно. И мы никогда не купили бы поддельные солнечные очки, поскольку всегда могли бы увидеть, пропускают ли они ультрафиолет.
Особое место в естественных ограничениях наших органов чувств занимает ограниченность нашего поля зрения и зоны ясного видения. Можно здесь вспомнить и слепое пятно.[1]
И разумеется, фокусники и карманники виртуозно умеют совершать ключевые для их ремесла действия вне поля нашего зрения.
Слух. Мы не слышим ультра- и инфразвуки. Если бы мы слышали инфразвуки, то, подобно многим животным, могли бы заранее узнавать, например, об обвале, землетрясении, сходе лавины.
Осязание. Мы не ощущаем радиацию и рентгеновские лучи. А если бы ощущали, нам не нужен был бы счетчик Гейгера.
Обоняние. Мы не чувствуем запаха угарного газа. А если бы различали, то в нашем языке не было бы такого понятия, как «угорел».
Вкус. Многие яды для нас безвкусны. А если бы мы эти вкусы чувствовали, то нам не нужны были бы дегустаторы и была бы исключена возможность того, что в ночном клубе нам подсыплют клофелин, мы отключимся и наши карманы обчистят. Не ощущаем мы и вкуса многих добавок, таких, например, как каррагинан, которые, снижая питательную ценность пищи (а иногда, по-видимому, и делая ее вредной), уменьшают и ее себестоимость и потому часто используются недобросовестными производителями пищевых продуктов.
Хочу отметить, что ограничения органов чувств человек преодолевает с помощью специальных средств, приборов. В частности, ограничения зрения преодолеваются телескопами, биноклями, микроскопами, приборами ночного видения, наконец. Эти средства помогают нам увидеть то, что невозможно увидеть невооруженным глазом.
Мы можем вооружить не только наши глаза, но и наш разум. И таким специфическим орудием, снижающим вероятность неправильных выводов, ошибок, по сути, являются научные методы получения информации и формулировки выводов на ее основе. Впрочем, об этом мы еще поговорим.
Мы увидим целый ряд ограничений и в том случае, если отвлечемся от отдельных органов чувств и будем рассматривать наше восприятие окружающего мира в целом. Прежде всего нужно вспомнить о скорости восприятия. Мы можем воспринимать только то, что увидели (услышали) в течение определенного промежутка времени. Если этот промежуток слишком короток, мы ничего не увидим (не услышим). В то же время мы не можем воспринимать и процессы, протекающие слишком медленно для нас.
Например, существует такое понятие, как слияние мельканий. Это происходит, когда источник света гаснет и снова включается с определенной частотой. С какого-то момента мы видим уже не отдельные вспышки света, а просто непрерывное свечение. Кстати, такой показатель, как критическая частота слияния мельканий (КЧСМ), является одним из важных диагностических признаков в офтальмологии.
В связи с естественными ограничениями скорости нашего восприятия обязательно нужно вспомнить и так называемый стробоскопический эффект. Благодаря ему возникает та иллюзия движения, на которой построен кинематограф.
К сожалению, стробоскопический эффект может быть причиной тяжелых травм и даже увечий. Речь идет о токарных цехах, освещаемых люминесцентными лампами. Эти лампы, как известно, мигают с определенной частотой. Из-за этого мигания при определенной скорости вращения станка деталь может восприниматься как неподвижная. Причем проверить это на слух рабочий не может, так как в цеху очень шумно. Он хочет взять неподвижную, как ему кажется, деталь, но она на самом деле вращается с высокой скоростью и ему отрывает кисть руки.
Такие профессиональные обманщики наших чувств, как фокусники, тоже активно используют скорость нашего восприятия. Делая что-то очень быстро, они создают иллюзию чуда и настоящей магии.
Ограничения нашего восприятия лежат в основе не только обмана, которому нас подвергают, и мошенничества, жертвами которого мы становимся, но и таких приятных дел, как просмотр хорошего кино.
Кроме ограничений наших органов чувств и восприятия, существуют и ограничения нашего мышления. Так, есть задачи, которые мы не можем решить одним разумом, каким бы совершенным он ни был. И подобно тому, как есть объекты, которые можно увидеть, только вооружив глаза (телескопом, микроскопом), так же есть и задачи, которые можно решить, только используя специальные инструменты. И это необходимо учитывать, принимая решения и делая выводы.
Например, попробуйте сложить в уме, не используя письменные принадлежности и бумагу, все числа от 1 до 100.
1 + 2 + 3 + 4 + 5 … + 99 + 100.
Ну как? Получилось?
Думаю, вряд ли.[2]
А теперь попробуйте произвести в уме следующие арифметические действия:
1 × 2 × 3 × 4 × 5 × 6 × 7 × 8.
И снова, думаю, у вас не получилось.
Ладно, не можете сосчитать, попробуйте по крайней мере угадать! Напишите, сколько примерно получится.
Обычно люди, пытаясь угадать, называют что-то около 500.
Вроде бы ничего удивительного, так ведь? Но это еще не все. Дело в том, что если расположить перемножаемые числа в обратном порядке (8 × 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1), то люди будут называть уже совсем другое число – что-то около 2000.
Каков же правильный ответ? Кто был ближе к истине: те, кто говорил 500, или те, кто называл число 2000? Вы не поверите, но речь идет о принципиально ином числе: 40 320…
Наш разум не только не может сосчитать, зачастую он не может даже правильно угадать. Причем, пытаясь угадать, он дает неправильный ответ, сильно зависящий от совершенно несущественных факторов (как известно, от перемены мест множителей произведение не меняется, однако наш разум был введен в заблуждение порядком множителей).
Эту недооценку человеком величины числа, которое получится в результате последовательного совершения той или иной математической операции (умножения), умные люди подметили довольно давно.
Примером тут может быть легенда об изобретателе шахмат. Она имеет много вариаций, и здесь я изложу одну из них.
Когда индийский мудрец показал свое изобретение – шахматы – одному радже, тому они так понравились, что он попросил мудреца самому придумать себе награду за это потрясающее изобретение.
Мудрец подумал и сказал:
– О щедрейший из щедрых! Я прошу у тебя совсем немного. Просто положи на первую шахматную клетку одно зерно риса, на вторую – два зерна, на третью – четыре, на четвертую – восемь и так далее. И этого мне будет довольно.
Раджа удивился, кивнул и приказал своему советнику подсчитать количество риса, которое нужно отдать мудрецу.
Советник считал три дня, но сосчитать так и не смог!
И неудивительно, ведь у него должно было получиться 18 446 744 073 709 551 615 зерен!
По-видимому, даже если сложить весь рис, произведенный человечеством на сегодняшний день, такого количества зерен не получится.
Похожим образом вы можете выиграть в споре с товарищем. Все, что вам нужно для этого, – поспорить с ним, что он не сможет сложить лист формата А4 пополам больше восьми раз подряд.
На первый взгляд кажется, что сложить лист можно и восемь, и десять раз подряд. Но на самом деле наш разум снова нас подводит, а очевидное оказывается ошибочным.
Я вот, например, только что складывал лист формата А4, и у меня получилось сложить его пополам подряд лишь семь раз. К этому моменту получившаяся бумажная штука стала настолько толстой, что сложить ее восьмой раз было просто невозможно.
Как видим, в оценке результатов так называемого экспоненциального роста (а именно о таком росте идет речь в последних двух случаях: об экспоненциальном росте количества зерен и экспоненциальном росте толщины бумаги) наш разум допускает весьма существенные ошибки.
Если мы пренебрежем плотностью листа бумаги или придумаем способ складывать пополам лист сколь угодно большой толщины, то, когда мы сложим его пополам 103 раза, высота получившегося свертка будет такой, что мы выйдем за границы наблюдаемой Вселенной.
«Но это все арифметика! Это все оторванные от жизни задачи! – скажет кто-то. – А в реальной жизни нам не приходится так напрягать свой разум».
Что ж, тут мы снова имеем дело с заблуждением, ведь в реальной жизни все еще сложнее. Факторов, которые необходимо учитывать для того, чтобы принять правильное решение и сделать правильный вывод, не меньше, а зачастую и больше, чем цифр в приведенных выше примерах, а описаны они гораздо менее точно – далеко не в виде чисел и вообще не в виде однозначно понятных знаков.
Итак, я думаю, вы убедились, что у нашего разума есть ограничения. Но их наличие – это еще полбеды. Проблема усложняется тем, что у разума есть явные ограничения, а есть неявные, которые скрыты даже от него самого.
Явные ограничения – это, например, ограниченное число объектов, о которых мы можем размышлять одновременно. В частности, можете ли вы сразу сказать, сколько точек изображено на рисунке?
Попытка сосчитать точки вскрывает и другое ограничение нашего разума: ему необходимы инструменты. Например, считать точки будет значительно легче, если зачеркивать те, что уже подсчитаны, или хотя бы просто указывать на них пальцем или карандашом. Да и считаем мы не некими присущими разуму категориями, а с помощью чисел, применять которые научились в школе.
Еще одно явное ограничение разума состоит в том, что его работа ухудшается под влиянием эмоций и различных физиологических состояний. Раннее утро, поздний вечер – не самое лучшее время для решения интеллектуальных задач, а слишком плохое или даже слишком хорошее настроение зачастую мешает нам использовать разум в полную силу.
Но самое неприятное то, что у разума есть неявные ограничения – это его уязвимости, слабые места, о которых людям стало известно сравнительно недавно. Речь идет об устойчивых склонностях совершать ошибки, делать неправильные выводы в определенных условиях. И свойства нашего разума, которые заставляют его совершать такого рода ошибки, в науке носят название эвристик и когнитивных искажений, которым, собственно, в основном и посвящена эта книга и о которых мы будем говорить гораздо подробнее.
Что ж, мы убедились, что наш разум, подобно нашим органам чувств, имеет ограничения. Но что с этим делать? Как эти ограничения преодолеть?
Давайте разбираться.
Невооруженным глазом
Когда мы хотим познать мир, получить новую информацию, рассмотреть, услышать, оценить, сопоставить, нам бывает необходимо преодолеть ограничения наших органов чувств. Так, если нам нужно посмотреть дальше, чем видят наши глаза, мы берем бинокль или даже телескоп. Если надо рассмотреть что-то слишком маленькое для нашего взора – берем в руки лупу или микроскоп.
Но не только с помощью чувств мы познаем мир, но и с помощью разума. Причем мы уже поняли, что у нашего разума, как и у чувств, есть ограничения. И для решения познавательных задач мы вынуждены данные ограничения преодолевать.
Как же мы это делаем? Существуют ли телескопы или бинокли для разума?
Наиболее ранние средства, усиливающие разум, были связаны, как представляется, с процедурой измерения. Человек довольно рано понял, что не может определять протяженность, вес и сопоставлять предметы по этим параметрам на глазок. Соответственно, появились измерения и простейшие измерительные шкалы.
Примером такого средства, усиливающего разум и органы чувств, являются простейшие весы с двумя чашами. Они позволяют определить, какой предмет легче, а какой тяжелее, то есть дают относительную оценку массы: какой предмет из лежащих в чашах опускается ниже, тот и весит больше. Если же требуется получить абсолютные показатели, то необходимо, чтобы на одной чаше весов был предмет известной массы. Именно так и работают весы с гирьками: нам известна масса каждой гирьки, мы уравновешиваем ими весы, на другой чаше которых находится взвешиваемый предмет. И в результате узнаем массу этого предмета, подсчитывая, сколько гирек и какой массы нам пришлось положить на другую чашу весов для достижения равновесия.
Вообще, чтобы что-то измерить, нам нужны три элемента:
• измерительный инструмент (прибор);
• шкала измерения;
• единица измерения.
Например, вы устанавливаете встроенную стиральную машину. Вам необходимо определить, поместится ли она, и вы берете рулетку. Рулетка – это измерительный инструмент. На ней изображена измерительная шкала, единицей измерения которой является метр. Причем у этой шкалы есть и более мелкое дробление – на сантиметры и миллиметры.
Изначально, по-видимому, все три элемента измерения – прибор, шкала и единица измерения – совпадали. Возьмем, например, русскую единицу измерения пядь. Пядь – это расстояние между кончиками большого и указательного пальцев при максимальном растяжении. Мы видим, что пядь является и измерительным инструментом, и шкалой, и единицей измерения.
Кстати, именно измерения позволяют нам отличить иллюзии от реальности или избавиться от ложных представлений. Действительно, с помощью линейки можно понять, что на самом деле линии, образующие иллюзию Мюллера-Лайера, равны, а безымянный палец длиннее указательного.
Подсчет также является средством, усиливающим наш разум. И правда, чем пытаться на глазок определить, к примеру, в каком стаде больше овец, можно просто взять и подсчитать их количество. Вообще, усиливающий разум эффект, который дают использование чисел, счета, арифметики, формализация проблемы или задачи, то есть ее перевод в числовую форму, трудно переоценить.
Умозрение
Но если в решении задач на подсчет, на измерение длины и высоты, на взвешивание человек довольно рано перестал полагаться на невооруженный глаз и, если можно так выразиться, на невооруженный разум, то в других сферах люди по-прежнему свой разум переоценивали. Конечно, дело было и в том, что люди пытались познавать вещи, которые очень трудно свести к измеримым или хотя бы осязаемым параметрам.
Хорошим примером тут могут быть древнегреческие философы. Известно, что они не только прекрасно умели считать, взвешивать и измерять, но и заложили основы современной математики. Так, Фалес из Милета изобрел оригинальный способ расчета высоты пирамиды: надо измерить высоту тени от пирамиды в момент, когда тень человека равна росту человека. Но вот более глобальные выводы о мире древнегреческие философы предпочитали делать исключительно на основе разума, то есть занимались умозрением, спекуляциями.
Некоторые из древнегреческих философов даже считали, что для познания мира нужно погрузиться не в анализ его явлений, а в сам разум, просто вспомнить все, что знала душа до воплощения. Таковы были, например, представления Платона.
Подобная позиция – излишнее доверие собственному разуму – очень долго мешала проверить выводы, сделанные разумом, мешала видеть ограничения, которые ему присущи.
В частности, Аристотель, который сделал умозрительные выводы об очень многих объектах и явлениях (причем именно умозрительные, о важности получения эмпирических данных и в особенности о важности эксперимента Аристотель, по-видимому, не догадывался, несмотря на свои немалые умственные способности), считал, что на экваторе нет жизни, поскольку там настолько жарко, что все живое просто сгорает. Понятно, что простейшая эмпирическая проверка легко опровергает этот чисто умозрительный вывод.
Вообще, Аристотель, которого сегодня объявляют основателем многих наук, в действительности долгое время невольно сдерживал развитие науки. Так, написав свои трактаты о логике, объединяемые под общим названием «Органон», Аристотель фактически стал основателем средневековой схоластики, адепты которой делали выводы о мире исключительно на основе логики, дедукции. Схоласты, строго соблюдая правила формальной логики, выводили следствия из авторитетных утверждений, а не из наблюдения за объективной реальностью. Источниками этих утверждений являлись опять-таки труды Аристотеля, а также Священное Писание.
И вот в 1620 году английский философ Фрэнсис Бэкон (1561–1626), стремясь бросить вызов Аристотелю, издает свой «Новый Органон», в котором противопоставляет дедукции индукцию и предлагает все-таки взглянуть на Природу, а не на труды авторитетных авторов. При этом Бэкон разграничивает ученых-пауков – схоластов, вытягивающих паутину своих выводов из древних трактатов, и ученых-пчел, которые собирают эмпирические факты и обобщают их, производя подлинный мед научного знания.
Однако простого выхода за рамки чистого умозрения и перехода к наблюдению, конечно, недостаточно для преодоления ограничений разума. Ведь, наблюдая природные явления, мы можем допускать ошибки в их оценке.
Например, очень долгое время люди были уверены в том, что легкие тела падают медленнее тяжелых. Почему? Потому что мы периодически наблюдаем одну и ту же картину: листья падают с дерева медленнее, чем плоды. К тому же вывод о разной скорости падения тел подкреплялся авторитетом Аристотеля.
И эта ситуация изменилась только тогда, когда Галилео Галилей (1564–1642) – современник и практически ровесник Фрэнсиса Бэкона – провел свой знаменитый эксперимент с одновременным бросанием ядра и дробинки с Пизанской башни.[3]
Эксперимент – это мощный инструмент познания, разрешающая способность которого, фигурально выражаясь, ничуть не меньше таковой у телескопа или микроскопа.
Почему так важен эксперимент?
Потому что в ряде случаев наблюдать (видеть и слышать) и делать выводы из наблюдаемого совершенно недостаточно. Повторюсь: люди веками созерцали падение предметов, но правильные выводы о скорости падения тел сделать не смогли. Поэтому зачастую просто наблюдать мало, необходимо создавать особые условия для проверки того или иного вывода, представления, и только тогда истина явится перед нами. Создание подобных условий и контроль над тем, чтобы к ним не примешались какие-то еще, и называется проведением эксперимента.
Какие условия создал в своем опыте Галилей? Фактически он исключил одно условие, один фактор, мешавший разглядеть истину, – сопротивление воздуха. Действительно, сопротивление воздуха, с которым сталкивается при падении плоский лист, намного больше сопротивления воздуха, с которым сталкивается падающий плод. А вот у дробинки и ядра с сопротивлением воздуха примерно одинаковые отношения…
Кстати, Галилей не только первым применил эксперимент – эдакий телескоп для разума, – он был одним из изобретателей собственно телескопа и даже делал с его помощью открытия, например описал поверхность Луны. Впрочем, об астрономических наблюдениях Галилея мы еще будем говорить.
Итак, одно из главных условий преодоления ограничений разума заключается в том, чтобы перестать опираться только на него, перестать пользоваться невооруженным разумом и попытаться проверить его выводы эмпирически, причем с помощью не только наблюдения, но и эксперимента, который позволяет выявить то, что выявить наблюдением зачастую просто невозможно.
Семь раз отмерь
Понимание того, что нужно не только рассуждать и наблюдать, но и проводить эксперименты, стало очень важным этапом развития человеческого познания. Но развитие познания не остановилось на этом, и был сделан еще один важный шаг. Ученые поняли, что зачастую единичного эксперимента совсем не достаточно и, помимо закономерностей, похожих на те, с которыми столкнулся в своем эксперименте Галилей, есть закономерности, для выявления которых эксперимент нужно провести много раз или же на множестве объектов.
И, наверное, самым наглядным примером того, что одного опыта может быть недостаточно, могут служить знания, умения, навыки и способности человека.
Скажем, мы решили выяснить, знает ли наш приятель историю России. Мы спрашиваем его, в каком году основана Москва. Он отвечает, что в 1147-м. Это правильный ответ. Но можем ли мы на основании этого сделать вывод о том, что наш приятель хорошо знает историю России?
Конечно же, нет. Мы должны задать ему еще несколько вопросов на эту тему. И чем больше мы их зададим, тем точнее будут наши данные о том, насколько хорошо человек знает историю.
Ученые-психологи, создающие тесты IQ, решают похожие проблемы. Вот пример вопроса из теста на интеллект.
Кролик больше всего похож на:
а) кошку;
б) белку;
в) зайца;
г) лису;
д) ежа.
Оставив за скобками простоту этого вопроса, допустим, что человек дал нам на него правильный ответ – вариант «в». Можно ли сделать вывод, что у человека все в порядке с интеллектом, на основе одного этого ответа? Конечно же, нет. Чтобы сделать вывод о его интеллекте, хорошо бы провести еще несколько тестов и посмотреть, сколько из них человек выполнит правильно.
1. У дерева всегда есть:
а) листья;
б) плоды;
в) почки;
г) корни;
д) тень.
2. Комментарий – это:
а) закон;
б) лекция;
в) объяснение;
г) следствие;
д) намек.
3. Противоположностью предательства является:
а) любовь;
б) тунеядство;
в) хитрость;
г) трусость;
д) преданность.
4. Женщины бывают выше мужчин:
а) всегда;
б) обычно;
в) часто;
г) никогда не бывают;
д) иногда.
5. Обед не может состояться без:
а) стола;
б) сервиза;
в) пищи;
г) воды;
д) голода и т. д.
К сожалению, в школе и вузах нам рассказывают в основном о явлениях, которые можно установить в единичном эксперименте наподобие опыта, проведенного Галилеем.
Почему же нужно проводить проверку несколько раз?
Потому, что:
• возможна ошибка, например ошибка измерения;
• возможны скрытые альтернативы, которые не обязательно проявятся с первого раза;
• возможно случайное стечение обстоятельств, которое мы примем за закономерность.
Что ж, твердо уяснив этот важнейший аспект экспериментирования, давайте двигаться дальше.
Кто ищет, тот всегда найдет
В V веке до н. э. жил в Древней Греции философ по имени Диагор Мелосский, который не верил в древнегреческих богов – в Зевса, Деметру, Посейдона и пр. И вот однажды друг философа, пожелавший, видимо, возвратить Диагора в лоно языческих верований, сказал ему примерно следующее:
– О Диагор! Ты так мудр, но не понимаешь, что существование богов очевидно: посмотри, сколь многие наши идолы завалены приношениями мореплавателей, которые благодаря помощи богов выжили в штормах. Подсчитай эти благодарственные приношения – и убедишься в существовании богов!
– Это все здорово, – ответил Диагор, – но что мне делать с моряками, которые просили богов о помощи, а в шторме все равно погибли? Как мне подсчитать их количество?
Этот исторический анекдот как нельзя лучше демонстрирует, что многократная проверка, сбор статистики – это, безусловно, необходимое, но отнюдь не достаточное условие получения точных и объективных данных. Действительно, множество данных, подтверждающих нашу идею, еще не гарантирует, что она истинна.
К сожалению, наш разум устроен таким образом, что склонен искать подтверждения своим выводам, тогда как в большинстве случаев стоит искать их опровержения, рассматривать альтернативные объяснения, учитывать неявные факторы.
Это свойство нашего разума – искать подтверждения – является когнитивным искажением и носит наименование «подтверждающее искажение». Чтобы понять, что такое подтверждающее искажение, лучше и легче всего познакомиться с экспериментом, в котором эта особенность нашего разума была открыта [38].
Представьте, что вы участник этого эксперимента. Экспериментатор инструктирует вас, говоря: «Сейчас я покажу вам последовательность из трех цифр. Ваша задача – определить, по какому правилу она создана. Определять это вы будете следующим образом: создадите собственную последовательность из трех чисел, покажете ее мне, а я вам скажу, соответствует она искомому правилу или нет. Можно совершить сколько угодно попыток. Все ли вам понятно?»
Вы утвердительно отвечаете на последний вопрос, и эксперимент начинается.
Экспериментатор дает вам картонную карточку, на которой написана такая последовательность чисел: 2, 4, 6.
Вы внимательно смотрите на нее. Задумываетесь, а потом предлагаете экспериментатору собственную последовательность: 8, 10, 12.
Экспериментатор говорит: «Да, эта последовательность подчиняется искомому правилу».
Вы предлагаете следующую последовательность: 4, 6, 8. Экспериментатор снова кивает.
Вы называете следующие цифры: 100, 102, 104.
Экспериментатор снова говорит вам «да».
И тут вы осознаете, что правило очень простое – последовательность должна состоять из трех идущих подряд четных чисел. Вы говорите экспериментатору, что угадали правило, и озвучиваете свою догадку. Но экспериментатор говорит вам: «К сожалению, вы ошиблись, правило было такое: каждое следующее число должно быть больше предыдущего».
Как же получилось, что вы не смогли выявить это правило? Дело в том, что вы не рассматривали альтернативные гипотезы и не попытались опровергнуть свою догадку. Вы пытались догадку подтвердить. Вы всегда предъявляли экспериментатору последовательность из трех четных чисел, идущих подряд.
А между тем альтернативных гипотез была масса:
• каждое последующее число больше предыдущего – истинное правило;
• каждое последующее число отличается от предыдущего на 2 (не обязательно в большую сторону);
• третье число – сумма двух предыдущих (2 + 4 = 6);
• каждое последующее число отличается от предыдущего;
• второе число – это среднее арифметическое первого и последнего ((2 + 6)/2 = 4).
Соответственно, вы могли предъявить, но не предъявили экспериментатору такие последовательности чисел:
• 2, 3, 10;
• 7, 5, 3;
• 8, 10, 18;
• 3, 2, 6;
• 3, 6, 9.
Итак, преодолевая ограничения нашего разума с помощью экспериментов, да и вообще при всякой попытке делать выводы о реальности, об окружающих людях и о самих себе нам стоит не только искать подтверждение наших гипотез, мнений, выводов, но и пытаться опровергнуть их.
Давайте же в связи с этим рассмотрим следующий очень важный момент.
Неопровержимо!
Обычно человек считает, что если теория неопровержима, то она по-настоящему истинна. Но это совсем не так: теория, для которой в принципе невозможно разработать экспериментальное опровержение, скорее всего, является весьма сомнительной с научной точки зрения.
Например, утверждение о том, что король одет в платье, будет очень трудно опровергнуть, если также заявлено, что это платье сделано из настолько тонкой ткани, что глупцы даже не смогут его увидеть. Действительно, далеко не каждый готов признать себя глупцом, а значит, и заявить о том, что король голый, отважится далеко не каждый.
Еще один пример неопровержимых утверждений дают нам заявления ряда шарлатанов о том, что их метод (авторский, чудодейственный, новый, научно обоснованный, секретный, тайный, древний – выберите сами) действует только в том случае, если в него верить. Тогда получается, что, если метод сработал, это доказывает его эффективность, а вот если не сработал – это доказывает лишь то, что человек в него не верил или верил недостаточно сильно.
Такого рода утверждения нужно уметь выявлять, их всегда следует опасаться: ловушка, в которую благодаря им попадает разум, зачастую оказывается безвыходной.
Итак, когда ученые хотят объективно проверить, имеет ли место определенная причинно-следственная связь, они не только ищут подтверждения наличия этой связи, но и стремятся отыскать ее опровержение. И вот если подтверждений значительно больше опровержений, делается вывод о том, что причинно-следственная связь все-таки имеется.
Например, если бы каким-то чудом упомянутому нами Диагору Мелосскому удалось выловить со дна моря всех тех моряков, которые, принеся жертвы и дав обеты богам, все равно утонули, и если бы этих моряков оказалось значительно меньше тех, которые, заручившись поддержкой богов, выжили в шторме, то, я уверен, Диагор тут же уверовал бы в Зевса, Артемиду, Ареса и в весь обширный пантеон олимпийцев.
Какие же данные опровергают наличие причинно-следственной связи?
Эти данные можно разделить на две категории:
• причина есть, а следствия нет;
• причины нет, а следствие есть.
То есть фактически ученый при проверке гипотезы о наличии причинно-следственной связи заполняет следующую таблицу.
При этом в пустых ячейках указывается количество случаев, выраженное, например, в процентах.
Но давайте рассмотрим правильную процедуру проверки на более конкретном примере – проверим действенность лекарственного средства.
Лекарство от легковерия
Итак, мы с вами решили проверить действенность лекарства от легковерия. Мы уже много знаем о том, каковы ограничения нашего разума и как их следует преодолевать, поэтому в процессе проверки лекарства будем обязательно рассматривать не только ситуацию «выпил лекарство – избавился от легковерия», но и ситуации:
• «выпил лекарство – не избавился от легковерия»;
• «не выпил лекарство, а от легковерия избавился».
И начнем мы с ситуации «выпил лекарство – не избавился от легковерия».
Мы даем лекарство от легковерия группе наших испытуемых и получаем следующие данные.
Как вы считаете, можно ли признать наше лекарство действенным?
Конечно, нельзя! И дело тут не только в том, что помогает оно лишь в очень малом проценте случаев (пылесос, который включается только в одном случае из десяти, или мобильный телефон, который успешно набирает номер в одном случае из десяти, обычно отдают в ремонт).
Дело тут еще и в том, что такой результат – 10 % – может быть просто статистической погрешностью, возникать случайно. Другими словами, лекарство А не просто помогает только в 10 % случаев, оно вообще не помогает, а исчезновение заболевания в этих 10 % случаев связано с другими факторами или вообще с тем, что заболевание проходит само.
К сожалению, в реальной жизни нас зачастую не волнует, что «действенность» лекарства (рекомендации, метода) проявляется лишь в малом проценте случаев. Мы считаем, что если хоть кому-то помогло, то игра стоит свеч, а лекарство – потраченных на него денег.
Другими словами, если хоть раз в жизни нам «помог» экстрасенс, мы всю жизнь будем считать, что экстрасенсорика существует. Если хоть один раз в жизни мы увидели вещий сон, то мы будем считать, что вещие сны имеют место. Если хотя бы один рецепт из какой-нибудь эзотерической книжки или из книжки серии «Помоги себе сам» нам «помог», мы будем снова и снова покупать такие книжки, веря в то, что подобная литература содержит полезные советы и действенные рекомендации.
И это очень серьезная ловушка, в которую постоянно попадает наш разум.
Но давайте предположим, что, проверяя на действенность лекарство от легковерия, мы получили иные данные.
Можем ли мы в этом случае сделать вывод о том, что лекарство действенно?
На первый взгляд, мы должны обрадоваться и провозгласить: «Мы нашли лекарство от легковерия! Целых 90 % испытуемых избавились от легковерия после его приема!»
Но не все так просто. Почему?
Потому что мы еще не завершили проверку и нам надо посмотреть на ситуацию «не выпил лекарство, а от легковерия избавился».
Давайте этим и займемся.
Для этого мы набрали определенное количество легковерных людей, выждали месяц и проверили, не пройдет ли легковерие само по себе, без всяких лекарств.
Допустим, через месяц мы получили следующие данные.
Что же мы видим?
Мы видим, что наши изначальные представления о том, что лекарство от легковерия очень эффективно («целых 90 % испытуемых избавились от легковерия!»), оказались ложными, поскольку и без всякого лекарства 90 % испытуемых избавляются от легковерия.
Итак, чтобы сделать вывод о том, помогает ли лекарство от легковерия, необходимо рассмотреть не только ситуацию «выпил лекарство – избавился от легковерия», но и ситуации «выпил лекарство – не избавился от легковерия» и «не выпил лекарство, а от легковерия избавился».
Кстати, таблица, с которой мы работали все это время, настолько важна для дальнейшего изложения, что будем называть ее волшебной.
Волшебная таблица необходима всегда, когда речь заходит об определении действенности того или иного метода, лекарства и вообще отделении случайного от закономерного.
Но и это еще не все. Мы кое о чем забыли.
Верно, когда много
Когда я учился в школе, в кабинете математики у нас висел среди прочих небольшой плакат, на котором было написано:
«Статистика. Верно, когда много».
И это очень правильная максима. Действительно, если мы имеем дело с неким явлением, для установления которого единичного эксперимента мало, то очень важно рассмотреть достаточно много случаев, когда это явление может проявиться.
Возвращаясь к нашей проверке лекарства от легковерия, важно учитывать, что заполнить волшебную таблицу недостаточно: полученные нами данные (10 %, 90 %) мало что значат сами по себе, а правомерные выводы из них можно делать, только если эти проценты получены от довольно большого количества испытуемых, или, говоря научным языком, из довольно большой выборки.
Представьте, что перед вами мешок с шарами. Вам сообщили, что в мешке лежит 100 шаров, и попросили, не глядя в мешок, но вытаскивая из него шары, определить, какого цвета шары, лежащие в мешке.
Вы вытаскиваете из мешка пять шаров. Все они оказываются черными. Можете ли вы сделать вывод, что все шары в мешке черные?
Наверное, нет.
Хорошо, вы вытаскиваете десять шаров. Все они черные.
Является ли теперь вывод «Все шары в мешке черные» полностью обоснованным?
Чтобы ответить на этот вопрос, давайте конкретизируем ситуацию. Предположим, что в мешке всего десять шаров черные, а остальные 90 – белые. Возможна ли ситуация, когда, вытянув только десять шаров, мы вытянем лишь черные шары?
Конечно, возможна. Поэтому так важно делать статистический вывод. А именно с такого рода выводами мы имеем дело, когда пытаемся выяснить, эффективно ли лекарство, может ли человек, называющий себя предсказателем, на самом деле видеть будущее или помогает ли экстрасенс, если основываемся только на достаточно большом количестве случаев.
Возвращаясь к нашему примеру с мешком, выясним, сколько следует вытянуть шаров, чтобы гарантированно (именно гарантированно) убедиться, что шары в мешке не только черные.
Правильно, нужно вытянуть минимум 11 шаров.
Конечно, в реальной жизни все не так просто, мы не знаем, какие шары в мешке и сколько их, но общий принцип остается тем же: чем больше количество случаев, на основе которых мы делаем вывод, тем лучше.
А теперь вернемся к проверке эффективности лекарств. Допустим, мы проверяли лекарство от легковерия на группе из десяти человек. Предположим, оно помогло только одному из них. Что мы получаем?
Как мы уже знаем, это означает, что лекарство неэффективно. Правильно? Нет, неправильно! Слишком мало человек было в нашей экспериментальной группе.
Допустим теперь, что мы возьмем не десять человек, а 100. В этом случае вполне могло получиться, что лекарство помогло бы уже не одному человеку, а, например, 50. Согласитесь, это совсем другой показатель эффективности.
Более того, возможно, если бы мы проверяли лекарство на группе из 1000 человек, то лекарство помогло бы уже 900 людям, и это тоже уже принципиально иная ситуация.
Но, разумеется, с ростом размера группы, на которой мы проверяем лекарство, возможно и изменение ситуации в противоположную сторону.
Допустим, мы получили показатель эффективности лекарства 90 % в группе из десяти человек, то есть это лекарство «помогло». Но если мы увеличим размер группы до 100 человек, то показатель эффективности, возможно, будет составлять уже лишь 50 %. Ну а в группе из 1000 человек эффективность лекарства упала бы, скажем, до 10 %, то есть это лекарство стоило бы признать неэффективным.
Итак, чем больше человек в группе, на которой мы проверяем лекарство, тем точнее результаты этой проверки, тем большее доверие вызывают эти результаты, а 90 % из десяти человек – это совсем не то же самое, что 90 % из 1000 человек.
И вот вам простейшее задание на закрепление этого очень важного материала.
Будете ли вы верить следующему рекламному объявлению:
«90 % стоматологов рекомендуют пасту“ КуллДейт”»,
если всего опрошено десять стоматологов?
Конечно, доверять подобному рекламному объявлению, мягко говоря, не стоит. А всякий раз, как вам говорят о процентах, необходимо уточнять, из каких чисел получены эти проценты. Повторю, что 10 % от десяти – это совсем не то же самое, что 10 % от 1000.
Необходимо подчеркнуть, что в реальной жизни, когда, например, нам нужно оценить эффективность какого-нибудь чудодейственного средства, широко рекламируемого по ТВ, мы просто не имеем доступа к такому количеству случаев применения этого лекарства, на котором можно делать заслуживающие доверия выводы…
Пойди туда, не знаю куда…
При заполнении волшебной таблицы у нас не было проблем с определением того, принимает человек лекарство или не принимает, но вот как определить, избавился он от легковерия или нет? Возможно, нужно придумать специальный тест на легковерие?
В целом, я думаю, слово «легковерие» – слишком многозначное и абстрактное, чтобы можно было четко определить степень легковерия конкретного человека. Понятно, что таких расплывчатых понятий при проверке эффективности не только лекарств, но и чего бы то ни было стоит бояться как огня.
В медицине с этим вроде как нет проблем: каждая болезнь имеет четкие диагностические признаки, а наличие болезни твердо устанавливается с помощью различных диагностических процедур и диагностических приборов. Так ведь? Так, да не так…
А что делать, если создатель лекарства утверждает, что оно помогает от множества заболеваний?
Проверять его действенность в отношении каждого заболевания отдельно.
В любом случае, если в качестве эффекта от лекарства приводится нечто абстрактное и многозначное типа «оздоровления организма», «улучшения самочувствия» или «гармонизации энергетики», стоит насторожиться: слишком широк спектр изменений, которые можно будет интерпретировать как доказательство эффективности лекарства.
Детально эти вопросы разбираются в главе 4 «Ловушки языка».
Поймать за руку
Итак, помимо случаев, подтверждающих эффективность, действенность, полезность (лекарства, рецепта, совета, методики), нужно еще рассматривать случаи, опровергающие их. Причем необходимо рассмотреть достаточно много случаев, чтобы вывод был обоснованным.
Но, как говорится, и это еще не все! На самом деле речь идет не только о том, чтобы проверить действенность лекарства множество раз, но и о том, чтобы создать контролируемые условия такой проверки.
Но что такое контролируемые условия и зачем они нужны?
Допустим, мы проверяем эффективность лекарства от гастрита. Мы собираем достаточное количество людей, больных гастритом. Обязательно проводим диагностику – делаем им гастроскопию. Затем мы случайным образом делим этих людей на две группы – экспериментальную и контрольную.
Экспериментальной группе мы даем лекарство и объясняем, как его принимать (предположим, три раза в день во время еды).
Контрольной группе мы лекарство не даем.
Допустим, проверка эффективности лекарства от гастрита будет длиться один месяц. Соответственно через месяц мы проверяем, в каком состоянии гастрит у наших испытуемых, опять-таки с помощью гастроскопии.
Подчеркну, что в нашем исследовании испытуемые целый месяц предоставлены сами себе и мы никак не контролируем, что с ними происходит.
Теперь допустим, что мы провели это исследование и выяснили, что проверяемое лекарство неэффективно: мы сделали всем испытуемым гастроскопию и увидели, что состояние их желудков не улучшилось, гастрит не исчез.
Будет ли в этом случае обоснованным наш вывод о неэффективности лекарства?
Нет, не будет, поскольку мы не знаем, что происходило с испытуемыми в течение месяца.
Предположим, более въедливый исследователь опросил испытуемых и узнал, что в течение месяца они часто нарушали диету (ели острое, очень жирное), употребляли крепкие напитки, питались нерегулярно: сначала подолгу оставались голодными, а потом наедались до отвала.
Из этого можно сделать вывод: гастрит не удалось излечить потому, что испытуемые фактически подвергались влиянию ряда факторов, ведущих к гастриту.[4]
Контроль как раз и заключается в том, чтобы заранее исключить факторы, которые могут повлиять на результат.
Соответственно, более показательной была бы такая проверка эффективности лекарства от гастрита, при которой все испытуемые были бы помещены в стационар, где исследователь смог бы контролировать, что они едят, в каком количестве и с какой периодичностью, и, естественно, исключить употребление ими спиртного.
Добавлю, что в фармакологии контролируемые условия совершенно необходимы. Только тщательный контроль позволяет отделить действенность лекарства от влияния других факторов – в частности, от воздействия других лекарств, от влияния особенностей организма, возраста пациента, места его проживания, уровня его жизни, рода его деятельности и т. п.
Кстати, один из серьезнейших недостатков альтернативной медицины и народного целительства как раз и заключается в том, что в рамках этих «практик» никакие серьезные проверки эффективности используемых снадобий и процедур не проводятся. Зачастую альтернативные медики и народные целители просто не обладают необходимой квалификацией, чтобы провести заслуживающую доверия проверку эффективности их методов.
Контроль особенно важен при проверке работы различных телепатов и экстрасенсов.
Так, если мы тестируем телепата с помощью карт Зенера (телепат должен в достаточно большом количестве случаев правильно назвать карту, выпавшую экспериментатору; детальнее этот способ проверки мы еще рассмотрим ниже), мы должны полностью исключить для него возможность получения информации о том, какие карты на самом деле выпадают экспериментатору. В частности, человек, которому выпадают карты Зенера, должен сидеть далеко от телепата, желательно вообще в другом помещении, чтобы телепат не мог его ни видеть, ни слышать.
При испытании экстрасенсов также необходимо полностью перекрыть им как доступ к информации (в случае проверки на ясновидение, на способность искать пропавших людей или читать ауру), так и возможность повлиять на результат вполне материальными методами (в случае проверки на телекинез или мысленный гипноз).
Подчеркну, что на сегодняшний день все положительные результаты проверки телепатов и экстрасенсов объясняются не наличием у этих испытуемых паранормальных способностей, а именно пробелами в контроле и другими дефектами в проведении экспериментов.
Итак, в настоящее время проверка действенности лекарств осуществляется в ходе специальных исследований.
Однако и сегодня нам постоянно предлагают чудодейственные средства, «лекарства» от всех болезней, которые подобных испытаний не проходили.
Далее мы рассмотрим интересный случай, который хорошо демонстрирует, как плохой контроль может помешать найти истину даже при использовании эксперимента.
Загадочный случай умного Ганса
Умный Ганс – это не человек, а конь, точнее, орловский рысак, живший в начале XX века. На потеху толпе он давал правильные ответы на вопросы своего хозяина – школьного учителя математики Вильгельма фон Остена. Правильный ответ рысак отстукивал своим копытом. Конь мог складывать, вычитать, делить, умножать, причем вопрос мог быть предъявлен как в устной, так и в письменной форме. Собственно, поэтому Ганса и называли умным.
Естественно, через некоторое время успешных выступлений умный Ганс привлек внимание ученых, а именно крупного немецкого философа и психолога Карла Штумпфа. И прежде всего этот ученый решил проверить, не мошенничает ли фон Остен, не нашел ли он способ давать своему рысаку подсказки. Поверить в математические способности животного ученому, естественно, было трудно.
Для осуществления проверки Карл Штумпф собрал комиссию из 13 экспертов. Перед этой комиссией Вильгельм фон Остен и его умный Ганс показывали свои «математические опыты», эксперты внимательно следили за фон Остеном и никаких подсказок не нашли.
Повисла напряженная пауза. По-видимому, ученым нужно было признать, что они ошибались в оценке интеллектуальных способностей животных, что кони прекрасно умеют считать и понимают человеческий язык, или даже сделать еще более фантастические выводы.
Но, к счастью, вскоре умным Гансом занялся ученик Карла Штумпфа Оскар Пфунгст. Этот ученый подошел к проблеме более фундаментально – он стал варьировать условия, в которых Ганс показывал свои «математические способности».
Сначала Пфунгст изолировал фон Остена и Ганса от наблюдателей. «Математические способности» сохранялись. Затем Пфунгст использовал совершенно другие вопросы, нежели фон Остен. «Математические способности» сохранялись. Тогда, используя шоры, Пфунгст лишил Ганса возможности видеть человека, задающего ему математический вопрос. И тут «математические способности» рысака сразу исчезли. (Это, наверное, единственный случай в истории, когда «зашоренность» помогла отыскать истину, а не потерять ее.) Затем Пфунгст попросил фон Остена задать Гансу вопросы, ответов на которые сам фон Остен не знал. И вновь «математические способности» Ганса исчезли (до уровня случайного попадания).
И тогда талантливый ученый, обобщив полученные результаты, сделал правильный вывод: Ганс не умеет считать, зато умеет считывать едва заметные изменения в поведении человека, задающего ему вопрос. Ганс начинает стучать копытом и внимательно смотрит на вопрошающего. Тот, в свою очередь, считает количество ударов копытом. Когда это количество приближается к искомому числу, задающий вопрос напрягается. Ганс улавливает это напряжение. Если копыто отстучало нужное число, человек, задающий вопрос, расслабляется и Ганс заканчивает стучать копытом. Если же напряжение не спало, Ганс продолжает отстукивать число, пока не увидит расслабления.
Вот так правильно спланированный эксперимент помог избавиться от совершенно неверных выводов и ложного факта (артефакта).
Кстати, Оскар Пфунгст не остановился на этом и решил еще раз проверить свой вывод. Для этого ученый просил разных людей задумывать любое число, а сам брался отгадать его, отстукивая его рукой. Как вы догадываетесь, успехи Пфунгста в этом деле были не меньше, чем успехи умного Ганса. Да и любой читатель, я полагаю, сможет после продолжительных тренировок отгадывать задуманные другими числа.
Кстати, примерно то же самое делали и испытуемые Роберта Тру, когда правильно называли день недели (см. главу 5 «Ловушки памяти»).
К сожалению, больше ничем Оскар Пфунгст не прославился. Зато сегодня в психологии существует феномен под названием «эффект умного Ганса», а экспериментаторы стараются сделать все, чтобы этот эффект не исказил результаты их экспериментов. Кстати, на мой взгляд, этот эффект стоило бы назвать эффектом Пфунгста, но, видимо, такое словосочетание было бы слишком неблагозвучно для большинства людей (исключая, естественно, немцев).
Попробуйте и убедитесь сами!
В рекламных объявлениях, из уст продавцов мы часто слышим этот громкий и радостный призыв. Продавец призывает нас не верить ему на слово и самостоятельно убедиться в полезности того, что он предлагает. «Ах, какой честный человек!» – думаем мы.
Но так ли это?
Я думаю, уважаемый читатель, теперь вы понимаете, что этот призыв продавца вовсе не проявление честности, поскольку он ничем не рискует: ведь в большинстве случаев мы просто не можем объективно проверить то, что нам предлагается.
Действительно, в отличие от оптических иллюзий, наличие которых мы можем проверить с помощью обыкновенной линейки, или хитроумных задачек, которые мы все же можем решить, составив уравнение, при проверке эффективности различных чудодейственных средств, а также любых широко распространенных сегодня методов достижения успеха и обретения счастья (типа тренингов и «духовных» практик) мы просто не в состоянии провести ее точно и объективно.
В частности, мы не можем собрать необходимое количество случаев – сформировать репрезентативную выборку.
Мы не можем самостоятельно провести исследование, собрать экспериментальную и контрольную группу.
Мы не можем заполнить волшебную таблицу так, чтобы она действительно стала волшебной – помогла нам сделать правильные выводы об эффективности.
Наконец, мы не можем обеспечить тщательный контроль при проведении такого рода проверки.
Более того, фактически апеллируя к возможности самостоятельной проверки, ловец душ находится в беспроигрышной ситуации, поскольку всегда будут люди, которые на собственном опыте убедятся, что чудодейственное снадобье эффективно, а секретный метод работает. Подробнее мы обсудим этот момент – беспроигрышность шарлатанства – несколько позже, когда существенно пополним знания об ограничениях и слабых сторонах нашего разума.
Кроме того, следует понимать, что задача продавца весьма очевидна: продать товар или услугу. И если мы подчиняемся его призыву и решаем проверить то, что он продает, мы вынуждены сделать покупку. Другими словами, даже если мы не поверили продавцу, не пали жертвами его убедительных заявлений об эффективности продаваемого им лекарства, а купили его, только чтобы проверить, шарлатан все равно добился своей цели – получил с нас деньги.
Поэтому, по сути, продавцу неважно, убедимся мы в действенности его продукта или услуги либо увидим бесполезность и неэффективность, поскольку деньги мы уже заплатили, а он свой продукт или услугу уже продал.
Итак, исходя из того, что вы только что прочитали, давайте постараемся ответить на следующий вопрос.
Может ли человек самостоятельно, не проводя исследование, определить:
• помогает ли лекарство;
• помогает ли медитация или визуализация;
• помогает ли наложение рук или воздействие на биополе;
• работает ли та или иная техника общения, влияния, манипулирования?
И как это ни обидно, но ответ на все эти вопросы один: нет, не может.
Думать как миллионер?
Многие ловцы душ очень любят говорить о том, что они нашли свои чудодейственные рецепты, изучая истории жизни эффективных, успешных людей: миллионеров, известных психотерапевтов, топ-менеджеров крупных компаний и пр.
Но стоит ли воспринимать эти заявления всерьез? Можно ли выявить что-то полезное, изучая успешных людей? Можно ли чему-то научиться, читая истории успеха?
Давайте поразмышляем.
Допустим, мы изучим истории 100 миллионеров и обнаружим, что среди них нет ни одного, кто не занимался бы тем или иным видом спорта. Будет ли это означать, что нельзя стать миллионером, не занимаясь спортом?
Или еще вопрос: если кто-то исследовал личности многих миллионеров и обнаружил, что все они обладают некоторым психологическим качеством Х, означает ли это, что если вы хотите стать миллионером, то вам срочно необходимо начать развивать это качество?
Разум подталкивает нас к тому, чтобы покивать головой, дать утвердительный ответ. Казалось бы, совершенно верен вывод о том, что если качество присуще всем, кто добился успеха, то успех определяется именно этим качеством.
Но вот что получается, если мы посмотрим на проблему пристальнее. И здесь нам снова поможет волшебная таблица. Давайте попытаемся ее заполнить.
Как видим, рассуждая описанным выше образом, мы не заполнили волшебную таблицу целиком, а значит, сделали очень серьезную ошибку. Мы не учли людей, которые обладали качеством Х, но не стали миллионерами.
Таким образом, если бы ловец душ потрудился исследовать не только миллионеров, он увидел бы, что многие люди, даже обладая качеством Х, не становятся миллионерами.
Обратите внимание, что речь в данном примере идет о предельно упрощенной ситуации, когда не существует людей, не обладающих качеством Х, но тем не менее ставших миллионерами.
Не учитывается в данном подходе и то, что миллионеров и вообще успешных людей гораздо меньше, чем «середняков», а значит, в попадании в эту категорию велика роль случайных факторов. Подробнее этот вопрос рассматривается в главе 3 «Ловушки случайностей».
Итак, мы видим, что подход типа «как мыслят миллионеры», или «как работают известные психотерапевты», или «как воспитывают своих детей богатые папы» ущербен и приводит к ошибкам. А ведь продавцов подобных рецептов успеха сейчас довольно много…
* * *
Итак, главная ловушка разума – это излишнее доверие выводам собственного разума.
Это означает, что нам не стоит переоценивать силы нашего разума и считать, что он может делать правильные выводы и вырабатывать верные решения в условиях недостатка информации и без применения специальных средств, делающих его, по аналогии с глазом, вооруженным.
Наиболее эффективные средства, вооружающие наш разум, использует наука: научные исследования специально планируются так, чтобы скомпенсировать слабости разума, чтобы учесть его систематические ошибки и защитить от попадания в одну из многочисленных ловушек.
Это, однако, совсем не означает, что все научное безошибочно, а все ученые непогрешимы. Наука делается людьми, а люди имеют недостатки, склонности, пристрастия, скрытые цели. К тому же даже точные научные методы не застрахованы от ошибок и даже в скрупулезно спланированный эксперимент может вкрасться искажающий фактор.
Кроме того, существуют вопросы, на которые наука в принципе не может дать ответ. Это так называемые предельные, фундаментальные, базовые вопросы – вопросы о смысле, такие как «В чем смысл моей жизни?», «Зачем я здесь?», «Какова цель моего существования?». Обычно наука, особенно если речь идет о ее сциентистской[5] интерпретации, просто объявляет эти вопросы несуществующими, иллюзорными, субъективными.
Таким образом, критически следует воспринимать все выводы нашего разума, в том числе и сделанные в рамках научных исследований.
А сейчас мы более детально рассмотрим, что же происходит, когда мы пытаемся делать выводы о реальности с помощью «невооруженного разума». Причем основное внимание уделим ситуациям, в которых нам необходимо понять, в чем причина тех или иных событий, оценить способность человека повлиять на ситуацию или хотя бы предсказать ее исход (ловцы душ, кстати, всегда стремятся убедить нас в том, что именно они стали причиной улучшения нашего самочувствия, выздоровления и пр.). Понятно, что ошибки при решении такого рода задач могут быть по-настоящему фатальными.
Глава 2 Ловушки причинности
Одна из главных задач, которая стоит перед нашим разумом, – отыскать причинно-следственную связь, найти причину происходящих событий. Излюбленный детский вопрос «Почему?», который дети иногда задают настолько часто, что родители с трудом сдерживают гнев, порождается именно этим стремлением. Любимые многими более взрослые вопросы «Кто виноват?» и «Что делать?» также задаются для поиска причины: в первом случае – причины негативных событий, во втором – той, что могла бы привести к событиям позитивным.
И хотя причинно-следственные объяснения подвергались критике, например, английским философом по имени Дэвид Юм, хотя существуют сферы, в которых они, по-видимому, вообще неприменимы (речь идет преимущественно о квантовой механике), поиск причин, формулировка причинно-следственных объяснений по-прежнему весьма востребованы как в науке, так и в повседневной жизни. Поиск объяснения – это вообще зачастую именно поиск причины, выявление причинно-следственной связи.
Пожалуй, классическим примером активности нашего разума, направленной на поиск причин, можно считать многочисленные попытки объяснять различные явления природы. В донаучную эру люди в поисках причин дождя, грозы, молнии, болезней, смерти рисовали различные личностные (духи, демоны, божества) или безличные (дао, карма, инь и ян, ци, прана) образы. С появлением науки люди в основном отказались от персонификаций и олицетворений и стали предпочитать образы безличные. Причем среди этих образов были и ошибочные, например теплород, флогистон, животные духи, энтелехия, миазмы, светоносный эфир.
Да, уязвимости нашего разума – эвристики и когнитивные искажения – систематически заставляют нас ошибаться в процессе поиска причин. И в результате мы порой «находим» такие причины, которые не только не решают нашу проблему, но еще и усугубляют ее. Например, мы видим злонамеренность и враждебность там, где имеют место просто невнимательность, поспешность, необдуманность или двусмысленность.
А еще нам очень важно знать, являемся ли мы сами причиной тех или иных событий, обусловлен наш успех нашими личностными, интеллектуальными, волевыми, деловыми качествами или же простым стечением обстоятельств, статусом нашей семьи, везением. А наши неудачи, промахи? Стоит ли поработать над собой, чтобы избежать их повторения? Или же работать над собой бесполезно, потому что невозможно повлиять на случайные процессы, меняя что-то в самом себе? К сожалению, такого рода самооценка тоже зачастую ошибочна.
В целом наши ошибки в выявлении причин можно разделить на следующие группы:
• причинно-следственная связь имеет место, но мы считаем причиной совсем не то, что ею объективно является, путаем причину со следствием, ошибаемся в определении характера, направленности и/или силы этой связи;
• мы видим причинно-следственную связь там, где ее вообще нет, а есть лишь случайность – стечение обстоятельств, совпадение.
Второй группе ошибок, которые мы совершаем в попытке выявить причину, посвящена существенная часть главы 3 «Ловушки случайностей», а здесь мы остановимся на первой группе ошибок.
Чтение характеров
Одна из главных сфер, в которой мы все время занимаемся поиском причин, – поведение окружающих нас людей. Мы постоянно стремимся выяснить, почему люди поступают так, а не иначе, ведут себя тем или иным образом.
В науке этот процесс поиска причин, объяснений человеческого поведения, в который мы вовлечены на перманентной основе, носит название каузальной атрибуции.
Каузальная атрибуция – это процесс поиска мотивов, личностных черт и других факторов, лежащих в основе поведения тех, с кем мы вступаем в контакт, общаемся, взаимодействуем, за чьим поведением наблюдаем. Каузальная атрибуция – это то, чем наш разум занят постоянно. Нам совершенно необходимо выяснить, почему люди поступают так, а не иначе, чтобы предсказать их поведение и повлиять на него.
«Почему он не звонит?», «Почему она мне отказала?», «Что заставляет его поступать подобным образом?», «Почему она не понимает меня?», «Как убедить его сделать то, что мне нужно?» – на эти и на множество других подобных вопросов мы отвечаем в процессе каузальной атрибуции.
Одна из весьма серьезных проблем здесь связана с тем, что в процессе каузальной атрибуции мы в большинстве случаев совершаем одну и ту же ошибку – считаем, что поведение человека является проявлением его личности, устойчивых черт характера, психологических особенностей, присущих ему, а вовсе не чем-то случайным, вызванным лишь обстоятельствами. Эта ошибка столь фундаментальна и по своей распространенности, и по своему влиянию на познание человека человеком, что ученые назвали ее фундаментальной ошибкой атрибуции.
Открыта она была в следующем классическом эксперименте [18]. Его участники (студенты колледжа) читали эссе о Фиделе Кастро, якобы написанное другим студентом (на самом деле эссе писали сами экспериментаторы). При этом одним испытуемым говорили, что автор эссе сам принял решение о том, будет он поддерживать или порицать Кастро, тогда как другим объяснили, что студент поддерживает или порицает его по просьбе экспериментаторов.
Так, участники эксперимента были случайным образом распределены по следующим четырем группам.
Группа 1. Автор эссе поддерживает Кастро, причем он сам принял решение о том, что будет писать в поддержку Кастро.
Группа 2. Автор порицает Кастро, причем он сам принял решение о том, что будет порицать Кастро.
Группа 3. Автор поддерживает Кастро, причем его попросили написать именно поддерживающее Кастро эссе.
Группа 4. Автор порицает Кастро, причем его попросили написать именно порицающее эссе.
Для наглядности вы можете посмотреть на приведенную ниже таблицу.
После того как испытуемые прочитали эссе, наступила ключевая стадия эксперимента – их попросили ответить на вопрос: действительно ли автор поддерживает (порицает) Фиделя Кастро?
И тут исследователей ждал сюрприз: испытуемые из третьей и четвертой групп не затруднились с ответом и уверенно заявили, что автор эссе на самом деле исповедует именно те убеждения, которые в эссе изложены. Другими словами, эти испытуемые совершили фундаментальную ошибку атрибуции: они не учли влияние ситуации (наличие просьбы экспериментатора) и списали все на свойства личности автора (его установки по отношению к Фиделю).
А вот еще один интересный эксперимент, демонстрирующий фундаментальную ошибку атрибуции [29].
Участники эксперимента общались с девушкой (ассистенткой экспериментатора) и должны были оценить ее дружелюбие. Причем исследователи снова работали с четырьмя группами.
Группа 1. Девушка ведет себя дружелюбно, и участники эксперимента знают, что она вольна была выбирать, как вести себя.
Группа 2. Девушка ведет себя недружелюбно, и участники эксперимента знают, что она вольна была выбирать, как вести себя.
Группа 3. Девушка ведет себя дружелюбно, и участники эксперимента знают, что экспериментаторы попросили ее вести себя дружелюбно.
Группа 4. Девушка ведет себя недружелюбно, и участники эксперимента знают, что экспериментаторы попросили ее вести себя недружелюбно.
И, как уже догадался проницательный читатель, снова испытуемые из третьей и четвертой групп решили, что девушка ведет себя дружелюбно или нет только потому, что такова ее личность, таков ее характер.
В дальнейшем это проявилось еще во множестве экспериментов, и сегодня понятие фундаментальной ошибки атрибуции можно считать одним из ключевых для социальной психологии.
Ловцы душ прекрасно знают о нашей склонности объяснять человеческое поведение чертами характера. Поэтому многие из них предлагают нам самые разные способы, которые якобы позволяют эти черты выявлять. В совокупности все эти способы можно обозначить зонтичным термином «чтение характеров». Частными примерами таких способов выявления психических свойств человека являются и астрология, и китайский календарь, и различные формы физиогномики (определения черт характера по чертам лица), и выявление типа личности по телосложению (неважно, в версии Кречмера или Шелдона), и индикатор типов Майерс – Бриггс (MBTI), и НЛП (метапрограммы, деление людей на визуалов, аудиалов и кинестетиков), и соционика, и проективные тесты.
Конечно, в основе веры в возможность чтения характеров лежит не только фундаментальная ошибка атрибуции, но и иллюзорная корреляция, которую мы рассматриваем в главе 3 «Ловушки случайностей», а также эффект Барнума, рассмотренный в главе 4 «Ловушки языка».
Итак, если вы уверены, что поведение человека обусловлено его личностью и свидетельствует о наличии у него определенной черты характера, вспомните о фундаментальной ошибке атрибуции и не спешите действовать, исходя из сформулированного вами вывода.
Враг мой
Да, в ряде случаев причинно-следственные связи, которые мы себе нарисовали, не совпадают с действительной картиной. В частности, мы склонны считать причиной поведения человека скорее неизменные, стабильные свойства его психики – черты характера, психологический тип, чем сиюминутные, изменчивые, ситуативные, случайные факторы.
Но и это еще не все: в процессе каузальной атрибуции мы склонны совершать еще одну ошибку.
Дело в том, что если мы ищем причины оскорбительного поведения, грубых слов, обидных шуток, то скорее склонны предполагать злонамеренность и даже наличие коварного плана, чем безалаберность и необдуманность.
Например, если собеседник нас обидел, мы склонны считать, что он сделал это специально, а не по недомыслию; если партнер поставил нас в неловкое положение, мы скорее решим, что он сделал это сознательно, чем предположим, что произошла неприятная случайность. Ученые называют эту уязвимость нашего разума «враждебное искажение атрибуции».
Враждебное искажение атрибуции, конечно, не столь глобально, как фундаментальная ошибка атрибуции, проявляется оно далеко не всегда, но все-таки может оказать и оказывает существенное влияние. Враждебное искажение атрибуции заставляет нас интерпретировать вполне благонамеренное или же амбивалентное, неоднозначное поведение людей как однозначно злонамеренное, считать людей, которым мы безразличны, нашими врагами, видеть заговоры и козни там, где есть лишь простая невнимательность, необдуманность или поспешность.
Думаю, огромное число актов агрессии, драк, словесных перепалок вызваны именно враждебным искажением атрибуции. И действительно, зачем упускать возможность проинтерпретировать поведение партнера как вызывающее, провоцирующее, как манипуляцию или неприкрытый акт самоутверждения за наш счет?!
Во многом именно враждебное искажение атрибуции лежит в основе возникновения и распространения различных теорий заговора. Формулируя такие теории, человек создает весьма впечатляющий, яркий и запоминающийся образ врага и совершенно не желает рассматривать альтернативные объяснения негативных событий и процессов, в частности, не хочет даже предположить, что там, где он видит все признаки злонамеренности, на самом деле имеют место простая безалаберность, непрофессионализм, халатность.
Например, многим людям намного легче поверить в слова Виктора Суворова о том, что Сталин специально отодвинул советские войска от границы, чтобы заставить Гитлера напасть, чем предположить, что это была простая безалаберность, нерасторопность, неправильная оценка разведданных и ситуации в целом.
Для борьбы с нашей склонностью предпочитать в качестве причины негативных событий чью-то злонамеренность следует применять так называемую бритву Хэнлона.
Бритва Хэнлона – это принцип, который гласит, что негативные события вызваны скорее халатностью, ошибками, человеческим фактором, чем спланированными мероприятиями, заговором. Или в авторской формулировке: «Никогда не объясняйте злонамеренностью то, что вполне можно объяснить глупостью».
Нашу склонность верить в теории заговора, в неких злонамеренных субъектов, в деятельности которых сокрыты причины наших несчастий, часто используют различные ловцы душ. Начиная с тех, кто продает нам амулеты от демонов, и заканчивая теми, кто создает настоящие секты на основе учения о том, что мир кем-то захвачен и его надо освободить.
Итак, если вам кажется очевидным, что в отношении вас совершен неприкрытый акт агрессии, что миром правят рептилоиды, а воду в кране выпили какие-то таинственные темные силы, не спешите принимать этот вывод, вспомните о том, что в вашей ситуации могло сработать враждебное искажение атрибуции.
Помимо того что мы склонны считать причиной негативных событий скорее чью-то злую волю, чем безалаберность, что мы предпочитаем объявлять причиной тех или иных действий конкретного человека его личность и характер, а не случайные или ситуативные факторы, зачастую мы вообще полагаем причиной совсем не то, что на самом деле ею является.
Так, если мы излечились от того или иного заболевания, то склонны считать причиной этого принятое нами чудодейственное средство, волшебную пилюлю, а вовсе не иммунитет и регенерационные способности нашего организма.
Ну а если наша жизнь улучшилась, какие-то проблемы разрешились, то мы предпочитаем считать причиной этого помощь колдуна, экстрасенса, шамана, всемирно известного гуру, посещение широко разрекламированного тренинга, а не какие-то более приземленные и обыденные факторы.
И действительно, то, что находится на виду, привлекает наше внимание, то, на чем сфокусирован свет софитов, мы склонны считать активным ингредиентом, действующим началом, подлинной причиной.
Эта уязвимость нашего разума носит название иллюзорной причинности.
Иллюзорная причинность
Традиционно наиболее ранним экспериментом, в котором проявилась иллюзорная причинность, считают эксперимент Курта Коффки [19] – одного из создателей гештальтпсихологии.[6] Этот эксперимент проходил следующим образом.
Испытуемый находился в темной комнате. Ему предъявляли две светящиеся точки и просили следить за одной из них. Затем экспериментатор незаметно совершал определенные манипуляции, и расстояние между светящимися точками постепенно увеличивалось. После этого испытуемого просили определить, какая из точек двигалась. И как вы, наверное, догадываетесь, в подавляющем большинстве случаев испытуемый считал, что двигалась именно та точка, за которой он следил.
Необходимо пояснить, что точно определить, какая точка движется, практически невозможно, поскольку в темноте у человека нет ориентиров для определения ее местоположения.
Второй эксперимент, который мы рассмотрим [36], касается восприятия уже не материальных объектов, а человека человеком. В эксперименте принимали участие шестеро человек. Их рассадили так, как показано на рисунке ниже, вокруг двух ассистентов экспериментатора, ведущих беседу друг с другом.
Участники A, B, C, D, X и Y наблюдали за беседой «альфы» и «омеги» и внимательно слушали, что они говорят, какие вопросы задают собеседнику, как отвечают на его вопросы.
Затем участников эксперимента попросили ответить, кто из двух говорящих:
• задавал тон беседы;
• владел ключевыми сведениями;
• подводил собеседника к желательным ответам и пр.
И как вы, возможно, догадываетесь, по этим критериям в отчетах участников на первом месте оказывался тот говорящий, которого они видели анфас, а не со спины. Соответственно, для наблюдателей A и B более влиятельным, более «причинным» являлся «омега», тогда как для наблюдателей C и D – «альфа».
Ну а с точки зрения участников, сидевших сбоку и видевших обоих беседующих под одним и тем же углом (участники X и Y), значимой разницы между собеседниками по их влиятельности не было.
В другом варианте описанного эксперимента [27] влиятельность человека оценивалась по похожим «шкалам», но на этот раз варьировали не точку обзора наблюдателей, а характеристики участников, «причинность» которых предстояло оценить:
• цвет их рубашек;
• тип сидений, на которых они сидели;
• освещенность их фигур.
Соответственно, испытуемые считали более влиятельными участников:
• одетых в яркую рубашку, а не в серую;
• сидящих в кресле-качалке, а не на обычном стуле;
• освещенных ярко, а не тех, на кого падало меньше света.
Иллюзорная причинность, несомненно, является одним из тех факторов, которые ведут к систематическим ошибкам в оценке эффективности тех или иных коммуникаторов, будь то деструктивные тренеры, пропагандисты лженауки, продавцы воздуха или вербовщики в секты.
Весьма наглядно иллюзорная причинность проявляется на различных сеансах массовых исцелений, массового гипноза, когда находящийся в центре внимания оратор, проповедник воспринимается всеми как подлинная причина происходящих «чудес».
А как же обстоят дела в случае самооценки? Не склонны ли мы совершать ошибки, если нам необходимо оценить, являемся ли мы сами причиной тех или иных событий? Давайте разбираться.
Иллюзия контроля
В ситуациях, когда мы пытаемся понять, являемся ли сами причиной тех или иных событий, мы тоже склонны ошибаться. На научном языке этот эффект называется иллюзией контроля и заключается в том, что нам кажется, будто мы контролируем происходящие события, можем повлиять на их ход и исход тогда, когда в действительности у нас нет никакого контроля и никаких рычагов воздействия.
Именно иллюзия контроля заставляет нас совершать определенные ритуалы при вытягивании экзаменационных билетов, дуть на кости перед их броском, именно это когнитивное искажение заставляет нас передавать право что-то сделать людям, у которых более легкая рука, которых мы считаем более везучими, или, наоборот, не доверять другому вытянуть за нас карту или бросить игральные кости и пр.
Поскольку под влиянием иллюзии контроля нам кажется, что мы можем повлиять на события, независимые от нашей воли и просто случайные, различные формы древней и современной магии во многом построены именно на этой иллюзии.
Например, социолог Джеймс Хенслин, наблюдая за игроками в казино, обнаружил, что если они хотят выбросить маленькое число (1–1, 2–2, 1–2 и пр.), то бросают кости осторожно, а если нужно большое число (5–6, 6–5 и пр.), то резко и сильно. Понятно, что такие действия бессмысленны, поскольку не снижают степени случайности, с которой кости падают теми или иными своими гранями, поэтому такого рода поведение как раз и демонстрирует иллюзию контроля [16].
А вот еще один интересный факт, также связанный с игральными костями, но полученный в результате не наблюдения, а экспериментального исследования.
Итак, если сравнить размеры ставок, которые испытуемые делают на ту или иную комбинацию до и после того, как кости выброшены, то можно увидеть: более низкие ставки они делают в ситуации, когда кости уже выброшены (но выпавшая комбинация не видна испытуемому). И опять же с точки зрения теории вероятностей ситуации «бросок еще не сделан» и «бросок уже сделан» совершенно идентичны, следовательно, разница в размере ставок объясняется иллюзией контроля: человеку кажется, что у него больше шансов на выпадение искомой комбинации, пока кости еще не брошены [35].
Еще один пример связан с нью-йоркскими светофорами. Дело в том, что после установки светофоров в Нью-Йорке в 1970-е годы пешеходы переключали их с помощью кнопок. Однако в 1980-е контроль над светофорами стал централизованным, а кнопки прагматичные американцы просто не стали убирать. Тем не менее жители Нью-Йорка по-прежнему продолжают нажимать на светофорные кнопки, хотя никакой связи между нажатием и тем, что загорается зеленый свет, нет [26].
Ну и наконец, давайте познакомимся с классическими экспериментами Эллен Лангер, в которых и была открыта иллюзия контроля [20].
Первый эксперимент этой выдающейся исследовательницы был связан с вытягиванием карт из колоды. Испытуемый делал ставки на определенную карту, играя против подставного лица. В одном случае это лицо демонстрировало уверенное поведение, тогда как в другом случае – поведение неуверенное. Затем размеры ставки, сделанные в обоих случаях, сравнили между собой. Оказалось, что испытуемые ставят меньше и вообще ведут себя менее уверенно в ситуации мнимого соперничества с уверенным подставным лицом и делают большие ставки и ведут себя более уверенно в противоположной ситуации.
И вновь хочу подчеркнуть: вытягивание карт – это случайный процесс и не имеет значения, уверен в себе ваш соперник или не уверен.
Второй эксперимент проводился в ситуации продажи лотерейных билетов. В одном случае испытуемые вытягивали билеты сами, в другом – билет им выдавал ассистент экспериментатора. Затем испытуемым предлагали ответить на вопрос, за какую цену они готовы продать свой билет (естественно, не проверяя, выигрышный он или нет). Получилось, что испытуемые, выбиравшие билет сами, назначали за него гораздо большую цену, чем те, кто не выбирал своих билетов. И опять: с точки зрения объективной вероятности нет разницы, сами вы выбрали билет или его вытянули из коробки за вас.
Как видим, иллюзия контроля тесно связана с игнорированием случайности и некомпетентностью нашего разума в статистике и теории вероятностей.
Понятно, что продавцы различных чудес вольно либо невольно паразитируют на этой слабости нашего разума. И действительно, под влиянием прохождения различных курсов экстрасенсорики, тренингов или посвящения в рэйки людям начинает казаться, что они приобрели некое влияние на ход событий, свое здоровье и окружающих людей. Но это лишь иллюзия, продавцы которой получают деньги за погружение нас в нее.
Итак, в ситуациях, когда мы никак не можем повлиять на исход, нам зачастую кажется, что все-таки можем. Нам хочется верить, что стоит поднапрячь волю и применить силу мысли или направленное воображение, как тут же подброшенная монета выпадет нужной стороной, кость – нужным количеством очков, а из колоды мы вытянем нужную карту.
Но как обстоят дела, когда повлиять на исход мы можем, например, когда речь идет о наших умениях? Всегда ли мы объективно оцениваем свой профессионализм? Всегда ли стоит доверять профессиональной интуиции?
Эффект Даннинга – Крюгера
Зачастую тот, кто считает себя профессионалом, далеко не всегда на самом деле им является. И речь даже не о том, что существует масса людей, которые вполне сознательно имитируют профессионализм и прикрывают своим экспертным статусом, например статусом врача, полную некомпетентность. Речь о еще более печальной ситуации.
Дело в том, что для оценки чьей-то компетентности в той или иной области надо самому быть компетентным в этой области.
Я, например, много раз наблюдал, как человек, который никогда не занимался самбо или дзюдо, просто не понимает, что происходит на этих соревнованиях. Вот толкаются люди, пытаются схватить друг друга за одежду. Потом вдруг один из них падает. Неинтересно и даже скучно.
Совсем иначе соревнования по борьбе воспринимают те, кто сам боролся, кто знает, что такое борьба за захват, что такое безуспешные попытки вывести противника из равновесия и пр. Они понимают, что происходит на ковре, на татами, и потому их впечатления от соревнований гораздо живее и ярче.
Так вот, чтобы оценить собственный профессионализм, надо иметь определенный уровень компетентности. Это значит, что, только если профессионалом считает себя подлинный профессионал, эта самооценка верна.
Звучит парадоксально, но это действительно так.
Эффект Даннинга – Крюгера [12] в том и состоит, что некомпетентный человек просто не может понять, что он некомпетентен.
Видели когда-нибудь самодовольных тупиц, кичащихся своим интеллектом? Встречали полных дилетантов, которые заявляли о своем высоком профессионализме? Поверьте, в огромном числе таких случаев причина заключалась не в необходимости лгать, чтобы не потерять рабочее место, клиентов, заказчиков. Не было речи и о саморекламе. Просто срабатывал эффект Даннинга – Крюгера.
Впрочем, какую сферу ни возьми, везде большинство людей будут считать, что превосходят по своим способностям, знаниям, умениям, навыкам и личностным качествам среднее значение. Эта уязвимость нашего разума называется «иллюзорное превосходство».
Иллюзорное превосходство
Иллюзорное превосходство, или, как его еще называют, «эффект “выше среднего”», проявляется в том, что каждый склонен считать, что его положительные качества превосходят средние значения. Например, практически каждый человек считает, что обладает интеллектом, хоть чуть-чуть, но более высоким, чем средний интеллект. В то же время, если речь идет о качествах отрицательных, возникает «эффект “ниже среднего”» – мы склонны думать, что не являемся столь же плохими, как среднестатистический человек.
Понятно, что такого рода оценки большей частью ошибочны, потому что если все выше среднего, то что такое «среднее»? Среднее значение в соответствии с законом нормального распределения, который мы подробно разбираем в главе 3 «Ловушки случайностей», присуще подавляющему большинству.
Конечно, вот это желание не считать себя средним человеком во многом связано с современной культурой, которая предполагает ценность всего, что выделяется, обладает яркой индивидуальностью.
Думаю, что и нежелание применять к себе статистические данные сродни иллюзорному превосходству. Действительно, когда человек считает, что одно дело – статистика, а совсем другое дело – его собственный уникальный случай, он глубоко заблуждается. В результате курильщик не думает, что подвергается серьезному риску получить рак легких, женщина, которая все дальше откладывает свою беременность во имя построения карьеры, – риску родить больного ребенка, а любитель незащищенного секса – риску заболеть СПИДом.
Да, социальные нормы – это далеко не всегда архаичное, ненужное занудство…
Слепое пятно
Если рассказать какому-либо человеку об уязвимостях, присущих его разуму, о ловушках, в которые разум склонен попадать, то есть об эвристиках и когнитивных искажениях, а потом попросить его оценить, в какой степени ему эти эвристики и когнитивные искажения присущи, то он, скорее всего, станет утверждать, что они присущи ему в меньшей степени, чем большинству людей [32].
Этот факт сам по себе является следствием когнитивного искажения. Оно называется «слепое пятно искажений».
Изначально термин «слепое пятно» не психологический, а скорее анатомо-физиологический: в каждом нашем глазу есть слепое пятно, которое расположено в месте прохождения зрительного нерва. И пока мы смотрим на мир двумя глазами, мы не отдаем себе отчета в том, что у нас есть слепое пятно. Но если мы закроем один глаз, то сможем убедиться в наличии слепого пятна.
Итак, закройте правый глаз, а левым неотрывно смотрите на крестик, размещенный на рисунке справа (в кружке), и при этом медленно приближайте страницу к лицу. В определенный момент вы перестанете видеть левый крестик.
Если вам кажется, что вы подвержены какому-либо когнитивному искажению или всем искажениям сразу в меньшей степени, чем другие люди, это означает, что вы находитесь под влиянием еще одного когнитивного искажения.
Во-первых, мы можем сильно ошибаться в оценке собственного профессионализма, во-вторых, мы вообще склонны себя переоценивать, считать более совершенными, чем есть на самом деле.
Но, как говорится, и это еще не все!..
Обратная связь
В первом приближении мы можем подразделить все ситуации, в которых хотим получить нужный исход, на два типа:
• мы не можем повлиять на исход;
• мы можем повлиять на исход.
Подходящим примером ситуаций первого типа является подбрасывание монеты. Действительно, сколько ни подбрасывай монету, научиться делать это так, чтобы в большинстве случаев выпадал орел (или решка), невозможно.
Другое дело – метание ножей, и это пример ситуаций второго типа. Мы вполне можем научиться эффективно метать ножи. Для этого нужно прикинуть, сколько оборотов должен совершить нож, чтобы воткнуться в мишень острием, отойти от мишени на соответствующее расстояние, рассчитать силу броска и, конечно, практиковаться почаще. Естественно, процесс научения займет определенное время, но постепенно вы научитесь метать нож так, чтобы он попадал в мишень острием, а не ребром или рукоятью.
Казалось бы, с ситуациями второго типа все просто – что мы видим, то и есть: если профессионал знает, что может достичь нужного результата, то он не ошибается.
Но это неверно. И не только потому, что профессионал может ошибаться в оценке своего профессионализма под влиянием эффекта Даннинга – Крюгера или иллюзорного превосходства. Проблема заключается в том, что далеко не все ситуации, на исход которых мы можем повлиять, похожи на метание ножей.
Например, давайте повнимательнее посмотрим на пример с метанием ножей. Метать нож мы учимся чисто практически – метаем снова и снова, пока не достигаем нужного результата. Причем если мы метнули нож неправильно, то сразу видим, что он не воткнулся в мишень или воткнулся недостаточно глубоко и/или не под нужным углом.
Что это означает? Это означает, что в процессе освоения техники метания ножей мы всегда получаем быструю и однозначную (понятную) обратную связь.
Соответственно, вопрос научения метанию ножей – это вопрос затраченного времени или даже количества подходов: чем чаще человек метает нож, тем лучше он это делает.
То же самое мы видим и в случае, если человек учится правильно бросать мяч, чтобы попадать в баскетбольную корзину. Здесь тоже обратная связь достаточно быстрая и однозначная. Правильно кинули мяч – попали в корзину, неправильно кинули – не попали.
Соответственно, если вы будете регулярно практиковаться в том, чтобы забрасывать баскетбольный мяч в корзину с разного расстояния, то научитесь попадать в нее довольно часто.
Еще один хороший пример ситуации, когда благодаря получению быстрой и однозначной обратной связи мы относительно быстро учимся, – это езда на велосипеде. Действительно, как только при катании на велосипеде вы потеряли равновесие или слишком сильно повернули руль, неприятные последствия не заставят себя ждать. Поэтому любой здоровый человек может научиться кататься на велосипеде, и этот навык будет устойчив.
На важность быстрой и однозначной обратной связи в процессе обучения обращал внимание и советский психолог Петр Яковлевич Гальперин. Он обнаружил, что людям зачастую бывает трудно научиться ровно выпиливать, поскольку они просто не могут на глазок определить, ровно ли расположен лобзик. Однако, если предоставить людям качественную обратную связь, сделав так, чтобы при неверном расположении лобзика загоралась лампочка, процесс освоения выпиливания будет проходить гораздо быстрее [3, с. 262–263].
Итак, мы можем научиться совершать конкретное действие или операцию эффективно (на профессиональном уровне) только в том случае, если в процессе такого научения получаем достаточно быструю и однозначную обратную связь.
Но далеко не все операции, которые повседневно совершает профессионал, дают столь же простую, быструю и очевидную обратную связь!
Ситуации, на исход которых мы можем повлиять, бывают двух видов:
• дающие быструю и однозначную обратную связь;
• дающие отсроченную и/или неоднозначную обратную связь.
Конечно, эти виды следует выделять только в дидактических целях, для облегчения понимания. Реально же речь тут идет о полюсах, крайних точках непрерывного континуума.
К сожалению (и в этом заключается еще одна серьезная проблема), профессионалы могут даже не догадываться о том, что их работа включает ситуации с отсроченной и/или непонятной, неоднозначной обратной связью.
Давайте разберем этот принципиально важный момент детальнее.
Врач или палач?
Думаю, лучше всего рассмотреть эту ситуацию на примере врачей. Представьте себе врача прошлых веков. Он прекрасно знает, что если вправить вывих, то отек вскоре спадает, а болевые ощущения становятся гораздо менее интенсивными; что если отрезать пораженную гангреной конечность, то больной пойдет на поправку. Довольно быстрая и однозначная обратная связь и в случае, если врач следует классической рекомендации «где гной, там вскрой» (ubi pus, ibi evacua[7]): вскрыли фурункул – гной вышел, рана затянулась.
Совсем иная ситуация имеет место при кровопускании (когда-то его необходимость считалась не менее очевидной, чем необходимость вскрывать гнойники). Каждый раз после кровопускания больной успокаивается, его температура спадает, он засыпает. Быстрая обратная связь, казалось бы, ясно дает понять: кровопускание помогает. Но что в долгосрочной перспективе? На протяжении двух недель врач каждый день приходил к больному и пускал ему кровь. И каждый раз лихорадка прекращалась, больной успокаивался и засыпал. А через две недели умер.
Может ли в этой ситуации врач сделать вывод о том, что процедура кровопускания только ослабляет больного, что без кровопускания он, возможно, пошел бы на поправку?
Нет, не может. Потому что обратная связь в этой ситуации отсроченная и неоднозначная: в краткосрочной перспективе кровопускание приносит явное облегчение. Вот только это облегчение мнимое, потому что достигается вовсе не победой над болезнетворным агентом, а ослаблением организма.
Из-за того что смерть наступила не сразу после кровопускания, врач может посчитать, что это произошло по совершенно иной причине, что вмешались потусторонние силы, просочились болезнетворные миазмы, звезды сошлись неудачно и т. п. Врачам прошлого трудно было представить, что процедура, дающая облегчение здесь и сейчас, в дальнейшем приводит к смерти.
Во многом именно из-за такой отсроченной и неоднозначной обратной связи кровопускание, будучи не только бесполезной, но и очень вредной медицинской процедурой, столь долго продержалось в медицине. Если не ошибаюсь, врачи отказались от него только в начале ХХ века! Впрочем, в некоторых видах народной медицины оно до сих пор считается эффективным методом лечения. В частности, во многих мусульманских странах и по сей день распространена особая форма кровопускания под названием «хиджама».
Да, история медицины дает нам массу примеров того, как сложно бывает отыскать подлинную причину и сделать правильный вывод в условиях отсроченной и/или неоднозначной обратной связи. В частности, нельзя не рассмотреть следующий случай.
Трагический случай доктора Земмельвейса
Доктор Игнац Земмельвейс поступил на работу в одну из больниц Вены. В этой больнице было два родильных дома. Причем первый роддом имел дурную славу: в нем роженицы намного чаще погибали от смертельного заболевания под названием «родильная горячка» (послеродовой сепсис). Беременные даже предпочитали рожать на улице, лишь бы не попадать в первый родильный дом.
Доктор Земмельвейс решил выяснить, в чем причина этой ситуации.
Он тщательно исследовал оба родильных дома, собирал статистику, экспериментировал, проверял и перепроверял свои выводы, но причину высокого уровня заболеваемости родильной горячкой никак не удавалось обнаружить.
Помогла случайность.
Друг Земмельвейса врач Якоб Коллечка в процессе анатомирования трупа порезал один из пальцев руки и вскоре умер от болезни, симптомы которой были совершенно идентичны симптомам послеродовой лихорадки. Игнац Земмельвейс сразу понял, что нашел причину высокого уровня смертности рожениц в первом роддоме.
Дело в том, что в первом роддоме роды принимали студенты-медики, в учебный план которых входило вскрытие трупов, тогда как во втором роддоме роды принимали будущие акушерки, в программу подготовки которых анатомирование не входило. И Земмельвейс сделал вывод, что в трупах содержится нечто, что, во-первых, вызывает родовую горячку и, во-вторых, переносится на руках студентов-медиков.
Более того, Земмельвейс экспериментальным путем выяснил, что если после работы в прозекторской помыть руки раствором хлорки, то неизвестный болезнетворный агент, содержащийся в трупе, будет уничтожен.
Подчеркну, что о бактериях, которые и вызывают сепсис (заражение крови), врачи тогда еще не знали.
Естественно, доктор Земмельвейс сразу сделал обработку рук раствором хлорки обязательной после анатомирования процедурой. И смертность рожениц быстро снизилась более чем в семь раз. Что же произошло дальше?
Вероятно, метод Земмельвейса распространился по всему миру, а его автора наградили кучей премий и объявили одним из столпов медицины?
Нет.
Поскольку бактерии были еще неизвестны, врачи не согласились с выводами Земмельвейса о том, что родовая горячка вызывается контактом принимающего роды врача с трупом. К тому же врачи, по-видимому, восприняли требование мытья рук как личное оскорбление и принижение их статуса. В итоге на Земмельвейса обрушился поток весьма недоброжелательной критики, многие врачи писали статьи и даже целые книги, в которых опровергали выводы Земмельвейса и объявляли его метод неэффективным.
Критика всегда неприятна. Ситуация, когда твое открытие не признают, всегда болезненна. Но Земмельвейс прекрасно знал, что из-за узколобости его коллег каждый день тысячи детей становятся сиротами, каждый день умирают в муках тысячи женщин, для спасения которых нужно было всего лишь обработать руки раствором хлорки!
В итоге Земмельвейс, по-видимому, сошел с ума. По крайней мере, так решили его друзья и супруга. Доктора обманом поместили в сумасшедший дом. Он попытался сбежать, но санитары жестоко избили его, надели на него смирительную рубашку и заперли в палате. К несчастью, в раны Земмельвейса попали бактерии, у него началось заражение крови, и великий врач умер. Умер именно от той болезни, от которой умирали роженицы…
Луи Пастер открыл бактерии по прошествии всего лишь около 20 лет. Еще через какое-то время строгая гигиена и антисептика стали нормой во всех медицинских учреждениях Европы.
Сегодня же выражение «рефлекс Земмельвейса» используют всякий раз, когда хотят описать ситуацию, в которой ученые не принимают революционных выводов коллеги и отказываются признавать сотрясающие устои открытия.
Людоведы и душелюбы
Что ж, вернемся теперь к оценке профессионализма и эффективности, к теме обратной связи. И начнем со следующего принципиально важного момента.
Оценивая чей-то профессионализм, умения, эффективность, нам всегда следует проводить четкую грань между краткосрочной и долгосрочной перспективой.
Почему?
Потому что то, что выглядит вполне управляемым и предсказуемым в краткосрочной перспективе, может оказаться неуправляемым и непредсказуемым в перспективе долгосрочной.
Помните историю кровопускания? В краткосрочной перспективе эта процедура явно приносила облегчение, а вот ее вредоносность в долгосрочной перспективе было затруднительно обнаружить.
Хорошим примером здесь является и метеорология. Точно предсказать погоду можно только на три ближайших дня, а затем точность прогноза стремительно падает, причем чем больше срок, на который метеоролог пытается сделать прогноз погоды, тем ниже точность прогноза.
Второе существенное различие, о котором здесь нельзя не сказать, – различие между достижением простых изменений, простых эффектов и достижением сложных изменений, сложных эффектов. Например, вряд ли кто-то будет спорить с тем, что актер или певец может вызвать у вас очень сильные эмоции во время своего выступления на сцене. Но может ли он изменить вашу личность, ваше мировоззрение? Поясню, что в рассматриваемом случае эмоции, эмоциональные состояния – это простой параметр, тогда как мировоззрение и личность – параметры сложные.
Конечно, всегда найдутся люди, которые заявят, что эмоциональная книга, спектакль или концерт полностью «перепахали» их, и без тени сомнения произнесут: «Да, после прочтения/просмотра я стал совершенно другим человеком!» Вот только насколько точен этот вывод? И насколько широко распространена такая ситуация?
Да, сегодня многие люди убеждены, что какой-нибудь концерт, спектакль или выступление мотивирующего оратора действительно могут привести к сложным и долгосрочным изменениям, причем чем сильнее сиюминутные эмоциональные изменения, которые порождает выступающий, тем сильнее люди верят в то, что выступление в корне изменит их жизнь.
Почему же эта наша вера ошибочна?
Потому что эмоции непостоянны. Даже очень сильные чувства со временем слабеют. Сегодня мы испытываем одни эмоции, завтра – другие. В частности, твердая решимость, которая существует сегодня, имеет все шансы превратиться в нерешительность завтра. Любой, кто бросал пить, курить или садился на диету, знает об этом. Скажем, после тяжелого похмелья человек зарекается пить, однако с наступлением пятничного вечера ему становится скучно, негативные ощущения от похмелья к этому времени угасают, а впереди маячат приятные ощущения от поднятия бокала вина или откупоривания баночки пива, и в результате человек снова напивается.
Это явление в научной психологии носит название «проекционное искажение» (projection bias).
Именно под его влиянием мы откладываем дела на потом, думая, что наша сегодняшняя решимость выполнить намеченное сохранится и в будущем. Другими словами, мы проецируем свое сегодняшнее состояние, настрой в будущее, но, когда наступает роковой «следующий понедельник» или «следующий месяц», снова решаем отложить дела.
Так что, сколь бы сильными ни были ваши переживания после посещения гуру, мотивирующего оратора, тренера успешности, не стоит думать, что это выступление способно перекроить вас, изменить вашу жизнь.
Кстати, то же самое касается и психотерапевтов: они могут вас успокоить, помочь понять ситуацию, но это совсем не означает, что они способны изменить вашу личность и вашу жизнь.
Так, один из крупнейших психологов XX века лауреат Нобелевской премии Даниэль Канеман подчеркивал, что если в краткосрочной перспективе у психотерапевтов «есть много шансов наблюдать мгновенные реакции пациентов на их слова», а обратная связь «позволяет им развить навык интуиции и подобрать нужный тон, чтобы умерить гнев, вселить уверенность или сосредоточить внимание пациента на задаче…», то в долгосрочной перспективе ситуация меняется: «обратная связь в виде отсроченного результата поступает к врачу не сразу и с перебоями, если поступает вообще. В любом случае едва ли с ее помощью можно чему-то научиться» [4, с. 318].
При этом Канеман подчеркивает [там же]:
«Опытный психотерапевт знает, что обладает умениями разобраться в мыслях пациента, а интуиция подсказывает ему, что пациент скажет в следующую минуту. Отсюда – соблазн предсказать, как пациент будет чувствовать себя в следующем году, хотя в этом случае предсказание менее оправданно. Краткосрочный и долгосрочный прогноз – разные задачи, и невозможно научиться решать их обе в достаточной мере».
Конечно, в данном случае Канеман ведет речь о предсказаниях, но то же относится и к попыткам изменить поведение человека: психотерапевту кажется, что если он может изменить эмоциональное состояние клиента здесь и сейчас, то он может добиться и долгосрочных, устойчивых изменений его поведения и личности.
Известный психолог, автор нескольких отличных учебников по психологии Дэвид Майерс также отмечал, что психотерапевты «лишены возможности получать быструю и четкую обратную связь» [5, с. 200].
Итак, профессионалы зачастую не понимают, что не могут научиться эффективно действовать, достигать необходимого результата в ситуациях, когда обратная связь отсрочена и неоднозначна. Ориентируясь на свою высокую результативность в ситуациях, когда обратная связь быстра и однозначна, они начинают считать, что и в ситуациях с проблемной обратной связью будут столь же результативны. Под впечатлением от своих возможностей вызывать краткосрочные и простые изменения они начинают считать, что могут вызывать и изменения долгосрочные и сложные.
Все это очень похоже на ошибку, которую я называю ошибкой одинокого мастера.
Ошибка одинокого мастера
Сегодня многие люди увлекаются боевыми искусствами, восточными единоборствами, боями без правил. Спортивные снаряды, секции боевых искусств сейчас относительно легкодоступны, а информации о единоборствах просто пруд пруди. Конечно, есть люди, увлечение которых боевыми искусствами сводится к тому, что они активно общаются на соответствующих форумах и в группах в соцсетях, а также смотрят и комментируют видеоролики в Интернете, но много и тех, кто не только хочет рассуждать и спорить, но и регулярно занимается.
Я заметил, что в ряде случаев люди, которые увлекаются единоборствами деятельно, то есть пытаются не только анализировать и дискутировать, но и пробуют себя в роли кулачного бойца или борца, совершают следующую ошибку.
Человек покупает боксерский мешок, вешает его в своей квартире или во дворе, регулярно наносит по нему различные удары и в результате ставит себе удар, научается наносить по мешку эффективные – быстрые, точные и проникающие вглубь – удары.
Поставить удар на мешке, кстати, не так уж и сложно.
Почему?
Потому что мешок дает сразу три вида быстрой и однозначной обратной связи.
Во-первых, если вы правильно ударили по мешку, он деформируется и отклонится сильнее, чем при неправильно нанесенном ударе.
Во-вторых, правильный удар сопровождается правильным звуком – звонким и четким, а не глухим и размазанным.
В-третьих, правильный удар вызывает очень специфические ощущения в бьющей конечности – руке или ноге. Если вы ударили по мешку правильно, то у вас будет ощущение, что он как бы наделся на жесткую конструкцию типа палки, в которую превратилась ваша рука или нога.
И вот, видя, как мечется и стонет мешок под мощными ударами, человек решает, что достиг мастерства, что с помощью своих поставленных ударов может одолеть дворового драчуна или даже более опасного агрессора. И хорошо, если затем человек решает проверить свои выводы о собственном мастерстве на практике и приходит, скажем, в боксерский клуб или секцию бокса. Тут он быстро поймет, что бить по мешку гораздо проще, чем по человеку, который не только перемещается и уклоняется, перекрывается, но еще и сам наносит поставленные удары. На ринге сразу вскрываются скованность и неумение правильно перемещаться, вызванные тем, что мешок висит в одном месте и не маневрирует, неумение наносить удары, которые хотя и не могут быть результативными, зато заставляют противника раскрыться, потерять координацию движений, оказаться в уязвимом положении, плюс неумение защищаться от ударов противника (ведь мешок сдачи дать не может) и многие другие дефекты «тактико-технической самоподготовки».
Плохо, если убежденный в совершенстве своей ударной техники «одинокий мастер» решит подраться на улице или тем более бросить вызов нескольким людям сразу. Это может закончиться не только шрамами на лице и сломанным носом, но и потерей зубов, выбитым глазом, переломами конечностей, удалением селезенки, инвалидностью и даже смертью.
Если же адекватная обратная связь к одинокому мастеру так и не поступила (он так ни разу и не подрался и на ринг не вышел), он получает серьезные шансы превратиться в очередного самопровозглашенного сенсея, стать интернет-экспертом по боевым искусствам или даже создать собственную «систему», открыть «школу боевых искусств», основать свой «стиль»…
Памятуя об ошибке одинокого мастера, следует с большой осторожностью относиться к легендам о разных даосских отшельниках или буддийских монахах, которые, уединившись в горах, якобы раскрыли таинственные секреты подлинно эффективного кулачного боя. Скажу больше: если в той или иной стране не было регулярных состязаний, в ходе которых бойцы в хорошем темпе наносили серии ударов, обладающих поражающей мощью, и вынуждены были защищаться от таких ударов, то и традиции единоборств в этой стране относятся скорее к шаманизму, телесной магии и/или народным развлечениям, чем к боевым искусствам (при всей условности этого термина). Впрочем, эта тема – эффективность боевых искусств – требует даже не отдельной главы, а отдельной книги.
Итак, мы склонны не только считать причиной совсем не то, что ею объективно является, а то, что привлекло наше внимание, не только вести себя так, будто мы контролируем вещи, в действительности нам неподконтрольные, но и переоценивать возможности профессионалов управлять, воздействовать и предсказывать. Причем то же самое касается и ситуации, когда мы оцениваем собственную способность предсказывать, управлять и воздействовать.
А сейчас давайте рассмотрим еще несколько примеров того, как люди, считающие, что умеют влиять, управлять и/или предсказывать, на самом деле этого не могут.
Я знаю, что ничего не знаю
Один из первооткрывателей когнитивных искажений – американо-израильский психолог Даниэль Канеман, получивший за свой вклад в науку Нобелевскую премию, вспоминая начало своей карьеры психолога, рассказывал следующее [4, с. 274–277].
Однажды он стал сотрудником подразделения, которое занималось отбором тех солдат ЦАХАЛ (армии Израиля), которых следовало бы направить на офицерские курсы. В процессе отбора солдат делили на группы. Каждой группе давали задание, которое невозможно выполнить без скоординированных командных действий. Тех солдат, которые в процессе выполнения заданий взяли на себя роль такого координатора, психологи рекомендовали к поступлению на офицерские курсы.
Имея ярко выраженный познавательный мотив, Канеман захотел разобраться, эффективен ли этот способ отбора, и выяснил, что способ неэффективен: успешными офицерами становились в итоге совсем не те люди, которые проявили себя в процессе выполнения заданий.
Но изменило ли это отношение психологов к процедуре отбора? Решили ли они ее усовершенствовать или даже вообще отказаться от нее?
Нет. Ничего не изменилось. Подразделение по отбору продолжало использовать эту методику.
Конечно, вполне возможно, что речь тут вовсе не о когнитивных искажениях, а просто о том, что люди обычно предпочитают сохранять статус-кво вплоть до возникновения совсем уж плачевных обстоятельств.[8] Как говорится, пока гром не грянет…
Но давайте двигаться дальше.
Когда Канеман стал уже довольно известным ученым, он был приглашен в одну финансовую компанию, чтобы выяснить, какие трейдеры действительно эффективны.
Используя свои навыки в области математико-статистической обработки данных и соответствующие математико-статистические методы, Канеман выяснил, что успех трейдера случаен. Это означает, что ни экономическое образование, ни владение методами анализа фондового рынка, ни опыт торговли на нем не влияют на эффективность трейдера в предсказывании того, как поведет себя рынок!
Так что, по сути, если вы хотите принять решение о том, купить больше акций конкретной компании или же начинать избавляться от них, нет разницы, обратитесь вы за советом к опытному трейдеру или подбросите монетку.
И как уже, должно быть, догадался проницательный читатель, выводы Канемана не привели к тому, что владельцы брокерской компании закрыли ее или уволили своих трейдеров. Компания продолжила деятельность, а трейдеры по-прежнему получали от людей деньги, чтобы приумножить их с помощью операции с ценными бумагами на открытом рынке.
Да, психологи, трейдеры и огромное число других специалистов свято верят в свою если не полную непогрешимость, то во всяком случае эффективность, однако это совсем не так.
Известный популяризатор идеи непредсказуемости Нас-сим Талеб даже ввел для обозначения экспертов, заявления и прогнозы которых в действительности ничем не лучше того, что говорят полные профаны, специальный термин – «пустой костюм» [9, с. 473].
Врачу, исцелися сам!
Я уверен, многие ловцы душ вовсе не планировали становиться таковыми. Напротив, большинство из них наверняка свято верили в эффективность придуманных ими чудодейственных методов, изобретенных снадобий. Почему? Тут, конечно, сыграли свои роли и эффект Даннинга – Крюгера, и иллюзорное превосходство, и подтверждающее искажение, и неумение отделять ситуации с быстрой и однозначной обратной связью от ситуаций, в которых обратная связь отсрочена и неоднозначна.
Но главный фактор – это, безусловно, то, как ловцы душ проверяли эффективность придуманных ими методов, созданных «панацей». Такую проверку вполне можно называть наивной по аналогии с наивным реализмом.
Наивная проверка – это прежде всего такая проверка, которая осуществляется без опоры на волшебную таблицу. При этом будущий ловец душ (а на момент проверки – просто жертва собственной наивности) смотрит лишь на одну ячейку, не ищет опровержений эффективности своего метода, не рассматривает достаточное количество случаев, не применяет строгий контроль опытов, призванных подтвердить или опровергнуть эффективность вновь созданного метода.
В ряде случаев будущий шарлатан вообще приходит к выводу об эффективности его методики или снадобья на основе выборки, состоящей лишь из одного человека – самого будущего шарлатана.
Я называю такую ситуацию эффектом Дикуля.
Эффект Дикуля
Кто такой Валентин Дикуль? В юном возрасте Дикуль получил перелом позвоночника и стал инвалидом. Врачи были уверены, что он не излечится и не сможет ходить. Но Дикуль не сдался, придумал особые упражнения и не только снова смог ходить, но и добился потрясающих успехов в поднятии тяжестей, а затем еще и стал излечивать других людей, получивших травмы опорно-двигательного аппарата.
Прекрасная и светлая история, не правда ли?
Что ж, в этой книге я не буду обсуждать самого Дикуля, не буду оспаривать правдивость истории, не буду задавать неудобных вопросов типа:
• «А была ли вообще травма?»
• «Если травма все-таки была, то была ли она столь серьезной?»
• «Если учесть, что Дикуль травмировался в достаточно юном возрасте, нельзя ли предположить, что вовсе не особые упражнения привели к исцелению, а просто молодой, активно растущий организм сам справился с травмой?» и т. д.
Мы будем говорить о немного иных вещах.
В первую очередь речь пойдет о том, можно ли делать вывод об эффективности лечебного метода на основе одного случая самоизлечения?
К этому моменту вы уже узнали достаточно много интересного и понимаете, что основная претензия ко всем лицам, которые заявляют, что «я исцелился сам и потому смогу исцелить вас!», очень проста: выборка нерепрезентативна. Другими словами, самоисцелившиеся делают вывод о том, что могут лечить людей, на основе очень малого числа случаев.
Нет, конечно, средство лечения можно открыть и на себе, но внедрять его на рынок, продавать за деньги можно только после исследований, которые подтвердят эффективность.
То есть более честным путем для Дикуля и ему подобных был бы следующий.
1. Поняв, что исцелил себя сам, получить квалификацию в соответствующей области или найти людей, у которых эта квалификация уже есть.
2. Собрать репрезентативную выборку – достаточное количество людей, страдающих тем же заболеванием.
3. Разделить эту выборку с помощью генератора случайных чисел на экспериментальную и контрольную группы.
4. Провести исследование и объективно оценить его результаты – заполнить волшебную таблицу.
В действительности же эффект Дикуля обыкновенно порождает совершенно иной сценарий.
1. Человек решает, что нашел средство исцеления.
2. Он активно рекламирует свои услуги и предлагает их большому числу людей.
3. Благодаря случайностям и большому количеству клиентов среди них неизбежно находятся люди, которым действительно после применения метода, употребления снадобья стало лучше.
4. Отсутствие же позитивных сдвигов «целитель» всегда сможет объяснить, защищая свой метод, например, словами «клиент не верил в мой метод» или «клиент неправильно мой метод применял» и пр.
Более близким к нам по времени и весьма показательным примером проявления эффекта Дикуля является придуманная Френсин Шапиро психотерапия под названием «Десенсибилизация и переработка движением глаз» (Eye movement desensitization and reprocessing).
Как она придумала свой метод? Однажды, гуляя по парку, она почему-то стала переводить взгляд из стороны в сторону. И после этого мисс Шапиро обнаружила, что ее беспокойство снизилось. Она начала распространять свой метод, приобрела множество последователей и благодарных клиентов.
Однако объективная проверка показала, что ее метод – самая настоящая каша из топора: если изъять из процедуры движения глаз или заменить их какой-нибудь другой процедурой, то эффект от терапии остается на прежнем уровне [5, с. 202].
Вообще, ловцы душ такого рода лично мне очень напоминают храброго портняжку. Помните ли вы эту сказку братьев Гримм? В ней молодой портной покупает у уличной торговки сливовое варенье и мажет его на хлеб. Затем на этот сладкий бутерброд слетаются мухи. Портняжка берет тряпку, размахивается, наносит удар и обнаруживает, что убил сразу семь мух!
Это событие настолько поражает его, что он решает сообщить о нем всему миру, делает себе пояс с надписью «Семерых одним ударом!», а потом отправляется странствовать и в результате совершает несколько подвигов, включая победу над великанами, поимку единорога и страшного кабана и даже становится королем.
Да, храбрый портняжка – отличный пример шарлатана.
Во-первых, его путь начинается с явно завышенной самооценки. Дело ведь не только в том, что он считает случайное стечение обстоятельств (сразу семь мух не успели улететь) чем-то показательным, каким-то знаком, печатью успешности. Дело в том, что убил он мух. Не диких кабанов, не разбойников, всего лишь мух! Подобного рода завышенная самооценка, подпитываемая, безусловно, эффектом Даннинга – Крюгера и иллюзорным превосходством, характерна для многих ловцов душ.
Допустим, удалось молодому человеку провести ночь с девушкой не слишком красивой, не слишком недоступной. Этот первый опыт столь сильно поражает юнца, что в скором времени он начинает зазывать людей на свой тренинг по соблазнению.
Или удалось какому-нибудь студенту убедить преподавателя поставить ему пятерку автоматом. Смотришь – в скором времени человек уже провозглашает себя признанным мастером гипноза и НЛП.
И эти ребята, скорее всего, никогда не поймут, что девушка в тот момент просто махнула на себя рукой и ей было все равно, с кем провести ночь, а преподавателю было в принципе неважно, какую оценку поставить, и он лишь облегчил себе жизнь, сократив количество тех, кого ему придется экзаменовать.
Да, зачастую мы склонны считать именно себя причиной положительных событий в нашей жизни. И это одно из присущих нам когнитивных искажений. Оно называется «искажение в пользу самого себя» (selfserving bias). Под его влиянием мы обычно считаем самих себя причиной своих достижений, благоприятных исходов наших действий, а если наши действия привели к негативным последствиям, мы склонны перекладывать ответственность на ситуацию, случайности, чью-то злую волю и т. д. Так что, перефразируя известный афоризм Джона Кеннеди, именно мы отцы наших побед, а вот наши поражения – это лишь подкидыши.
Во-вторых, храбрый портняжка сразу же использует для описания своего подвига формулировку, сильно искажающую реальность. На первый взгляд, портной не соврал. Действительно, убийство семи мух ударом тряпки можно описать фразой «Семерых одним ударом!», но дело в том, что любой, кто прочитает эту претенциозную надпись на его поясе, подумает не о мухах и не об ударе тряпкой. Скорее в сознании будущей жертвы шарлатана возникнет образ семерых злодеев, поверженных мощным ударом кулака. С такого рода речевыми трюками мы гораздо тщательнее будем разбираться в главе 4 «Ловушки языка».
Использовать трюки, лгать, изворачиваться храбрый портняжка продолжает и в дальнейшем. Правда, в сказке братьев Гримм это приводит к победе над злыми и опасными существами. В реальной же жизни кичащийся своим мнимым успехом шарлатан побеждает ни в чем не повинных, кроме, разве что, легковерия, людей.
Так что, уважаемый читатель, всегда избегайте таких «храбрых народных целителей», «храбрых бизнес-гуру», «храбрых тренеров», «храбрых ловцов душ».
Этому есть объяснение!
Выше я уже упоминал о том, что поиск объяснения – это зачастую именно поиск причины, причинно-следственной связи. Объяснение, в соответствии с которым произошедшее не имеет причины и было случайным, обычно нас не удовлетворяет. Действительно, довольно часто сказать: «Это произошло случайно» – равнозначно тому, чтобы сказать: «Я не знаю, почему это произошло». Впрочем, о случайностях мы будем говорить гораздо подробнее в следующей главе, а сейчас сосредоточимся на причинно-следственных объяснениях и на связанных с ними ловушках.
Пожалуй, главной такой ловушкой можно считать ловушку простоты. Что она собой представляет?
Нашему разуму очень нравятся простые, складные, логичные объяснения. Простое объяснение легко понять, запомнить, сформулировать, поэтому такие объяснения сравнительно легко подхватываются и распространяются. Примерно по тому же механизму, видимо, подхватываются и распространяются рекламные слоганы.
Нам в целом кажется правильным то, что наш разум легко воспринимает. В науке эта его особенность обозначается термином «когнитивная легкость».
При этом совершенно очевидно, что простое, понятное, складное объяснение далеко не обязательно истинно. Это означает, что в реальности могут действовать совершенно иные причинно-следственные связи, нежели те, на которых построено столь милое нашему разуму простое и четкое объяснение.
Но преодолеть обаяние простого объяснения очень сложно. Сложно потому, что нам нелегко держать в голове множество факторов, трудно представлять обширные взаимосвязи. Гораздо проще свести все к одному фактору, к однозначным зависимостям. Например, теории заговора, в соответствии с которыми во всех проблемах человечества виноваты инопланетяне, рептилоиды, масоны или евреи, гораздо проще, чем современные исторические и социально-экономические теории. Во многом именно поэтому теории заговора так популярны.
Черно-белое мышление тоже гораздо проще задействовать, чем мышление правильное, критическое. И на самом деле, видеть весь спектр, все полутона гораздо сложнее, чем просто взять и поделить все на черное и белое.
Конечно, подобно тому, как простота объяснения далеко не обязательно свидетельствует о его истинности, сложность также не является признаком истинности. Можно нарисовать нашу волшебную таблицу, в соответствии с которой объяснения бывают четырех видов.
«Но подождите, – возразит продвинутый читатель, – а как же бритва Оккама? Ведь этот выдающийся средневековый схоласт прямо указывал, что нельзя множить сущности, которые мы используем для объяснения, без надобности, что нужно отсекать все лишнее».
Что ж, во-первых, ключевыми тут являются слова «без надобности» и «лишнее», а во-вторых, все-таки критерием истинности объяснения выступает не его простота, не количество использованных в нем сущностей, а его соответствие опытным данным и предсказательная сила.
Так что, пользуясь бритвой Оккама, важно не порезаться, не отсечь то, что является важным.
Одним из проявлений когнитивной легкости, безусловно, выступает редукционизм – попытка сводить более сложные явления к явлениям более простым.
Да, трудно сказать, что более вредно для человеческого разума – множить сущности без надобности или же отрезать бритвой Оккама то, что отрезать никак не следовало, поспешно и без всяких оснований сводя сложные явления к простым.
* * *
Итак, мы достаточно подробно рассмотрели различные примеры ситуаций, в которых причинно-следственная связь имеет место, а мы считаем причиной совсем не то, что ею объективно является.
Но есть ведь еще и второй вариант – когда причинно-следственной связи вообще нет, хотя мы уверены в обратном.
Да, одна из главных ловушек разума заключается в том, что мы считаем случайное закономерным, пытаемся найти причину событий, которые в действительности произошли совершенно случайно. Мы, подобно многим мистикам и оккультистам, считаем, что случайности не случайны, события происходят не просто так, а по какой-то причине, в частности имеют некую цель. Сфера случайностей – это сфера, в которой наш разум на самом деле пасует, теряет свою эффективность. Давайте же смело погрузимся в мир случайностей, чтобы защитить свой разум от попадания в ловушку случайностей.
Глава 3 Ловушки случайностей
Сфера случайностей – очень специфическая сфера. При взаимодействии с ней наш разум часто не справляется, пасует, ошибается и попадает в умело расставленные на него ловушки.
Не верите?
Тогда давайте решим следующую задачу.
В городе два родильных дома: А и В.
В роддоме А – 10 тысяч рожениц, в роддоме В – 1 тысяча рожениц.
В одном из этих роддомов родилось 60 % мальчиков.
В каком роддоме это произошло?
Прежде чем читать дальше, хорошо подумайте и запишите ответ (А или В).
Обычно люди отвечают, что больше мальчиков родилось в роддоме, где больше рожениц. И это ошибочный ответ, демонстрирующий слабость нашего разума в оценке и понимании случайных событий.
Почему этот ответ ошибочен? Потому что теоретическая вероятность рождения мальчика равна вероятности рождения девочки и составляет 1/2. Это означает, что чем больше рожениц мы рассмотрим, тем ближе будет соотношение количества родившихся мальчиков и девочек к 50/50. А вот чем меньше рожениц мы возьмем, тем более значительным может быть отклонение от теоретического соотношения. Например, у моей мамы трое детей и все они мальчики. А ведь есть женщины, у которых еще больше детей и все они мальчики. Аналогично в роддоме, где меньше рожениц, более вероятно отклонение от теоретической вероятности. Следовательно, правильный ответ на приведенную задачу – роддом В.
Впрочем, даже если вы не вполне поняли этот пример, не переживайте: читая эту книгу, вы существенно укрепите силу вашего разума в сфере случайностей и вероятностей.
Что такое случайность
Что значит «случайное» применительно к ловушкам, в которые попадает наш разум?
Во-первых, случайность означает, что не было причинно-следственной связи, а события совпали случайно, что отсутствует закономерность: то, что мы наблюдали однажды или даже несколько раз подряд, вовсе не обязательно снова повторится.
Например, мы приняли лекарство – и нам стало лучше. Мы склонны интерпретировать это как ситуацию причинно-следственной связи – лекарство явилось причиной улучшения нашего состояния, тогда как в действительности речь могла идти лишь о случайности. Другими словами, наш разум склонен видеть два колесика, связанных цепной передачей, там, где на самом деле два колеса крутятся совершенно независимо. Есть даже специальное понятие в науке о случайностях (в теории вероятностей и математической статистике) – независимые события.
Представьте, что вы сначала подбрасываете монету, на одной стороне которой написано «Принял лекарство», а на другой стороне – «Не принял лекарство», а потом монету, на одной стороне которой написано «Выздоровел», а на другой – «Не выздоровел».
Благодаря этому примеру может стать понятнее, что ситуация, когда первая монета выпала стороной «Принял лекарство», а вторая монета – стороной «Выздоровел», случайна. Столь же вероятны еще три ситуации, которые нельзя не учитывать:
• «Принял лекарство» – «Не выздоровел»;
• «Не принял лекарство» – «Выздоровел»;
• «Не принял лекарство» – «Не выздоровел».
Это, кстати, и есть главная ловушка, в которую попадает наш разум при взаимодействии со случайностями, – он вообще не берет в расчет то, что события могли быть случайными.
Почему так происходит? Возможно, потому, что с детства мы привыкаем видеть и учитывать именно причинно-следственные связи. Помните, как в бессмертной сказке «Алиса в Стране чудес»?
«…Если слишком долго держать в руках раскаленную докрасна кочергу, в конце концов обожжешься; если поглубже полоснуть по пальцу ножом, из пальца обычно идет кровь; если разом осушить пузырек с пометкой “Яд!”, рано или поздно почти наверняка почувствуешь недомогание…»
Если же речь идет о случайностях, то таких однозначных связей нет. Выражаясь метафорически, от раскаленной кочерги может возникнуть ожог, а может и не возникнуть, нож может и не разрезать кожу, а после употребления яда мы можем продолжать чувствовать себя бодро и весело.
И если у Льюиса Кэрролла выражения «в конце концов», «обычно» и «рано или поздно почти наверняка» создают комический эффект, поскольку выставляют надежные закономерности ненадежными, то в мире случайностей выражения, которые, так сказать, смягчают закономерность, подчеркивают неоднозначность, более чем уместны. К сожалению, наш разум при взаимодействии со случайностями не склонен использовать эти выражения и предпочитает точные формулировки там, где стоило бы употребить слова «возможно», «вероятно», «скорее всего».
Во-вторых, случайность означает непредсказуемость. Действительно, когда мы подбрасываем монету, мы не можем предсказать, упадет она орлом или решкой. В этом и состоит разница между подбрасыванием монеты и метанием ножа. В последнем случае мы выбираем расстояние до цели и силу броска таким образом, чтобы максимально повысить вероятность попадания.
К сожалению, зачастую нам кажется, что мы имеем дело с вполне предсказуемыми вещами, тогда как на самом деле – со случайностями. Ну а предсказатели всех мастей являются отличным примером ловцов душ. Помните знаменитое высказывание Уинстона Черчилля о политиках? «Политик должен уметь предсказать, что произойдет завтра, через неделю, через месяц и через год. А потом объяснить, почему этого не произошло».
Примерно та же задача стоит и перед предсказателями, а также перед некоторыми другими ловцами душ.
В-третьих, случайность означает, что мы не можем повлиять на исход процесса. Опять-таки, если мы подбрасываем монету, она оказывается в воздухе, где мы никак не можем повлиять на нее таким образом, чтобы она выпала нужной нам стороной. Вот эта фаза свободного полета, эта ситуация, когда никто из участников процесса не может на него повлиять, сознательно генерируется людьми. Например, когда нужно выбрать исполнителя какого-то не очень приятного задания – люди мечут жребий. Используется такого рода стадия свободного полета и для того, чтобы уравнять шансы и создать игровую интригу. Например, в бильярде мы не можем взять шар руками и должны использовать кий, что, безусловно, вносит элемент случайности. То же касается и футбола, в котором воздействовать на мяч руками строго запрещено.
Конечно, всегда были и будут люди, которые используют разные способы сделать случайности игры подконтрольными или вообще убрать их из игры, но так, чтобы соперник об этом не догадывался. Например, карточные шулера.
Итак, говоря о случайностях, мы говорим о ситуациях, в которых:
• отсутствует связь между событиями, исходами, события независимы (тогда как нам кажется, что связь имеет место быть, а события зависимы);
• мы не можем предсказать исход, точно сказать, как будут развиваться события (хотя нам кажется, что можем);
• мы не можем контролировать процесс, не можем повлиять на его исход (но нам кажется, что можем и влияем).
Причем именно первое порождает второе и третье.
Повторю, что наиболее слабое место нашего разума, проявляющееся при попытке описать случайности, оценить вероятность тех или иных событий, – это именно игнорирование случайностей. Наш разум, говоря упрощенно, предпочитает мыслить четкими и строгими категориями там, где необходимы категории нечеткие, вероятностные.
А сейчас давайте попытаемся защитить свой разум от попадания в ловушки случайностей, повысить компетентность во взаимодействии со случайностями и вероятностями.
Существует ли телепатия?
И начнем мы, уважаемый читатель, с того, что перейдем к поиску ответов на следующие неожиданные вопросы (к тому же сами по себе занимательные, на мой взгляд).
• Как проверить, есть ли среди нас телепаты?
• Имеются ли у людей телепатические способности?
• Могут ли одни люди читать мысли других людей?
Некоторых ученых тоже интересовали эти вопросы, и они проводили эксперименты, позволяющие выяснить, есть телепатия или нет. И самая распространенная схема таких экспериментов – угадывание так называемых карт Зенера. Этих карт всего пять, на них изображены круг, крест, три волнистые линии, квадрат и звезда.
Как же определить, есть ли у человека телепатические способности, с помощью карт Зенера?
Допустим, вы экспериментатор. Вы берете пять карт Зенера, тщательно их тасуете, потом открываете верхнюю карту – предположим, вам выпала карта, на которой изображена звезда, – и пристально смотрите на нее несколько минут.
В это время в другой комнате сидит испытуемый – человек, который заявил, что у него есть телепатические способности, или который просто хочет проверить, может ли он читать чужие мысли. Перед ним лежат пять карт Зенера, он пристально смотрит на них, пытаясь почувствовать, какую из карт вы держите в руках.
Наконец, он делает свой окончательный выбор и сигнализирует вам.
Вы входите в комнату и видите, что испытуемый выбрал именно ту карту, на которой изображена звезда.
Сильно ли вы удивитесь? Будет ли правильным в этой ситуации сделать вывод о том, что испытуемый – телепат?
«Конечно, нет!» – скажет проницательный читатель и будет прав.
Дело в том, что испытуемый мог чисто случайно выбрать именно ту карту, которая выпала вам. Да, такие совпадения вполне возможны. И понятно, что для исключения такого рода случайных совпадений необходимо провести несколько проб. Но сколько конкретно: пять, десять, сто, тысячу?
Вообще, как мы уже знаем, чем больше, тем лучше. Однако есть еще один принципиально важный момент.
Допустим, вы проделали процедуру угадывания карт 100 раз, а испытуемый правильно выбрал карту в 20 случаях; 20 из 100 – неплохой результат, правда же?
Так можно ли сказать, что испытуемый – телепат?
И вот тут на помощь приходит теория вероятностей, которая позволяет точно подсчитать, сколько раз испытуемый угадал бы карту просто случайно.
Как же это сделать?
Да очень просто!
У нас пять карт. Выпадает одна карта из пяти. Какова же вероятность того, что испытуемый случайно угадает, какая именно карта Зенера выпала?
Эта вероятность составляет один шанс из пяти, 1/5, или 20 %.
Другими словами, если дать испытуемому пять попыток угадать, какая карта Зенера выпала, то с пятой попытки он точно угадает.
«Но это же лишь рассуждения!» – скажет читатель.
Да. Но это правильные рассуждения. Более того, мы можем подтвердить их на опыте. Например, если два специальных робота, работая каждый со своими собственными пятью картами Зенера, будут случайным образом выбирать одну карту из пяти, то они выберут одну и ту же карту примерно в 20 % случаев. Причем чем больше будет таких случаев, тем ближе к 20 % окажется количество совпавших карт.
Таким образом, если испытуемый правильно угадал 20 карт в 100 опытах, то никаких телепатических способностей у него нет. А вот если бы он угадал в большем, чем 20, проценте случаев, то появились бы обоснованные подозрения в наличии у него телепатических способностей.
Между прочим, впервые такой способ сделать вывод – проверить, отличаются ли эмпирические данные от математически подсчитанных, – был использован не для чего-нибудь, а для доказательства того, что Бог существует.
Шотландский математик Джон Арбетнот (1667–1735) в своем труде под названием «Аргумент в пользу Промысла Божьего, извлеченный из постоянной регулярности, наблюдаемой в рождении обоих полов» показал, что, хотя согласно математическим расчетам вероятность рождения мальчика равна вероятности рождения девочки, в реальности на протяжении 82 лет мальчиков рождалось значимо больше, чем девочек. Причем, поскольку обнаруженное отклонение от теоретического распределения весьма и весьма маловероятно, Арбетнот сделал вывод о том, что имело место Божественное вмешательство. Видимо, Бог знал, что на протяжении этих 82 лет мальчики для Великобритании будут нужнее девочек…
Итак, сколько бы телепат ни совершил попыток угадать, какая карта из пяти нам выпала, вероятность случайного угадывания всегда будет составлять 20 %.
Кстати, если бы карт Зенера было шесть, вероятность случайного угадывания была бы примерно 17 %, а если бы карт было четыре, вероятность составляла бы 25 %.
Правда, еще необходимо учитывать, что случайности все равно происходят, и в опыте с сотней попыток угадывания испытуемый мог угадать и значительно больше 20 карт. Но это тоже ни о чем не говорит – надо продолжать испытания, проводить новые опыты. И вот если испытуемый стабильно будет показывать результат выше 20 %, то он на самом деле телепат! Ну или просто умелый фокусник, который нашел способ обмануть экспериментатора, обойти контроль.
На сегодняшний день в исследованиях телепатических способностей результаты, превышающие случайное угадывание, если и получены, то объясняются или прямым мошенничеством, или случайностью, или плохим контролем над экспериментом (в результате плохого контроля, к примеру, испытуемому тем или иным (но вовсе не телепатическим) способом поступает информация о том, какая выпала карта).
Так что телепатии, скорее всего, просто не существует.
Взвесим наши шансы
В популярном американском журнале «Парад» была авторская колонка под названием «Спросите Мэрилин». Вела ее, конечно, не Мэрилин Монро, а Мэрилин вос Савант. Почему именно она? Потому что она занесена в Книгу рекордов Гиннесса как обладательница самого высокого в мире коэффициента интеллекта (IQ) – целых 228!
Эта колонка работала просто: люди присылали Мэрилин вос Савант вопросы, а она отвечала.
И вот однажды (символично, что это было 9 сентября 1990 года – 09.09.1990, – нумерологи наверняка сделали бы из этого какой-то вывод) ей прислали вопрос, по-видимому навеянный телевикториной «На что спорим», которую вел Монти Холл [6, с. 70–71]. Этот телеведущий позже и «подарил» свое имя рассматриваемому парадоксу.
Вопрос, присланный Мэрилин, был примерно таков:
«Дорогая Мэрилин, вот вам задача, соответствующая вашему феноменальному интеллекту.
Вы участвуете в телевикторине. Перед вами три абсолютно одинаковые двери: дверь А, дверь В и дверь С.
За одной из этих дверей находится новенькая красная “Феррари”, а за двумя другими дверьми стоят живые черные козлы (вы не слышите, как они блеют или стучат копытами).
По условиям викторины вам надо выбрать одну из дверей, и вы выбираете дверь А.
И тут ведущий делает неожиданное – он открывает дверь В. За этой дверью оказывается козел.
И затем хитрый шоумен говорит вам:
“Мэрилин! Это ваш шанс! Вы можете поменять свое решение и выбрать дверь С. Решайте. Сейчас или никогда!”
Так вот, собственно, вопрос: стоит ли вам поддаться ведущему и изменить свой первоначальный выбор?
С наилучшими пожеланиями, искренне ваш, Аноним»Я думаю, будет полезно, если вы, уважаемый читатель, тоже ответите на этот вопрос.
Если вы не знаете, что такое парадокс Монти Холла, не разбираетесь в теории вероятностей, то вы, скорее всего, ответите, что менять свой первоначальный выбор и выбирать другую дверь не стоит, так как это не меняет шансов на выигрыш.
Всего перед нами три двери. Выигрыш только за одной из них. Это значит, что наши шансы на выигрыш составляют один шанс из трех, или 1/3. И эта пропорция не поменяется, если мы выберем другую дверь.
Но факт (и этот факт парадоксален) на самом деле состоит в том, что если вы выберете другую дверь, то ваши шансы на выигрыш возрастут. Поэтому лучше свой первоначальный выбор изменить.
Если вы ответили неправильно – не расстраивайтесь. Когда Мэрилин вос Савант ответила правильно («Да, стоит выбрать другую дверь»), ее буквально завалили письмами, в которых упрекали в некомпетентности, глупости, незнании теории вероятностей. Причем, обратите внимание, критические письма ей писали даже специалисты-математики, кандидаты наук!
Да, не зря задачу с тремя дверьми называют парадоксом: действительно, трудно поверить, что надо изменить свое первоначальное решение и выбрать другую дверь.
Но с точки зрения теории вероятностей тут все довольно просто. Давайте порассуждаем.
Какова вероятность того, что вы с первого раза выбрали дверь, за которой стоит новенькая красная «Феррари»?
Машина находится за одной из трех дверей. Следовательно, вероятность того, что вы угадали, за какой именно дверью находится машина, составляет 1/3 – один шанс из трех.
Другими словами, если вы сыграете в эту игру 120 раз подряд, то машина за выбранной вами дверью окажется примерно в 40 случаях.
Обратите внимание! Вы угадаете не каждый третий раз, а в одном случае из трех. То есть, повторю, из 120 попыток вы угадаете в 40 случаях. Причем мы не знаем, как распределятся эти случаи: возможно, угадывания и промахи будут чередоваться равномерно, или же вы сначала будете угадывать, а потом начнется полоса неудач, или же, наоборот, полоса неудач сменится чередой угадываний. Мы еще будем гораздо подробнее останавливаться на этом принципиально важном моменте, потому что его значимость нельзя недооценивать.
Итак, вероятность того, что вы угадали, за какой дверью стоит «Феррари», составляет 1/3.
Но вероятность того, что вы не угадали, составляет 2/3 – два шанса из трех. Вероятность того, что вы не угадали, выше, не правда ли?
Но это означает, что выше и вероятность того, что новенький красный «Феррари» находится за другой дверью – за дверью, которую вы не выбрали (в нашем примере – за дверью С).
Далее. Если бы ведущий не выводил из игры заведомо невыигрышную дверь, ваши шансы при смене решения так и остались бы на уровне «один из трех». Но ведущий открывает дверь с козлом и тем самым исключает ее из ваших дальнейших попыток.
Соответственно, есть один шанс из трех, что выбранная вами дверь выигрышная, и два шанса из трех, что машина стоит за другой дверью. Поэтому вам выгоднее поменять свое решение, выбрать другую дверь.
Итак, в нашем примере получается: вероятность того, что «Феррари» за дверью А, составляет один шанс из трех, а вероятность того, что «Феррари» за дверью В или С – два шанса из трех. Затем дверь В выходит из игры. При этом вероятность того, что машина стоит за дверью А, составляет 1/3, а вероятность того, что она за дверью С, – 2/3. Поэтому нужно изменить свой выбор и открыть дверь С.
Конечно, существует вероятность, что вы сразу угадали. В этом случае при смене двери вы проиграете. Но такая вероятность в два раза ниже, чем вероятность того, что, поменяв дверь, вы выиграете. Вот и все.
Это, кстати, хороший пример того, как надо применять теорию вероятностей на практике.
Так что меняйте свой выбор и выигрывайте!
Но вот вам дополнительный пример на случай, если вы все еще сомневаетесь.
Перед вами корзина. В ней три шара, одинаковых на ощупь. Вы не видите шаров, но знаете, что один шар красный, как новенькая «Феррари», а два других – черные, как козлы из телевикторины.
Какова вероятность того, что вы вытащите из корзины черный шар? Правильно, 2/3, два шанса из трех.
Вы достаете из корзины один из шаров и, не глядя на него и не разжимая кулака, чтобы не увидеть цвет шара, сразу прячете его в специальный непрозрачный мешок. Таким образом, в корзине осталось два шара.
Повторю: скорее всего, вы достали из корзины именно черный шар. Ведь черных шаров в корзине два, а красный всего один.
Затем ведущий на ваших глазах достает из корзины черный шар (теперь в корзине остался всего один шар) и предлагает вам сделать выбор: или остановиться на шаре, который вы вытащили вначале, или взять последний шар из корзины.
Что вы выберете?
Если вы и до сих пор не верите, то возьмите и проверьте. Для этого вам понадобится надежный человек и три туза: один красный и два черных. Пусть ваш приятель сыграет роль ведущего: разложит эти три карты на столе так, чтобы он знал, какая из них красный туз, а вы не знали. Затем, когда вы выберете карту, пусть он откроет одного из черных тузов.
Сделайте 100 проб и запишите, сколько раз вы выиграете, если будете менять свой первоначальный выбор. Затем проведите еще 100 проб, но на этот раз не меняйте свой выбор. И снова запишите, в скольких случаях вы выиграете. Затем сравните результаты.
Сыграем в орлянку?
А все оттого, что я смолоду ходил на кладбище играть в орлянку! Ей-богу, начал с орлянки и покатился.
Р.-Л. Стивенсон. Остров сокровищТрудно ли вам было читать о телепатии и опытах с картами Зенера? Трудно ли было разобраться в теории вероятностей, которая позволяет определить, угадал человек карты или же имело место подлинное чтение мыслей?
Если не было трудно – хорошо. Но тем не менее данные современной науки таковы, что для нашего разума сфера случайностей и вероятностей является достаточно сложной. Другими словами, когда наш разум имеет дело с вероятностями и случайностями, ему приходится туго.
Скажу больше: именно на проблемах с пониманием случайностей и вероятностей основаны многие ловушки, в которые попадает наш разум, а вместе с ним и мы.
Так что давайте еще немного поговорим о теории вероятностей. И для этого мы с вами поиграем в знакомую всем благодаря Роберту Льюису Стивенсону пиратскую игру – орлянку.
В эту игру играют вдвоем. Один подбрасывает монетку, а второй пытается предсказать, орел выпадет или решка. Если второй игрок предсказал правильно, то он забирает монету, а первый достает новую монету, чтобы подбросить ее. Если же второй игрок не угадывает – монета остается у бросавшего, а игроки меняются ролями – кидает монету теперь второй игрок, а первый будет угадывать, какой стороной она выпадет.
И вот мой вопрос: если вы сказали «решка» и угадали, вам стоит в следующий раз снова сказать «решка» или же лучше сказать «орел»?
А сейчас внимание: правильный ответ!
Нет разницы. Независимо от того, на какую сторону упала монета в предыдущий раз, в этот раз вероятность выпадения орла снова равна вероятности выпадения решки.
«А если мы будем подбрасывать одну и ту же монету?» – может спросить кто-нибудь из читателей.
Все равно нет разницы. Каждое подбрасывание монеты – это событие, независимое от предыдущего, а его результат – выпадение орла или решки – случаен.
Кстати, одна из главных причин, по которой человек не может правильно воспринимать случайности и вероятности событий, заключается в том, что он не понимает, что такое независимые события.
Например, если я рублю дерево, то от каждого удара топором на нем остаются зарубки и в конце концов дерево будет срублено. Глубина каждой зарубки зависит от глубины предыдущей. Поэтому, говоря упрощенно, зарубки – это зависимые события. А вот если я подбрасываю монету, то независимо от того, какой стороной она упала, при следующем броске вероятность того, что выпадет орел, равна вероятности того, что выпадет решка.
Ну хорошо. Нам может быть трудно, но мы согласились с тем, что каждый раз вероятности выпадения орла и решки равны. И составляют один шанс из двух, 1/2, или 50 %.
Но давайте усложним задачу.
Допустим, мы будем подкидывать монету шесть раз подряд и нам надо определить, какая из следующих комбинаций более вероятна (на какую из этих комбинаций лучше сделать ставку):
• ОРРОРО;
• ОООРРР;
• ОООООО.
Подумайте и дайте ответ на этот вопрос.
Обычно люди считают более вероятной первую комбинацию. При этом, по-видимому, рассуждают так: «Орел и решка выпадают с равной вероятностью, следовательно, в шести бросках три раза выпадет решка, три раза – орел, причем чередоваться они будут сравнительно равномерно».
И в этом рассуждении кроется серьезная ошибка, значение которой и влияние которой на наше поведение трудно переоценить.
На самом деле вероятность выпадения всех трех комбинаций одинакова. Она составляет один шанс из 64, 1/64, или примерно 1,56 %.
Почему один шанс из 64?
Потому что всего существует 64 шестизначные комбинации из орла и решки. Вот вам полная таблица всех вариантов.
Три комбинации, с которыми мы работали выше, выделены.
Возможно, равную вероятность выпадения каждой из перечисленных выше 64 комбинаций будет легче понять, если упростить задачу.
Допустим, мы бросаем монету не шесть раз подряд, а только два раза. В этом случае возможны четыре комбинации:
• ОО;
• ОР;
• РО;
• РР.
И если вас спросят, какая из приведенных комбинаций более вероятна, вы, скорее всего, признаете, что все четыре равновероятны, и будете правы.
Действительно, вероятность получения каждой из этих комбинаций равна 1/4, или 25 %.
Существование такой игры, как орлянка, само по себе подтверждает, что орлы и решки выпадают неравномерно. Если бы они выпадали равномерно, то играть в орлянку не имело бы смысла, поскольку каждый из двух игроков выигрывал бы примерно в половине случаев, то есть выигрыши бы обнулялись.
Если играть в орлянку достаточно долго, например миллион раз подряд, то по-прежнему не будет ни выигравшего, ни проигравшего игрока.
А теперь давайте выполним еще одно задание. Представьте, что я попросил одного человека кинуть монету 50 раз и записать результат каждого броска, чтобы получилась, по сути, цепочка букв О и Р, а другого человека – написать последовательность орлов и решек, которая, на его взгляд, возникла бы, если бы он бросал монету.
Вот получившиеся последовательности:
а) РРРООРООРРРРРОООРРОООРРРРРОООООООРОООРОООРРОООООРР;
б) РОРОРОРОРРРООРОРОРРОРООРООРРОРОРООРООРРРОРОРОРОРОР.
А теперь, уважаемый читатель, попробуйте определить, какая последовательность возникла при реальном подбрасывании монеты, а какая была выдумана человеком, который монету не подбрасывал, а лишь представлял, что подбрасывает.
И если вы внимательно читали этот раздел и все поняли, то с легкостью увидите, что последовательность «а» больше похожа на настоящую, тогда как последовательность «б» – на выдуманную.
Действительно, в последовательности «а» встречаются непрерывные и достаточно длинные ряды орлов и решек, тогда как в последовательности «б» орлы и решки распределены куда более равномерно.
Так что теперь, я думаю, вы можете проделывать этот фокус с угадыванием последовательности в компании друзей.
Вообще, раз уж мы поговорили про орлянку, то давайте еще немного остановимся на азартных играх.
Красное и черное
Рулетка. Казино. Роскошь. Миллионеры. Светские львицы. Колесо рулетки крутится, блестящий маленький шарик, посланный умелой рукой крупье, прыгает по колесу. Поистине захватывающее зрелище!
Вы смотрите на рулетку. Ее вращение манит и практически гипнотизирует вас. Но вы не решаетесь вступить в игру. Вы продолжаете смотреть и видите: выпадает черное, потом – снова черное, затем – снова черное, затем – опять черное. Крупье раскручивает рулетку еще раз. И шарик опять останавливается на черном. И тут вы понимаете: черное выпало уже пять раз! Надо вступать в игру и ставить на красное!
Вы вступаете в игру и половину своих фишек ставите на 12 красное, а другую половину – на 13 красное. Остальные игроки тоже делают ставки, шумят, переговариваются, что-то выкрикивают. Наконец крупье объявляет: «Ставок больше нет!» Все замолкают. Игровой стол окутывает напряженная тишина. Крупье раскручивает рулетку и запускает шарик. Вы ждете, затаив дыхание. Рулетка вращается все медленнее. Шарик тоже замедляется. И… попадает на 18 черное.
«Как же такое может быть?! – удивляетесь вы. – Семь раз подряд черное!»
Впрочем, если вы внимательно читали предыдущий раздел, то понимаете: удивились вы зря. Выпадение на рулетке того или иного числа того или иного цвета является каждый раз независимым событием. Независимо от того, какой цвет выпал на рулетке, на каком числе остановился шарик, в следующий раз вероятность выпадения каждого цвета и каждого числа одинакова.
Конечно, если вы очень внимательно читали предыдущие разделы и все поняли, то вы бы и не поставили на красное в надежде, что после того, как черное выпало «целых» шесть раз, в следующий раз уж точно выпадет красное.
Ну а если вы все-таки решили поставить на красное, то совершили так называемую ошибку азартного игрока. Да, несмотря на то что азартные игроки имеют многолетний опыт участия в азартных играх, эта ошибка весьма распространена среди них.
Кстати, в одном из казино Монте-Карло (это одна из территорий княжества Монако – европейской Мекки азартных игр) 18 августа 1913 года был зафиксирован необычный случай. Черное на рулетке выпало 26 раз подряд! Причем где-то с 15-го раза игроки стали судорожно ставить на красное (думая, что тенденция вот-вот изменится). И в итоге проиграли миллионы франков [16] к безусловной выгоде владельца казино.
Поэтому ошибку азартного игрока именуют еще ошибкой Монте-Карло.
Он сегодня в ударе!
Когда мы совершаем ошибку азартного игрока, мы считаем, что тенденция вот-вот поменяется, например, перестанут выпадать орлы и начнут выпадать решки, а вместо черного выпадет красное. Но нам присуща и ошибка, которая, с одной стороны, имеет в своей основе тот же механизм – игнорирование случайностей, а с другой – является как бы противоположной по форме. Речь идет о так называемой ошибке «горячей руки».
«Горячая рука» – это термин американских спортивных комментаторов и болельщиков. О «горячей руке» говорят, когда во время игры в баскетбол или бейсбол спортсмен осуществляет подряд несколько результативных действий (попадает в кольцо, отбивает мяч битой и пр.). Обычно комментаторы в этот момент повышают голос и говорят что-то вроде: «У этого парня сегодня “горячая рука”! Бьюсь об заклад: он выбьет и следующую подачу!»[9]
Однако, как показывают статистические исследования [15], «горячая рука» – это спортивный миф: сколько бы раз подряд спортсмен ни совершил в игре результативное действие, это никак не повышает вероятность того, что его следующее действие тоже будет результативным.
Как это выяснили? Очень просто. По результатам множества игр в баскетбол и бейсбол подсчитали, какова вероятность того, что за одним удачным игровым действием последует другое результативное действие. И эта вероятность не превысила 50 %. То есть если баскетболист попал в корзину, то вероятность того, что при следующем броске он снова в нее попадет, не выше одного шанса из двух (он или попадет, или не попадет).
Таким образом, когда человек совершает ошибку «горячей руки», он находит закономерность там, где ее нет, поскольку считает, что действия игрока не могли быть результативными несколько раз подряд чисто случайно и за результативностью стоит некая закономерность.
«Но постойте! – воскликнет критически настроенный читатель. – Получается, навыки спортсмена не определяют его результативность?»
Конечно, определяют. Профессиональные баскетболисты, безусловно, забрасывают мяч в корзину гораздо чаще любителей и новичков, причем могут делать это, находясь даже в очень сложной игровой ситуации. Но если баскетболист забросил меч в корзину три раза за игру, то это совсем не означает, что он забросит мяч и в четвертый раз. Здесь нет закономерности. Зато есть иллюзия, что закономерность есть. Это и есть ошибка «горячей руки».
Необходимо учитывать один принципиально важный момент. Дело в том, что игры специально придуманы таким образом, чтобы в них была велика роль случайности. Правила игры, игровые средства разработаны так, чтобы привнести в процесс непредсказуемость. В этом, кстати, заключается принципиальное отличие игры от, скажем, ремесла, производства. Действительно, профессиональный токарь гарантированно за каждый день работы на токарном станке будет изготавливать примерно одинаковое количество деталей. А вот профессиональный баскетболист далеко не обязательно в каждой игре забрасывает в корзину примерно одинаковое количество мячей.
На заводе люди делают все, чтобы исключить различные помехи, мешающие токарям брать заготовки, подносить их к станкам. Представьте, как снизились бы производственные показатели завода, если бы токари вынуждены были отбирать заготовки друг у друга, а станки были бы устроены так, чтобы далеко не всегда удавалось закрепить в них заготовку.
Ошибка «горячей руки» может иметь место и в азартных играх. Так, человеку может, как говорится, «идти карта», «фартить». Не понимая, что хорошие карты совершенно случайно выпали несколько раз подряд, он может решить, что сегодня ему «карта идет», сделать завышенную ставку в надежде на сохранение этой тенденции и в итоге все проиграть.
Неудачные дни
Итак, мы не всегда интерпретируем цепь событий в духе ошибки азартного игрока. Иногда схема интерпретации иная: «Раз уже несколько раз выпало черное, то оно и будет продолжать выпадать».
И вот еще один пример того, как такое неправильное понимание цепи случайных событий приводит к ошибочным действиям.
В своей жизни я не раз встречал людей, которые действовали следующим образом: если в течение дня они попадали в несколько неприятных ситуаций, то предпочитали не делать того, что запланировали, а вернуться домой или просто провести остаток рабочего дня в бессмысленном блуждании по Интернету. Трудно сказать, сколько целей не было достигнуто под влиянием этого способа принимать решение, а также достижение какого количества целей было отсрочено.
Действительно, день легко может показаться неудачным. В такой день вам то дорогу не уступят, то толкнут, то на ногу наступят, то займут удобное место (и тогда приходится стоять в месте неудобном), то на машине подрежут, то в правый ряд не пропустят, то парковку всю займут и пр. И многие люди интерпретируют такое начало дня как прогноз на весь день.
Может сложиться впечатление, что дело не совсем в том, что человек интерпретирует неприятные моменты как прогнозы, подсказки и послания. Может показаться, что несколько неприятностей, произошедших друг за другом, просто усиливают стресс и человек понимает, что в таком состоянии он будет непродуктивен, а потому старается провести остаток дня в покое.
Но здесь важно задаться следующим вопросом: будет ли суммироваться стресс, если не интерпретировать события как связанные между собой, как обусловленные тем, что у вас сегодня неудачный день?
Важно все тщательно проанализировать и понять, были ли неприятные события независимыми. Например, с утра вы проспали. В спешке никак не могли открыть гараж, потом в нервозном состоянии плохо выехали из него, на дороге были пробки. Естественно, вы опоздали. И вдобавок все хорошие места на парковке уже были заняты. А в довесок вы въехали в клумбу при попытке припарковаться.
Здесь именно факт того, что вы проспали, стал ключевым, он и определил дальнейшие события, которые, соответственно, не являются независимыми, а стали следствием того, что вы проспали.
Конечно, и после такого анализа можно остаться убежденным в том, что есть какие-то высшие силы, способные влиять на нашу жизнь и действующие по принципу домино: они знают, когда вмешаться, воздействуют на какую-то мелочь, но эта мелочь запускает цепь событий, которые в итоге становятся весьма значимыми. На подобной идее построена серия фильмов «Пункт назначения»: все они основаны на последовательностях событий, каждая из которых запускается чем-то безопасным и незначительным, но в итоге заканчивается смертью одного из героев фильма.
Так что постфактум вы можете называть день неудачным в том смысле, что в этот день случилось несколько неприятностей подряд. Но делать выводы о том, что день неудачен и, следовательно, нужно перестать действовать, – это совершенно необоснованно и неправильно.
Конечно, источником ряда проблем, которые у нас возникают, и ошибок, которые мы совершаем, является не только то, что мы делаем далеко идущие выводы из тех или иных цепочек событий, кажущихся нам не случайными, а закономерными. Существуют и другие не менее опасные ловушки, в которые попадает наш разум, когда игнорирует случайности.
Закон малых чисел
Многое из того, что мы рассматривали выше, фактически описывается так называемым законом малых чисел.
Закон малых чисел – это ложный или даже, если можно так выразиться, пародийный закон. Истинным законом является закон больших чисел. А вера в закон малых чисел представляет собой веру в то, что закон больших чисел настолько силен, что сработает даже на малых числах.
Но что такое закон больших чисел?
Представим такой эксперимент. В мешке красные и черные шары, причем красных шаров значительно больше.
У нас двое испытуемых.
Один вытянул пять шаров, из них четыре оказались красными и лишь один – черным.
Второй вытянул 20 шаров, из них 12 оказались красными и восемь – черными.
Кто с большим правом может заявить, что в мешке больше красных шаров?
Обычно люди склонны отвечать, что первый испытуемый, поскольку в его выборке красных шаров в четыре раза больше, тогда как в выборке второго красных шаров лишь в 1,5 раза больше. В действительности же более правильным был бы ответ «второй испытуемый», поскольку он получил большую, то есть более репрезентативную, выборку.
Иначе говоря, вероятность того, что из пяти шаров большая часть окажется черными, выше, чем вероятность того, что черными окажется большинство из 20 шаров.
Скороспелое обобщение
В повседневной жизни мы постоянно полагаемся на этот ложный закон – закон малых чисел. Так, мы очень часто делаем выводы, исходя из слишком малого количества опытов, мы спешим сказать «все» и/или «всегда», когда в действительности рассмотрели лишь несколько примеров. Эта неправильная мыслительная операция в науке называется «скороспелое обобщение».
Пожалуй, наиболее ярким примером скороспелого обобщения являются фразы типа «все мужики сволочи» или «все блондинки глупые».
Фактически скороспелое обобщение может быть сведено к неумению пользоваться волшебной таблицей. Вот, например, какой должна быть таблица для оценки того, насколько распространен высокий интеллект среди блондинок.
Естественно, человек, сделавший скороспелое обобщение о блондинках, предпочитает смотреть только на ячейку А. Вдобавок в этой ячейке слишком мало девушек, или, говоря научным языком, выборка нерепрезентативна.
Что ж, до сих пор мы разбирали ситуацию, когда событий, опытов сравнительно мало и у нас возникает иллюзия того, что по этим событиям можно сделать некие выводы. А теперь рассмотрим ситуацию, когда событий невероятно много, помня о том, что наш разум склонен пасовать перед большими числами.
Стоит ли играть в лотерею?
Для начала окунемся в конкретику и поговорим о том, стоит ли вам покупать лотерейные билеты.
Допустим, суть лотереи состоит в том, что вам нужно угадать, какие шесть чисел выпадут из 49 возможных (по правилам лотереи вы должны зачеркнуть любые шесть чисел из 49, которые напечатаны на вашем билете).
Насколько же вероятно, что вы угадаете эти шесть чисел?
Чтобы определить данную вероятность, надо подсчитать, сколько всего существует комбинаций из шести цифр, при условии, что всего чисел 49 (от 1 до 49), причем они не могут повторяться, а порядок, в котором они следуют друг за другом, не имеет значения (то есть комбинации 123456, 132564 и 654321 одинаковы).
Если вы не специалист в такой отрасли математики, как комбинаторика, то будете выписывать все возможные комбинации вручную.
И так далее и так далее.
И как вы уже, наверное, догадались, выписывать эти комбинации вы будете очень долго. И это действительно так, поскольку всего возможных комбинаций больше 10 миллионов, а именно – 13 983 816.
Соответственно, вероятность того, что вы выиграете в эту лотерею, составляет один шанс из 13 983 816. И я даже не знаю, сколько это будет в процентах, потому что калькулятор отказывается делить единицу на столь большое число.
Кроме того, даже при условии, что выигрыш вы получите, даже если из зачеркнутых вами чисел хотя бы три совпадут с тремя числами из шести выпавших, вероятность вашего выигрыша все равно будет настолько низка, что тратить время и деньги на участие в лотерее нет никакого смысла.
Причем эта картина сохранится, даже если будет не одна выигрышная комбинация, а целых сто.
К тому же лотерея 6 из 49 (когда-то по этим правилам функционировала знаменитая советская лотерея «Спортлото») – это пример того, на каких принципах строится любая лотерея. Соответственно, читатель должен понимать, что его шансы выиграть в любую лотерею практически равны нулю, а значит, тратить деньги на лотерейные билеты не стоит в принципе.
«Но подождите! – воскликнет думающий читатель. – Ведь случаи выигрыша в лотерею все равно известны! Так что вы, уважаемый автор, не правы».
Что ж, давайте разбираться.
Закон действительно больших чисел
Помните, как мы обсуждали задачи про изобретателя шахмат и про количество возможных складываний листа бумаги? На этих примерах мы поняли, что наш разум не очень хорошо понимает, что происходит, если чего-то очень много.
При оценке вероятности наступления маловероятного исхода в условиях большого количества попыток его получения наш разум тоже пасует.
И даже если вы хорошо поняли теорию вероятностей в том минимальном объеме, в котором познакомились с ней на страницах данной книги, вы все еще можете попасть в ловушку под названием «закон действительно больших чисел». Дело в том, что вас может поразить факт, что маловероятные события все равно происходят, причем происходят непосредственно с вами.
Если коротко, то закон действительно больших чисел гласит: сколь угодно маловероятное событие происходит, если возникло достаточно большое количество ситуаций, в которых это событие может наступить. Или так: даже маловероятный исход будет получен, если осуществить достаточно большое количество попыток получения этого исхода.
Например, если вероятность события составляет 0,1 % (десятая часть процента, то есть один шанс из тысячи), то в 100 случаях оно произойдет лишь в 0,1 случая, то есть, по сути, не произойдет (десятая часть случая – это нонсенс), но если мы увеличим число случаев до 1000, то маловероятное событие произойдет хотя бы однажды. И вполне возможно, что этот случай выпадет именно вам или вашим близким.
А теперь вспомним вопрос, которым закончился предыдущий раздел: если шанс выиграть в лотерею ничтожно мал, мал настолько, что играть в нее просто не стоит, то почему же есть люди, которые в лотерею все-таки выиграли?
Благодаря нашему знанию закона действительно больших чисел мы можем легко ответить на этот вопрос. Мы слышим о людях, выигравших крупные суммы в лотерею, потому что, говоря образно, в миллион лотерей играют миллионы людей в течение как минимум сотни лет, и потому некоторые из этих миллионов людей практически неизбежно выигрывают.
Если бы вы имели столько денег, чтобы сыграть в миллион лотерей, скупив миллиарды лотерейных билетов, вы бы точно выиграли. Вот только покрыл ли бы выигрыш ваши затраты?..
Итак, давайте не будем удивляться тому, что мы периодически слышим о наступлении маловероятных событий: по закону действительно больших чисел даже редкие, маловероятные события происходят, если совершено действительно большое количество попыток или если ситуаций, в которых могут произойти эти события, возникло на самом деле много.
А теперь разберемся с тем, как применять закон больших чисел.
Это очень просто: в лотерею все равно играть не стоит (такой принцип следует из теории вероятностей – не стоит надеяться на наступление редкого события), но не стоит и удивляться тому, что некоторые люди в лотерею выиграли.
И разумеется, закон действительно больших чисел работает, поражая воображение людей и создавая питательную почву для самого разного шарлатанства, далеко не только в мире лотерей.
Действительно, к миллионам экстрасенсов приходят миллиарды людей в течение десятков лет, неудивительно поэтому, что в некоторых случаях экстрасенсы и правда угадывают какие-то события.
Каждую ночь на протяжении всей истории человечества (сколько было таких ночей? Очень много) миллиарды людей видят несколько снов. Неудивительно поэтому, что встречаются случаи, когда увиденное человеком во сне совпало с тем, что потом произошло с ним наяву.
На протяжении истории тысячи предсказателей (в том числе Нострадамус и Ванга) сделали миллионы предсказаний, причем за это время произошло и огромное количество событий, которые можно соотнести с этими предсказаниями. Неудивительно поэтому, что некоторые из них оказались «верными».
Но раз уж речь зашла о предсказаниях, нельзя не вспомнить о том, что к закону действительно больших чисел тесно примыкает такое явление, как эффект Джин Диксон.
Эффект Джин Диксон
Тот, кто много говорит, иногда изрекает истину.
Испанская пословицаДжин Диксон – это американская предсказательница и астролог, которая стала довольно популярной, и к ее советам, по слухам, обращались даже президенты.
Свое первое предсказание, принесшее ей известность, Джин Диксон опубликовала в журнале «Парад», с которым мы уже сталкивались, когда изучали парадокс Монти Холла. Именно это предсказание прославило Джин Диксон, поскольку предсказала она не что-нибудь, а убийство Джона Кеннеди. Конечно, это предсказание, как и любое другое, было довольно расплывчатым и гласило, что на выборах победит демократ, который затем будет убит или умрет в своем офисе.
Как видим, никаких имен. Весьма неточно указана причина смерти – убийство или что-то другое. Да и Кеннеди был убит вовсе не в офисе, а в автомобиле.
Тем не менее Джин Диксон прославилась, и к ее услугам, по-видимому, стал прибегать сам Ричард Никсон или по крайней мере его секретарша, а также жена следующего президента США – Рональда Рейгана – Нэнси Рейган.
В чем же заключается эффект Джин Диксон?
Дело в том, что ее правильные предсказания составляли ничтожный процент от всех ее предсказаний, большинство из которых не сбылись, в частности, русские не высадились на Луне, женщина – потомок Нефертити не появилась, а третья мировая война в 1958 году не началась. Но люди не обращали внимания на множество несбывшихся предсказаний. Их интересовали лишь несколько сбывшихся!
Соответственно, суть эффекта Джин Диксон может быть изложена довольно просто: чем больше делаешь предсказаний, тем выше шанс, что какие-то из них сбудутся.
Помните закон действительно больших чисел? Даже очень маловероятное событие неизбежно происходит при достаточно большом количестве случаев, в которых наступление этого события возможно.
При этом в рамках эффекта Джин Диксон подчеркивается, что люди запомнят именно сбывшиеся предсказания, а количество несбывшихся их интересовать не будет.
Понятно, что такой подход, жертвой которого, кстати, может пасть любой человек, совершенно иррационален. Если предсказатель сделал 1000 предсказаний и из них сбылось всего 100, то эффективность такого предсказателя составляет 10 %. Имеет ли смысл платить за предсказания, которые сбываются лишь в 10 % случаев? А ведь это подразумевает, что в 90 % случаев предсказание не сбывается, то есть девять из десяти раз вы потратите деньги зря или даже во вред себе, поскольку неверное предсказание помешает вам действовать правильно.
Более того, факт, что предсказания сбылись в столь малом числе случаев, может говорить и о том, что сбылись они чисто случайно, то есть слова предсказателя случайно совпали с тем, что произошло в действительности. И как вы понимаете, на самом деле именно так и обстоят дела.
Несмотря на то что в названии эффекта Джин Диксон используется имя известной предсказательницы, этот эффект наблюдается не только в случае предсказаний.
По сути, шарлатаны, продающие чудодейственные снадобья и различные рецепты успеха, тоже живут за счет этого эффекта. Если такое снадобье помогло хотя бы нескольким людям, то именно об этом будут кричать шарлатаны, их рекламные ролики и тексты, их сайты и пр. Да и убеждать людей покупать шарлатанские снадобья и услуги будут именно эти случаи.
Какие выводы сделал бы потенциальный шарлатан, прочитав об эффекте Джин Диксон?
Очень простые:
• чем больше я делаю предсказаний, тем выше вероятность того, что они сбудутся;
• чем большему количеству людей я предлагаю мое снадобье и чем от большего количества болезней это снадобье, по моим словам, помогает, тем выше вероятность того, что появятся люди, которые заявят: «А мне помогло!»;
• чем большему количеству людей я предлагаю решать проблемы с помощью моих «экстрасенсорных способностей» и чем больше вариантов проблем предлагаю решать, тем выше вероятность появления людей, уверенных, что я экстрасенс и что именно я помог им решить их проблемы.
Золотое сечение вероятностей
Наверное, не существует человека, который не слышал бы о золотом сечении. Чуть меньшее число людей не просто слышали о нем, но и знают и могут объяснить, что это такое.
Золотое сечение – это что-то вроде универсального правила достижения красоты в живописи, архитектуре и, говорят, даже в музыке. Точнее, это даже не правило, а, скорее, универсальная пропорция, соотношение частей между собой и с целым, которое совершенно точно будет выглядеть красиво. Каково же это соотношение?
Золотое сечение будет иметь место тогда, когда целое относится к большей части так же, как большая часть относится к меньшей части.
Примером фигуры, построенной по принципу золотого сечения, является обычная пятиконечная звезда.
Действительно, в пятиконечной звезде AC относится к АВ так же, как CF относится к DF.
Что-то похожее на золотое сечение существует и в мире случайностей и вероятностей. И называется это «золотое сечение мира случайностей» нормальным распределением.
Но прежде чем говорить о нормальном распределении, о законе нормального распределения, знание которого может защитить нас от попадания в целый ряд ловушек разума, нужно продвинуться еще на один шаг в исследовании мира случайностей.
Неравновероятные события
Однажды (в первой четверти XVII века) Козимо II Медичи – великий герцог Тосканский – обратился к Галилео Галилею с вопросом о том, почему в некой игре с тремя игральными костями десять очков выпадает чаще девяти.
Будучи умнейшим человеком, Галилей не только нашел ответ на этот вопрос, но и написал целый научный труд под названием «Рассуждения об игре в кости», который стал значимой вехой на пути познания человеком мира случайностей и вероятностей. Да-да, Галилей не только кидал предметы с Пизанской башни, не только с помощью изобретенного им телескопа рассмотрел и описал поверхность Луны и открыл спутники Юпитера, но и внес вклад в развитие теории вероятностей.
Почему же десять очков выпадает при бросании трех игральных костей чаще, чем девять?
Вы хорошо поняли, что если вас спросят о том, что более вероятно при однократном подбрасывании монеты – выпадение орла или выпадение решки, то правильным ответом будет «вероятности равны». Тот же ответ будет правильным и в случае, если мы бросаем одну игральную кость: вероятность выпадения каждого очка (от единицы до шестерки) одинакова и составляет 1/6, или примерно 16 %.
А что, если мы поговорим о бросании двух игральных костей, как это происходит, например, в нардах? Что более вероятно: выпадение двойки или выпадение тройки?
Давайте рассуждать. Когда мы получим двойку? Это очень просто: двойка выпадает, когда на одной кости выпадает единица и на другой кости тоже выпадает единица.
А когда выпадает тройка? Это тоже просто: когда на одной кости выпадает единица, а на другой – двойка.
Отсюда следует, что вероятности выпадения двойки и тройки при бросании игральных костей равны.
Правильно?
Нет, неправильно!
Дело в том, что двойку действительно можно выбросить только одним способом: на одной кости выпадает единица и на другой единица. А вот тройку можно выбросить двумя способами, то есть способов получения тройки больше, а значит, эта комбинация более вероятна.
Почему тройка получается двумя способами? Потому что одним таким способом будет комбинация «один-два», а другим – комбинация «два-один». Это легче представить, если мы раскрасим кости в разный цвет.
Вот единственный способ получения двойки.
А вот два способа получения тройки.
Обратите внимание! Если бы вас спросили, какая комбинация, возникающая при бросании двух игральных костей, более вероятна:
правильным ответом был бы «комбинации выпадают с равной вероятностью». Действительно, если говорить о комбинациях, а не об их числовых значениях (очках, получаемых при выпадении комбинации), то при бросании двух игральных костей существует всего 36 равновероятных комбинаций (две кости, у каждой из которых шесть граней, то есть 62 = 36).
Но вернемся к ситуации, когда нас интересует не комбинация, а ее числовое значение. Вот таблица всех числовых значений комбинаций, возникающих при бросании двух костей. Случаи получения двойки и тройки выделены.
Естественно, если наши кости одного цвета, то на глазок мы никак не определим, какой именно случай у нас перед глазами – «один-два» или «два-один», но если мы играем в кости достаточно долго, то заметим, что тройка выпадает примерно в два раза чаще двойки. Точнее, не заметим, а лишь будем получать последствия от более вероятного выпадения тройки, тогда как нам кажется, что вероятность эта равна вероятности выпадения двойки.
Вы даже можете подзаработать на этой неразличимой глазом особенности бросания костей. Попросите друга сыграть с вами в игру: он ставит на то, что при бросании двух костей выпадет двойка, а вы – на то, что выпадет тройка. Вы будете чаще выигрывать, а ваш друг, скорее всего, даже не поймет, почему так происходит.
Теперь и мы можем, подобно Галилео Галилею, правильно ответить на вопрос герцога Тосканского о том, почему при игре с тремя игральными костями десятка выпадает чаще девятки. Дело в том, что десятку при бросании трех игральных костей можно получить 27 способами, тогда как девятку – лишь 25. Это связано с тем, что комбинация «три-три-три» как бы съедает две комбинации.
Таким образом, если вы вдруг захотите поиграть с другом в бросание трех игральных костей, вам будет выгоднее ставить на то, что выпадет десять очков, чем на то, что выпадет девять, поскольку десять выпадает чаще.
Но давайте углубим свои познания и зададим более общий вопрос: а на какое количество очков надо поставить при бросании двух костей, чтобы максимально повысить вероятность выигрыша? Да и вообще, существует ли такое количество очков?
Для ответа на эти вопросы посмотрим на нашу таблицу и создадим на ее основе следующий график.
А вот тот же график, но в более наглядном виде (использованы разноцветные кости).
Как видим, чаще всего будет выпадать комбинация, дающая семь очков. Значит, именно на семерку и нужно ставить.
Но почему чаще всего при бросании двух игральных костей мы будем получать семерку? Потому что существует шесть способов получить семерку, пять способов получить шестерку и восьмерку, четыре способа получить пятерку и девятку и т. д. Другими словами, вероятность получения семи очков максимальна и составляет 6/36, или 1/6, или примерно 17 %.
Кстати, 7 – это еще и среднее арифметическое суммы очков, которая выпадает при бросании игральных костей. Действительно:
(2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 10 + 11 + 12) / 11 = 7.
Итак, при бросании двух костей именно на семерку нужно ставить, чтобы максимально повысить вероятность вашего выигрыша.
Нормальное распределение
Когда Галилео Галилей изобрел свой телескоп, он немедленно приступил к астрономическим наблюдениям. Он совершал их по многу раз, чтобы достичь максимальной точности. При этом Галилей заметил одну важную закономерность: маленькие ошибки в измерениях происходили намного реже серьезных ошибок.
Позднее эту закономерность вновь обнаружил и детально описал один из величайших математиков в истории – Карл Фридрих Гаусс (1777–1855). Он тоже проводил астрономические измерения и обнаружил ту же картину, что и Галилей. Но, в отличие от последнего, он математически описал эти отклонения и в итоге открыл кривую нормального распределения, которая сегодня носит в том числе и его имя: эту кривую называют колоколообразной кривой, кривой нормального распределения, кривой Гаусса или просто гауссианой.
Кривую нормального распределения мы получаем не только в случае ошибок измерения, но и в по-настоящему огромном количестве иных случаев.
Например, если вы будете стрелять по мишени достаточно долго (предположим, что вы не снайпер и не профессиональный спортсмен-стрелок), то в десятку (центр мишени) и в единицу (периферия мишени) вы попадете гораздо меньшее количество раз, чем в пятерку, шестерку, семерку и восьмерку. Если расположить результаты вашей стрельбы на графике, получится примерно такая картина.
Обратите внимание на форму получившейся кривой – она приближается к колоколообразной.
А теперь снова посмотрим на график, который мы получили, сопоставляя вероятности выпадения той или иной суммы очков при бросании двух игральных костей. Думаю, вы заметили, что как при стрельбе по мишени, так и при бросании игральных костей получаются похожие графики (за исключением того, что в случае бросания костей график гораздо более прямой и симметричный). Вот такая имеющая колоколообразную форму кривая и называется кривой нормального распределения.
Нормальное распределение – это не только кривая, не только график, но и самый настоящий закон. Например, если мы будем вести речь о тех или иных характеристиках человека, то, говоря упрощенно, закон нормального распределения будет звучать так: если характеристика присуща многим людям, то у большинства людей она будет иметь среднее значение.
Рост человека, его вес, размер груди и многие другие параметры подчиняются закону нормального распределения. Это означает, что мы априори, то есть еще до опыта, можем сделать целый ряд весьма полезных выводов. Например, в ситуации, когда вас остро интересует, какой размер груди у вашей новой знакомой, вероятнее всего, это будет что-то среднее.
Здесь срабатывает примерно та же логика, как в случае, когда мы при бросании игральных костей решаем, на какое количество очков ставить. Как мы уже знаем, ставить надо на то количество очков, которое выпадает чаще, то есть которое получается большим количеством способов.
Нормальное распределение помогает понять, почему так важно, чтобы выборка, на которой проводится то или иное исследование, была достаточно большой. Если выборка мала, то велика вероятность того, что в нее не попали важные части кривой нормального распределения, например, попал только один ее край. Да и вообще, репрезентативной является как раз та выборка, распределение значений в которой совпадает с распределением, присущим генеральной совокупности.
Любой валидный и надежный психологический опросник тоже построен по закону нормального распределения: для каждого измеряемого опросником психического качества существует диапазон значений, который является нормой.
Когда мы говорим о законе нормального распределения, мы обязательно должны упомянуть об ограничениях, которые создает типология. Фактически можно сказать, что любая типология сосредоточена на краях кривой нормального распределения и упускает из виду основную массу значений, которые и составляют норму. Экстраверт вы или интроверт? Вероятнее всего, что-то среднее. Конечно, быть середняком никто не хочет, этот подход несколько уязвляет нашу гордость, но зато он правилен.
При этом практически каждый человек считает, что он превосходит среднее значение в своих позитивных качествах (например, в интеллекте или физической привлекательности) и, соответственно, имеет менее выраженные, чем в среднем, негативные качества. Этот эффект в психологии называют иллюзорным превосходством или эффектом «выше среднего». Действительно, если, например, человека сначала попросить отметить, каким интеллектом обладает, по его мнению, большинство людей, а потом сказать, какое положение на этой шкале занимает он сам, то вторая отметка почти всегда окажется несколько выше, чем первая.
Еще два важных явления, связанных с нормальным распределением, – это регрессия к среднему значению и ее игнорирование, к рассмотрению которых мы и переходим.
Регрессия к среднему значению
Явление регрессии к среднему значению открыл выдающийся английский исследователь Фрэнсис Галь-тон (1822–1911). Это открытие было сделано им при сравнении (на достаточно большой выборке) роста детей и роста их родителей. Явление регрессии заключалось в том, что у родителей, рост которых был выше среднего, дети были менее высокими. И наоборот: если рост родителей был ниже среднего, то их дети были выше, то есть их рост был ближе к среднему.
Регрессия к среднему наблюдается в случае не только различных признаков, распространенных в популяции, таких как рост, вес или интеллект, но и серийных событий или действий. Например, если вы бьете по груше, то за экстремально сильным ударом, скорее всего, последует удар более слабый; соответственно за экстремально слабым ударом – более сильный.
Почему так происходит?
Дело в том, что срабатывает закон нормального распределения. Какой бы варьирующий признак мы ни взяли, множество его значений можно расположить на кривой Гаусса. Эта кривая, как мы уже знаем, как раз и демонстрирует нормальное распределение.
И как мы помним, закон нормального распределения гласит, что большая часть значений признака будет средней. Или, если привести совсем простой пример, большинство людей имеют средний рост.
Соответственно, отклонение родителей по росту от среднего как бы компенсируется их детьми. Это не значит, что где-то в небесах есть сила, которая заставляет все величины регрессировать к среднему значению. Наоборот, само отклонение от среднего вызывается различными факторами, в отсутствие которых все возвращается к золотой середине.
Кстати, если факторы продолжают действовать, то положение кривой Гаусса на оси координат будет меняться; биологи с этим сталкиваются в случае так называемого движущего отбора, но это уже совсем другая история…
На следующем рисунке стрелками как раз показано, что крайние, экстремальные значения стремятся к значениям средним.
Вот что такое регрессия к среднему.
К сожалению, обычно человек не учитывает этого явления, когда делает выводы о том, почему произошло какое-либо событие. Эту присущую всем людям особенность мышления в науке называют ошибкой регрессии, и на этой ошибке паразитирует множество ловцов душ.
Ошибка регрессии
Ошибка регрессии создает иллюзию обнаружения причины того или иного события. Человеку под влиянием ошибки регрессии может показаться, что те или иные изменения были не случайны, имели причину.
В ситуации, когда произошла регрессия к среднему значению, например, когда экстремально плохое настроение сменилось более сносным, человек может обрадоваться и, не зная подлинной причины произошедшего, вообразить, что на ситуацию повлияла какая-нибудь чудодейственная мантра, биологически активная добавка, народное средство или что-то еще того же рода.
Таким образом, регрессия к среднему может создавать иллюзию причинности, функциональной зависимости. А человек, не учитывающий этого явления, совершает ошибку регрессии.
Например, если в своей комнате вы бьете по боксерской груше и после слабого удара посмотрели на висящую над вашей кроватью фотографию Масутацу Оямы, голыми руками убивающего быка, то вы подумаете, что именно Ояма сделал ваш следующий удар более сильным (или что-то в этом роде). На этой основе вы даже можете решить написать книжку под названием «Одним ударом наповал», в которой абсолютно серьезно будете рекомендовать для развития силы удара повесить около груши портрет Оямы или других персонажей, якобы имевших очень сильный удар.
Кстати, проверка действенности лекарств и методов лечения в медицине как раз включает отсеивание случаев регрессии к среднему. Один из смыслов использования контрольной группы, без которой такого рода исследования не проводятся, – это именно исключение регрессии к среднему, которая может лежать в основе спонтанной ремиссии.
Итак, когда вам кажется, что вы нашли то или иное действенное средство, обязательно вспомните про регрессию к среднему значению. Ведь субъективные выводы о чудодейственности купленного средства, эффективности освоенной «методики», качестве оплаченной помощи (например, психотерапевтической) на самом деле могут быть ложными и не в последнюю очередь – из-за ошибки регрессии.
Случайности не случайны
Мы знаем, что первая и самая важная ловушка, в которую попадает наш разум при взаимодействии со случайностями, – вообще не учитывать, что произошли именно случайности.
Еще один способ поймать свой разум в ловушку – мыслить в логике «случайности не случайны», то есть понимать, что мы имеем дело со случайностями, но пытаться их интерпретировать, делать из них выводы так, как будто это и не случайности вовсе. На этой логике, кстати, построена деятельность множества ловцов душ.
Фактически речь снова идет о ситуации, когда мы подбрасываем две монеты и пытаемся считать исходы этого подбрасывания зависимыми событиями, верим в то, что монеты упали именно таким, а не иным образом, не просто так.
Впрочем, давайте обо всем по порядку.
Я думаю, многие знают, что в истории США два президента были убиты. Это Авраам Линкольн (в XIX веке) и Джон Кеннеди (в ХХ веке). Но убийство – это еще не все, что совпадает у этих двух президентов. Давайте посмотрим:
• Линкольн был убит в театре Форда, а Кеннеди – в машине марки «Форд»;
• в именах и фамилиях убийц обоих президентов было по 15 букв (можете проверить: John Wilkes Booth (убийца Линкольна) и Lee Harvey Oswald (убийца Кеннеди));
• секретаршу Кеннеди звали Эвелин Линкольн;
• оба президента были убиты в пятницу;
• оба президента в момент убийства сидели рядом со своими женами;
• и после Линкольна, и после Кеннеди президентом стал человек по фамилии Джонсон: после Линкольна – Эндрю Джонсон, после Кеннеди – Линдон Джонсон.
Означают ли эти совпадения, что между Линкольном и Кеннеди есть некая связь? Возможно, речь идет о карме или даже о том, что Кеннеди был реинкарнацией Линкольна?
Конечно, нет.
Во-первых, найденные нами совпадения незначительны и вообще притянуты за уши. В частности, какая разница, сколько букв содержится в имени и фамилии убийцы? Это совершенно несущественный момент.
Или то, что у Кеннеди была секретарша по фамилии Линкольн. Что здесь существенного? Как это раскрывает какие-то важные качества Кеннеди или Линкольна? Да к тому же у Линкольна не было секретарши по фамилии Кеннеди.
Во-вторых, при формулировке этих совпадений не учитывается так называемая априорная вероятность этих совпадений. Так:
• шансы, что совпадает день недели, в который совершено убийство, составляют один из семи, то есть больше 14 %;
• фамилия Джонсон является в США достаточно распространенной;
• вероятность того, что в публичном месте (а именно в таком месте удобнее всего совершить убийство) президент будет присутствовать не один, а вместе с первой леди, также довольно высока.
В-третьих, при описании совпадений от нашего внимания ускользают моменты, которые не совпали. А именно:
• Линкольн был баптистом, тогда как Кеннеди – католиком;
• Кеннеди был представителем могущественного элитарного клана, тогда как Линкольн вырос в семье бедного фермера;
• Линкольн был республиканцем, тогда как Кеннеди – демократом;
• убийство Линкольна почти не вызывает вопросов и не порождает теорий заговора, тогда как вокруг убийства Кеннеди таких теорий построено множество;
• Кеннеди имел проблемы со здоровьем, из-за которых его даже могли не взять в армию, тогда как Линкольн был здоровым человеком;
• с девяти лет Линкольн рос с мачехой, Кеннеди же воспитала его родная мать;
• Кеннеди был красавцем, светским львом и плейбоем, о Линкольне такого сказать нельзя.
Согласитесь, что эти несовпадающие моменты являются гораздо более существенными и в гораздо большей степени характеризуют убитых президентов.
Конечно, даже при учете указанных выше моментов таинственные совпадения все равно впечатляют, но тем не менее они случайны и потому не несут никакой дополнительной информации, не являются знаком некой связи между Линкольном и Кеннеди.
Вообще, каждый человек сталкивается с совпадениями, которые кажутся интересными, странными, занимательными, а в ряде случаев и таинственными или даже вроде бы дающими ответы на вопросы, которыми мучается человек. И, собственно, ничего плохого в том, чтобы испытывать эмоции по поводу такого рода совпадений, запоминать их, рассказывать о них друзьям-приятелям, нет. Ловушка получается, если мы придаем этим совпадениям особое значение, подчиняем свою жизнь той информации, которая якобы в них содержится.
Классический пример таинственных совпадений – это счастливый билет. Я еще застал то время, когда в Москве на автобусы, троллейбусы и трамваи выдавали билеты из газетной бумаги (они висели в виде тонкого рулона на петлице контролера). Так вот каждый билет имел шестизначный номер. У нас в Москве считалось, что если сумма первых трех цифр равна сумме последних трех цифр, то билет счастливый и его нужно сохранить, а еще лучше съесть – и тогда будет счастье. И конечно, над тем, каким именно образом билет с совпадением сумм может принести счастье, никто не задумывался.
На самом же деле наличие таких номеров с совпадающими суммами вполне закономерно. Скажу больше: можно точно подсчитать, сколько всего будет счастливых билетов, если каждый из них имеет шестизначный номер. Но тем не менее вызываемое совпадением радостное чувство, видимо, берет верх над разумом. В принципе, в коллекционировании счастливых билетиков нет ничего плохого, как и в коллекционировании билетиков вообще. Помню, в первой половине 2000-х я был в славном волжском городе Тольятти, где в автобусах тогда выдавали все те же билеты советского образца, и я их сохранил и увез с собой на память как аутентичный артефакт, как сувенир. Но, конечно, если вы начнете есть билеты, это может кончиться каким-нибудь заболеванием, например аппендицитом или гельминтозом.
Рассмотрим еще один пример того, как мы делаем неправильные выводы из случайных совпадений: «Я подумал, что мама давно мне не звонила, и буквально через час раздался ее звонок».
Если человек просто запомнил этот случай как занимательный или как иллюстрацию таинственной связи между матерью и ребенком – все нормально. Но, к сожалению, если человек не понимает, что в этом совпадении нет ничего таинственного, оно может подтолкнуть его к вере в телепатию или предвидение. В наиболее тяжелом случае человек ударится в мистицизм, оккультизм или даже начнет предсказывать будущее за деньги.
А теперь зададимся вопросом о том, действительно ли совпадение по времени мыслей о звонке матери и ее реального звонка является таинственным.
Скорее всего, мать звонит с определенной периодичностью, в среднем, например, раз в две недели. Если человек не ведет дневник звонков, не отмечает в календаре дни, когда звонила мама, то его представление о периодичности звонков будет весьма расплывчатым, однако к концу периода (по истечении которого мать обычно звонит) человек будет ощущать, что чего-то не хватает, чего-то ожидаемого не произошло. В том числе у него будут возникать и мысли о матери. Одновременно и мать будет думать о том, что последний раз звонила сыну довольно давно и пора бы уже набрать его номер. И она набирает, а сын считает все это телепатией, предвидением или чем-то еще.
И еще один пример. «Я услышал разговор про карму в метро, а когда вечером включил телевизор, там снова говорили о карме».
Если человек просто запомнил это как интересный факт – все нормально, а вот если решил, что это высшие силы намекают ему, что пора бы заняться своей кармой, подчистить ее, – все намного хуже. И я снова предлагаю вам разобраться, есть ли что-то таинственное в рассматриваемом совпадении. Ну а понять, что ничего таинственного в этом совпадении нет, помогут ответы на следующие вопросы.
• Насколько вероятно услышать разговор о карме в общественном транспорте?
• А насколько вероятно услышать про карму по телевизору?
Или так: что более вероятно – услышать в транспорте (по ТВ) про карму или про закон Бойля – Мариотта?
Понятно, что вероятность услышать о карме и в метро, и по ТВ достаточно высока, а значит, данные события вполне могут совпасть. Детальнее этот момент разбирается в разделе «Априорная вероятность». Кроме того, в рассматриваемом примере речь идет о том, что пассажиры метро смотрят телевизор, а одни и те же передачи показывают несколько раз, то есть те люди, чей разговор вы слышали в транспорте, просто посмотрели ту же передачу, что и вы, но раньше вас.
И последний пример. Это уже более сложная ситуация, когда человек пытается гадать на таинственных совпадениях, ищет в них подсказку и принимает решение на основе их интерпретации. «Я никак не мог выбрать между двумя компаниями, в какую из них пойти работать. Одна компания называлась “Изопрен”, а другая – “Вовилен”. И вот вечером я увидел фильм про вавилонскую мифологию. И понял, что высшие силы хотят, чтобы я пошел работать в “Вовилен”».
Самое смешное (и самое грустное), что, даже если человек уйдет из «Вовилена» через пару месяцев, он скорее начнет по-новому трактовать послание высших сил, посчитает, что не так понял его, чем разуверится в том, что высшие силы делятся с нами информацией, каким-то образом организуя таинственные совпадения. Например, этот человек скажет себе так: «Ведь в фильме рассказывали о путешествии Иштар в мир мертвых, видимо, высшие силы намекали, что “Вовилен” – это опасное и неблагополучное место, подобное миру мертвых…» Нужно всегда помнить, что такого рода совпадения в силу их многозначности легко позволяют извлекать из них самые разные значения и смыслы.
А теперь рассмотрим один психологический феномен, весьма близкий к случайным совпадениям.
Феномен Баадера – Майнхоф
А. Баадер (мужчина) и У. Майнхоф (женщина) были лидерами одной боевой коммунистической организации, нелегально действовавшей в ФРГ. И вот однажды читатель американской газеты St. Paul Pioneer Press столкнулся с упоминанием организации Баадера – Майнхоф два раза в течение суток и решил, что об этом случае необходимо сообщить в редакцию, поскольку такое совпадение неспроста, ведь вероятность того, что оно произошло случайно, очень низка. Видимо, на этот вывод не последнее влияние оказала сложность немецких фамилий.
Учитывая, что каждый день мы слышим, читаем в СМИ или в Интернете о множестве событий, вероятность, что мы опять услышим о событии, предмете, явлении, человеке и пр. на следующий день, очень высока. Поэтому феномен Баадера – Майнхоф вовсе не должен вызывать изумления.
И если в ближайшее время вы где-то услышите о Баадере, Майнхоф или любых других людях, терминах, понятиях, концепциях, о которых уже прочитали или еще прочтете в этой книге, вам совершенно не стоит удивляться: такие занимательные совпадения вполне могут произойти.
Итак, подведем итоги. С нами случаются таинственные совпадения, некоторые из них действительно удивляют и запоминаются. Но не стоит придавать им большого значения, гадать по ним. Стоит всегда относиться к жизни рационально и критически воспринимать собственные выводы. Нужно искать точную информацию, а не пытаться считывать сведения из астрала.
К теме таинственных совпадений мы еще вернемся и подробнее поговорим о том, как многозначность вместе со случайными совпадениями создает ловушки для нашего разума.
Мысленный гипноз
Многие гипнотизеры утверждают, что могут научить вас воздействовать на других людей силой мысли. И обычно такого рода воздействие предлагают осуществлять следующим образом: вы пристально смотрите на человека гипнотическим взглядом, фокусируетесь в центре его головы, воздействуя на его аджна-чакру, и при этом стараетесь отчетливо представить, что именно этот человек должен сделать. В ряде случаев учителя гипноза предлагают вам сначала сформировать образ, картинку того, что должен сделать человек, а потом мгновенно перенести ее в голову человека, стрельнув взглядом в ее центр.
При этом начинать освоение мысленного гипноза такие гипнотизеры предлагают с внушения простых действий, как бы реализуя древний принцип «от простого к сложному». Например, во время поездки в общественном транспорте вам предлагают добиться с помощью мысленного гипноза, чтобы выбранный вами пассажир:
• почесал свой нос;
• дотронулся до своего лица;
• поднес руку к подбородку;
• поправил воротник, галстук, прическу;
• закрыл книгу, которую он читает;
• отвел глаза от книги или смартфона;
• открыл свою сумку и поискал в ней что-то;
• взялся за поручень другой рукой;
• повернулся, отвернулся;
• закрыл глаза и т. д.
И самое удивительное заключается в том, что у людей действительно получается! На самом деле после того, как вы примените к человеку мысленный гипноз и внушите ему определенное действие, каким-то образом получается, что он его выполняет.
Но разве «после этого» означает «вследствие этого» или «по причине этого»?
В действительности люди, которым кажется, что они научились мысленному гипнозу, не учитывают очень простую вещь: вероятность того, что во время поездки в общественном транспорте человек совершит одно из описанных выше действий, сама по себе достаточно велика. При поездке в метро, автобусе люди постоянно дотрагиваются до своего лица, отводят глаза от книги или смартфона, берутся за поручень другой рукой, что-то проверяют в своей сумке. Поэтому нет ничего удивительного в том, что в целом ряде случаев человек совершит такого рода действие сразу или через некоторое время после вашего «мысленного внушения».
В науке этот эффект носит название «игнорирование априорной вероятности». Априорная вероятность в данном случае – вероятность того, что человек почешет нос, дотронется до лица просто так, без всякого гипноза.
Кроме того, причинно-следственная связь между тем, что вы пытаетесь внушить человеку, и тем, что он в итоге делает, действительно есть. Но связь эта совсем не такова, какой она кажется гипнотизерам.
В тот момент, когда вы пытаетесь применить к человеку мысленный гипноз, вы можете выглядеть странно: выпучиваете глаза, стреляете ими, таращитесь, смотрите прямо в глаза другому человеку. Все это может вызвать беспокойство, смущение, создать непонятную ситуацию, и в итоге пассажир, на которого вы «воздействуете», отвернется, закроет глаза, спрячется от этой непонятной ситуации, уткнувшись в свою сумочку или смартфон.
Конечно, тут и речи нет о каком-то ментальном или энергетическом влиянии, и уж тем более эти моменты не дают вам власти над людьми. Если бы вы таращились на человека в иной ситуации, он бы мог просто подойти к вам и спросить, в чем дело.
Кстати, для некоторых людей вполне нормально поступить подобным образом и находясь в общественном транспорте. Более того, существуют люди, которые могут вас побить за то, что вы на них не так посмотрели.
Так что, практикуя мысленный гипноз и другие формы сверления окружающих взглядом, следует быть осторожными!
Вещие сны
Еще один пример того, как случайные совпадения заставляют нас верить в нечто сверхъестественное, – это так называемые вещие сны.
Что такое вещий сон? Это сон, который якобы предсказал некие реальные события.
Но всякий раз, когда мы называем что-то предсказанием, мы должны задуматься над тем, имело место именно предсказание или же просто произошло случайное совпадение. И в случае вещего сна речь идет именно о случайном совпадении того, что мы увидели во сне, с тем, что позднее произошло с нами в реальности.
Например, во сне мы увидели грузовик или пожарную машину, а утром увидели такое же транспортное средство по дороге на работу или учебу.
Конечно, это простейший пример, и вряд ли кто-то сочтет такой сон именно вещим, но пример необходим нам для понимания, почему возникает иллюзия вещего сна.
Итак, если мы увидели грузовик во сне, а потом на улице, то речь идет о случайном совпадении. Грузовики часто ездят по дороге, и нет ничего удивительного в том, что однажды мы увидели грузовик именно после того, как нам приснился про него сон.
Пожарные машины ездят по улицам реже, но все равно ездят, так что и тут речь идет о случайном совпадении. По сути, здесь срабатывает примерно тот же механизм, который заставляет людей верить в мысленный гипноз. Люди в транспорте то и дело что-то поправляют, куда-то поворачиваются, меняют руку, которой держатся за поручень, и пр. Так что нет ничего удивительного в том, что в ряде случаев люди совершают именно то действие, которое попытался им мысленно внушить горе-гипнотизер.
То же самое происходит и в случае вещих снов. Мы видим во сне что-то, что в принципе может произойти и часто происходит в реальном мире, а потом видим то же самое в реальности и делаем вывод о том, что сон предсказал это событие. Подобно тому как мысленный гипнотизер делает вывод о том, что он внушил человеку поднять глаза от книги или взяться за поручень одной рукой.
Кстати, если лично вы ни разу не видели вещих снов, то вы точно слышали рассказы о том, как их видел кто-то другой. И в этом нет ничего удивительного: по сути, мы снова видим действие закона действительно больших чисел. Сами подумайте: миллиарды людей каждую ночь видят по несколько снов, поэтому вполне реально, что имеются случаи, когда люди увидели именно то, что с ними потом произошло. К сожалению, под влиянием эффекта Джин Диксон мы не учитываем, что процент таких полных совпадений слишком мал, чтобы придавать им хоть какое-то значение или считать их неслучайными.
Итак, первая причина, по которой некоторые сны нам кажутся вещими, заключается в том, что в этом мире происходят случайности, и в том числе случайные совпадения.
Почему сбываются гадания?
И действительно, почему?
По сути, механизмы тут те же, что заставляют нас считать наши сны вещими. Гадатели в процессе гадания фактически создают сон – толкуемый материал, допускающий множество толкований, – нечто аморфное, какую-то последовательность символов, допускающих произвольную интерпретацию.
Если вы гадаете на кофейной гуще, перед вами возникает некая неопределенная форма, допускающая разнообразные трактовки.
То же самое происходит и при гадании путем заливания горячего воска в воду – снова получается некая форма.
Если вы сминаете бумагу, потом сжигаете ее, а затем, вращая пепел за свечой, смотрите, на что похожа получившаяся тень, – вы тоже получаете неопределенный образ. Плюс вращение позволяет вам повернуть сожженную бумагу так, чтобы придать тени конкретный смысл.
То же самое происходит и при гадании на игральных картах, в том числе на картах таро. Да, несмотря на то, что на игральных картах нарисовано нечто конкретное, трактовать эти изображения можно множеством способов. А если использовать сочетания карт, то количество возможных трактовок становится поистине бесконечным.
Вдобавок, поскольку ни один гадатель не ограничивается тем, что просто отдает вам получившуюся у вас восковую фигурку, фотографию вашей кофейной гущи (тени сожженной бумаги, карточного расклада), а еще и интерпретирует то, что вам выпало, возникает еще множество возможностей убедить вас, что он действительно предсказал ваше будущее.
Дело в том, что сам текст этой интерпретации также допускает множество трактовок. Да, обычно предсказание сформулировано таким образом, чтобы вероятность его попадания в цель была максимальной. Фактически слова гадателя, которые точно сбудутся, звучат так: «В дальнейшем в вашей жизни будут происходить события, причем как радостные, так и грустные». Понятно, что это предсказание сбудется в любом случае. Вот только содержится ли в нем хоть какая-то новая и полезная для вас информация?..
Впрочем, о такого рода беспроигрышных формулировках мы будем говорить позже и еще разберем их детальнее (см. главу 4 «Ловушки языка»).
Итак, одна из ловушек, в которые постоянно попадает наш разум, – считать связанными события, которые на самом деле совпали (во времени и/или пространстве) совершенно случайно. Но существуют и другие ловушки, которые строятся на том, что мы считаем связанными в действительности никак не связанные вещи.
Случайное сходство
Случайное сходство того, что мы увидели во сне, с тем, что потом произошло наяву, заставляет нас верить, что вещие сны существуют. Случайное сходство того, что мы получили в результате гадания (скажем, на кофейной гуще), с тем, что потом произошло в нашей жизни, заставляет нас верить, что гадания действительно предсказывают будущее.
Но есть случайные сходства и несколько иного рода.
Например, алхимик Парацельс (1493–1541) считал [2, с. 31], что внешний вид растения намекает нам на то, для лечения каких заболеваний следует это растение использовать. Так, колючий чертополох излечивает от колючего кашля, а ятрышник, корень которого похож на мужской половой орган, конечно же, является средством, увеличивающим потенцию.
Руководствуясь похожим принципом, астрологи отыскивали металлы, соответствующие планетам. Так, поскольку Сатурн движется по небу медленно и светит тускло, а свинец – очень тяжелый и не блестит, то именно свинец признавался металлом Сатурна. Меркурий же, наоборот, движется по небу очень быстро, соответственно, его металл – это жидкая и подвижная ртуть.
Этот ряд примеров можно продолжать довольно долго. Мир наших предков был полон магических соответствий. А все потому, что наши предки не могли предположить, что такого рода сходства имеют место не по какой-то причине, а просто в результате случайности.
Впрочем, не только случайное, но и закономерное сходство еще не говорит о наличии связи. Так, например, дельфин имеет вполне закономерное сходство с рыбой: он адаптировался к той же среде. Но при этом дельфин совсем не рыба, а млекопитающее. Летучая мышь похожа на птицу вполне закономерно, но она тоже млекопитающее. Но вот, например, маг Агриппа Неттесгеймский считал дельфина рыбой (причем рыбой, соответствующей Юпитеру), а летучую мышь – птицей (принадлежащей Сатурну).
Зависимые события
До этого момента мы все время говорили о независимых событиях: о выпадении орла или решки при подбрасывании монеты, выпадении красного или черного в казино. Но существуют ведь и зависимые события.
И действительно, в этом мире много вещей, параметров, которые связаны друг с другом, зависят друг от друга. Но важно понимать, что, во-первых, выявить такую связь не так-то просто, а при выявлении ее усилиями только разума, без применения специальных методов возможны и часто совершаются ошибки. И во-вторых, связь между событиями не всегда причинно-следственная. Существует еще и так называемая корреляция.
Давайте же рассмотрим эту важнейшую тему детальнее.
Корреляция – это фактически ситуация, когда связь между событиями, какими-то характеристиками тех или иных объектов имеется, но мы не знаем, в чем именно она состоит, чем именно вызвана.
Бывает, что данные о корреляции очень легко интерпретировать. Например, рост человека коррелирует с его весом. Природа этой связи очевидна: действительно, чем больше ваш рост, тем больше вы будете весить.
А бывает, что данные о наличии корреляции трудно интерпретировать, что они ставят больше вопросов, чем дают ответов.
Например, если вычислить корреляцию между массой человека и длиной его волос (для этого нужно измерить и вес, и длину волос у достаточно большого числа людей), то получится, что эти параметры связаны отрицательной корреляцией: чем меньше вес, тем длиннее волосы.
Какой же вывод можно сделать на основе этих данных? Что вес каким-то образом влияет на длину волос? Что жировые отложения каким-то образом препятствуют росту волос? Что в волосах скрыта некая сила, уменьшающая вес? Что длинные волосы, колеблясь на ветру и в движении, массируют некие биологически активные точки на голове, снижающие вес?
На самом деле здесь мы просто не учли такой фактор, как пол.
Действительно, в нашей культуре у женщин волосы в среднем длиннее, чем у мужчин, при этом их вес в среднем, как правило, меньше веса мужчины. Соответственно, если сделать поправку на пол (подсчитать корреляцию веса человека и длины его волос отдельно для мужчин и женщин), то никакой необъяснимой связи обнаружено не будет.
Таким образом, если ученые, используя специальные математические методы (коэффициенты корреляции), нашли корреляцию между переменными А и В, то это может означать следующее:
• А является причиной В;
• В является причиной А;
• есть некая переменная С, которая является причиной и А, и В.
Однако зачастую люди (в том числе и ученые) склонны считать корреляцию показателем именно причинно-следственной связи.
Действительно, стоит, например, убежденному атеисту увидеть, что среди ученых много неверующих (переменная А – является человек ученым или нет, переменная В – верит человек в Бога или нет), как он сделает однозначный вывод о том, что занятия наукой приводят к атеизму, или о том, что интеллектуальный потенциал, требующийся для занятий научной деятельностью, исключает возможность веры в Бога.
Или еще пример. Если расист получит информацию, что среди афроамериканцев много преступников, он тут же сделает вывод о том, что именно раса делает человека склонным к криминалу.
Итак, даже ученые не застрахованы от того, чтобы обмануться под влиянием данных о корреляции. И это притом, что данные о наличии корреляции и о ее характере (сильная или слабая, положительная или отрицательная) получают с помощью не «чистого разума», а научных, математических методов.
Что уж говорить о ситуации, когда о наличии связи мы пытаемся судить «на глазок», без применения специальных методов. В таких случаях мы попадаем в ловушку разума под названием «иллюзорная корреляция».
Иллюзорная корреляция
Иллюзорные корреляции возникают на основе работы нашего воображения: объекты, явления, связь которых легко увидеть в воображении, кажутся нам связанными и в реальности.
Экспериментально явление иллюзорной корреляции впервые исследовал Лорен Чапман еще в 1967 году [10]. И именно этот исследователь ввел сам термин «иллюзорная корреляция».
Свое исследование Чапман проводил следующим образом. Испытуемым в течение определенного времени предъявлялись (проецировались на экран) пары слов, например «бекон – яйца». Пары составлялись таким образом: слева оказывалось одно из следующих четырех слов: «бекон», «лев», «бутоны», «лодка», а справа – одно из следующих трех слов: «яйца», «тигр», «тетрадь».
Таким образом, испытуемому предъявлялись следующие 12 пар слов (воспользуемся для их отображения волшебной таблицей).
Каждая пара слов предъявлялась испытуемым по многу раз. Естественно, чередовались эти пары в случайном порядке. Причем, и это принципиально важный момент, все пары были предъявлены одно и то же количество раз. Однако испытуемые об этом не знали. По завершении предъявления словесных пар испытуемых просили оценить частоту появления каждой пары слов. И это был ключевой этап эксперимента.
Что же в итоге?
Несмотря на то что объективно частота предъявления каждой пары слов была одной и той же, более высокой испытуемые объявили частоту предъявления пар слов, имеющих, по выражению автора эксперимента, «сильную вербальную ассоциацию». Это были следующие пары слов:
• «бекон – яйца» (сильная ассоциация по смежности; все американцы много раз ели яичницу с беконом[10]);
• «лев – тигр» (сильная ассоциация по сходству; все мы спрашивали в детстве, кто сильнее – лев или тигр).
Таким образом, испытуемые имели иллюзорные представления о том, что слово «бекон» теснее связано со словом «яйца», а слово «лев» со словом «тигр», чем другие слова друг с другом. Напомню, что на самом деле каждая из 12 пар слов предъявлялась равное количество раз.
Итак, при иллюзорной корреляции человек, как говорится, путает Божий дар с яичницей: видит связь там, где ее на самом деле нет.
Возникнув на основе воображения, различных ассоциаций (по смежности, по сходству или по контрасту), иллюзорные корреляции затем подтверждаются под влиянием подтверждающего искажения и других уязвимостей нашего разума. По сути, при формировании иллюзорных корреляций мы, как и в случае веры в действенность шарлатанских снадобий, не пытаемся заполнить все ячейки волшебной таблицы.
Необходимо обратить особое внимание на то, что иллюзорная корреляция часто срабатывает в области различных признаков. Да, когда мы отвечаем на вопрос о том, является ли А признаком В, мы часто подвержены иллюзорной корреляции.
Еще один ее пример – вера некоторых людей в то, что мощная нижняя челюсть является признаком волевого человека. Чтобы проверить это убеждение, нам нужно заполнить следующую волшебную таблицу.
Если мы заполним таблицу на основе достаточно многочисленной выборки, то увидим, что волевые качества никак не связаны с формой и размером нижней челюсти: совершенно неволевые люди с массивной челюстью (ячейка В) и волевые люди с маленькой нижней челюстью (ячейка С) встречаются не менее часто, чем волевые обладатели героических подбородков (ячейка А).
Но поскольку ассоциация «мощная нижняя челюсть – волевой человек» достаточно сильна и волевого человека намного легче представить именно с мощной нижней челюстью (волевым подбородком), то, даже если в реальной жизни мы видим волевых людей с «неволевой внешностью» не менее часто, чем «бруталов», нам все равно будет казаться, что признаком воли является именно мощная нижняя челюсть. Подобно тому как испытуемым Чапмана казалось, что пара «бекон – яйца» встречалась чаще, чем «бекон – тигр» или «бекон – тетрадь».
Из этого примера должно быть понятно, что именно иллюзорная корреляция лежит в основе такой лженауки, как физиогномика, в рамках которой утверждается, что характер человека всегда отражается в чертах его лица и может быть по ним прочитан.
К сожалению, и более современные попытки определять черты характера не защищены от влияния иллюзорной корреляции.
Хорошим примером являются так называемые проективные тесты, в частности уже ставший частью современной массовой культуры, многократно обыгрывавшийся в кинематографе всем известный тест чернильных пятен Роршаха.
С точки зрения иллюзорной корреляции проективные тесты были исследованы опять же Лореном Чапманом в соавторстве с Джин Чапман (его супругой) [11]. Эти ученые исследовали такие проективные тесты, как «Рисунок человека» и тест Роршаха.
Супругов Чапман интересовал вопрос о том, почему психологи продолжают пользоваться проективными тестами, хотя в научных исследованиях многократно показывалась их несостоятельность как психодиагностического инструмента. Несостоятельность эта проявляется в том, что психологи, используя ключи к проективному тесту (например, как трактовать тот или иной элемент нарисованного человека, в частности большие глаза), обнаруживают у испытуемых совсем не те психологические черты, которые у них в действительности имеются. Чапманы предположили, что подобная настойчивость в использовании тестов, которые на самом деле не позволяют выявить психические свойства человека, обусловлена именно явлением иллюзорной корреляции, которому профессиональные психологи подвержены ничуть не меньше, чем другие люди.
Но прежде, чем перейти к описанию собственно экспериментов, необходимо сказать несколько слов о проективных тестах.
Проективные тесты основаны на так называемом механизме проекции. О его существовании в свое время заявил Зигмунд Фрейд, но наличие проекции до сих пор не подтверждено ни в одном серьезном научном эксперименте. Когда срабатывает проекция, человек, по мнению Фрейда и его последователей, видит в других те психологические особенности, которые присущи самому человеку, но неприятны ему и в силу этого не осознаются им. Проще говоря, жадный будет считать других жадными, злой – злыми, похотливый – похотливыми и т. д.
Соответственно, в рамках проективных тестов предполагается, что при интерпретации бессодержательных визуальных стимулов («На что похожа эта клякса?») или при выполнении неопределенного задания (например, нарисовать человека) испытуемый якобы обязательно проявит свои черты характера.
Так, разработчик теста «Рисунок человека» Карен Маховер утверждала, что паранойяльный (подозрительный) субъект при рисовании человека особый акцент придаст глазам, озабоченный своей мужественностью – нарисует мускулистого человека, озабоченный собственным интеллектом – нарисует у человека большую голову и пр. В ключах же к тесту Роршаха утверждается, например, что если человек имеет гомосексуальные склонности, то в кляксах он увидит ягодицы, гениталии, женскую одежду, людей неопределенного пола, людей с признаками обоих полов.
Я думаю, читатель легко заметил, что описанные выше связи между признаками и чертами характера чисто ассоциативные и основаны на бытовых, житейских, тривиальных представлениях. Действительно, почему бы человеку с сомнениями в своей мужественности и не рисовать мускулистых людей, а гомосексуалистам – не видеть в кляксах ягодицы? Но на самом деле никакой связи тут нет.
Чапманы экспериментально показали, что такого рода иллюзорным корреляциям при интерпретации проективных тестов подвержены и профессиональные психологи, и не имеющие никакого отношения к психологии люди.
Схема их эксперимента была несколько похожа на схему эксперимента по выявлению иллюзорных корреляций, который мы рассмотрели выше. Испытуемым предложили рисунки человека, выполненные как пациентами психиатрической клиники, так и здоровыми людьми, и соответствующие психологические характеристики. Например, к рисунку человека с большой головой прилагалась характеристика «обеспокоен уровнем своего интеллекта». При этом обратите внимание (!): одни и те же психологические характеристики прилагались к разным рисункам. Например, характеристика «относится к людям с недоверием и подозрением» прилагалась как к рисункам с выраженным акцентом на глазах, так и к рисункам, не имеющим особенностей в изображении глаз. Причем таких сочетаний было, как и в уже рассмотренном эксперименте, одинаковое количество.
Испытуемых попросили установить связь между особенностями рисунков и психологическими характеристиками авторов этих рисунков. И, как читатель, должно быть, уже догадался, они продемонстрировали иллюзорную корреляцию: например, утверждали, что такая черта характера, как подозрительность, сочетается именно с выраженным акцентом на глазах. Более того, такая же картина наблюдалась и в следующей серии экспериментов, в которой эти две характеристики (выраженные глаза и подозрительность) вообще не встречались вместе!
Похожим образом проводился и эксперимент с пятнами Роршаха. К пятнам прилагались интерпретации, сформулированные лицами, прошедшими психодиагностику, и психологические характеристики этих людей. Например, интерпретация «задний проход» равное количество раз совпадала с каждой из следующих четырех психологических характеристик:
• он проявляет сексуальное влечение к другим мужчинам;
• он полагает, что окружающие сговорились вокруг него;
• он испытывает грусть и депрессию в течение длительного времени;
• он испытывает сильное чувство собственной неполноценности.
Как и в предыдущем эксперименте, испытуемые вновь продемонстрировали явление иллюзорной корреляции, увязав интерпретацию «задний проход» с психологической характеристикой «он проявляет сексуальное влечение к другим мужчинам».
Зеркала души?
Огромное количество ловцов душ, шарлатанов паразитируют сегодня на нашем желании познать самого себя и познавать окружающих – разбираться в людях. В основе шарлатанских продуктов и услуг такого рода лежат зачастую откровенно лженаучные представления о том, что людей можно читать как открытую книгу, ориентируясь на… И тут возникает широчайший спектр якобы самых важных признаков. Продавцы душевных зеркал предлагают нам обращать внимание на следующее:
• цвет радужки глаза;
• вообще глаза;
• направление взгляда (куда смотрит человек: вверх и влево, вверх и вправо и т. д.);
• черты лица;
• слова, которые человек произносит;
• позы, которые он принимает.
В подавляющем большинстве случаев все эти зеркала души, безошибочные признаки наличия у человека тех или иных свойств, черт характера взяты из воздуха и являются плодом иллюзорной корреляции.
Подтверждаются эти методы чтения человека благодаря примерно тем же механизмам, которые заставляют нас считать пустышку действенным лекарством.
Для понимания того, в чем ошибаются любители чтения характеров, мы можем нарисовать волшебную таблицу.
Понятно, что продавцы душевных зеркал смотрят на ячейку А и предпочитают не видеть ячейки В и С.
А теперь продолжим говорить о зависимых событиях и рассмотрим одну очень важную ловушку, в которую легко может попадать наш разум.
Априорная вероятность
Допустим, вы частный детектив и расследуете дело об ограблении ювелирного магазина. По характеру ограбления вы поняли, что его совершили низкорослые люди. Но в вашем городе есть только две категории жителей, которые, с одной стороны, связаны с криминалом, а с другой – являются низкорослыми. Это жевуны и мигуны. Причем жевунов в вашем городе в три раза больше. Достаточно ли этих данных для того, чтобы сформулировать обоснованную версию преступления?
Да, достаточно. Скорее всего, ограбление совершили жевуны. Действительно, поскольку жевунов больше, преступники, вероятнее всего, были именно жевунами. Вот эта вероятность и называется априорной. Поскольку жевунов больше, то мы заранее можем считать более вероятным, что преступление совершил именно кто-то из них.
Вот вам еще один пример. В вашем городе два таксопарка: «Желтое такси» и «Зеленое такси». Желтых такси в три раза больше зеленых. Какое такси вы, скорее всего, поймаете, выйдя вечером из ресторана? Разумеется, более вероятно, что это будет желтое такси.
Или еще пример. Допустим, выйдя из ресторана, вы услышали стук копыт. Кого вы с большей вероятностью увидите, повернувшись на этот звук: лошадь или зебру? Разумеется, лошадь: зебр в наших городах, прямо скажем, немного.
К сожалению, в реальной жизни мы часто не понимаем, что более распространенное является одновременно и более вероятным. Наоборот, мы считаем, что более вероятно нечто очень специфическое, редкое, малочисленное.
Вот, например, задача, которая широко известна под названием «задача о Линде»:
Линде 31 год, она незамужняя, откровенная и очень умная. В университете изучала философию. Будучи студенткой, она уделяла много внимания вопросам дискриминации и социальной справедливости, а также участвовала в демонстрациях против использования ядерного оружия [4, с. 206].
Какой из вариантов более вероятен?
• Линда – кассир в банке.
• Линда – кассир в банке и активистка феминистского движения [4, с. 209].
А как вы думаете? Обязательно запишите ваш ответ.
При решении этой задачи большинство людей выбирает второй вариант. По-видимому, людей пленяет более конкретный и яркий образ. Вдобавок люди почему-то переоценивают влияние таких факторов, как «отсутствие мужа», «внимание к вопросам дискриминации и социальной справедливости» или «участие в антиядерных демонстрациях», на превращение женщины в активистку, причем именно феминистского движения.
Но в действительности второй вариант ответа ошибочен. Дело в том, что при таком подходе мы игнорируем априорную вероятность. Да, женщин, которые работают в банке кассирами, намного больше, чем женщин, которые, будучи кассирами в банке, при этом еще являются феминистками, и не просто феминистками, а активными участницами соответствующего движения.
Игнорирование априорной вероятности – ловушка, в которую наш разум попадает довольно часто, и это весьма опасное когнитивное искажение. Ошибка, которую совершает большинство при решении задачи о Линде, является частным случаем игнорирования априорной вероятности и носит название «ошибка конъюнкции».
Конъюнкция – это термин из формальной логики, которым обозначается соединение двух суждений вида: «Сократ – философ и самоубийца».
Действительно, в данном случае союзом «и» соединены два суждения: «Сократ – философ» и «Сократ – самоубийца».
Давайте углубимся в эту важнейшую тему – тему игнорирования априорной вероятности. И вот вам еще одна задача.
На далеком тропическом острове среди жителей распространено редкое генетическое заболевание: оно отмечается лишь у 1 % островитян. Если выявить это заболевание на раннем этапе, то его негативные последствия для организма человека удастся существенно снизить. Врачи острова научились выявлять данное заболевание на ранних этапах с точностью до 80 %.
Одному из жителей острова поставили диагноз «болен». Какова вероятность того, что диагноз поставлен верно?
Казалось бы, ответ на это вопрос очень прост: вероятность составляет 80 %. Но это неправильный ответ.
Почему? Давайте разберемся.
Прежде всего составим необходимую для правильного решения этой задачи схему.
Как видим, диагноз «болен» получат 80 % тех, кто действительно болен. Но это еще не все. Дело в том, что диагноз «болен» получат и 20 % тех, кто здоров!
Как же в этом случае подсчитать вероятность того, что получивший диагноз «болен» на самом деле болен?
Для этого следует разделить процент тех, кто получил диагноз «болен», будучи на самом деле больным, на процент всех, кто получил диагноз «болен». Таким образом, у нас должна получиться следующая пропорция:
Или в процентном виде:
Если мы переведем проценты в доли единицы, у нас получится следующее:
0,01 × 0,8/(0,01 × 0,8 + 0,99 × 0,2).
Произведя все необходимые математические действия, мы получим 3,9 %. И именно такова вероятность того, что человек, которому поставили диагноз «болен», на самом деле является больным. Согласитесь, она куда меньше, чем казавшаяся нам сразу правильной вероятность 80 %.
К сожалению, эту ошибку – игнорирование априорной вероятности – совершают не только люди, которые решают всякие абстрактные задачи про болезни островитян. Ее допускают и врачи. Допускают всякий раз, когда проверяют человека на наличие какого-то редкого заболевания. В этом случае врачи игнорируют сам факт того, что заболевание является редким, и ориентируются только на вероятность ошибки диагностической процедуры и диагностического прибора. Одним из примеров такого рода врачебных ошибок является интерпретация скрининг-тестов для беременных, с помощью которых врачи выявляют вероятность рождения ребенка с синдромом Дауна.
* * *
Итак, мы с вами прикоснулись к удивительному миру случайностей и вероятностей. Мы поняли, что с нами происходят события, которыми мы не можем управлять и наступление которых не можем предсказать. Тем не менее кое-что о случайностях и вероятностях мы знаем. Знаем благодаря таким разделам математики, как теория вероятностей и математическая статистика.
Пожалуй, если человек хочет использовать свой разум действительно эффективно, он не может обойтись без изучения этих разделов математики. Однако, как мы видели, самого по себе владения теорией вероятностей и математической статистикой недостаточно. Нужно уметь применять эти разделы математики в реальной жизни.
К несчастью, а может быть, и к счастью, мир гораздо сложнее, чем монета или игральная кость. Зачастую в реальной жизни нам неизвестны все возможные исходы, поэтому переоценивать нашу способность выявлять причины событий и предсказывать их наступление, мягко говоря, не стоит. Мы живем в очень сложном, непредсказуемом мире, и потому никто из нас не застрахован от совершенно неожиданных событий. С одной стороны, это грустно и даже страшно. Но, с другой стороны, мне кажется, именно это и дает нам возможность чувствовать себя людьми. Важно только не поддаваться гордости и сохранять определенное смирение.
Глава 4 Ловушки языка
Мы мыслим на родном языке. С этим вряд ли кто-то будет спорить.
Когда-то даже была сформулирована гипотеза о том, что носители разных языков и мыслят совершенно по-разному.[11] Однако в дальнейшем она не подтвердилась. Дело в том, что, хотя по форме языки могут отличаться очень сильно, по сути в языке всегда одна и та же структура: всегда есть субъект и предикат, подлежащее и сказуемое, то, о чем говорят (о чем мыслят), и то, что говорят (что мыслят).
«Этот человек – шарлатан» – один из простейших примеров связи субъекта («Этот человек») и предиката («шарлатан»).
Менее очевидным является, по-видимому, то, что эффективность нашего мышления в некоторой степени определяется качеством используемого в процессе мышления языка. Но, несмотря на его неочевидность, это факт. И это такой же факт, как и то, что эффективность счета определяется качеством чисел. Действительно, математика существенно продвинулась вперед, когда вместо римских цифр стали использовать арабские и когда были введены число и цифра ноль.
Серьезным шагом на пути развития разума и повышения качества нашего мышления стало, в частности, открытие законов, которым нужно следовать при словесном рассуждении, чтобы получились выводы, которым можно доверять. Эти законы и составляют то, что называют формальной логикой или просто логикой.
Например, следующее рассуждение с точки зрения логики является совершенно правильным.
Все люди смертны.
Сократ – человек.
Следовательно, Сократ смертен.
Можно посетовать, что это рассуждение не дает нам никакой новой информации, но тем не менее оно совершенно правильное, а сделанный в его результате вывод абсолютно верен. А вот следующее рассуждение с точки зрения логики неверно, оно нарушает логические законы и правила вывода.
Среди цыган есть конокрады.
Гражданин Изумрудный – цыган.
Следовательно, гражданин Изумрудный – конокрад.
Или вот еще пример нарушения логики.
После приема лекарства болезнь проходит.
После приема народного средства Х болезнь прошла.
Следовательно, народное средство Х является лекарством.
Впрочем, логика имеет дело не только с рассуждениями, но и с отдельными словами. С точки зрения логики слова – это понятия. А у понятия есть объем – все то, что этим понятием обозначается, и есть содержание – те критерии, которые позволяют определить, входит конкретный объект или явление в объем понятия или нет.
И поскольку даже отдельные слова сами по себе могут являться ловушками разума, давайте исследуем эту тему.
Пустые слова
Почему с помощью слов можно поймать человеческий разум в ловушку? В основном потому, что мы с детства привыкаем: слова не существуют просто так. Мы приучаемся думать, что если есть слово, значит, существует и то, что этим словом обозначается. Слово «лев» обозначает реально существующее хищное млекопитающее, слово «орел» – реально существующую хищную птицу.
Логика позволяет навести порядок в языковых конструкциях. Она наводит порядок и в том, как мы используем слова. Повторю, с точки зрения логики слово является понятием, а у каждого понятия есть объем.
Объем понятия – это совокупность всех объектов или явлений, которые этим понятием обозначаются. Например, объем понятия «лев» составляют все существующие, все когда-либо существовавшие львы и все львы, которые будут существовать в будущем. В объем понятия «орел» точно так же входят все возможные орлы.
А вот у понятия «грифон» нет объема. На свете никогда не было, нет и не будет животного, которое имеет голову, шею, передние лапы и крылья орла, а туловище, задние ноги и хвост льва. Используя язык логики, можно констатировать, что у понятия «грифон» нулевой объем, то есть это пустое понятие.
То, что у понятия нулевой объем, означает, что нет ничего реально существующего, что можно было бы им обозначить. Именно реально существующего. Понятно, что если слово «грифон» вы используете для обозначения героя какой-нибудь сказки или мифа, то все в порядке. Но нужно понимать, что, сколько бы раз мы ни рассказывали людям сказки и мифы о грифонах и сколько бы таких сказок и мифов ни существовало на свете, в реальном мире грифоны не появятся. Действительно, как писал Омар Хайям, «сколько ни говори “халва, халва”, во рту не станет слаще»…
Ловцы душ отлично знают об этой нашей черте – считать, что слово обязательно обозначает нечто реально существующее, – и потому смело вводят новые слова или придают уже известным словам новый, выгодный для себя смысл.
Пожалуй, лучшими примерами новых слов, вводимых шарлатанами, могут быть названия шарлатанских наук (лженаук) и шарлатанских учений. Здесь можно вспомнить дианетику и саентологию Хаббарда, трансерфинг реальности Зеланда, соционику Аугустинавичюте, психейогу Афанасьева, эниологию, ритмологию, радионику и пр.
Кстати, шарлатаны могут называть свои концепции и «технологии» словосочетаниями, которые состоят из уже существующих слов, например животный магнетизм Мессмера, нейролингвистическое программирование Бендлера и Гриндера, морфический резонанс Шелдрейка. К сожалению, то, что словосочетание состоит из слов, которые сами по себе не являются пустыми понятиями, никак не гарантирует, что и их сочетание не будет понятием с нулевым объемом. Примерами такого рода словосочетаний являются не только различные шарлатанские формулировки, но и так называемые оксюмороны типа «горячий лед», «ледяной огонь», «правдивый лжец» и пр.
Самыми же узнаваемыми примерами имеющих объем понятий, в которые шарлатаны вложили совершенно специфический смысл, по-видимому, являются слова «энергия», «энергетика» и «поле». Действительно, физические термины «энергия» и «поле» – это одно, а шарлатанские и экстрасенсорные понятия «энергия» и «поле» (с приставкой «био-» или без оной) – совершенно другое: у понятия «энергия» есть вполне определенный объем, если мы применяем его так, как его используют физики или химики. А вот в устах экстрасенса слово «энергия» становится пустым понятием.
Итак, будьте внимательны, всегда проверяйте, не использует ли человек, который хочет получить с вас деньги или приобрести ваше расположение, пустые слова. Само по себе наличие слова заставляет нас думать, что и объект или явление, которые этим словом обозначаются, существуют в реальности. Помните, что слово «шарлатан» происходит от итальянского глагола ciarlare (читается как «чьярларэ») – «попусту болтать».
Симулякры
В современном мире пустые понятия и вообще пустые знаки (которые обозначают то, чего на самом деле нет) распространились очень широко. Настолько широко, что философы даже ввели специальное понятие – симулякр.
Симулякр – это и есть знак без означаемого или копия без оригинала. Пустое понятие, таким образом, частный случай симулякра.
Замечу, что такое пустое понятие, как «грифон», – это симулякр в меньшей степени, безопасный симулякр или же вообще не симулякр. Ведь все мы знаем, что, несмотря на существование слова «грифон», никаких грифонов в действительности не существует и не существовало. В случае же опасных симулякров мы не догадываемся о том, что имеем дело именно с пустым понятием.
Кстати, симулякры можно создавать не только с помощью слов. Например, выкладывает девушка в соцсети свою фотографию, которая сделана и обработана так, что на ней фактически оказывается другая девушка – та, которой в действительности не существует, – и появляется еще один симулякр. Да и в целом образ человека в соцсетях зачастую является симулякром. Отсюда та легкость, с которой там создаются так называемые фейковые профили.
Да, соцсети – это своего рода необъятные библиотеки симулякров, или даже фабрики симулякров, располагающие широчайшим спектром средств, которые позволяют казаться, а не быть.
И конечно, полны симулякров разные шарлатанские лекции и лженаучные тексты. Симулякрами зачастую являются и образы людей, которым эти шарлатаны, экстрасенсы, целители якобы помогли. Собственно, и образы всех этих «известных гипнотизеров», «великих посвященных», «биоэнерготерапевтов» – точно такие же симулякры.
Слова-ловушки
Древнегреческий философ Евбулид Милетский однажды сформулировал парадокс, который получил название «парадокс кучи». У этого парадокса есть несколько формулировок, и мы рассмотрим пример положительной и пример отрицательной формулировки этого парадокса.
Положительная формулировка:
– Одна песчинка – это куча?
– Нет.
– Две?
– Нет.
– Три?
– Нет.
– Так с какого же момента можно говорить, что возникла куча песчинок?
Отрицательная формулировка:
– Если из кучи песка убрать одну песчинку, сохранится ли куча?
– Да.
– А если убрать еще одну?
– Да.
– А еще одну?
– Да.
– Так с какого же момента куча перестает быть кучей?
В чем разгадка этого парадокса?
В том, что прежде чем рассуждать: возникла куча или перестала существовать, нужно четко и однозначно определить, что такое куча.
Но дело в том, что парадокс кучи сформулирован на основе житейского понятия «куча», которое не имеет строгого определения. И здесь нам снова нужно обратиться к логике и вспомнить, что у понятия есть не только объем, но и содержание.
Говоря на языке логики, содержание понятия «куча» не определено четко и однозначно, соответственно, и объем этого понятия очерчен нестрого. Поэтому и возникает парадокс.
Кстати, Евбулид сформулировал и похожий парадокс – парадокс лысого, или парадокс лысины. Берем человека без лысины и вырываем у него один волос. Стал ли он лысым? Нет.
Здесь опять речь идет о том, что не совсем понятно, что считать лысиной, где граница между лысиной, залысиной и проплешиной.
Содержание понятия – это, по сути, совокупность тех критериев, по которым можно определить, входит конкретный объект либо явление в объем понятия или нет. Содержание понятия, например, выражается в определении научного термина. Определение понятия – это описание наиболее существенных характеристик, свойств, наличие которых позволяет однозначно сказать, что объект или явление с этими характеристиками входит в объем понятия и, значит, может им обозначаться.
Говоря упрощенно, содержанием понятия «лев» являются следующие характеристики:
• крупный представитель кошачьих;
• имеет гриву;
• есть кисточка на хвосте;
• нет пятен или полос, окрашен однотонно;
• живет в Африке.
Итак, если слово, термин является нечетким, то есть мы не вполне строго определили содержание понятия (а следовательно, и его объем), наш разум попадает в разнообразные ловушки, например не может оценить, наступил обещанный шарлатаном исход лечения или нет.
Собственно, сила науки во многом заключается в том, что язык науки очень точен и специфичен. Ученые стараются максимально строго определять те понятия, которые используются в научных текстах. В этом принципиальное отличие науки от житейского, бытового познания. К сожалению, целый ряд религиозных, мистических, оккультных, эзотерических понятий ничуть не точнее, чем слово «куча», или даже еще более нечеткие, нестрогие и неясные. Это же касается и понятий, применяемых в традиционной медицине и так называемыми народными целителями.
Особенно важно использовать точные понятия, когда речь идет о результатах. Если результат определен неточно, то очень трудно будет оценить, достигнут он или нет.
Если мы захотим оценить результативность применения традиционной медицины, например китайской народной медицины или индийской аюрведы, то должны четко понимать, что означают такие понятия, как «гармонизация организма» или «улучшение самочувствия». К сожалению, как эти понятия, так и многие другие подобные им плоды безудержного шарлатанского словотворчества в этом отношении ничем не лучше, а зачастую и хуже слова «куча».
Термины
Итак, одно из преимуществ науки как уровня познания заключается в том, что наука стремится использовать очень точный язык. Прежде всего, это язык формул – язык математики.
Помимо формул и математических знаков, в науке используются и особые слова – научные термины. Как правило, они создаются на основе латинских и греческих частей слов, которые называются терминоэлементами (элементы, из которых делаются термины). Примерами являются такие части слов, как «-логия», «-номия», «био-», «термо-», «нано-», «психо-», «физио-».
Но главное в терминах, разумеется, – это вовсе не использование латинских и греческих терминоэлементов. Ведь далеко не всякое слово, созданное из терминоэлементов, является научным термином. Главное в терминах то, что каждый из них – это понятие с очень ясным содержанием и весьма четко определенным объемом.
У научного термина всегда есть строгое, четкое, непротиворечивое определение – дефиниция. Целый ряд научных терминов привязан к конкретному прибору, с помощью которого может быть выявлена степень наличия свойства, обозначаемого конкретным термином. Например, если мы посмотрим на термин «напряжение тока», то его дефиницией вполне может быть просто «то, что измеряет вольтметр».
Такое определение принято называть операциональным. Операциональное определение термина – это фактически описание процедуры, последовательности операций, осуществив которые мы сможем увидеть объект, явление, обозначаемое термином.
Ученые постоянно изобретают новые термины, и за всю историю науки их создано огромное количество. Тут вам и названия химических элементов, и наименования абстрактных понятий и сложных явлений.
Например, в 1787 году Антуан Лавуазье ввел новый термин «азот» для обозначения газа, который остается после удаления из воздуха кислорода и углекислого газа (природа азота во времена Лавуазье еще не была до конца понятна).
Конечно, ученые понимают, что множить термины без надобности не стоит, это может все усложнить и запутать исследователей. В этом заключается одно из отличий языка науки от естественного языка, ведь в естественном языке существует множество синонимов – разных слов, обозначающих одно и то же.
На этих синонимах, кстати, основан ряд манипуляций, осуществляемых СМИ. Например, одни СМИ называют вооруженные формирования, орудующие в определенной стране, повстанцами и борцами за свободу, тогда как другие СМИ те же вооруженные формирования называют террористами и сепаратистами.
Ну а классический пример здесь – это, пожалуй, слова «разведчик» и «шпион». Наши сотрудники спецслужб – это доблестные разведчики, а вот их сотрудники спецслужб – коварные шпионы. Как говорится, почувствуйте разницу.
Понятно, что прежде, чем вводить новый термин, нужно не только убедиться в том, действительно ли он так необходим, не существует ли уже подходящего термина, но и добиться максимальной его точности, максимального совпадения с тем, что он обозначает.
Например, термин «азот» обозначает именно химический элемент, в ядре которого семь протонов, а не какой-либо другой элемент или вещество.
За время обучения в школе и вузе мы привыкаем к качественным терминам и приобретаем склонность считать, что они всегда вводятся правильно, что термин как понятие всегда имеет строго определенное содержание и объем. Но, к несчастью, даже в науке существует масса некачественных, избыточных, расплывчатых терминов. Что уж говорить об областях, где процветает явное шарлатанство. В частности, бывает так, что ученый берет совершенно пустое понятие, компонует из терминоэлементов соответствующее слово – и вуаля! – мы получили явление на пустом месте!
И разумеется, шарлатаны давно сообразили, что люди не особо разбираются в том, что такое научный термин. Они поняли, что для обывателей любое слово, слепленное из латинских и греческих терминоэлементов, почти автоматически приобретает дополнительный вес и воспринимается как научный термин. Фактически мы рассуждаем так: научные термины просто так не вводят. Или даже так: человек, сумевший создать из латинских и греческих терминоэлементов термин, не может быть пустословом. Не поддавайтесь этому терминологическому гипнозу!
Расплывчатые формулировки
Все мы знаем, что количество произнесенных слов и количество переданной в итоге информации – разные параметры. Можно произнести очень много слов, можно говорить очень долго, но информации не передать почти никакой. В то же время можно сказать очень мало, но выдать очень много информации.
Уверен, нет ни одного человека, который никогда не пытался лить воду на устном экзамене или расширить реферат или курсовую за счет расплывчатых формулировок и лишних слов. Да что там слов! Целых абзацев!
Подобно тому как содержание понятия может быть довольно расплывчатым, расплывчатыми могут быть и письменный текст, и устная речь.
Большие мастера в создании таких текстов и произнесении таких речей – дипломаты. Как известно, язык используется ими так, чтобы скрывать их подлинные мысли. Но одно дело – расплывчатость, призванная скрыть истинные мысли, отсутствие знаний, невыученный урок, а совсем другое – расплывчатость, которая используется ловцами наших душ.
Итак, всегда ли мы можем отличить человека, льющего воду, от человека, речь которого по-настоящему содержательна? Давайте разберемся.
Эффект доктора Фокса
Представьте себе, что вы врач, кандидат медицинских наук. Волею судьбы вы попали на лекцию, тема которой – «Применение математической теории игр в медицинском образовании» – очень вас заинтересовала.
Вы сидите в зале, ждете начала лекции, и вот наконец лектор появляется в зале и становится у кафедры. Он представляется как доктор Мирон Л. Фокс.
Лекция полностью захватывает ваше внимание. Лектор ведет себя уверенно и доброжелательно, использует специфические термины, ставит неожиданные вопросы, на которые сам дает ответы, периодически шутит, когда понимает, что слушатели начинают демонстрировать утомление.
Лекция идет своим чередом, и временами вы ловите себя на мысли, что не понимаете, о чем говорит доктор Фокс, но списываете это на сложность темы. Вдобавок, когда в моменты полного непонимания вы оглядываетесь на других слушателей, вы отмечаете, что все они сосредоточены и с интересом слушают лектора.
В конце лекции вы понимаете, что прослушали нечто важное и интересное, что доктор Фокс – очень хороший лектор и настоящий эксперт в своей области, но при этом вы практически ничего не можете вспомнить, а если бы вас попросили кратко пересказать лекцию, вы не смогли бы этого сделать.
И тут к вам подходит человек с анкетой и просит оценить лекцию и лектора. В этой анкете вы практически по всем пунктам даете лекции и лектору высокие оценки.
На самом деле вы невольно стали участником психологического эксперимента [28]. Вы попали на лекцию не просто так. Все слушатели лекции были профессионалами высокого уровня – кандидатами медицинских или психологических наук. Целью этого эксперимента было выяснить, поймут ли профессионалы, что их обманули, что лекция не имеет никакого смысла, а лектор не является экспертом.
В действительности никакого доктора Мирона Л. Фокса не существовало. Его роль сыграл специально нанятый актер. По заданию экспериментаторов он грамотно подготовился к своей лекции: выписал из научных статей несколько научных терминов, а также целые фразы, которые потом употреблял, совершенно не сообразуясь с логикой и контекстом. Актер детально проработал образ эксперта, в котором предстанет перед слушателями. Он умело располагал к себе слушателей и не выходил из образа.
Результаты эксперимента показали весьма печальную вещь: ученые не смогли понять, что авторитетно выглядящий лектор – просто пустослов, что лекция, которую он прочел, не имеет осмысленного содержания, нелогична и является фактически пародией на выступления ученых.
И вот это вновь открытое психологическое явление – неспособность людей понять, что лектор, докладчик, оратор пустословит, несет чушь, – и получило наименование «эффект доктора Фокса».
Почему эффект доктора Фокса имеет место?
Думаю, это происходит по следующим причинам.
Во-первых, мы со школьной скамьи привыкаем к тому, что выступающие – школьные учителя, преподаватели вуза – обычно не несут чушь, а говорят нечто имеющее смысл. Пусть даже выступление скучно и неинтересно, но смысл есть всегда. Здесь примерно та же ситуация, что и со словами (если существует слово, значит, существует и то, что им обозначается) и научными терминами (научные термины просто так не вводят).
Во-вторых, тут играют роль трудности проверки. Мы обычно не записываем то, что говорит выступающий, не пытаемся проверить его слова, например, с помощью словаря, справочника или интернет-ресурсов. Да и мотива все строго проверять у нас нет: мы ориентируемся на то, что пустословов не приглашают выступать, что у пустомели не было бы столько слушателей в зале, и на другие ошибочные представления.
В-третьих, срабатывает нечто вроде эффекта голого короля: если мы не видим смысла в словах выступающего, то склонны считать, что смысл есть, просто мы не смогли его уловить, а признаваться в этом не хотим, поскольку люди могут подумать, что мы невнимательны, рассеянны или даже глупы.
В-четвертых, если выступающий был благожелательным, ничем нас не задел, общался в приятной манере, то нам просто не хочется объявлять его пустословом. Пусть мы ничего не узнали, но на лекции нам не было скучно, выступление оказалось довольно приятным времяпрепровождением, а значит, оратора просто не за что наказывать.
В-пятых, мы склонны сообразовывать свои действия по поводу той или иной ситуации с действиями других ее участников. Соответственно, когда мы видим, что другие слушатели воспринимают выступление с интересом, кивают, аплодируют, мы начинаем думать, что не видим смысла в лекции только мы, и нам не приходит в голову, что другие слушатели кивают и хлопают, повинуясь тем же представлениям.
Нужно отметить, что несущий чушь лектор может и не понимать, что несет чушь. Ведь он во многом тоже ориентируется на реакцию аудитории, а аудитория демонстрирует все признаки того, что лекция интересна и даже полезна. Думаю, в результате можно даже стать доктором наук и академиком, но так и не понять, что пустословишь.
У многих людей, имеющих опыт публичных выступлений, хотя бы раз была ситуация, когда выступление было плохо подготовлено, оказалось бессодержательным, включало в себя много воды. Поэтому человек очень нервничал перед выступлением. Но в итоге оно прошло на ура, слушатели были довольны и аплодировали. Уверен, что эффект доктора Фокса бывает причастен к такого рода ситуациям.
Так что теперь в том случае, когда вы прекрасно понимаете, что оратор – обычный пустослов, а другие слушатели этого не понимают, вспомните об эффекте доктора Фокса и не злитесь.
Двусмысленность
Однажды царь Лидии по имени Крез встал перед очень серьезной дилеммой: воевать с могущественной Персией или не воевать. Желая обезопасить себя от ошибки, Крез отправился в Дельфы, чтобы задать вопросы тамошним предсказательницам – пифиям. Пифии вдыхали в храме Аполлона в Дельфах дурманящие испарения, поднимающиеся из провала в земле, и, надышавшись, изрекали свои туманные предсказания.
На свой вопрос Крез получил от пифии такой ответ: «Если ты начнешь войну против Персии, то сокрушишь великое царство».
Бедный Крез не учел того, что под понятие «великое царство» подпадает не только Персия, но и Лидия. И в итоге великий персидский царь Кир захватил Лидию, а Креза, по-видимому, сжег на костре.
В отличие от несчастного Креза пифии, как представляется, хорошо видели двусмысленности и умели их использовать, чтобы защитить себя от разоблачения. Действительно, даже после поражения Креза никто не смог бы упрекнуть предсказательниц в том, что они ошиблись.
Итак, ситуация, когда одно слово или словосочетание имеет два и более значения, создает питательную почву для произрастания шарлатанства самых различных форм.
Классическим примером многозначного слова, несомненно, является слово «коса». Если человек произнес его, то без контекста нам очень трудно понять, о чем именно идет речь: о женской прическе, о сельскохозяйственном орудии или об элементе рельефа.
Для преодоления проблем, возникающих из-за многозначности, в логике строго следят за соблюдением закона тождества: если вы начали рассуждать о женской прическе, не смейте переходить на сельхозорудие!
Но наличие у слов двух и более значений – это еще полбеды. Ведь у слов есть еще и переносные значения, коннотации. Например, слово «лиса» имеет только одно значение: «хищник с красной шерстью и белым кончиком хвоста». А коннотацией слова «лиса» является кто-то хитрый. И вот это «кто-то хитрый» – уже понятие, под которое можно подвести очень многих людей.
Особенно большими мастерами в использовании двусмысленностей, многозначных слов и словосочетаний являются различные предсказатели.
Предсказатели
Пожалуй, самым узнаваемым предсказателем является Мишель из Нотрдама, или Нострадамус.
Но почему его считали предсказателем? Давайте разбираться.
Одно из наиболее известных пророчеств Нострадамуса (катрен I, 35), которое, возможно, и привлекло внимание общественности к этому предсказателю, выглядит так (цитируется по [1]):
Молодой лев одолеет старого На поле битвы в одиночной дуэли, Он выколет ему глаза в золотой клетке. Два флота – одно, потом умрет жестокой смертью.Принято считать, что этот катрен предсказал смерть короля Франции Генриха II (1519–1559). Дело в том, что Генрих II был убит на праздничном турнире, который проводился по случаю подписания мирного договора между Францией и Испанией и династического брака дочери Генриха II Елизаветы и испанского короля Филиппа II, призванного этот мирный договор упрочить.
В турнире участвовал и сам Генрих II. Он бился с Габриэлем, графом Монтгомери, капитаном Королевской шотландской гвардии. У обоих сломались копья, но обломок копья графа пронзил решетку шлема короля, пробив глаз и повредив мозг монарха. В результате Генрих II скончался в тяжелых мучениях.
Почему же кажется, что катрен Нострадамуса предсказал эту смерть?
Во-первых, потому, что граф Монтгомери был моложе короля Франции («молодой лев одолеет старого»).
Во-вторых, потому, что словосочетания «поле битвы» и «одиночная дуэль» интерпретаторы этого «предсказания» считают синонимом слова «турнир».
В-третьих, упомянутая в катрене золотая клетка интерпретируется как шлем короля (и у шлема, и у клетки есть решетка).
В-четвертых, глаз действительно был выколот.
В-пятых, слова deux classes, которые следовало бы перевести как «два флота», переводятся как «два перелома» (используется греческое слово klasis – «перелом», тогда как следует использовать латинское classis – «флот»). И действительно, на турнире сломались два копья – копье короля и копье графа.
Но насколько точна такая интерпретация этого катрена? Давайте посмотрим.
Во-первых, Генрих II был старше графа Монтгомери всего на шесть лет. Стал ли он от этого старым? Да и непонятно, при чем тут львы. Ни в гербе короля, ни в гербе графа лев не использовался. Впрочем, слово «лев» имеет такие коннотации, как «храбрый», «смелый», «воинственный». С этой точки зрения и Генрих, и Габриэль, безусловно, настоящие львы.
Во-вторых, отождествление «поля битвы» и «одиночной дуэли» с турниром является весьма произвольным. Так, можно назвать полем битвы и кулинарный или певческий поединок, и состязание в шахматы или кости, и словесную перепалку.
В-третьих, называть шлем клеткой – это все-таки довольно необычная метафора. Тем более если речь идет о золотой клетке. К тому же шлем короля не был ни золотым, ни хотя бы позолоченным.
В-четвертых, в пророчестве говорится «выколет глаза», а не «выколет глаз».
В-пятых, слова «два флота – одно» не имеют смысла, даже если мы поменяем слово «флота» на «переломы», тем более что оснований такая замена не имеет (если только вы не хотите придать катрену больше смысла и выдать обыкновенного шарлатана за пророка).
Кстати, за год до смерти Генриха II Нострадамус написал к нему послание, которым хотел привлечь внимание короля к своим пророчествам и получить покровительство монарха. Тон послания весьма верноподданнический и даже раболепный, но при этом Нострадамус даже не пытается предупредить Генриха II о его близкой кончине. Да и зачем так настойчиво добиваться покровительства короля, который уже через год умрет?
Получается, Нострадамус был сапожником без сапог – предсказателем, который не понимал смысла собственных предсказаний? Но нет, в упомянутом выше послании к Генриху II Нострадамус признается, что специально формулирует свои пророчества в загадочных и туманных выражениях, чтобы избежать неких «опасностей нынешнего времени».
Итак, мы видим, что интерпретация приведенного катрена как предсказания убийства и смерти Генриха II весьма произвольна. В действительности этот катрен допускает множество трактовок и интерпретаций, а значит, вероятность того, что события, которые можно подогнать под этот катрен, на самом деле наступят, достаточно высока.
В этом и состоит один из секретов сбывшихся предсказаний: слова и выражения из предсказаний являются расплывчатыми, нечеткими, многозначными, допускают разные интерпретации. Предсказатели обожают использовать пустые понятия и понятия с неясным содержанием. Слова с несколькими значениями – это вообще настоящие подарки для предсказателей: они значительно увеличивают спектр событий, которые можно будет подогнать под предсказание, и, следовательно, повышают вероятность того, что предсказание сбудется.
Еще один секрет того, как человек превращается в предсказателя, связан с большим количеством предсказаний. Тот же Нострадамус, например, написал несколько книг. Действительно, чем больше предсказаний вы сделаете, тем больше шанс, что некоторые из них сбудутся. Подробнее этот вопрос разбирается в главе 3 «Ловушки случайностей».
Эффект Барнума
В 1948 году психолог по имени Бертрам Р. Форер провел следующий эксперимент [14].
Группе людей было предложено пройти психологический тест. После того, как они сделали это, экспериментатор собрал заполненные тесты и отпустил людей на время обработки. Но на самом деле никакой обработки не проводилось. По прошествии времени (якобы затраченного на обработку тестов) Форер раздал всем участникам эксперимента одно и то же описание личности, полученное, по словам экспериментатора, по результатам теста (на самом деле текст был взят из астрологического журнала). Вот этот текст:
«Вы испытываете сильную потребность в любви и уважении со стороны других людей. Вы склонны критически относиться к себе. Вы обладаете большим нереализованным потенциалом, который вы не использовали с выгодой для себя. Хотя у вас имеются некоторые слабые стороны личности, вы в целом успешно компенсируете их. У вас возникают трудности с ведением регулярной половой жизни. Демонстрируя внешнее самообладание и самоконтроль, вы склонны испытывать внутреннее беспокойство и незащищенность. Иногда вас мучают сомнения в отношении того, было ли верным принятое вами решение или сделали ли вы все, что было необходимо. Вас привлекают определенные изменения и разнообразие, и вы испытываете неудовлетворенность, когда вас пытаются стеснить или навязать ограничения. Вы цените свою независимость в мышлении и не принимаете чужих утверждений, если они не имеют достаточного количества веских доказательств. Вы считаете неразумным слишком глубоко раскрывать свою душу перед другими людьми. Временами вы бываете коммуникабельным, приветливым, общительным, тогда как в других ситуациях вы можете оказаться погруженным в себя, недоверчивым, замкнутым. Некоторые из ваших притязаний выглядят довольно нереалистичными. Безопасность является одной из ваших основных целей в жизни».
После этого Форер попросил каждого участника оценить по пятибалльной шкале степень сходства текста-описания с их личностью (5 – максимальное сходство). Средний балл был 4,26.
Как видите, участники эксперимента посчитали, что приведенный выше текст верно описывает их личности.
Обратите внимание: рассматриваемый текст состоит из описаний личности и поведения, которые подошли бы каждому человеку. Кстати, циркач и опытный шоумен Барнум, в честь которого назван данный эффект, любил повторять: «У нас есть кое-что для каждого».
Возьмем, например, первую фразу фореровского описания личности: «Вы испытываете сильную потребность в любви и уважении со стороны других людей». Разве не каждый подпишется под этим? Разве не каждый человек хочет любви и уважения?
Такого рода формулировки принято называть барнумскими. Хотите всегда попадать в цель при описании личности человека? Используйте барнумские формулировки. Следите только, чтобы никто не услышал, как вы описываете личность другого человека.
Именно барнумские формулировки используют экстрасенсы, когда пытаются по нашей ауре определить, есть ли у нас те или иные заболевания, или ясновидящие, которые пытаются убедить нас в том, что ясно видят наше прошлое.
Впрочем, поговорим об этом подробнее.
Чтение ауры
Представьте себе следующую ситуацию.
Вы приходите на прием к какому-нибудь народному целителю, экстрасенсу, ясновидящему. Он пристально смотрит на вас, а потом говорит примерно следующее: «По состоянию вашей ауры я вижу, что у вас периодически возникают боль, неполадки или легкое чувство дискомфорта в шее, груди, животе, спине, конечностях или голове».
Вы вспоминаете, что действительно, у вас периодически побаливают голова и шея, и поражаетесь проницательности экстрасенса.
Но стоило ли удивляться тому, что экстрасенс правильно «прочитал вашу ауру»?
Представьте, что во время эксперимента по проверке телепатических способностей «телепат» заявляет: «Вам выпала звезда, крест, квадрат, круг или же волнистая линия».
Понятно, что он угадает, поскольку перечислил все карты, которые в принципе могут вам выпасть. Вот только вряд ли экспериментатор признает этого испытуемого телепатом.
По сути, то же самое сделал в нашем примере и экстрасенс. Действительно, разве в вашем организме есть какие-то еще зоны, помимо головы, шеи, спины, груди, конечностей и живота? Да и много ли еще неприятностей может с этими частями тела произойти, помимо боли, неполадок и легкого дискомфорта?
Конечно, приведенный пример является иллюстративным. Ни один чтец ауры не будет действовать столь же нагло и перечислять все возможности. Но он перечислит многие из них с тем, чтобы предельно повысить вероятность случайного попадания в цель.
И вот благодаря таким случайным попаданиям, а также подтверждающему искажению всегда будут люди, которые верят в различных чтецов ауры, биоэнергетиков, энергоинформационных терапевтов и народных целителей.
Но давайте разберем и другие механизмы, под влиянием которых нам кажется, что экстрасенс познал истину, что ему удалось узнать о нас нечто, чего он никак не мог узнать без экстрасенсорных способностей.
Холодное чтение
Начнем мы с того, что укажем специальное название для процедуры, подобной чтению ауры. Она называется холодным чтением. Подразумевается, что, не имея никакой сенсорной информации, экстрасенс все равно правильно считывает наши особенности, верно описывает наше прошлое и настоящее.
Помимо холодного, существует еще горячее чтение – это ситуация, когда человек твердо знает о нас что-то соответствующее действительности. На самом деле во многих случаях холодное чтение является настоящим горячим чтением, то есть экстрасенс получил о нас информацию вполне сенсорными методами, например подослал к нам своего осведомителя или просто посмотрел наш профиль в социальных сетях. При этом он, конечно, будет тщательно скрывать, что имеет место именно горячее чтение.
Существует и так называемое теплое чтение, когда экстрасенс действует примерно как Шерлок Холмс и стремится сделать о нас выводы по нашему внешнему виду, нашим реакциям. При этом ни о каких экстрасенсорных способностях опять-таки и речи нет, речь идет лишь о наблюдательности экстрасенса и о его опыте делать выводы на основе наблюдения за человеком.
Во время теплого чтения, конечно же, потенциально возможны и происходят случайные угадывания, случайные правильные попадания.
Имеет место в случае холодного чтения и эффект умного Ганса, о котором рассказывается в главе 1 «Главная ловушка разума».
К теплому чтению можно отнести и то, что я называю прощупыванием. Речь идет о ситуации, когда экстрасенс говорит примерно следующее: «В вашей жизни в последнее время большую роль стал играть мужч… нет-нет – женщина».
Во время паузы, обозначенной многоточием, экстрасенс внимательно смотрит на человека и понимает, будучи не глупее Ганса, что догадка про мужчину неверна.
Но холодное чтение сводится еще и к тому, каким образом экстрасенс формулирует свои выводы о нас. И здесь можно выделить два основных варианта.
Во-первых, экстрасенс перечисляет все возможности. Этот пример я уже приводил выше. Экстрасенс может сказать что-то вроде: «Я не могу сказать точно, но я вижу, что в данной ситуации особую роль играл ваш отец, дед, дядя, брат или же родственница женского пола».
Наивный объект холодного чтения скажет на это, например: «Вы правы, это был мой дядя!» – и будет восхищен «паранормальными» способностями холодного чтеца. Но понятно, что, поскольку в этом перечислении названы практически все варианты родственников, такое утверждение просто не могло не оказаться «истинным».
Во-вторых, экстрасенс использует общие слова, старается охватить максимум вариантов, применяя для этого понятия с весьма большим объемом. Например, экстрасенс может сказать: «Ваш отец умер из-за проблем в области живота или груди».
Опять-таки неподготовленный человек будет весьма впечатлен попаданием. Однако если вдуматься, то оказывается, что большинство причин смерти связаны именно с областью живота (язва, почечная недостаточность, рак желудка, кишечника и пр.) или груди (сердечная недостаточность, инфаркт, рак легких, туберкулез, эмфизема и пр.). Разумеется, произнеся такую фразу, экстрасенс с высокой вероятностью попадет в цель.
Нужно подчеркнуть, что приемы холодного чтения позволяют не получать о человеке информацию за счет наблюдательности, а лишь создавать иллюзию такого получения информации.
Кстати, подобные подходы используют не только экстрасенсы, но и гипнотизеры.
Недирективный гипноз
Сегодня различные сомнительные деятели, орудующие в сфере психологических услуг, распространяют массу мифов. Одним из них является миф о так называемом недирективном гипнозе. Суть его заключается в следующем.
Классический гипноз вызывает сопротивление гипнотизируемого, ведь формулировки, которые используются в классическом гипнозе, весьма директивны, прямолинейны, не дают гипнотизируемому вариантов реагирования на слова гипнотизера. Соответственно, нас пытаются убедить в том, что не надо говорить гипнотизируемому: «Сядьте удобно! Вы расслаблены!» – а лучше сказать ему что-то вроде: «Вы можете сесть удобно и расслабиться».
Вроде бы все это выглядит убедительно и логично. Так в чем же проблема?
Во-первых, отсутствуют четкие критерии, признаки гипнотического транса. Другими словами, непонятно, чем гипнотический транс отличается от обыкновенного бодрствующего состояния. Отсюда следует, что само наличие гипнотического транса как некоего особого состояния сознания довольно сомнительно.
Во-вторых, все, что происходит с человеком, который якобы находится в состоянии транса, может неотличимо подделать человек, которого, к примеру, просто попросили изобразить, что он находится под гипнозом. Да-да, в том числе такой человек может лежать между двумя стульями, не выказывать признаков боли или даже делать вид, что видит внушенную гипнотизером галлюцинацию. Сомнительность других гипнотических феноменов – гипермнезии (восстановленной памяти) и возрастной регрессии (возвращения гипнотизируемого в детский возраст) – мы детально разберем в главе 5 «Ловушки памяти».
Итак, с одной стороны, не существует способа объективно подтвердить, что человек находится в гипнотическом трансе: нет ни одного гипнотического феномена (каталепсия, галлюцинации, анестезия), который человек не смог бы продемонстрировать по собственной воле без всякой процедуры наведения транса. С другой стороны, мы зачастую склонны подыгрывать нашему партнеру в ситуациях межличностного взаимодействия.
Напрашивается вывод о том, что и гипнотизируемые люди просто вольно или невольно, намеренно или нет подыгрывают гипнотизеру.
Да, трудно представить себе общество, в котором люди не подыгрывали бы друг другу. Подыгрывание – это наша повседневная реальность. Мы часто делаем вид, что человек нам приятен, хотя на самом деле предпочли бы с ним не общаться, смеемся над несмешными шутками, притворяемся, что верим в истории, которые рассказывают нам друзья и коллеги, нарочито восхищаемся идеями руководителя, которые в действительности считаем глупыми, киваем, демонстрируя согласие, хотя предпочли бы покачать головой и покрутить пальцем у виска, сутулимся и вжимаем голову в плечи перед теми, от кого зависим, и расправляем плечи, глядя свысока на тех, кто зависит от нас.
Нечто подобное происходит и в случае, когда мы подвергаемся гипнозу. Гипнотизер ясно дает нам понять, какой реакции от нас ожидает, поэтому если мы не хотим ссориться с ним или вставать в оппозицию, то с легкостью сможем ему подыграть.
И безусловно, человеку становится легче подыгрывать гипнотизеру, если гипнотизер дает определенную свободу действий, например говоря: «Вы можете закрыть глаза или не закрывать их, вы можете расслабиться или напрячься, слушать меня или отвлечься от моих слов».
В то же время, и это, по-видимому, еще более важно, клиенту гипнотизера легче поверить в то, что он действительно был погружен в гипнотический транс, если гипнотизер использует расплывчатые и многозначные формулировки. Это так же верно, как и то, что клиенту экстрасенса легче поверить в то, что экстрасенс действительно может диагностировать заболевания или предсказывать будущее, если использует техники холодного чтения.
Представим, что гипнотизер внушает человеку: «Ваша левая рука становится легкой, она поднимается. Она поднимается. Хорошо. А теперь она замирает в этом положении! Проверьте: вы не сможете ее опустить».
Предположим также, что человек все же смог опустить свою руку. В этот момент вся иллюзия гипноза, естественно, будет разрушена.
А теперь представим, что с человеком работает недирективный гипнотизер, который говорит, например, следующее: «Вы можете почувствовать… что одна из ваших рук становится легкой или тяжелой… что она поднимается или вжимается в подлокотник… или вы можете осознать… что перестали ощущать ваши руки… или в них возникли… какие-то иные ощущения».
Многоточия обозначают многозначительные паузы, которые обязательно будет делать такой гипнотизер.
По сути, наш недирективный гипнотизер описал все, что в принципе может происходить с руками человека, сидящего в кресле. А это означает, что, независимо от того, что гипнотизируемый человек на самом деле ощутил, он будет думать, что это признаки гипнотического транса, в который он погружается все глубже и глубже.
«Целительные» постгипнотические внушения, которые формулируют недирективные гипнотизеры, также надежно защищены от разоблачения. Недирективный гипнотизер не будет, подобно классическому, внушать неуверенному человеку: «Вы стали уверенным в себе! Вас переполняет уверенность! Вы верите в свои силы! Вы сильны! Вы можете реализовать все, что задумали!» Скорее он наговорит вам что-то вроде: «И сейчас… когда вы находитесь в глубоком трансе… вы отчетливо осознаете… что не знали о том, что знаете… что знаете многое, не осознавая… что знаете это… и просыпающиеся ресурсы подсознания… могут проявиться зримо… или остаться неосознаваемыми… позитивно воздействуя… на происходящие с вами процессы… в глубине… и после пробуждения вы можете осознать… что изменились и стали сильнее… или продолжать не осознавать… этого… неважно… ваше подсознание знает больше… чем вы осознаете… и лучше знает… что полезнее… для вас…»
Вот такое словесное шарлатанство.
Конечно, ловцы душ не только распространяют самые разные мифы, но и рассказывают истории.
Рассказывание историй
Обращали ли вы, уважаемый читатель, внимание на то, что некоторые рекламные слоганы представляют собой стих: двустишие, четверостишие? Исследования показывают, что зарифмованный текст действительно воспринимается лучше. Да и вообще использовать рекламный слоган – отличный способ создать устойчивую ассоциацию между определенным смыслом и рекламируемым товаром. Складная, легко запоминающаяся, сама просящаяся на язык фраза – это отличный инструмент манипулирования потребителями, то есть нами.
Более длинные складные тексты тоже хорошо воспринимаются нашим разумом, они легко запоминаются, легко приходят на ум. Простая для понимания история, рисующая четкие образы в голове ее слушателя, является мощным средством убеждения и позволяет поймать человеческий разум в ловушку.
Ловцы душ часто рассказывают истории: о чудесных исцелениях, о скрытых ресурсах организма, о сверхъестественных явлениях, о том, как замечательно работают продаваемые ими методики и техники.
Рассмотрим несколько примеров такого рода историй.
Продавцы собрания научно необоснованных и просто противоречащих научным данным чудодейственных методик воздействия на самого себя и окружающих людей под названием «нейролингвистическое программирование» (НЛП) распространяют среди своих приверженцев миф о том, что частица «НЕ» не воспринимается подсознанием. Они утверждают, что наше подсознание отбрасывает частичку «НЕ», а следующее за ней слово или словосочетание воспринимает как внушение, руководство к действию. Соответственно, продавцы НЛП любят рассказывать следующую историю.
Однажды в одном цирке во время представления канатоходец, идя по канату, оступился. В этот момент кто-то из зала крикнул ему: «Не упади!» – и эквилибрист якобы под влиянием этой фразы упал…
Ну, во-первых, где они такое видели? Какой такой канатоходец? В каком цирке это случилось? Что за человек, который крикнул: «Не упади!» – и почему он решил крикнуть? Каким образом канатоходец в шуме представления услышал этот выкрик из зрительного зала? Непонятно. Чего уж проще – провели бы эксперимент. Это действительно очень просто. Нужно только следующее:
• 80 канатоходцев (число взято произвольно);
• скрытый в канате механизм, заставляющий спотыкаться;
• человек, сидящий внизу, который будет выкрикивать фразу «Не упади!» или другие фразы (см. ниже).
При этом 80 канатоходцев нужно разделить случайным образом на четыре группы (по 20 канатоходцев).
В каждой группе один из зрителей будет выкрикивать разные фразы:
• в первой группе после спотыкания один из зрителей снизу будет кричать канатоходцу: «Не упади!»
• во второй группе – «Держись!»
• в третьей просто крикнут что-то неразборчивое, но с той же громкостью;
• в четвертой будут молчать.
И вот если в первой группе канатоходцы будут падать с каната значительно чаще, чем в остальных группах, а в группе «Держись!» – значительно реже, чем в других группах, то абсурдное утверждение о том, что частичка «не» не воспринимается подсознанием, будет доказано или (и это намного вероятнее) опровергнуто экспериментально.
Но и без эксперимента понятно, что утверждение «Канатоходец падает при выкрике “Не упади!”, поскольку подсознание не воспринимает частичку “не”, так как она “маленькая”» является совершенно бредовым. Потому что в этом случае подсознание не воспринимало бы и другие смысловые части слов, которые ничуть не более протяженные, чем частица «не». В данном примере подсознание не отличило бы слово «упади» от слов «упал», «упадет», «поди», «укради», «уходи», «уводи», «колоти» и пр. Кроме того, сама концепция подсознания, которая показана в этом примере, является лженаучной.
Но и это еще не все, ведь возникает вопрос: как быть с альтернативными трактовками произошедшего? Может, эквилибрист оступился так, что это уже было не скомпенсировать? Или он просто напрягся от неожиданного резкого выкрика и потому не успел скорректировать свое равновесие?
Так вот, чтобы отделить то, что имело место на самом деле, от того, чего не было, и существует научный метод, эксперимент (например, описанный выше). Хотя в данном случае, я повторяю, не нужны опыты, чтобы понять всю абсурдность данного НЛП-представления.
А сейчас рассмотрим еще несколько историй, которые обожают рассказывать нам различные ловцы душ.
Слон на веревочке
Шарлатаны в области личной эффективности и личностного роста очень любят заявлять, что только мы сами мешаем себе добиваться успеха, что достаточно освободиться от ограничений, которые нам когда-то навязали и с которыми мы согласились, как на нас сразу посыплются всевозможные блага, мы станем лидерами, личностно вырастем, добьемся успеха.
В подтверждение этих идей шарлатаны рассказывают следующую историю.
Якобы слонов, которые участвуют в представлениях, привязывают тонкой веревкой к маленькому колышку, вбитому в землю. При этом слон не убегает, потому что, когда он был маленьким, он не мог ни вырвать колышек из земли, ни разорвать веревку, привык и теперь уже не делает попыток освободиться.
На самом же деле слонов привязывают цепью, причем не к каким-то там вбитым колам, а прямо к высоким пальмам. Вдобавок, чтобы управлять слоном, используют анкас[12] – это что-то вроде кирки, которой слонов со всей силы лупят по лбу, чтобы наверняка причинить животному боль. Зачем же тратить столько металла на изготовление мощных анкасов, если достаточно было с детства приучить слона к боли от гораздо менее тяжелого инструмента?
Впрочем, зачем нам слоны? Почему этот прием не используют на коровах? Видели, как пасется корова? Чтобы она не убежала, в землю вбивают достаточно мощный кол, да и привязывают ее далеко не ниточкой.
Так что миф о слонах, которых привязывают тонкой веревочкой к маленькому колышку, – это именно миф, фейковая история.
Впрочем, как и сама идея о том, что только мы сами мешаем себе добиться успеха и стоит лишь снять внутренние барьеры, как на нас посыплются всяческие блага и достижения. Конечно, наш успех зависит от внутренних факторов – наших знаний, умений, навыков, нашей работоспособности. Но эти вещи нельзя приобрести на каком-нибудь шестидневном трехступенчатом тренинге.
Дело в том, что наш успех зависит и от внешних факторов: от региона, в котором мы живем, от высоты нашего старта, от ситуации в стране и мире, в экономике и от многих других объективных моментов, на которые мы никак не можем повлиять.
Вдобавок в достижении успеха очень велика доля случайностей – везения, случайного стечения обстоятельств.
Так что никаких стопроцентно эффективных рецептов успеха просто не существует: успех зависит от слишком большого количества факторов, многие из которых нам совершенно неподконтрольны.
Но расстраиваться и опускать руки все же не стоит. Почему? Потому что отсутствуют только рецепты того, как подняться выше большинства людей. А вот чтобы достичь того же положения, в котором находится большинство людей, никаких секретов знать не нужно: получите востребованную специальность, будьте готовы работать каждый день по восемь часов – и вы практически гарантированно станете вполне успешным представителем среднего класса.
Пробуждение силы
Излюбленная шарлатанами тема – это, конечно же, тема скрытых ресурсов организма. Чтобы убедить нас в том, что в нашем организме дремлют некие ресурсы, некие силы, которыми мы не пользуемся, шарлатаны, ловцы душ обожают рассказывать байки о том, как, к примеру, некий человек, за которым гнался тигр, так испугался этого хищника, что перепрыгнул через широкую расселину в скалах. Или про хрупкую женщину, которая после аварии каким-то чудом смогла поднять перевернувшийся автомобиль, чтобы спасти попавшего под него ребенка.
Удивительно, почему же не пробуждаются скрытые ресурсы у людей, попавших под завалы зданий после землетрясения или поглощенных в горах снежной лавиной? Непонятно, почему же процветает рынок допингов? Действительно, престижные спортивные соревнования – это весьма стрессовая ситуация: на кону не только честь страны, честь спортсмена, его будущее, но и ценный приз. Так почему же этот стресс не пробуждает никаких скрытых ресурсов?
Вообще, все эти истории о скрытых ресурсах, которые просто надо пробудить, и о внутренних барьерах, которые просто надо сломать, очень удобны для шарлатанов. И правда, люди, убежденные в том, что внутренние барьеры и скрытые ресурсы существуют, нормально отнесутся к тому, что вместо предоставления действительно ценной, эксклюзивной информации какой-нибудь тренер или гуру будет лишь пробуждать ресурсы и ломать барьеры. Соответственно, шарлатану не надо искать ценную информацию, чтобы поделиться ею, ему просто нужно понапридумывать упражнения, активности, которые якобы пробуждают дремлющие ресурсы и ломают внутренние барьеры.
К тому же наш внутренний мир – это территория субъективного. Объективно проверить, что действительно происходит у нас внутри, зачастую невозможно. И это тоже создает весьма выгодную для ловца душ ситуацию: стало лучше после слома барьеров – все отлично, метод работает, а шарлатан – никакой не шарлатан, а подлинный мастер; не стало лучше – значит, барьеры не до конца сломались, ресурсы не до конца пробудились и надо еще раз пройти тренинг.
Пять обезьян
Уверен, эта история не раз попадалась вам в соцсетях. Ее могут рассказывать по-разному, но общий смысл всегда один и тот же. Итак, некие ученые помещают в клетку пять отобранных случайным образом обезьян. Затем они ставят посреди клетки стремянку, на верхнюю ступень которой помещают большую связку спелых желтых бананов. И вот, как только одна из обезьян, соблазнившаяся столь аппетитным лакомством, поднимается по стремянке, чтобы взять бананы, ученые поливают четырех оставшихся обезьян ледяной водой из брандспойта. В результате по прошествии нескольких таких водных процедур обезьяны начинают понимать, чем заканчивается каждая попытка достать бананы, и предусмотрительно избивают любую обезьяну, которая попытается их взять.
А затем начинается самое интересное. Ученые заменяют одну из обезьян новой, которую еще не поливали водой и не избивали. Эта новая обезьяна, попав в клетку, конечно же, сразу пытается забраться на стремянку, за что оставшиеся обезьяны ее избивают. Когда эта новая обезьяна понимает, что пытаться достать бананы не стоит, ученые заменяют еще одну обезьяну. И так продолжается до тех пор, пока не будут заменены все обезьяны. И вот в результате получается (о чудо!), что обезьяны, которых никогда не окатывали водой, перестают интересоваться бананами на лестнице – совершенно бессмысленное поведение!
Обычно эта история используется для критики традиций. Мол, все наши традиции формируются таким же образом и в XXI веке нет смысла соблюдать запреты и исполнять предписания, которые сформировались сотни лет назад и давно устарели.
Что ж, нет сомнения, что человечество развивается и какие-то традиции устаревают, но достаточных оснований для того, чтобы считать вообще все традиции бессмысленными и устаревшими, не существует.
К тому же описанный эксперимент над обезьянами никогда не проводился. Приведенная история – это типичный интернет-фейк.
Как сварить лягушку?
Когда вас хотят убедить в том, что цели, которой вам не удалось достичь, все-таки можно добиться, если действовать постепенно, вам могут рассказать следующую историю. Мол, если бросить лягушку в кастрюлю с кипящей водой, лягушка просто выпрыгнет, а вот если посадить лягушку в кастрюлю с теплой водой, а кастрюлю поставить на медленный огонь, то лягушка будет продолжать спокойно плавать, пока не сварится заживо.
И хотя вам легко представить эту ситуацию и в эту историю легко поверить, дела обстоят вовсе не так, как описано.
Начнем с того, что такого рода опыты действительно проводились. Вот только проводились они еще в XIX веке. А ведь тогда были несколько иные стандарты исследований, наука, по сути, находилась в самом начале своего пути. Возможно, выборка была нерепрезентативной и в эксперимент попало слишком мало лягушек. Возможно, эти лягушки были больными, старыми или в лаборатории им были нанесены повреждения, которых экспериментатор не заметил.
Современные же ученые считают, во-первых, что лягушка выпрыгнет из кастрюли, только если кастрюля позволяет это сделать. Если из кастрюли в принципе нельзя выпрыгнуть, то не имеет значения, бросаете вы лягушку в кипящую воду или варите несчастное земноводное на медленном огне.
Во-вторых, вполне возможно, что если вы бросите лягушку в кипяток, то тепловой шок будет столь сильным, что лягушка просто сварится, не сумев выпрыгнуть.
В-третьих, лягушка вполне может выпрыгнуть из кастрюли, которая стоит на медленном огне, например, если ей надоест плавать от стенки к стенке и захочется попрыгать или поесть.
В любом случае сводить все проблемы к тому, действовали ли вы достаточно медленно и постепенно, не стоит. Как мы уже знаем, искать универсальные рецепты успеха – это вообще дело неблагодарное, потому что таких рецептов попросту не существует. Поэтому следует анализировать каждую ситуацию и выявлять причины того, почему вы не достигли каждой конкретной цели, а не пытаться искать универсальные простые объяснения.
К тому же экстраполяция поведения животных на поведение людей – это, мягко говоря, не вполне правомерная мыслительная операция. В конце концов, это же мы проводим эксперименты на животных, а не наоборот.
Впрочем, истории шарлатанов не всегда лживы.
Вот, например, еще одна история про обезьян.
В одной южной стране местные жители, чтобы поймать обезьяну, используют следующий хитрый прием. Они выкапывают узкую ямку, на дно которой кладут вкусно пахнущую приманку. Причем диаметр ямки рассчитан так, что раскрытая ладонь обезьяны легко проходит, а вот сжатый обезьяний кулак – нет. И вот, почуяв приманку, обезьяна подходит к ямке, сует руку, хватает приманку и застревает! Обезьяна не отпускает свою добычу даже тогда, когда рядом оказывается человек с веревкой, на которой обезьяна в скорости и оказывается.
Это правдивая история, обезьян действительно ловят таким хитроумным способом, но какое отношение это имеет к нам – людям? Все-таки между людьми и другими животными, пусть даже и самыми умными в джунглях, имеется огромная дистанция. В частности, говоря упрощенно, это мы ловим обезьян подобным хитроумным способом, а вовсе не они нас, и это именно мы пытаемся делать какие-то выводы из обезьяньего поведения, а вовсе не обезьяны из нашего.
Впрочем, может быть, уместно трактовать эту историю чисто метафорически, а-ля «перестань добиваться успеха, и он сам к тебе придет» или «не держись за отношения, и они сами наладятся»? Я сомневаюсь. Да, конечно, бывает, что проблема сама решается, если не нервничать и не пытаться срочно что-то предпринимать. Но не менее часто проблема от нашего бездействия только обостряется.
Да и вообще, выводы, пусть даже и сделанные на основе твердо установленных фактов, всегда следует проверять.
Выводы из фактов никогда не следует считать чем-то большим, чем гипотезы, которые еще только предстоит проверить.
Защита от разоблачения
В разделе «Неопровержимо!» главы 1 «Главная ловушка разума» мы уже говорили о том, что шарлатан может описывать свой товар или услугу таким образом, чтобы было невозможно опровергнуть его заявления о полезности товара, действенности услуги.
Излюбленным приемом такой защиты от разоблачения является прием, который я называю «ловушка веры в метод».
Данную ловушку разума можно поставить следующей формулировкой: «Это лекарство помогает только тем, кто верит в его действенность».
Или: «Этот метод поможет только в том случае, если вы верите в то, что он вам поможет».
Понятно, что при таком подходе опровергнуть действенность шарлатанского снадобья невозможно: если после приема шарлатанского снадобья вам стало лучше, то это снадобье действительно помогает, если же вам не стало лучше, то это не снадобье бесполезно, это вы недостаточно верили в его действенность.
* * *
Итак, наш язык не только позволяет нам общаться, обмениваться информацией, но и становится основой ловушек, в которые попадает наш разум. Ловцы душ виртуозно используют язык, чтобы навязать нам свои товары и услуги и превратить нас в своих верных и преданных последователей.
Поэтому, общаясь с людьми, нужно всегда прояснять значения слов, проверять, имеет ли внешне вполне научный термин подлинно научный статус. Слыша нечто правдоподобное, нужно всегда спрашивать себя, а не является ли это правдоподобие иллюзорным, в частности, могло ли это предсказание не сбыться, или же оно сформулировано так, что сбудется в любом случае.
Расплывчатым, многозначным формулировкам вообще не стоит доверять. Помните: если человек не может объяснить свою теорию, концепцию, идею простым языком, значит, он или сам не до конца разобрался, или же вполне осознанно стремится ввести нас в заблуждение.
В то же время не стоит подпадать под гипноз даже очень складных объяснений, а также легких для понимания и хорошо запоминающихся историй. Складность и легкость для понимания сами по себе вовсе не гарантируют истинности. Ясность и простота изложения – это необходимое, но далеко не достаточное условие соответствия слов реальности.
Глава 5 Ловушки памяти
Пожалуй, основная особенность нашей памяти заключается в том, что она имеет дело с прошлым. А прошлое – это совершенно особый предмет, ведь с ним у нас нет прямой связи, непосредственного контакта. Прошлое, как говорится, осталось в прошлом. Мы не можем вернуться туда, чтобы проверить, правильно ли мы все запомнили. Конечно, если от прошлого осталась объективная информация (документы, предметы, свидетельства), ситуация облегчается, потому что в этом случае мы можем проверить, правильно ли все помним.
Но достаточно часто у нас нет о прошлом объективных данных, а если они и имеются, то они неполны, и потому на основе этих данных можно построить разные, зачастую диаметрально противоположные картины событий. Такого рода недостаток информации о прошлом на протяжении истории часто использовался различными мошенниками, аферистами, фальсификаторами, начиная с персонажей, которые подделывали завещания, повышали благородность своего происхождения, незаслуженно приписывали себе права собственности, и заканчивая деятелями, которые пытались переписывать историю целых народов.
Массу примеров такого рода подделок, фальсификаций, переписывания прошлого мы находим в истории нашей собственной страны. Так, ограниченность информации о смерти царевича Дмитрия стала основой для появления самозванцев – Лжедмитрия I и Лжедмитрия II, а Емельян Пугачев успешно притворялся убиенным императором Петром III.
Но мы практически не будем говорить о том, как нас обманывают, используя ограниченность информации о прошлом, не будем разбирать фальсификацию исторических данных и деятельность любителей переписывать историю. Мы поговорим о том, какие уязвимости нашего разума проявляются, когда он имеет дело с прошлым, рассмотрим целый ряд ограничений человеческой памяти, из-за которых наш разум попадает в ловушку.
Помнить нельзя забыть
Да, наша память – штука подчас очень ненадежная. И ситуации, когда память нас подводит, когда мы не можем запомнить, не можем вспомнить, забываем важные вещи, знакомы каждому.
Подумайте, например, над следующими вопросами.
• Испытывали ли вы хоть раз трудности с запоминанием параграфа из учебника или разучиванием стихотворения?
• Искали ли вы когда-нибудь мобильный телефон, очки, какие-то еще предметы в собственной квартире, в которой вам знаком каждый угол?
• Забывали ли вы когда-нибудь какое-то до боли знакомое имя, слово, термин?
• Знакомы ли вам такие выражения, как «крутится на языке» или «вылетело из головы»?
• Многое ли вы забыли из школьной программы?
Если вы ответили «да» на эти вопросы, то вам, скорее всего, нетрудно признать, что наша память иногда дает сбои. Это, в общем-то, всем известно и не вызывает вопросов.
Более того, еще в 1885 году немецкий психолог Герман Эббингауз в серии экспериментов над самим собой, которые, кстати, в результате стали классическими, выявил одну из ключевых закономерностей, которым подчиняется наша память: чем больше времени прошло с момента разучивания нового материала, тем меньше мы будем его помнить.
Эта закономерность имеет и графическое отображение, которое называют кривой Эббингауза.
Конечно, эта закономерность принимается с целым рядом оговорок, например следующих:
• если материал является осмысленным, то его труднее забыть;
• какая-то часть материала все-таки не забудется;
• если регулярно повторять материал, то забыть его сложнее.
Но это было бы еще полбеды, если бы мы со временем только забывали материал. Дело в том, что наша память еще является весьма неточным способом записи данных и их хранения.
Не верите?
Так давайте проверим!
Помните, в начале книги я попросил вас как можно лучше запомнить одну фразу? И теперь, пожалуйста, напишите на листе бумаги то, что вы запомнили. Пожалуйста, не проговорите эту фразу про себя или вслух, а именно запишите.
Записали?
А теперь откройте главу 1 «Главная ловушка разума» и сравните, правильно ли вы воспроизвели фразу, которую я просил вас запомнить.
Обычно правильно воспроизвести ее не удается. Но самое интересное не в этом.
Дело в том, что человеку кажется, что он воспроизвел фразу правильно, что он хотя и не теми же самыми словами, но вроде как верно отразил суть.
И в данном случае действительно нет большого вреда от того, что вместо «Четыре дня назад школьник Вася купил в спортивном магазине “Олимп” две теннисные ракетки и пять теннисных мячей» человек напишет что-то вроде «Несколько дней назад школьник купил пару теннисных ракеток и несколько теннисных мечей». Но именно такое искажение информации в сочетании с убеждением, что мы все вспомнили правильно, может сыграть с нами злую шутку и заманить нас в опасную ловушку.
Действительно, мы не просто не всегда можем запомнить или вспомнить что-то. Суть в том, что то, что мы запомнили, подвергается изменениям.
Обратите внимание: не просто забыванию, при котором теряется часть данных (незначительные детали, мелочи), а именно изменению!
Да, с течением времени мы не просто забываем часть информации, мы еще и преобразуем, переделываем имеющиеся у нас воспоминания о прошлом.
Фактически, вспоминая что-то, мы не просто извлекаем это из памяти, а заново создаем виденные нами в прошлом образы, полученную когда-то информацию. И на это воссоздание, эту реконструкцию сильно влияет ситуация, в которой мы вспоминаем наше прошлое. И то, что мы в итоге получаем, оказывается весьма приблизительным воспроизведением того, что произошло с нами на самом деле. Поэтому ученые-психологи говорят о том, что наша память реконструктивна.
Пазл сложился
Итак, современная психологическая наука выяснила, что человеческая память реконструктивна. Это означает, что процесс вспоминания того, что с нами произошло, – не процесс точного считывания четкой записи, а скорее реконструкция записи обрывочной и нечеткой, расшифровка и рекомбинация воспоминаний, восстановление запомненного события, при котором мы опираемся в том числе и на вновь полученную информацию.
Посмотрите, например, на следующий рисунок.
Что вы видите? Треугольник, правда же? Или просто три кружка с вырезанными сегментами?
Да, наше восприятие не столько дает нам объективную картину мира, сколько достраивает эту картину, приглаживает, заполняет пробелы, компенсирует ее неполноту. Но суть в том, что примерно то же самое делает и наша память…
В случае памяти различные искажения еще более вероятны, поскольку у этого психического процесса по определению нет непосредственного контакта с его объектом – с тем, что вспоминается (исключением тут, пожалуй, является процесс узнавания, но и он подвержен искажениям). Таким образом, мы можем не только видеть то, чего нет (треугольник, которого нет, закономерность, которой нет), но и помнить о том, чего в действительности не было.
В нашей памяти не хранятся точные копии прошлых событий и воспринятых в прошлом объектов. Наши воспоминания не только изначально неточны и неполны, но и подвергаются изменениям, преобразуются, реконструируются. Мы постоянно переделываем запомненное нами, дополняем и изменяем свои воспоминания под влиянием вновь поступающей информации. Причем, как вы понимаете, эти процессы человеком не осознаются.
Когда мы хотим вспомнить то или иное событие, то обнаруживаем в памяти не полную картину, а лишь кучку пазлов, которые предстоит сложить. И вот, складывая их, мы обнаруживаем, что многих пазлов не хватает. Тогда мы эти недостающие пазлы создаем с помощью мышления, воображения или чьих-то вольных или невольных подсказок. Но хуже всего то, что мы не понимаем, что создали пазлы самостоятельно (или под чьим-то влиянием), а вовсе не отыскали их на задворках нашей памяти.
Во множестве психологических экспериментов было убедительно показано, что повлиять на то, что мы запомнили, а также на то, что из этого мы вспомним, сравнительно легко. Например, достаточно задавать вопросы, незаметно искажающие увиденное нами в прошлом.
Что-то с памятью моей стало…
Пионером в исследовании этого аспекта реконструктивной памяти была Элизабет Лофтус, которая провела множество экспериментальных исследований ложных воспоминаний.
В одном из таких экспериментов, проведенном Э. Лофтус совместно с Дж. Палмером [25], 150 испытуемым показывали видеозапись ДТП. После просмотра видеозаписи испытуемых случайным образом разделили на три группы по 50 человек и попросили ответить на несколько вопросов. Один из этих вопросов был ключевым, но испытуемые об этом не знали.
Первой группе испытуемых предложили следующий ключевой вопрос: «Насколько быстро ехали машины, когда одна из них ударила (hit) другую?»
Второй группе испытуемых предложили ключевой вопрос, сформулированный иначе: «Насколько быстро ехали машины, когда одна из них врезалась (smashed) в другую?»
Третья группа была контрольной, то есть испытуемые из этой группы ключевого вопроса не получили.
Необходимо отметить, что в английском языке слова hit и smash контрастируют сильнее, чем русские слова «ударила» и «врезалась».
Затем Э. Лофтус и Дж. Палмер выждали неделю и снова собрали испытуемых для анкетирования. И (как, должно быть, вы уже догадались) испытуемые из второй группы оценивали скорость машин – участниц ДТП как значительно более высокую, чем испытуемые из первой и третьей групп (различия статистически значимы). Члены группы «врезалась» даже утверждали, что видели на месте аварии осколки стекла, хотя на просмотренной ими неделю назад видеозаписи ничего подобного не было.
Отличный экспериментальный пример реконструктивной природы памяти и возникновения ложных воспоминаний под внешним влиянием, не так ли?
В других экспериментах Э. Лофтус [22; 23] было показано, что с помощью вопросов можно заставить испытуемых приобрести разнообразные ложные воспоминания, в том числе:
• о стоп-сигнале, которого на самом деле не было;
• количестве участников студенческих беспорядков;
• сарае, которого в действительности не было;
• мнимом пересечении одинарной сплошной линии;
• школьном автобусе, которого не было;
• женщине с коляской, в действительности отсутствовавшей;
• припаркованном фургоне;
• цвете автомобиля и т. д.
Исследования Элизабет Лофтус существенно повлияли не только на расследования дел об изнасилованиях, которые якобы произошли в детстве и о которых жертвы вспомнили спустя много лет, например, под влиянием психотерапии, но и на отношение к свидетельским показаниям и на правила проведения допросов и дознаний. Сегодня такие правила жестко ограничивают (по крайней мере в западных странах) возможности следователя повлиять (вольно или невольно) на показания свидетелей, в том числе за счет наводящих вопросов.
Таким образом, как ни парадоксально, но наше настоящее влияет на наши воспоминания о прошлом не меньше, чем само это прошлое. Более того, мы можем помнить то, чего вовсе не было.
Вспомнить все
Многие оккультисты и мистики верят в перевоплощение (реинкарнацию, метемпсихоз) и утверждают, что свои прошлые жизни человек не может вспомнить, но они по закону кармы влияют на его теперешнюю жизнь. Вдобавок в ряде оккультных школ утверждается, что посвященный может вспомнить свои прошлые жизни и освободиться от их влияния.
Нечто похожее утверждают и многие современные психотерапевты. По их мнению, человек не может вспомнить полученные им в прошлом травмы, поскольку вытесняет (подавляет) свои воспоминания о них, причем эти воспоминания продолжают на человека влиять. Психотерапевты также стремятся убедить нас в том, что могут помочь нам восстановить эти воспоминания и тогда влияние полученных нами в прошлом травм сойдет на нет.
Впервые подобные идеи высказал Зигмунд Фрейд. Он эти идеи и популяризовал, поддерживая их своей известностью и ореолом знатока всего того, что люди в себе не осознают.
И вот, в 80–90-х годах XX века по США прокатилась настоящая эпидемия восстановления вытесненных воспоминаний – возникла так называемая сатанинская паника (satanic panic): тысячи взрослых людей, проходя психотерапию, вспомнили, как в детстве родители и близкие родственники насиловали их. Более того, клиенты психотерапевтов вспоминали, что в детстве родители даже заставляли их участвовать в сатанинских ритуалах и оргиях, сопровождающихся убийством и пожиранием некрещеных младенцев.
Были ли правдивы эти воспоминания? Действительно ли США в те годы погрязли в инцесте, растлении детей и сатанизме?
Прежде чем ответить на этот вопрос, давайте вспомним, что дедушка или даже отец современной психотерапии Зигмунд Фрейд тоже начинал как психотерапевт, выявивший случаи изнасилований детей, совершенных их родителями [8]. Его пациенты в процессе психоанализа вспоминали об этих изнасилованиях. Фрейд представил свои «данные» научному сообществу, и оно, естественно, в этих «данных» усомнилось. А позже и сам Фрейд отказался от своих идей, от своей, как ее принято называть, теории совращения.
Однако отказался он не полностью, просто в психоанализе речь стала идти уже не о реальных изнасилованиях, а лишь о позорных и запретных фантазиях детей по поводу совокупления с собственными родителями. Соответственно, вытеснялись (забывались), по мнению Фрейда, именно такого рода фантазии.
Конечно, если учитывать реконструктивную природу нашей памяти, то воспоминания и о реальных изнасилованиях, и об эротических фантазиях, в которых фигурируют родители (мать – у мальчиков и отец – у девочек), скорее всего, создаются под влиянием психотерапевтов: их наводящих вопросов, их взглядов и убеждений, а также самого контекста, в котором проходит психотерапия.
Что ж, возвращаясь к эпидемии восстановленных воспоминаний, нужно сказать, что благодаря исследованиям ученых, среди которых наиболее знаменита, конечно, Элизабет Лофтус, стало понятно, что никаких изнасилований не было, никакие изуверские сатанинские ритуалы не проводились, а воспоминания обо всем этом индуцировались самими психотерапевтами, подобно тому как экспериментаторы создавали у участников экспериментов с авариями ложные воспоминания о скорости, цвете машин и других аспектах ДТП.
Патогенное детство
Вера психотерапевтов в то, что именно детство (детские травмы) лежит в основе возникновения психологических проблем и психических заболеваний, тоже ставится под сомнение современными научными исследованиями.
Так, в исследовании уже знакомой нам Элизабет Лофтус [24] описывается множество факторов, под влиянием которых клиенты начинают верить своим психотерапевтам и восстанавливают вытесненные воспоминания в полном соответствии с представлениями психотерапевтов о психике человека и о том, из-за чего возникают психические заболевания.
В исследовании Гарольда Рено и Флойда Эстесса [33], в рамках которого успешные взрослые мужчины, не имеющие психических заболеваний, продемонстрировали, что их детский опыт буквально перенасыщен травмирующими эпизодами, сложными отношениями со значимыми другими, а также психотравмирующим поведением родителей, патогенность детства также опровергается.
И действительно, возникает вопрос о том, каким же образом такое обилие травм и сложных отношений соотносится с тем, что принявшие участие в исследовании мужчины вполне нормальны психически и успешны в жизни…
Я думаю, ответ очевиден: психотерапевты просто создают у людей ложные воспоминания.
Впрочем, возможно, дело тут не только в психотерапевтах. Не будем забывать о том, что американская массовая культура также включает в себя представления о патогенности детства. В частности, в Голливуде снято множество фильмов, в которых поведение героев объясняется именно детскими травмами.
Кстати, рассмотренное исследование Г. Рено и Ф. Эстесса позволило известному социальному психологу и популяризатору научной психологии Дэвиду Майерсу утверждать следующее: «Когда психотерапевты, работающие в парадигме психоанализа Фрейда, начинают выуживать проблемы раннего детства», они эти проблемы находят [5, с. 196].
К сожалению, реконструктивность нашей памяти играет злую шутку не только с психотерапевтами, но и со следователями.
«В глаза смотри, кому сказал!»
Я думаю, никого сегодня не удивляет, что арестанты, которых подвергают пыткам, могут признаться в совершении преступления, которого в действительности не совершали. В подтверждение можно вспомнить и средневековые суды над ведьмами, и суды над врагами народа советских времен. Но признается ли невиновный человек, если его не пытать, а всего лишь подделать улики и убедить его, что преступление на самом деле совершил именно он?
Исследования показывают [7], что вероятность того, что невиновный человек под влиянием убедительно сфальсифицированных улик признается в совершении преступления, которого в действительности не совершал, очень высока.
И если уж невиновный человек соглашается сесть в тюрьму, когда следователь утверждает, что он виновен, а доказательства вины неопровержимы, то клиент психотерапевта под влиянием не менее убедительных доводов и доказательств и подавно признается в том, что мечтал о сексе с матерью и грезил о том, как убьет отца, ведь за это его не посадят, не подвергнут остракизму, а узнает об этих фантазиях только его психотерапевт…
Возрастная регрессия
Многие ловцы душ орудуют в области гипноза, и одной из приманок, приводящих людей на гипнотические сеансы, часто является обещание гипнотизера вернуть вас в ваше прошлое, в ваше детство, чтобы вы могли припомнить те или иные важные детали своей жизни.
Итак, представьте себе. Вы пришли на сеанс к психотерапевту, гипнотизеру или экстрасенсу. Этот человек говорит вам, что причины ваших проблем находятся в вашем детстве. Но вы отвечаете, что не помните, чтобы в детстве с вами происходило что-то настолько плохое, чтобы повлиять на всю вашу дальнейшую жизнь.
Тогда гипнотизер, психотерапевт, экстрасенс предлагает вам отправить вас в ваше прошлое. Это увлекательное путешествие он предлагает осуществить с помощью гипноза. Он говорит вам, что в гипнотическом трансе вы сможете вернуться в свое детство и увидеть все так, как было на самом деле.
И да, субъективно после такого гипнотического сеанса вы можете быть твердо уверены, что действительно вернулись в свое детство…
Но как проверить это объективно?
Очевидно, что надо дать вам некие тесты. И вот при условии, что мы, во-первых, знаем, как эти тесты выполняют дети, и, во-вторых, что вы выполнили эти тесты с тем же результатом, что и ребенок, мы сможем подтвердить, что в детство вы действительно вернулись. Причем понятно, что вы сами не должны знать, как этот тест выполняет ребенок, чтобы не подыграть гипнотизеру.
И тут на помощь исследователям приходят уже знакомые нам оптические иллюзии. Дело в том, что дети воспринимают их иначе, чем взрослые, зачастую речь вообще идет о том, что у детей этих иллюзий не наблюдается (в частности, линии равной длины не кажутся им отличающимися по длине).
Для исследования [31] была выбрана уже знакомая нам иллюзия Понцо.
Интересно, что, тогда как взрослому человеку при взгляде на этот рисунок кажется, что длиннее правая линия, для ребенка эти линии будут одинаковыми, такими, какими они и являются на самом деле. Соответственно, взрослых испытуемых просили определить, какая линия длиннее и насколько, причем сначала в бодрствующем состоянии, а затем – после погружения в гипнотический транс и в гипнотической регрессии.
И как уже, должно быть, догадался проницательный читатель, загипнотизированным взрослым правая линия все равно казалась длиннее, то есть ни о каком настоящем впадении в детство речи не шло.
А вот еще один эксперимент, ставящий возможность гипнотической регрессии под сомнение.
Речь идет об исследовании Роберта Тру [37], результаты которого были опубликованы не где-нибудь, а в журнале Science.
Экспериментатор гипнотизировал людей и возвращал их в десяти-, семи-, а потом и в четырехлетний возраст, причем в праздничные дни – Новый год и день рождения.
Но Роберт Тру не хотел обманываться и потому проверял, действительно ли его испытуемые вернулись в прошлое. Для этого он спрашивал их, какой сегодня день недели.
Если вы помните наш рассказ о телепатах и картах Зенера, то легко определите, какова вероятность простого угадывания дня недели. Действительно, поскольку дней недели всего семь, вероятность угадывания составляет один шанс из семи, 1/7, или примерно 14,3 %.
Однако испытуемые Роберта Тру правильно называли день аж в 82 % случаев!
«Стоп-стоп-стоп! – скажет читатель. – Так, получается, возрастная регрессия все-таки существует!»
Нет. Не существует.
Дело в том, что позднее другой исследователь гипноза – Мартин Орн – пристальнее пригляделся к эксперименту Роберта Тру и выяснил очень важную деталь этого эксперимента [30].
Ошибка экспериментатора состояла в том, что он не спрашивал испытуемых: «Какой сегодня день недели?» – а последовательно задавал закрытые вопросы: «Сегодня понедельник? Сегодня вторник? Сегодня среда?..»
Более того, Роберт Тру, задавая эти вопросы, сам знал ответы на них (чтобы иметь возможность проверить, правду ли говорит испытуемый). Это, кстати, нарушает одно из важнейших требований к экспериментам такого рода – использовать двойной слепой метод.
И понятно, что секрет высокого процента правильно названных дней недели состоял в том, что, как только Тру называл истинный день недели, он менялся в лице, его голос начинал звучать несколько иначе, темп речи замедлялся, изменялась его осанка и жестикуляция, и по этим признакам испытуемые понимали, что именно на этот вопрос им стоит ответить «да, сегодня этот день недели».
Более того, Мартин Орн еще и опросил несколько четырехлетних детей. Он задавал им простой вопрос: «Какой сегодня день недели?» Так вот, ни один четырехлетний ребенок не смог ответить на этот вопрос.
Так что на сегодняшний день наукой твердо установлено: возрастная регрессия – это иллюзия, никто не может по-настоящему вернуться в свое собственное детство.
Кем вы были в прошлой жизни?
Мысль о том, что мы живем на Земле не в первый раз, щекочет нервы, возбуждает, вдохновляет, даже тешит самолюбие, особенно если мы считаем, что в прошлой жизни были кем-то великим: летчиком, писателем, художником, музыкантом, королем. Но стоит ли за идеей о перевоплощении, реинкарнации что-то еще, помимо мифов и архаичных представлений?
Во многом сообщения о том, что какой-то человек обнаружил под гипнозом или с помощью других сомнительных средств свое прошлое воплощение, основаны на ловушках, в которые попал разум этого человека.
Давайте рассуждать следующим образом. Вряд ли кто-то будет отрицать, что у всех нас было детство. При этом, как мы уже знаем, из-за реконструктивности нашей памяти наши воспоминания о детстве могут не соответствовать действительности. Отсюда становится понятным, что воспоминания о прошлых жизнях с еще большей вероятностью ошибочны, поскольку, в отличие от детства, доказательства наличия прошлых жизней полностью отсутствуют.
Скажу больше: еще ни один загипнотизированный, ни один отправленный в прошлые жизни каким-то иным образом не воспроизвел всех фактов, необходимых для доказательства реальности этого путешествия. У каждого такого «вернувшегося в прошлые жизни» в показаниях были нестыковки: кто-то не смог вспомнить язык, важные исторические обстоятельства, кто-то – еще какие-то моменты. Таким образом, в воспоминаниях о прошлых жизнях полностью отсутствуют данные, которые «вернувшийся в прошлое» человек не мог узнать из книг, газет, Интернета.
Настораживает и то, что в большинстве случаев человек считает себя реинкарнацией не какого-то среднего человека, а обязательно какой-то знаменитости: героя, правителя, певца. Причем, поскольку знаменитостей не так уж и много, неудивительно, что зачастую совершенно разные люди считают себя реинкарнацией одного и того же исторического деятеля. Это напоминает ситуацию в психиатрических больницах, в которых весьма распространены Наполеоны и Мэрилин Монро.
Итак, наша память реконструктивна. Это означает, что мы достраиваем свои воспоминания, воспроизводим картину прошлого под влиянием факторов, действующих в настоящем. Помимо прочего, это означает, что воспоминания людей о травмах, якобы имевших место в детстве, восстановленные на сеансе гипноза, психоанализа или иных форм психотерапии, зачастую ложны. Воспоминания о прошлых жизнях также никакими воспоминаниями не являются.
Причем эксплуатируют миф о подавленных воспоминаниях и о возможности их восстановления не только недобросовестные психотерапевты или психологи, не только гипнотизеры. К несчастью, на этом мифе построены и доктрины целого ряда опасных сект.
Этот крепкий задний ум
Все знают русскую поговорку «Человек задним умом крепок». И правда, у нас часто можно услышать фразу вроде «Эх, а я ведь знал, что именно так и будет!». Вот только говорится она уже после того, как все случилось и предотвратить наступление негативных событий уже нельзя.
Действительно, легко понять причинно-следственную связь событий, легко уяснить себе взаимосвязи, существующие между объектами и явлениями, когда события уже произошли, когда все уже случилось. Но было ли все так очевидно до наступления этих событий? И идет тут речь о подлинном понимании и выявлении реально существующих связей или же лишь о привнесении смысла и рассказывании связной истории?
Например, сегодня многим кажется очевидным, что Германия готовилась к нападению на СССР и власти прошляпили ее нападение 22 июня 1941 года, но так ли очевидно это было до 22 июня 1941 года? Классическим примером тут может быть еще и ситуация с нападением японцев на Перл-Харбор: сегодня кажется, что все факты говорили о готовящемся нападении, но так ли все было очевидно до того, как нападение состоялось?
Вот и научные исследования показывают: мы на самом деле склонны считать, что изначально все знали и все правильно понимали. С одним из таких исследований [13] мы и познакомимся.
Оно было проведено еще во время правления президента Никсона, и он невольно стал одним из элементов этого исследования.
Никсону тогда как раз предстояло совершить два дипломатических визита. Один – в Москву, другой – в Пекин. И это был очень удачный момент для проверки того, насколько на самом деле точны предсказания. Экспериментаторы составили 15 вопросов, касающихся поездки Никсона и ее последствий. Затем они попросили участников эксперимента ответить на эти вопросы и оценить вероятность наступления тех или иных последствий поездки.
Вот примеры вопросов, с которыми работали участники эксперимента (по [4, с. 266]).
• Согласится ли Мао Цзэдун на встречу с президентом США?
• Признают ли США Китайскую Республику? (Тут, по-видимому, имелся в виду Тайвань, так как КНР уже была признана и у США были с ней дипломатические отношения.)
• Будут ли достигнуты договоренности с СССР?
Испытуемые ответили на вопросы и приписали наступлению событий определенные вероятности.
Затем в эксперименте наступила пауза. Никсон везде слетал, со всеми пообщался, и ответы на использованные в исследовании вопросы стали очевидными и однозначными.
После этого ученые снова собрали испытуемых и попросили их вспомнить данные ими ответы на вопросы о дипломатических поездках Никсона.
И вот что получилось.
Если событие действительно произошло, то испытуемые завышали вероятность его наступления, которую они определили, отвечая на вопросы первого этапа эксперимента. Скажем, если на первом этапе эксперимента (до визитов Никсона) человек посчитал, что договоренности с СССР будут достигнуты с вероятностью 50 %, и договоренности реально были достигнуты, то на втором этапе эксперимента он же говорил, что считал вероятность этого события равной не 50, а 70 %.
Если же событие не произошло, то испытуемые занижали свою оценку его вероятности.
В дальнейшем разными учеными было проведено множество исследований, не только подтверждающих подверженность людей искажению задним числом, но и раскрывающих его новые стороны и аспекты.
Итак, не стоит преувеличивать крепость своего «заднего ума», не следует думать, что вы все знали заранее, и корить себя за то, что поступили неправильно, когда все было так очевидно. Скорее всего, очевидно не было.
К сожалению, у «заднего ума» существуют и более серьезные последствия, чем чувства сожаления, возникающие от того, что «знал, но не сделал». Тот факт, что мы нашли складное объяснение произошедших событий, убеждает нас в том, что мы разбираемся в политике, понимаем, куда движется исторический прогресс, и реально можем предсказывать будущее, делать верные прогнозы.
Вспомним человека, который был уверен, что договоренности будут достигнуты с вероятностью 70 %. После того как договоренности Никсона с Москвой были достигнуты, он может уверовать в свою экспертность в международных отношениях и, например, открыть свою школу геополитики.
Эта ситуация вам ничего не напоминает?
Лично мне на ум сразу приходит храбрый портняжка…
Вера многих людей в то, что они являются провидцами, ясновидящими и могут предсказывать будущее, также, по-видимому, во многом связана с эффектом «заднего ума». Человек после наступления события начинает преувеличивать свою изначальную уверенность в его наступлении, поэтому ему начинает казаться, что он это событие предсказал.
А потом такой человек решает начать предсказывать события за деньги. Затем в результате случайных совпадений появляются люди, довольные его предсказаниями, включаются такие механизмы, как закон действительно больших чисел и эффект Джин Диксон. И вот уже мы видим состоявшегося шарлатана, успешного ловца душ, действующего в области предсказаний будущего.
Нужно отметить, что такого рода предсказатели существуют и в экономике. Например, вспомним всех этих финансовых аналитиков, которые так ясно объясняют нам причины, приведшие к кризису 2008 года. Так и хочется заплатить такому финансовому эксперту за экономический прогноз или пойти к нему учиться. Вот только если бы кто-то действительно предсказал кризис 2008 года или любой другой экономический кризис, этому человеку не нужно было бы практиковать или зазывать учеников – он и так бы стал как минимум долларовым миллионером.
Раньше было… хуже?
Скотт Лилиенфельд – известный психолог, внесший огромный вклад в борьбу за повышение научной обоснованности методов психотерапии. Он написал знаменитую статью, посвященную весьма остро стоящему сегодня вопросу о том, почему неэффективная психотерапия кажется эффективной [21], и среди прочих причин, создающих иллюзию эффективности психотерапии, выделил «ретроспективное переписывание состояния до терапии» (retrospective rewriting of pretreatment functioning).
О чем тут идет речь?
О том, что клиент может иметь неверные воспоминания о своем прошлом состоянии, может считать, что до психотерапии ему было куда хуже, чем сегодня – после серии психотерапевтических сессий.
И действительно, в статье под названием «Из болвана в чемпионы»[13] приводятся экспериментальные данные, подтверждающие, что люди часто преуменьшают свои прошлые заслуги, достижения, принижают выраженность отдельных черт своей личности, чтобы казаться себе и окружающим более состоятельными в настоящее время [39].
По поводу этого исследования известный популяризатор психологии Дэвид Майерс замечает: «Большинство из нас верят, что теперь мы более компетентны, социально опытны, толерантны и интересны, чем ранее, и в этом мы преуспели более, чем наши друзья и родственники. Чурбан вчера чемпион сегодня. В 59 лет я заметил, что даже играю в баскетбол более зрело – мои инстинкты отточились, удар лучше отработан» [5, с. 81].
Теперь, зная о реконструктивности нашей памяти, мы вряд ли удивимся, что воспоминания клиента психотерапевта о том, насколько тяжелым было его состояние до обращения к психотерапевту, могут изменяться.
И конечно, ретроспективное переписывание состояния может осуществлять не только клиент психотерапевта, но и любитель народной медицины, и человек, посещающий колдунов или экстрасенсов, и участник чудодейственного тренинга личностного роста.
Так что, если вы уверены, что вам стало лучше после обращения к тому или иному шарлатану, вспомните, что наша память реконструктивна и вы могли посчитать свое прошлое состояние намного более тяжелым, чем оно было на самом деле.
* * *
Итак, когда вы делаете вывод или принимаете решение на основе воспоминаний, будьте осторожны: из-за того что наша память реконструктивна, вы можете принять за реальность то, чего никогда не было. Это означает, что ни в коем случае нельзя доверять выводам, концепциям, теориям, которые созданы на основе «воспоминаний», полученных под гипнозом, в процессе психоанализа, холотропного дыхания или какой-то иной психотерапии, в ходе которой «восстанавливаются» воспоминания.
Заключение
Итак, мы закончили наше знакомство (которое, надеюсь, было приятным и увлекательным) с ограничениями, которые есть у нашего разума, с уязвимостями, которые ему присущи. Мир ловушек, в которые попадает наш разум, очень сложен и многогранен. Далеко не все из них нам удалось рассмотреть на страницах этой книги. Да и ловцов душ мы разобрали далеко не всех. В то же время, если вы внимательно читали книгу, многое поняли и запомнили, выявить очередного ловца душ для вас не составит труда. Собственно, это и было одной из основных моих целей – научить читателя выявлять шарлатанов, аферистов и сомнительных дельцов.
Сразу хочу предостеречь вас: не стоит портить отношения с людьми, пытаясь объяснить им, что их разум попал в ловушку, что они прибегают к услугам шарлатана, что доверяют совершенно необоснованным построениям. Дело в том, что даже самые сильные, отточенные и поданные в нужном порядке аргументы скорее вызовут мощное противодействие того, кого мы пытались убедить, чем приведут к тому, что он действительно поменяет свои взгляды. Здесь играет роль когнитивное искажение под названием «эффект встречного огня» (backfire effect).
Поверьте, попытки убедить всех в том, что они ошибаются, мыслят некритически, в конце концов могут отделить вас от общества, сделать озлобленным одиночкой или же членом какой-нибудь сомнительной группы нигилистической направленности.
Ну а если под влияние ловца душ попал ваш близкий, тем более ваш ребенок, и вы чувствуете, что все серьезно, что ситуация стала критической, то лучше всего обратиться к профессионалам. Например, вы можете написать мне по электронной почте ab@neveev.ru.
Надеюсь, что эта книга подтолкнет вас к дальнейшим свершениям. Не останавливайтесь на достигнутом. Продолжайте расширять свои познания. Рекомендую, например, глубже изучить математическую статистику и теорию вероятностей, выучить или довести до свободного владения ваш английский, познакомиться с тем, что такое наука, рассмотреть историю этого полезнейшего социального института. А история эта действительно очень интересна и, что еще важнее, весьма поучительна, она неотделима от истории человеческого разума.
Конечно, совершенствование разума – это область гораздо более широкая, чем обнаружение ловушек, в которые наш разум склонен попадать. Впрочем, это тема для отдельной книги.
Литература
1. Берзин Э. О. Нострадамус и его предсказания. – М.: Республика, 1992.
2. Брук Дж. Х. Наука и религия: Историческая перспектива. – М.: Библейско-богословский институт св. апостола Андрея, 2004.
3. Гальперин П. Я. Лекции по психологии: Учеб. пособие для студентов вузов. – М.: Книжный дом «Университет»; Высшая школа, 2002.
4. Канеман Д. Думай медленно… решай быстро. – М.: Издательство АСТ, 2017.
5. Майерс Д. Интуиция. Возможности и опасности. – СПб.: Питер, 2013.
6. Млодинов Л. (Не)совершенная случайность: как случай управляет нашей жизнью. – М.: Гаятри, 2010.
7. Ошибки, которые были допущены (но не мной): почему мы оправдываем глупые убеждения, плохие решения и пагубные действия / К. Теврис, Э. Аронсон. – М.: Инфотропик Медиа, 2012.
8. Вебстер Р. Почему Фрейд был не прав? – М.: АСТ, 2013.
9. Талеб Н. Черный лебедь. Под знаком непредсказуемости. – М.: Колибри; Азбука-Аттикус, 2016.
10. Chapman L. Illusory correlation in observational report // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1967. – № 6 (1). – P. 151–155.
11. Chapman L. J., Chapman J. P. Illusory Correlation as an Obstacle to the Use of Valid Psychodiagnostic Signs // Journal of Abnormal Psychology, 1969. – № 74 (3). – P. 271–280.
12. Dunning D., Kruger J. Unskilled and Unaware of It: How Difficulties in Recognizing One’s Own Incompetence Lead to Inflated Self-Assessments // Journal of Personality and Social Psychology, 1999. – № 77 (6). – P. 1121–1134.
13. Fischhoff B., Beyth R. I knew it would happen: Remembered probabilities of once-future things // Organizational Behaviour and Human Performance, 1975. – № 13. – Р. 1–16.
14. Forer B. R. The fallacy of personal validation: A classroom demonstration of gullibility // Journal of Abnormal and Social Psychology (American Psychological Association), 1949. – № 44 (1). – P. 118–123.
15. Gilovich T., Tversky A., Vallone R. The Hot Hand in Basketball: On the Misperception of Random Sequences // Cognitive Psychology, 1985. – № 17 (3). – P. 295–314.
16. Henslin J. M. Craps and Magic // American Journal of Sociology, 1967. – № 73. – P. 316–330.
17. Huff D., Geis I. How to Take a Chance. – New York: W.W. Norton and Company, 1959.
18. Jones E. E., Harris V. A. The attribution of attitudes // Journal of Experimental Social Psychology, 1967. – № 3 (1). – P. 1–24.
19. Koffka K. Principles of Gestalt Psychology. – New York: Harcourt, Brace, 1935.
20. Langer E. J. The Illusion of Control // Journal of Personality and Social Psychology, 1975. – № 32 (2). – P. 311–328.
21. Lilienfeld S. O., Ritschel L. A., Lynn S. J., Cautin R. L., Latzman R. D. Why Ineffective Psychotherapies Appear to Work: A Taxonomy of Causes of Spurious Therapeutic Effectiveness // Perspectives on Psychological Science, 2014. – Vol. 9 (4). – P. 355–387.
22. Loftus E. F. Leading questions and the eyewitness report // Cognitive Psychology, 1975. – Vol. 7. – P. 560–572.
23. Loftus E. F. Shifting human color memory // Memory & Cognition, 1977. – Vol. 5 (6). – P. 696–699.
24. Loftus E. F. The reality of repressed memories // American Psychologist, 1993. – № 48. – P. 518–537.
25. Loftus E. F., Palmer J. C. Reconstruction of automobile destruction: an example of the Interaction between language and memory // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior, 1974. – Vol. 13. – P. 585–589.
26. Luo M. For exercise in New York futility, push button // New York Times, 2004. – February 27.
27. McArthur L. Z., Post D. L. Figural emphasis and person perception // Journal of Experimental Social Psychology, 1977. – № 13. – P. 520–535.
28. Naftulin D. H., Ware J. E. Jr., Donnelly F. A. The Doctor Fox Lecture: A Paradigm of Educational Seduction // Journal of Medical Education, 1973. – № 48. – P. 630–635.
29. Napolitan D. A., Goethals G. R. The attribution of friendliness // Journal of Experimental Social Psychology, 1979. – № 15. – P. 105–113.
30. O’Connell D. N., Shor R. E., Orne M. T. Hypnotic age regression: An empirical and methodological analysis // Journal of Abnormal Psychology, 1970. – № 76 (Monogr. Suppl. No. 3, Pt. 2). – P. 1–32.
31. Parrish M., Lundy R. M., Leibowitz H. W. Hypnotic age-regression and magnitudes of the Ponzo and Poggendorff illusions Science, 1968. – № 159 (3821). – P. 1375–1376.
32. Pronin E., Lin D. Y., Ross L. The bias blind spot: Perceptions of bias in self versus others // Personality and Social Psychology Bulletin, 2002. – № 28. – P. 369–381.
33. Renaud H., Estess F. Life history interviews with one hundred normal american males: «pathogenicity» of childhood // American Journal of Orthopsychiatry, 1961. – Vol. 31, Issue 4. – P. 786–802.
34. Ross M., McFarland С., Fletcher G. O. J. The effect of attitude on the recall of personal history // Journal of Personality and Social Psychology, 1981. – Vol. 40. – P. 627–634.
35. Strickland L. H., Lewicki R. J., Katz A. Temporal orientation and perceived control as determinants of risk taking // Journal of Experimental Social Psychology, 1966. – № 2. – P. 134–151.
36. Taylor S. E., Fiske S. T. Point of view and perception of causality // Journal of Personality and Social Psychology, 1975. – № 32. – P. 439–445.
37. True R. M. Experimental Control in Hypnotic Age Regression States // Science, 1949. – Vol. 110, Issue 2866. – P. 583–584.
38. Wason P. C. On the failure to eliminate hypotheses in a conceptual task // Quarterly Journal of Experimental Psychology (Psychology Press), 1960. – № 12 (3). – P. 129–140.
39. Wilson A. E., Ross M. From chump to champ: People’s appraisals of their earlier and present selves // Journal of Personality and Social Psychology, 2001. – № 80. – P. 572–584.
Примечания
1
В сетчатке глаз есть слепое пятно – место, откуда отходит зрительный нерв. Это место сетчатки на самом деле является слепым, не видит. В обычной жизни мы не замечаем нашего слепого пятна, поскольку оно компенсируется быстрыми движениями глаз.
(обратно)2
На самом деле это не такая уж сложная задача для решения в уме. Великий математик Карл Гаусс, о котором мы еще будем говорить, нашел это решение, еще будучи школьником. Он заметил, что 1 + + 100 = 101, 2 + 99 = 101, 3 + 98 = 101, 4 + 97 = 101, 5 + 96 = 101 и т. д. Всего таких пар чисел, понятное дело, 50. А 101 × 50 = 5050. Это и есть сумма чисел от 1 до 100.
(обратно)3
Сегодня ученые уже не так уверены в том, что этот эксперимент проводился в реальности. Есть мнение, что он был умозрительным и Галилей использовал для него не Пизанскую башню, а два наклонных желобка, по которым и скатывались ядро и дробинка.
(обратно)4
Подчеркну, что этот пример является условным. Если вы хотите понять, как возникает гастрит и как его лечить, вам необходимо обратиться к квалифицированному специалисту.
(обратно)5
Сциентизм – это идеология или мировоззрение, в рамках которых считается, что наука – высшее достижение человечества, высшая форма знания и ключ к решению абсолютно всех проблем. «Сделайте все по науке, и будет вам счастье».
(обратно)6
Ни в коем случае нельзя путать гештальтпсихологию с гештальт-терапией: гештальтпсихология – это весьма продуктивное научное направление в психологии, которое и сейчас во многом актуально и эвристически ценно, тогда как гештальттерапия, по-видимому, не имеет под собой никаких научных оснований и, на мой взгляд, является самым настоящим шаманством.
(обратно)7
Также встречается вариант ubi pus, ibi incision.
(обратно)8
Впрочем, в психологии сегодня эту нашу особенность – сохранять текущее положение вещей – также объявляют когнитивным искажением, которое так и называют – «искажение статус-кво» (status quo bias).
(обратно)9
Кстати, в русском языке словосочетание «горячая рука» имеет и совсем другое значение: оно используется в устойчивом выражении «попасть под горячую руку».
(обратно)10
В нашей культуре, конечно, лучше было бы использовать пару слов «сосиски – яйца».
(обратно)11
Речь идет о гипотезе лингвистической относительности Сепира – Уорфа.
(обратно)12
Встречается также транскрипция «анкуса» или «анкуша».
(обратно)13
На английском это название содержит игру похожих по звучанию слов: «фром чамп ту чемп» (from chump to champ).
(обратно)
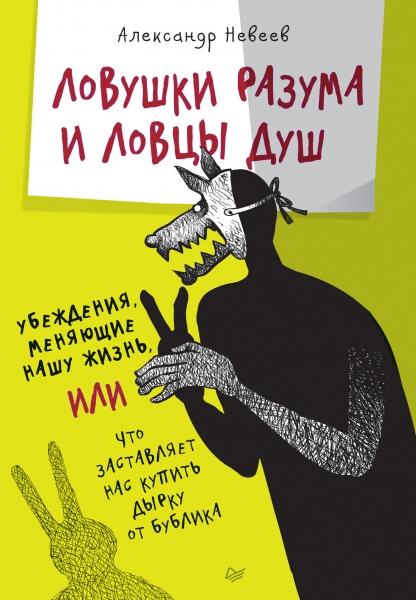


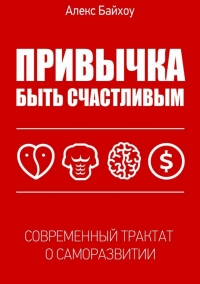
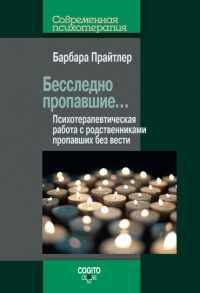
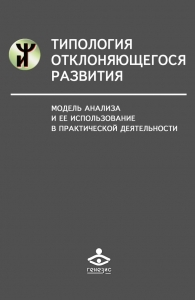
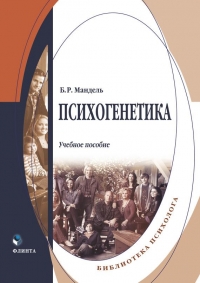
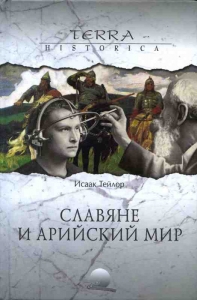
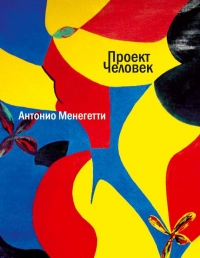
Комментарии к книге «Ловушки разума и Ловцы душ. Убеждения, меняющие нашу жизнь, или Что заставляет нас купить дырку от бублика», Александр Борисович Невеев
Всего 0 комментариев