Шэрон Бегли Не могу остановиться: Откуда берутся навязчивые состояния и как от них избавиться
Введение
Джон Мильтон писал «Потерянный рай», преследуя «скромную» цель — «оправдать перед людьми пути Господни». Работа над эпической поэмой продолжалась с 1658 по 1667 г., и бо́льшую часть этого времени автор был слеп. Каждое утро к нему по очереди приходил кто-то из близких — одна из трех дочерей, иногда племянник — и записывал под диктовку следующие 10 000 стихотворных строк о грехопадении человечества. Эти строки Мильтон шлифовал всю ночь и до рассвета держал в памяти. (На картине Михая Мункачи «Слепой Мильтон, диктующий поэму "Потерянный рай" дочерям» (1877), украшающей главное здание Нью-Йоркской публичной библиотеки, изображены Мэри, Дебора и Анна за столом напротив отца, готовые помочь одному из шедевров западной литературы появиться на свет.) В те дни, когда стенографистка запаздывала, сообщает анонимный биограф, поэт «сетовал, что ему невмоготу дожидаться дойки». Смысл этой сельскохозяйственной метафоры очевиден: словно корова, которую тяготит скопившееся молоко, Мильтон испытывал физическую потребность освободиться от обременяющих память стихов и не ведал покоя, пока они не лягут на бумагу.
У Хемингуэя потребность писать, судя по всему, проистекала из того же источника. С присущим ему лаконизмом, вдохновлявшим участников многочисленных конкурсов подражателей, он сформулировал это на свой лад: «Мне дерьмово, когда я не пишу».
Сочинения обоих порождены не только и не столько творческим импульсом, гением, не имеющим других способов самовыражения, кроме литературного текста. За ними стоит что-то еще — глубинное, темное и мучительное. Оба были вынуждены писать, обречены изливать слова на бумагу, чтобы терзающая их физическая боль оставалась переносимой. Впрочем, эта одержимость творчеством отнюдь не была для них изнурительной или даже разрушительной, а, напротив, принесла им литературное бессмертие. Нам это тоже пошло на пользу: поколения читателей обретают душевный покой в поэтическом повествовании о грехопадении и грядущем воскрешении человечества или вдохновляются самопожертвованием Роберта Джордана, останавливающего наступление франкистов.
Поведение людей вызывается великим множеством мотивов — от базовых влечений к пище и сексу до более сложных потребностей в повышении собственной значимости, заботе о репутации, альтруизме, сострадании, в таких проявлениях, как зависть, гнев, чувство долга, да и просто стремление к удовольствию. Однако ничто из этого не объясняет навязчивых состояний, при которых мы словно бы вынуждены — а то и обречены — вести себя определенным образом. Навязчивость, или компульсия, порождается настолько отчаянной, настоятельной, мучительной нуждой, что превращает человека в перегретый паровой котел: это напряжение, которое жизненно необходимо немедленно сбросить. Компульсия — это предохранительный клапан, выход для тревожности, аналог аварийной арматуры, защищающей трубопровод от разрыва при замерзании жидкости. Однако навязчивые состояния, хотя и дают облегчение, сами по себе очень некомфортны, и какая-то часть нашего существа страстно желает от них освободиться, тогда как другая столь же отчаянно этого боится.
Мы лихорадочно проверяем сообщения в смартфоне, едва окажемся в зоне доступа, лихорадочно пытаемся пройти уровень в видеоигре, безостановочно покупаем барахло, хотя его уже некуда класть и все предыдущие приобретения вызывают лишь разочарование… Мы не в состоянии от этого удержаться, поскольку, если этого не делаем, то испытываем беспокойство, вынуждавшее Мильтона механически твердить сложенные в уме строфы, а Хемингуэя — чувствовать себя дерьмово.
Термин «компульсивное поведение»[1] точно характеризует это состояние. Мы считаем «компульсивным», или навязчивым, поведение человека, который читает, пишет твиты, ворует, наводит чистоту, наблюдает за птицами, лжет, ведет блог, делает покупки, проверяет ленту в Facebook, постит фотографии в Instagram, ест или отправляет сообщения не просто часто, но с лихорадочностью, свидетельствующей, что он собой не владеет. По тому же принципу мы называем навязчивыми книги, причины и мотивы наших поступков, ТВ-шоу, мысли, споры, рекламу, мелодрамы, выступления политиков, которые создают что-то вроде черной дыры для нашего самоконтроля.
Их воздействие настолько мощно, что при попытке ему противостоять или отказаться от его источника мы испытываем тревожную дрожь (или что похлеще), унять которую возможно лишь одним способом — уступив принуждению. Навязанное действие диктуется внешним давлением или даже силой, зачастую против нашей воли. Навязчивое поведение порождается неодолимым влечением или неотложной нуждой, которые не утрачивают своей власти при столкновении с сознательными намерениями, желаниями и даже глубинными устремлениями. Наши компульсии порождаются болью настолько мучительной, что мы пойдем на любые крайности, лишь бы ее облегчить.
«Безумцы», которых мы заслуживаем
Британский историк Рой Портер (1946–2002) в эссе 1991 г. «Разум, помешательство и Французская революция» (Reason, Madness, and the French Revolution) заметил, что «каждая эпоха получает безумцев, которых заслуживает». С 1947 г., когда увидела свет поэма У. Х. Одена «Век тревоги», наша эпоха определяется страхами — экзистенциальными и бытовыми, социальными и личными. Оден писал под непосредственным впечатлением от трагедии Хиросимы и Нагасаки, однако в XXI в. источники тревоги далеко не исчерпываются угрозой ядерного армагеддона.
К ней прибавилось глобальное потепление и другие факторы, разрушающие окружающую среду. В этом отношении человечество, уподобив себя божеству, заместило «стихию» в понятии «стихийное бедствие» и само порождает наводнения, лесные пожары, ураганы, засухи и даже неуклонное повышение уровня океана. Прибавился терроризм, угрожающий в любой момент превратить в кровавый ад безоблачное сентябрьское небо или любое самое обычное место: зону регистрации в аэропорту, скоростное шоссе, концертный зал, финишную прямую марафона. Порождает тревогу и безудержное технологическое развитие, за которым человеческий разум попросту не успевает, утопая в каждодневных дилеммах — от мелкотравчатых (где мне зарегистрироваться — в Snapchat или в WhatsApp, или в обоих, или…) до жизненно важных (в каком онкоцентре, у какого врача и по какой методике лечить маму?) Ежеминутно проверяя свою популярность в сети и какое количество лайков собрал умный пост в Facebook, мы рискуем пробудить в себе жгучую тревогу и превратиться в ходячий вулкан, где клокочет лава в поисках самого доступного выхода на поверхность. Каких-то два поколения назад родителей не одолевали мысли об устройстве отпрысков в «правильный» детский сад, а подростков и молодежь, едва окончившую школу, не сводил с ума вопрос — еще недавно тривиальный, — на какую именно летнюю подработку устроиться или в какой внеучебной деятельности участвовать. И принятие решения о покупке до появления Google Shopping и FareCompare не сопровождалось мучительными раздумьями: «Вдруг я найду то же самое, только лучше и дешевле, на следующей странице или на другом сайте?» Стоит ли удивляться, что иные покупатели одержимо просматривают сотни пар ботинок в интернет-магазинах, прежде чем взяться за кредитку.
Одни тревоги затрагивают лишь тонкую прослойку американского общества, другие распространены повсеместно. Для тех, кто пережил или хотя бы наблюдал столь мощные обрушения экономики, как финансовый кризис 2008–2009 гг. или многократные волны сокращений, прокатывающиеся по американскому рынку труда с начала 1980-х гг., работа и устойчивое финансовое положение, не говоря уже о стабильном карьерном росте, превратились в нечто иллюзорное, преходящее, оставшееся в прошлом. Пожизненная занятость, будь то на конвейере или в офисе, ныне такой же анахронизм, как таксофон. Нестабильность — неотъемлемое свойство глобального капитализма XXI в. — проникает во все сферы нашего существования, и, кажется, сама жизнь выходит из-под контроля. Можно играть по правилам, вести себя ответственно и все равно остаться без работы, без пары и без самореализации. Мыслимо ли сознавать это и не испытывать беспокойства?
Неудивительно, что к 2015 г. от тревожности страдало больше студентов американских университетов, чем от депрессии, долгое время являвшейся самым распространенным душевным недугом в этой среде. Естественно и то, что тревожность одолевает и взрослых. По данным Национального института психического здоровья, в любой 12-месячный период 18,1% совершеннолетних американцев испытывают достаточно серьезный психологический дискомфорт, чтобы его можно было квалифицировать как патологию, тогда как в глубокой депрессии находятся 6,9% взрослых. Сервис Google Ngram Viewer, оценивающий частотность употребления слов в англоязычных текстах, свидетельствует, что с 1930 г. до рубежа тысячелетий слово «компульсивный» стало употребляться в восемь раз чаще.
Это позволяет логически продолжить изречение Портера: «Если каждая эпоха получает "безумцев", которых заслуживает, значит, наша эпоха тревожности — это время "безумцев", задыхающихся в мертвой хватке компульсии».
Дело в том, что растущий массив научных данных свидетельствует: навязчивые состояния являются реакцией на тревожность. Одолеваемые тревожностью, мы хватаемся за любое действие, дарующее нам облегчение благодаря хотя бы иллюзорному контролю над происходящим. Мы не в состоянии помешать частной инвестиционной компании повесить на фирму, где работаем, такой долг, что ей придется уволить половину персонала, а партнеру по онлайновому флирту — ценить нас не больше песчинки в куче песка. Не в силах запретить китайским электростанциям сжигать столько угля, что возникающий парниковый эффект превращает небольшой шторм в ураган, разносящий наш город в щепки, или перевозящему споры сибирской язвы фанатику из Карачи сесть на самолет до Нью-Йорка. Поэтому мы делаем, что можем, и контролируем, что можем: маниакально наводим чистоту или проверяем почту, скопидомничаем или делаем покупки, бродим по интернету или стираем пальцы об игровой джойстик. Мы хватаемся за навязчивость как за соломинку, потому что лишь навязчивым поведением можем настолько облегчить тревожность, чтобы сохранить дееспособность. Могущественные социальные и экономические силы кажутся нам столь же неуправляемыми, что и морские волны, неподвластные — как свидетельствует легенда о Кнуде Могучем — даже королям. Перед лицом этих сил мы цепляемся за что угодно, лишь бы вновь почувствовать, что от нас что-то зависит. Компульсивность сродни скольжению со срывом в занос: парадоксально, поначалу страшно, но в итоге (по крайней мере, для некоторых) эффективно.
При выраженных компульсиях наблюдается нелепое, иррациональное, жалкое и даже саморазрушительное поведение, являющееся, однако, реакцией на тревожность настолько сильную, что иначе она была бы невыносимой и парализовала бы всякую жизнедеятельность. Согласно новому, формирующемуся пониманию этого состояния, даже самые дикие внешние проявления навязчивости представляют собой адаптивное поведение, прагматичное и свойственное человеческой природе. Компульсия — наше биологическое благословение и вместе с тем проклятие, придающее человеку видимость безумца (по крайней мере, чудака), но облегчающее внутреннее бремя.
Рассмотрим компульсивные занятия спортом, свойственные почти половине лиц с расстройствами пищевого поведения. В конце концов, что может быть естественнее чувства, что уж собственное тело должно быть под полным нашим контролем?
Кэрри Арнольд[2] была в этом убеждена. Первокурсница-перфекционистка, она начала регулярно заниматься спортом не только для того, чтобы быть в форме, но и, по собственному признанию, из-за «одуряющей» учебной нагрузки и первой в жизни разлуки с родным домом. Как только тревога усиливалась, она «натягивала кроссовки и неслась в тренажерный зал». Впрочем, тренировочный режим поначалу не был изматывающим: четыре или пять раз в неделю по полчаса.
Однако через несколько месяцев разумные нагрузки превратились в запредельные. «Я стала тренироваться поздно вечером и совсем перестала выходить на люди, — вспоминает она. — И все это ради того, чтобы снять стресс». Ежедневно по четыре часа, несмотря на полную учебную занятость, в спортзале, ставшем для нее вторым домом, она выбивалась из сил на степпере и выжимала максимум из велотренажера. Ночной сон свелся к четырем часам в сутки.
Кэрри заметила, что тренировки гасят волны тревоги, грозившие ее захлестнуть. Без ежедневных посещений спортзала ей становилось не по себе. К концу первого курса компульсия вышла из-под контроля. Кэрри получала в день больше тренировочной нагрузки, чем рекомендовано большинству людей на неделю, и так исхудала, что мать, впервые увидев ее на каникулах, заметила, что та похожа на скелет. «Я чувствовала, что обязана сжечь столько-то калорий или сделать столько-то приседаний, и, если сжигала меньше или кто-то мешал мне доделать упражнение, меня это совершенно выбивало из колеи, — продолжает Кэрри, описавшая свою одержимость фитнесом в изданной в 2004 г. книге[3]. — Мне обязательно нужно было заниматься на определенном тренажере, иначе я выходила из себя». Врачи потребовали резко снизить физические нагрузки, однако «я просто не могла остановиться». Навязчивая потребность шагать на степпере была сродни сильнейшему зуду, облегчить который позволяло лишь движение — интенсивное, на износ, маниакальное движение.
Окончив университет, Кэрри ухватилась за тренировки, как утопающий за спасательный круг. Она просыпалась среди ночи с настоятельной потребностью в упражнениях и делала приседания в ванной или бегала до рассвета, миля за милей. «Ужасающая тревога выливалась в неотвязное «нужно потренироваться», — рассказывает она. — Спорт стал для меня средством управления собственной жизнью. Чем хуже я себя чувствовала, тем больше должна была пробежать. Все мое существование было этому подчинено. У меня не было ни друзей, ни общения. Лишь одно имело значение — сколько калорий я сожгла, сколько шагов сделала или миль пробежала». Она пыталась сбавить обороты, но «всякий раз оказывалась на полу, дрожа и всхлипывая. Уровень тревоги зашкаливал, и казалось, снизить его могут только тренировки».
• • •
В начале работы над этой книгой компульсии, изменяющие течение всей жизни, казались мне чем-то чужеродным и даже пугающим. Неодолимая потребность снова и снова мыть руки, проводить столько времени за видеоиграми, что сводит пальцы, покупать и покупать, доводя себя до разорения… Однако, изучая этот вопрос и опрашивая больных, я выяснила два обстоятельства.
Во-первых, оказалось, что компульсивное поведение «ненормальных», на первый взгляд, людей никоим образом не является иррациональным. Наоборот, их навязчивые состояния — это объяснимая реакция на экзистенциальную тревогу, которая в противном случае сгрызла бы их изнутри. Это не «психи» и далеко не всегда психологически надломленные люди. Они справляются с ситуацией, держатся на плаву и едва ли были бы более дееспособными, если бы позволили тревоге взять над собой верх. Слушая особенно тронувшую меня исповедь человека с синдромом патологического накопительства, я думала: «Если бы мне пришлось все это пережить, мой дом тоже ломился бы от барахла, ставшего единственным барьером между мной и бездонным отчаянием». Испытывать навязчивую потребность в чем-то — еще не значит сойти с ума.
Второе мое озарение: люди с крайними проявлениями навязчивого поведения кажутся исключениями, но тревога, толкающая их к крайностям, универсальна. Умеренные и экстремальные проявления компульсии имеют одну и ту же причину. Снимать тревожность активными действиями — наш глубокий и древний инстинкт. Осознание этого изменило мое отношение к себе самой и к окружающим. Поступки, представлявшиеся бессмысленными, эгоистичными, манипулятивными или вредными, оказались обоснованной реакцией на страх и беспокойство. Слабовыраженная навязчивость у людей, которым далеко до психиатрического диагноза, порождается теми же страхами, что и сильная. Все компульсии выполняют одну задачу, но ослабить глубинную и острую тревогу удается лишь маргинальным, подчас саморазрушительным навязчивым поведением, а тревожность средней силы вынуждает нас разве что не расставаться с телефоном, организовывать стирку по особым, только нам понятным правилам и строго определенным образом раскладывать предметы на столе.
• • •
Проявления навязчивого поведения настолько причудливы и разнообразны, что превосходят любую фантазию.
Несколько лет назад внимание врачей психиатрической клиники в Амстердаме привлек 65-летний мужчина, испытывавший непреодолимую потребность насвистывать карнавальные песни. Его жена обратилась в клинику в состоянии, «близком к отчаянию, поскольку почти 16 лет была вынуждена слушать свист на мотив одной и той же песенки», — сообщалось в статье голландских психиатров в журнале BMC Psychiatry за 2012 г. «Это продолжалось по 5–8 часов ежедневно» и даже больше, если пациент чувствовал усталость. Господина Э., как называли его врачи, лечили антидепрессантом кломипрамином, сократившим продолжительность художественного свиста до 3–4 часов в день, но ценой неприемлемых побочных эффектов. Придя к нему домой, психиатры «сразу же стали свидетелями четкого и безупречно чистого насвистывания одной песни, повторяющегося почти без перерыва». Врачи заподозрили обсессивно-компульсивное расстройство, но господин Э. заверил их, что никаких навязчивых мыслей за его неконтролируемым свистом не стоит. Однако «просьбы перестать свистеть вызывали у него раздражение и тревогу».
Если возможно неодолимое желание свистеть, почему не быть неодолимому желанию копать? Британский «человек-крот» Уильям Литтл испытывал неконтролируемую потребность выкапывать под своим домом в Восточном Лондоне глубокие извилистые туннели. Дом он унаследовал от родителей, а 20-метровые туннели, уходящие на глубину до 8 метров, вырыл сам. «Сначала я попробовал выкопать винный погреб, затем увеличил его вдвое», — рассказал он журналистам незадолго до смерти в 2010 г. После того как местные власти, опасаясь обрушения, выселили Литтла, из туннелей было убрано 33 тонны мусора, в том числе три автомобиля и лодка.
Когда узнаешь о подобных крайних нарушениях поведения, поневоле думаешь, что компульсивность — удел немногих, что это психическое расстройство, которое лично тебе не угрожает. Но статистика утверждает обратное. Целых 16% совершеннолетних американцев (38 млн человек) совершают компульсивные покупки, заявили ученые Стэнфордского университета, проанализировав данные за 2006 г. Патологическое накопительство наблюдается у 2–4% населения (до 9 млн человек). В любой 12-месячный период 1% американцев страдает обсессивно-компульсивным расстройством (ОКР, неврозом навязчивых состояний) — «королем» тревожных расстройств.
Еще больше тех, кто испытывает не настолько тяжелые навязчивые состояния, чтобы диагностировать у них психическое расстройство. Некоторые компульсии — это адаптивное поведение в чистом виде, помогающее более эффективно и результативно жить или работать (во всяком случае, так мы это объясняем самим себе). Вряд ли кто-нибудь из ваших знакомых безостановочно насвистывает карнавальные песенки, роет туннели под домом или бегает на компьютерную томографию. Но вы наверняка знаете многих, кто не может не схватиться за смартфон, едва проснувшись. Один влиятельный литагент потребовал смартфон сразу, как только очнулся после операции на открытом сердце. Компульсивное поведение порой принимает безобидные формы, и никто, кроме самых близких и наблюдательных, его не заметит.
Возможно, вам знакомы люди вроде Эми, старшекурсницы, изучающей нейронауки, и организатора группы поддержки для людей с различными видами компульсивного поведения. Мы с ней встретились в кафе. Подъезжая, я не задержала взгляда на молодой женщине, стоявшей на углу 73-й улицы. Эта брюнетка с роскошной гривой никак не могла быть человеком, согласившимся поведать мне о навязчивом стремлении избавиться от своих волос.
Однако именно она неуверенно обратилась ко мне:
— Вы Шэрон?
— Эми?
За едой Эми рассказала, что начала выдергивать у себя волосы в двенадцать лет. «Так я справлялась с тревожностью», — пояснила она. В частности, с необходимостью блестяще учиться и прорваться в одну из лучших нью-йоркских старших школ с научной специализацией. Проплешины пришлось прикрывать шапочками. Десять лет она избегала плавания, поскольку головой дело не ограничивалось, руки и ноги Эми тоже ощипывала, и в результате волос у нее на теле было не больше, чем у змеи. Трихотилломания — влечение к выдергиванию собственных волос, столь навязчивое, что больной может облысеть — превратила ее в посмешище, но в то же время стала подспорьем, облегчая неотступную тревогу. «Тревога неотделима от меня, — рассказывала Эми. — Она копится и копится, наконец, я выдергиваю волосок и, ах, какое же это облегчение! Снова чувствуешь себя нормально, словно вернулся на твердую землю с верхней ступени стресса».
В ее группе поддержки для страдающих трихотилломанией состоит офицер полиции, который когда-то увлекался гольфом, но был вынужден от него отказаться. «Всякий раз, глядя на свои руки, сжимавшие клюшку, он должен был выдернуть волос с запястья и тыльной стороны кисти», — объяснила Эми. Другого участника, раввина, одолевает вина — не за то, что он рвет у себя волосы, а за то, что работает (выдергивание волос тоже считается работой) в шаббат, день отдохновения от трудов, когда правоверный иудей самое большее щелкнет выключателем.
Изучать крайности человеческого поведения очень увлекательно (хотя бы потому, что понимаешь, как тебе самому повезло), но оказалось, что в примерах тяжелой компульсии всякий раз угадываются знакомые черты — собственные, родственников, друзей и коллег. Пусть мы сами не впадаем в такие крайности, но они помогают нам увидеть обширную зону нормы в спектре человеческого поведения, в которую вписывается большинство. За годы исследований и опросов в ходе работы над этой книгой я осознала, сколь многие наши поступки, даже не доходящие до патологии и психиатрического диагноза, диктуются не стремлением к радости и не любопытством, не чувством долга и даже не эго, а необходимостью справиться с тревогой. Один копит старые книги и газеты, потому что без них чувствует себя беззащитным, словно стены спальни вдруг испарились. Другой с головой уходит в работу, чтобы отвлечься от мучительного предчувствия бедствий, угрожающих ему самому, близким или всему миру. Третий требует от бакалейщика хирургической точности при нарезке колбасы, строго соблюдает схему развешивания полотенец или пытается превратить работу по дому в хореографически выверенное действо, достойное самого Джорджа Баланчина.
Возможно, все мы слегка ненормальные?
Всецело отдаваясь чему бы то ни было, рискуешь начать воспринимать мир через призму своего опыта и повсюду находить его подтверждения. Например, усматривать признаки патологии в поведении, прежде казавшемся нормальным. Закончив беседовать с людьми для этой книги, я всякий раз, оказываясь в лифте с коллегами, сжимающими смартфоны (как будто невозможно пережить несколько секунд пути из отдела новостей на 19-м этаже в кафетерий на 16-м, не проверив почту), думала: вот она, компульсия. Собственное решение автостопом добираться на работу после урагана Сэнди в октябре 2012 г. (когда встал весь общественный транспорт) тоже предстало симптомом не самой слабой одержимости. Библиотека, собранная мужем, стала вызывать подозрения в патологическом накопительстве, тем более что мои собственные представления об идеальной субботе выражаются фразой: «Давай-ка избавимся от части этих старых книг!» (Может быть, от захватывающего 1966-страничного фолианта «Экология и биология полевых культур», неоткрывавшегося несколько десятилетий?) Тревога (не забыть бы о деловом письме!), тревога (что будет, если я задержу проект?) и снова тревога (мне страшно расстаться с частью своего прошлого…) — всюду одна тревога!
Иными словами, многие наши поступки, на беду или на счастье, имеют те же корни, что и патологические компульсии. Стоит взглянуть на поведение, собственное и окружающих, с этой точки зрения, и становится понятным многое из того, что казалось необъяснимым, озадачивающим, саморазрушительным или попросту идиотским. (Обязательно поднимать шум до небес из-за того, как я загружаю посудомоечную машину? Почему она не приступит к работе, пока все не переложит на столе? Он действительно не может не стащить красный бант с рождественского венка, который соседи каждый год вывешивают перед домом?) Главное, что я поняла: компульсивное поведение само по себе не является психическим расстройством. Оно может принимать болезненные формы, и люди, попавшие в тиски тяжелого навязчивого состояния, жестоко страдают и нуждаются в постановке диагноза и лечении. Но очень многие «компульсии» — это проявления самых обычных психологических особенностей, таких как потребность в любви и социальных связях, в активной роли и собственной значимости.
Вероятно, многие из нас говорили себе, что смогут избавиться от компульсий, как только захотят. Сумеют обойтись без смартфона бо́льшую часть дня, не съесть в один присест упаковку помадных лепешек или хладнокровно пройти мимо объявления «Громадные скидки» в витрине любимого магазина, не дрогнув ни единым мускулом. Но внутренний голосок всякий раз шепчет: «В самом деле?» Узнав, что творится в голове и в жизни людей с навязчивыми состояниями, мы не только избавимся от неоправданного чувства превосходства, которое нередко испытываем при виде крайностей чужого поведения. Мы еще и поймем, как много в нас общего.
Глава 1 Что такое компульсия
Лет тридцать назад любые чрезмерности в поведении стали называть аддикциями, или зависимостями. Этим термином обозначается чрезвычайно сильная потребность в определенных действиях или занятиях, будь то шопинг — «я шопоголик!» — рукоделие, йога, работа, медитация, обогащение (бывает и аддикция к богатству, как утверждается в одноименной — Wealth Addiction — книге 1980 г.). Это может быть даже игра с кубиком Рубика, названным в статье в New York Times за 1981 г. «изобретением, вызывающим зависимость». Однажды нейробиологи обнаружили, что нейронные сети, «отвечающие» за никотиновую, опиатную и прочие виды наркотической зависимости, активизируются, к примеру, у страстного любителя шоколада — и социологические теории любительского уровня полились как из рога изобилия. Все мы моментально оказались жертвами аддикций: к электронной почте и работе, игре Angry Birds и записям в Facebook… Буквально все, чему некоторые люди предаются с излишним пылом, стало считаться аддикцией. Единственное серьезное препятствие на пути этой тенденции наука выставила в 2013 г., заявив, что никакое поведение не является зависимостью в строгом понимании этого термина. Весной того года Американская ассоциация психиатров опубликовала действующую редакцию «Диагностического и статистического руководства по психическим расстройствам» (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders, DSM) — библии врачей-психиатров, где впервые была признана одна-единственная поведенческая аддикция — игромания.
Для игромании было сделано исключение, поскольку она отвечала трем критериям, десятилетиями являвшимся определяющими характеристиками аддикции. Первый критерий: поведение (или вещество) доставляет огромное удовольствие, по крайней мере поначалу, зависимость начинает формироваться с первого опыта знакомства или применения. Второй: продолжающееся зависимое поведение вызывает привыкание, требуя все большей «дозы» для получения прежнего наслаждения. Наконец, третий критерий: отказ от зависимого поведения провоцирует мучительные проявления синдрома отмены сродни ломке героиновых наркоманов, пытающихся «соскочить».
По этим критериям «аддикции» к электронным «наркотикам» XXI в. таковыми не являются, в том числе и на субъективном уровне, поскольку отсутствует определяющее качество — наслаждение. По крайней мере на мой взгляд, навязчивая проверка ящика входящей корреспонденции сопровождается ощущениями, гораздо больше напоминающими давление, которое испытывает человек с обсессивно-компульсивным расстройством, бросающийся мыть руки или выравнивать картину на стене, либо способный идти по тротуару, лишь наступая на каждую четвертую трещину в асфальте (потому что иначе умрет его мать). По ощущениям это вовсе не желанное, а обязательное действие — действие, облегчающее тревогу. (Вдруг пришло письмо того самого, неуловимого и долгожданного клиента, который наконец решил обратиться к нам, но уйдет к конкуренту, если я не отвечу в течение пяти секунд?) Такие действия редко доставляют удовольствие.
Это компульсии, а не аддикции.
В чем заключается разница? В быту эти два термина зачастую используются как синонимы (компульсивный шопинг может называться шопоголией по аналогии с алкогольной зависимостью), еще и с добавлением характеристики «импульсивный» для большего эффекта. Однако эта книга посвящена компульсиям, а не аддикциям, поэтому позвольте мне объяснить, какой смысл вкладывают в эти понятия специалисты.
К примеру, «озадачивающий», «беспокоящий», «разочаровывающий» и «до крайности удручающий» — далеко не одно и то же.
Терминологический экскурс
Я не брошу тень на моих великодушных и терпеливых собеседников, если признаюсь, что их ответы не убедили меня в вескости научных основ понимания компульсивности. «Ну, поведенческие аддикции обусловлены нейронами и гормонами, — туманно начал один из них. — Компульсивное поведение имеет психологическую природу, но управляет им физиологический механизм». Не странно ли? Эту путаницу ярко, хотя и непреднамеренно, отразили авторы одной статьи 2008 г., измыслившие нечто под названием «импульсивно-компульсивное сексуальное поведение», которое объявили «одним из типов зависимого поведения». Трехликий феномен: поведение, одновременно являющееся импульсивным, компульсивным и зависимым!
Судя по всему, границы между понятиями компульсивного, зависимого и импульсивного поведения не менее подвижны, чем модные тренды, а их взаимозаменяемость фактически закреплена во множестве текстов Американской психиатрической ассоциации (APA), в частности в «Диагностическом и статистическом руководстве». Десятки лет очередные его издания использовали эти слова как синонимы в определениях различных синдромов, в том числе нарушений пищевого поведения и тревожных расстройств. Даже не были четко очерчены границы обсессивно-компульсивного расстройства — казалось бы, очевидно компульсивного нарушения хотя бы в силу названия. Но нет, в первых изданиях руководства утверждалось, что оно характеризуется повторяющимися и стойкими импульсами к совершению того или иного действия. Когда эксперты АРА начали работать над пятым изданием, то дали патологическому пользованию интернетом и патологическому шопингу рабочие названия «К-И интернет-пользование» и «К-И шопинг», где аббревиатура «К-И» обозначала «компульсивно-импульсивный». Они полагали, что чрезмерно выраженное поведение имеет признаки обоих нарушений: импульсивность является непосредственной причиной, а компульсивная потребность обеспечивает повторяемость.
Чтобы понять, насколько размытой была классификация, рассмотрим пример трихотилломании — проблему Эми, с которой мы познакомились в предисловии. В издании DSM за 1987 г. (редакция III-R) она была отнесена к группе нарушений импульсивного контроля наряду, например, с клептоманией, пироманией и синдромом эпизодического нарушения контроля. Здесь проявлялось общепринятое понимание импульсивности как склонности к «неожиданным необдуманным поступкам с неспособностью предвидеть или оценить их негативные последствия» — такое определение дал психиатр Йельского университета Марк Потенца при нашем разговоре в его приемной в Нью-Хейвене (Коннектикут). Однако в редакции 1994 г., DSM-IV, добавляется два диагностических критерия трихотилломании: «растущее внутреннее напряжение непосредственно перед выдергиванием волоса или при попытке удержаться от этого действия» и «удовольствие, удовлетворение или облегчение при выдергивании волоса». И то и другое характерно для компульсии. Тем не менее трихотилломания относилась к расстройствам контроля над импульсами до 2013 г., когда вышло руководство DSM-5 (в том году произошел переход от римских цифр в нумерации редакций к арабским), где трихотилломания оказалась в конце главы, посвященной обсессивно-компульсивному расстройству, в качестве «сопутствующего расстройства». Причем DSM-5 уже не требует, чтобы выдергиванию волос предшествовало напряжение с последующим облегчением, однако помещает трихотилломанию в главу о расстройстве, отличительными признаками которого является именно тревога, провоцирующая действие, которое ее снимает.
Блуждание трихотилломании в дебрях психиатрических диагнозов — ничто в сравнении с «приключениями» патологической игровой зависимости. В 1994 г. DSM помещает компульсивную игроманию (курсив мой. — Авт.) в категорию «Расстройства контроля над импульсами, не классифицированные в других рубриках», где собрана всякая всячина, наряду с клептоманией, пироманией и прочим. Здесь опять-таки отражено представление, что человек может принять импульсивное решение сделать ставку, а затем вследствие действия некоего малопонятного механизма скатиться к навязчивой игре на тотализаторе. В 2013 г. игромания также стала единой в трех лицах: ранее названная компульсивной и отнесенная к категории импульсивных нарушений, она стала первым расстройством поведения, классифицированным как аддикция.
По крайней мере новая классификация была обоснованной, поскольку исходила из традиционного, сложившегося в контексте наркомании понимания аддикции, объединяющего три элемента (первоначальный гедонистический кайф, провоцирующий острое влечение к определенному веществу или в данном случае опыту; привыкание; синдром отмены). Начать с того, что игроманы испытывают столь же мощную тягу к игре, что и наркоманы к героину. Столь субъективное переживание, как влечение, разумеется, трудно оценить количественно, но результаты ряда экспериментов свидетельствуют: мозговые механизмы, лежащие в основе зависимости от игры, частично совпадают с теми, что поддерживают зависимость от алкоголя, никотина, болеутоляющих и наркотических веществ. Когда игроманы смотрят видеозапись игры в кости, рулетку и прочее из арсенала казино, у них в лобных долях головного мозга и в лимбической системе активируются практически те же области, что и у кокаинистов, просматривающих видео с людьми, нюхающими кокс. Кроме того, у них развивается привыкание к игре, аналогичное привыканию алкоголиков к выпивке и наркоманов к наркотику. Чтобы получить от игры прежний кайф, им приходится делать все более крупные ставки. Наконец, игроманы испытывают психологическую ломку, когда пытаются «завязать» или хотя бы играть меньше, — совершенно как наркозависимые. Влечение, привыкание, ломка: патологическая склонность к азартным играм квалифицируется как аддикция.
Особенно характерно смешение зависимости и навязчивости, поскольку оба слова используются не только в медицине, но и в обиходной речи. Это подметил Том Стаффорд, британский специалист в области когнитивных наук из Шеффилдского университета, изучающий компульсивную игру в видеоигры. «Многие люди злоупотребляют термином "зависимость", говоря о своей спортивной зависимости, пристрастии к шопингу или iPhone, — объяснил он. — Отсутствует четкая грань между зависимостью, например, от алкоголя, и действиями, которые просто очень привлекают некоторых людей, но я склонен характеризовать их поведение как компульсивное».
К путанице приводит не только расхожее словоупотребление. «Среди ученых наблюдается серьезное противостояние по вопросу о том, чем аддикции похожи и чем не похожи на компульсивное поведение», — заметил в беседе со мной Джеймс Ханселл, профессор, клинический психолог Университета им. Джорджа Вашингтона и один из авторов известного учебника по патопсихологии. Затем он задумался, словно подбирая аккуратную формулировку: «Это незрелый подход — пытаться дать определение, что есть компульсия и что есть аддикция»[4].
Многие исследователи чувствуют, что не только классификация, но и понимание гипертрофированного поведения «не имеют под собой надежной основы», по словам психолога Кэролайн Родригес, с которой мы разговаривали в ее кабинете в Медицинском центре Колумбийского университета. «Термины, которыми мы пользуемся: аддикция, компульсия и контроль над импульсами — теперь понимаются иначе», — заметила она. Можно ли получить кайф от совершения компульсивного действия? Родригес мысленно перебирает список пациентов и отвечает: «Судя по их рассказам, они не испытывают наслаждения. Лишь снижение тревоги». Снятие тревожности, возможно, и приятно, но такое удовольствие принципиально отличается от связанного с той или иной зависимостью. С совершением навязчивого действия страх и тоска отступают — это все равно что взболтать бутылку газировки и сорвать крышку, чтобы пена могла перелиться через край. Люди с навязчивым влечением испытывают зуд как от занозы — отравляющей разум ментальной занозы, которую необходимо вытащить. Родригес рассказала, что один из ее пациентов «имеет навязчивые мысли в связи с именем "Джеймс". Оно вызывает такую тревогу, что если он хотя бы увидит это имя, например в газете, то должен написать "Эдвард", чтобы перечеркнуть впечатление, и закапать "Визин", смывая воздействие, оказанное "Джеймсом" на его глаза». После паузы Родригес добавила: «Такие люди по-настоящему страдают».
К счастью, все больше специалистов начинает работать над вопросом четкого разграничения между аддикциями, компульсиями и нарушениями контроля импульсов. И не только из стремления к порядку, чтобы верно классифицировать поведение пациентов. Есть и практический стимул: если врач не знает, чем является поведение, разрушающее вашу жизнь: компульсией, аддикцией или следствием неумения совладать со своими импульсами, то он не сможет подобрать эффективное лечение. Программа помощи в первом случае совершенно не похожа на терапию во втором, которая, в свою очередь, не годится для третьего. «Чтобы назначить верное лечение, нужно понимать, что происходит с человеком», — подчеркнул Потенца.
В итоге сложилась следующая трехчастная классификация.
Аддикция начинается с удовольствия, которому сопутствует тяга к опасности: делать ставки или пить — приятно, но также рискованно (вы рискуете потерять взятые в долг деньги или выставить себя идиотом). Вам нравится ощущение выигрыша или опьянения. Будущий зависимый затягивается сигаретой и чувствует, что доза никотина стимулирует его физически или умственно. Постепенно, однако, принимаемое вещество или совершаемое действие перестает доставлять удовольствие, причем не только в прежней дозировке, но и в запредельно высокой, что является характерным признаком аддикции. Курильщики со стажем жалуются, что и сорок третья сигарета за день не дает того наслаждения, как когда-то третья. То, что прежде приносило кайф, уже не действует, вынуждая наркозависимого снова и снова увеличивать дозу, а игромана — повышать ставки. Хотя «отдача» неуклонно снижается, отказ от аддиктивного действия оборачивается тяжелыми психологическими, а зачастую и физиологическими проявлениями абстинентного синдрома, например похмельной дрожью, раздражительностью или угрюмостью. Удовольствие, привыкание, синдром отмены — вот три кита аддикции.
Импульсивное поведение характеризуется действиями, которые человек совершает спонтанно, порой не успев подумать, в стремлении к удовольствию и немедленному вознаграждению. Здесь присутствует элемент азарта в расчете на эмоциональную отдачу от риска (А круто будет нырнуть ласточкой с этого обрыва!). Пиромания и клептомания — классические примеры импульсивного поведения, поскольку их суть заключается в поиске удовольствия и эмоционального подъема. Вследствие этого импульсивность может стать первым шагом к поведенческой или наркотической зависимости. Некий стимул провоцирует реакцию, причем путь от стимула к реакции не затрагивает ни когнитивной, ни даже эмоциональной области мозга, во всяком случае, на сознательном уровне. Настоятельная потребность передается от самого примитивного нервного центра головного мозга в двигательную зону его коры (Присвой эту чудесную кушетку, которую кто-то оставил на тротуаре! Умыкни пирожное с витрины — смотри, какая вишенка!), практически не задерживаясь в областях, управляющих более высокоорганизованными когнитивными функциями (Черт возьми, зачем тебе эта кушетка? Ее даже поставить некуда, и ты прекрасно знаешь, что после будешь казниться!). Действие совершается рефлекторно. Подобно аддикциям, импульсивное поведение «окрашено гедонизмом», как объяснил Джефф Шимански, исполнительный директор Международного фонда изучения обсессивно-компульсивного расстройства (International OCD Foundation, IOCDF), с которым мы встретились в 2013 г. во время ежегодного собрания организации: «Вот что за этим стоит. "Я украл и вышел сухим из воды", "Я устроил пожар, и вон какая поднялась суматоха, сколько съехалось пожарных машин", "Я сделал ставку и сорвал куш". Причина вовсе не в стремлении избавиться от тревожности». Мы уступаем импульсам, поскольку рассчитываем на вознаграждение в виде удовольствия, наслаждения или восторга. Импульсы заставляют нас хватать калорийный кекс, хотя мы были уверены, что идем в кафетерий всего лишь выпить чашечку черного кофе. Подобно зависимому поведению, импульсивное искушает нас чем-то приятным. Импульсивное поведение может перейти в расстройство контроля над импульсами, если снова и снова уступать своим прихотям со всеми их пагубными последствиями.
Смысл компульсивного поведения, в отличие от зависимого и импульсивного, — исключительно в том, чтобы избежать нежелательных последствий. Они порождены тревогой и не приносят радости. Эти повторяющиеся действия мы совершаем с целью унять страх, вызываемый возможностью негативного исхода. Но сам по себе этот поступок зачастую неприятен — во всяком случае, не доставляет удовольствия, особенно после множества повторов. Попросту говоря, тревога воплощается в мысли: «Если я этого не сделаю, случится нечто ужасное». Если не проверять ежеминутно электронную почту, я не узнаю о новом письме в тот же миг, как оно придет, и не смогу вовремя ответить на срочный вызов или поручение начальника, а может, просто буду мучиться неизвестностью. Если не отслеживать, на какие сайты ходит партнер, нельзя быть уверенным, что мне он не изменяет. Если хоть на йоту отклониться от порядка развешивания вещей в гардеробе, весь дом погрузится в хаос. Если не заниматься шопингом, это будет означать, что сегодня я не могу себе позволить красивые вещи, а завтра стану нищим бродягой. Если я перестану ревностно хранить любую памятную безделушку и поддамся уговорам близких очистить дом от хлама, то буду чувствовать себя уязвимым, буквально голым, ведь самые светлые мои воспоминания превратятся в мусор.
В основе любой компульсии лежит потребность избежать того, что причиняет боль или вызывает страх. «Компульсивными являются действия, совершаемые с целью облегчения переполняющей человека тревоги», — пояснил Шимански, который, прежде чем возглавить в 2008 г. IOCDF, был лечащим врачом в Институте обсессивно-компульсивных расстройств при психиатрической больнице Маклина. По его словам, в отличие от аддикций с их тягой к риску, «компульсивное поведение направлено на избегание риска», оно порождается стремлением уклониться от опасности и совершается ради снижения тревожности, вызываемой мыслями об этой опасности. Я должен это сделать, чтобы ослабить страх и тревогу. Источник компульсии находится в нейронной сети, отвечающей за обнаружение угроз. Эта сеть, получив от зрительной зоны коры головного мозга информацию о незнакомце, виднеющемся в темном проеме двери в пустынном переулке, по которому вы идете совсем одни, кричит: «Опасность!» «Вот что такое тревога, — объяснил Шимански. — Это ощущение, что вокруг не все благополучно и что вам, возможно, что-то угрожает. И вы буквально раздавлены пониманием того, что готовы на все, лишь бы избежать угрозы».
Вскоре после беседы с Шимански я отправилась в Бронкс, чтобы встретиться с Саймоном Рего, психологом медицинского центра Монтефиоре, специализирующимся в области обсессивно-компульсивных расстройств. «Если действие совершается с целью снизить стресс, уменьшить тревогу или предотвратить катастрофу, которая в противном случае кажется неизбежной, оно является компульсивным, — сказал он. — Компульсивное действие совершается до тех пор, пока человек не почувствует, что "все в норме". Компульсия порождает ощущение, что, если этого не делать, произойдет нечто ужасное. Избавление от стресса может быть приятным — если вы считаете, что биться головой о каменную стену приятно, — но это удовольствие совершенно иного рода, чем доставляемое аддиктивным поведением».
Итак, компульсивными являются поступки, совершаемые ради снижения тревожности. Особенно наглядно это проявляется в обсессивно-компульсивном расстройстве, в котором компульсии предшествует обсессия, навязчивая идея — вызывающая тревогу мысль, от которой невозможно избавиться. Это может быть мысль о том, что у вас грязные руки — и вы их компульсивно моете — или что вы забыли выключить духовку (и вам приходится многократно возвращаться и проверять), а может, убеждение, что нельзя наступать на трещины в асфальте, иначе в семье случится трагедия, и, чтобы этого избежать, вы при каждом шаге внимательно следите, куда ставите ногу.
Примерам саморазрушительных ритуалов, соблюдаемых жертвами обсессивно-компульсивного расстройства с целью ослабить тревогу, нет числа. Натан, с которым я общалась в Бруклине, извинился, что не принял душ перед моим приходом. Он объяснил, что, принимая душ, чувствует неодолимое желание тщательнейшим образом отмыть каждый миллиметр кожи, ничего не пропустив. Это длится часами, так что он неизбежно опоздал бы к назначенному времени. И это меньшее из зол. Зимой Натан тратит на свое бесконечное омовение горячую воду всего дома и рискует получить переохлаждение, поскольку не может остановиться, даже когда поток становится ледяным.
Свой экскурс в классификацию я завершила следующим выводом. Компульсия отличается от аддикции тем, что толчком к ней служит стремление уменьшить тревогу, а не получить удовольствие. Кроме того, объем компульсивных действий не приходится наращивать для достижения прежнего эффекта, как это имеет место в случае аддикции. Компульсивность — это вынужденное поведение, эмоциональным стимулом которого является физически ощущаемое беспокойство, чувство угнетенности и даже дурное предчувствие, усиливающееся, если вы пытаетесь с ним бороться. «Компульсивное действие — это форма самолечения, — сказал Джеймс Ханселл. — Оно призвано облегчить или нейтрализовать болезненные переживания. В его основе лежит тревожность». Компульсивное поведение помогает держать боль под контролем. Это своеобразное самовнушение: «Теперь все хорошо. Я проверил почту в лифте — через пятнадцать секунд после того, как проверял ее в офисе. Какое облегчение! Хотя, подождите-ка, вдруг уже пришло новое письмо?» Компульсивные действия становятся привычными именно потому, что они эффективны. Страх отстать от жизни, не прочитав сообщение, едва оно будет получено, ослабевает, если вы компульсивно проверяете свой ящик. Поэтому вы и продолжаете это делать.
Сопутствующие сложности
Едва я уверилась, что выстроила стройную систему, психолог Делаверского университета Скотт Каплан, изучающий зависимость от онлайновых игр и интернета, предупредил меня: «Помните, "аддикция" и "компульсия" — просто слова, придуманные людьми. Не факт, что они в точности описывают реальность».
Вот одно из отклонений от идеальной схемы: аддикция может превратиться в компульсию в моем понимании этого нарушения. Со временем аддиктивное поведение, начавшееся с погони за азартом и удовольствием и диктуемое непреодолимой страстью к риску и выигрышу, может трансформироваться, так что единственной его целью станет ослабление тревоги, взвинченности и эмоционального упадка вследствие привыкания и синдрома отмены. Тогда употребление наркотических веществ или совершение аддиктивных действий становится компульсивным, хотя единственный выигрыш сравним с удовольствием, которое испытываешь, перестав бить себя молотком по голове. При серьезных аддикциях, по словам психолога Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе Николь Проуз, «состояние довольства превращается в свою противоположность, в неудовлетворенность, и вы принимаете наркотик или совершаете аддиктивное действие, чтобы сгладить негативный аффект. Вы этого не хотите, но вынуждены так поступать, чтобы вернуться к норме, эмоциональной и психологической». Бывшая аддикция переходит в компульсию.
Еще одна накладка: поведение, у одного человека являющееся компульсивным, может быть следствием нарушения контроля над импульсами у другого и аддикции у третьего. Один шопоголик опустошает прилавки, поскольку не может совладать со своими импульсами — не может устоять против соблазна заехать по дороге домой на магазинную парковку, чтобы «просто взглянуть одним глазком, нет ли скидки на что-нибудь полезное», и скупить все. В другом случае такое же поведение оказывается компульсивным: если не покупать, тревога усиливается до непереносимой, а покупка ее снимает.
Компульсивные занятия спортом показывают, как трудно уложить сложное и неоднозначное человеческое поведение в строгие рамки умозрительной схемы. Исследования чрезмерных тренировок начались в 1970-х гг., когда США охватило повальное увлечение бегом трусцой, и ученым пришлось поломать голову, чтобы понять, что именно они изучают. Некоторые считали этот феномен «спортивной аддикцией», другие — «облигатными тренировками», «компульсивными тренировками» и даже пользовались благообразным обозначением «приверженность спорту», приводя в качестве объяснения состязательность характера, огромное желание хорошо выглядеть и чувствовать себя или стремление преодолевать трудности[5].
Терминологическая многоголосица свидетельствовала, что ученые не знают, с чем имеют дело: с аддикцией (мотивацией которой является удовольствие), с компульсией (движимой страхом, от которого спасает только спорт) или с чем-то третьим. В 2002 г. обзор 88 исследований по этой теме, опубликованных за предшествующие 29 лет, выявил общие проблемы: «Непоследовательность в использовании или отсутствие контрольных групп, противоречивые критерии оценки зависимости от тренировок и / или несостоятельные или неподходящие параметры этой зависимости» (по заключению ученых Флоридского университета, приведенному в журнале Psychology of Sport and Exercise). Иными словами, попытки изучать перетренированность имели настолько шаткую методологическую основу, что фактически не представляли научной ценности.
Однако проблемные исследования, в ходе которых людям предлагалось объяснить, почему они тренируются, создали по крайней мере фундамент классификации, выработанной практическим путем. Оказалось, что причиной самоистязания физическими упражнениями могут быть самые разные психологические проблемы. Одним людям важно чувствовать, что они управляют своей судьбой хотя бы отчасти — в том, что касается физической формы и физиологии. Другими движет стремление возвыситься над естественными физическими потребностями («отдых — для слабаков») или силой воли одолеть низменные желания (например, позволить себе предаться лени). Третьи, упражняющиеся ради лучшей формы, начинают удлинять и учащать пробежки, поскольку получают от этого удовольствие, — это гедонистическая модель аддикции. Четвертые жаждут вознаграждения извне, например медалей или поклонения болельщиков. Ни в одном из этих случаев, однако, поклоннику тренировок не кажется, что у него взорвется мозг, если потренироваться не удастся.
Напротив, компульсивные спортсмены занимаются по внутренним причинам, чтобы выровнять настроение или прийти в норму. Тренировки для них — главное в жизни. Это единственный способ облегчить невыносимый гнет тревоги, от которой они страдают, когда не имеют возможности потренироваться. Изначально мотивом для таких людей могло быть стремление обрести форму, но постепенно выяснилось, что спорт не столько источник радости, сколько отдушина для сброса напряжения, которую ничем нельзя заменить. «Мы знаем, что мотивы заняться спортом бывают разные, — сказал Дэниел Саймонс Даунс, кинезиолог Университета штата Пенсильвания, разработавший шкалу оценки спортивной зависимости для врачей и неспециалистов. — Есть также множество причин выхода за пределы разумного, и избавление от непереносимой тревоги — одно из вероятных объяснений». Это относится к компульсивным людям, таким как Кэрри Арнольд.
Разумеется, между аддикцией и компульсией нет четкой границы, поскольку невозможность заниматься желанным делом, доставляющим огромную радость, также может стать источником беспокойства. Важно, однако, что аддикция порождается радостью и удовольствием, а компульсия — тревогой. Компульсивные любители спорта испытывают «более сильную тревогу в отсутствии упражнений, чем бегуны, свободные от внутреннего принуждения», — утверждается в обзоре 2002 г. Они чувствуют себя в лучшем случае не в своей тарелке, пропустив тренировку. Их целью, в соответствии с сутью любой компульсии, является «ослабление отрицательных эмоций», как сказано в исследовании группы английских ученых из Университета Лафборо во главе с Кэролайн Мейер, опубликованном в 2011 г. в International Journal of Eating Disorders: «Отличительный признак компульсивных тренировок — это угнетенное состояние духа, например ощущение беспокойства, депрессии и вины при воздержании от упражнений».
Из-за чего это происходит? Психологические и личностные черты, формирующие предрасположенность к «развитию компульсивности в отношении физических упражнений», по словам Мейер, — это перфекционизм и другие элементы обсессивно-компульсивного расстройства личности. Особенно характерно для компульсивных спортсменов намного более болезненное в сравнении с окружающими отношение к своим ошибкам, чрезвычайно высокие личные критерии успеха и нравственности и хроническое чувство вины за свои поступки. Все это проявления крайней добросовестности, отличающей людей с мягкими формами компульсии[6].
«Перфекционизм оказался одним из самых надежных прогностических факторов компульсивных тренировок», — сообщила Мейер. Неизбежное несоответствие идеалу порождает тревогу, с которой способны справиться только упражнения. В результате развивается компульсия, вынуждающая любителя спорта тренироваться на износ.
• • •
Человек с молотком видит вокруг только гвозди. Журналист, захваченный научной и феноменологической проблематикой компульсии, за каждым действием окружающих усматривает тревожность, а любую странность в поведении считает проявлением компульсивности. При оценке распространенности различных форм компульсий я опиралась на самые надежные доступные мне данные, обычно из таких источников, как Национальный институт психического здоровья. Однако вопрос о том, как трактовать наблюдающееся разрастание списка психиатрических диагнозов, неоднозначен хотя бы по той причине, что психиатры и прочие специалисты упорно проталкивают мысль, что наше общество поражено массовой эпидемией недиагностированных психических отклонений. Вследствие этого давления миллионы людей уверовали, что больны, и обращаются к врачам за подтверждением. Размыванием диагностических критериев, возможно, объясняется и повышение частоты заболеваемости психическими расстройствами. С годами психиатры сокращали промежуток времени, в течение которого у вас должны наблюдаться определенные симптомы, чтобы диагностировать заболевание, — скажем, с шести месяцев до трех, — или от девяти обязательных симптомов переходили к шести. «Эпидемия», о которой трубит отрасль психического здоровья, — это результат «изменения традиций диагностики», по убеждению психиатра Аллена Фрэнсиса, возглавлявшего специальную группу по разработке DSM–IV. «Это не значит, что увеличилось число психически больных, изменилось представление о том, что считать болезнью». Следует также помнить, что у психических нарушений нет объективных биомаркеров, выявляемых сканированием мозга, анализом крови и другими методами. Психиатры и психологи ставят диагноз практически только на основании того, как пациенты описывают свое самочувствие. Нетрудно найти в этих описаниях совпадения с тем или иным диагнозом из DSM, тем более что специалисты, разрабатывающие эти критерии, скорее, боятся упустить болезнь, чем навесить ярлык «психа» на нормального человека. Пожалуй, можно сказать, что все мы психически больны в той мере, в какой считаем себя больными.
При общении с людьми, страдающими от тяжелых компульсий, у меня часто возникало ощущение сродни тому, что испытываешь, глядя на солнечный свет, настолько яркий, что он застилает свет планет и звезд. Хотя я понимала, что крайне выраженная компульсивность, разрушающая судьбы, отношения и карьеру, порождена отчаянной потребностью держать тревожность под контролем, мне было трудно относиться к ней как к гипертрофированной форме обычных человеческих причуд. Это поведение было слишком обескураживающим, слишком режущим глаз. Однако звезды светят днем точно так же, как и ночью, и мягкие проявления компульсивного поведения окружают нас везде и всюду. Присмотревшись к самим себе, мы, вероятно, тоже их обнаружим. Очень многое из того, что мы делаем, хорошее или дурное, проистекает из того же источника, что и компульсии. Стоит взглянуть на свое и чужое поведение в этом свете, и многое из того, что казалось необъяснимым, становится понятным. Главное, что поняла я: компульсивное поведение необязательно свидетельствует о психическом расстройстве. Когда это происходит, несчастные больные нуждаются в диагностике и профессиональной помощи. Но очень многие компульсии являются проявлением совершенно нормальных психологических потребностей — в душевном покое и контроле над собственной жизнью, в социальных связях и личной значимости. Если это психическое отклонение… Что ж, тогда все мы безумны!
Глава 2 Обсессивно-компульсивное расстройство, или Фред в холодильнике
Ежегодное собрание Международной организации по изучению обсессивно-компульсивного расстройства неизменно встречает гостей форменным столпотворением на входе. Сегодняшнее июльское утро в Atlanta Hyatt не исключение. Кажется, что все 1100 участников бросились регистрироваться одновременно, однако, рассеявшись по залу с рядами складных стульев, потеряли интерес к происходящему. Чествование пожилой четы, открывшей группу для страдающих ОКР в Нью-Джерси… Премия ученым за революционное исследование патологического накопительства… Присутствующие больше интересуются соседями и собственными телефонами, чем ораторами.
Но вот к трибуне стремительно проходит Шэла Найсли и электризует зал, приковывая к себе всеобщее внимание. «Я вспоминаю знойный день лета 1975 г., — начинает Шэла, расхаживая по сцене, как ягуар в клетке. — Мне четыре года. Мы с мамой стоим у края тротуара, собираясь перейти улицу. Я надеюсь, что мы идем покормить уток». А дальше… Будто материализовавшаяся из воздуха машина, страшный удар. Искалеченные ноги Шэлы, буквально размазанные по асфальту. «В тот день мы чуть не погибли, — продолжает она, — и мой мозг запомнил, что мир — это очень, очень опасное место. Мозг решил, что должен обращать мое внимание на все окружающие угрозы, чтобы меня защитить».
Вскоре ей начали сниться кошмары. Ее родители лежали на гильотине под готовым сорваться лезвием, и, просыпаясь, Шэла знала — именно знала! — что лишь она может их спасти. Для этого нужно сконцентрироваться на образе, достаточно ярком, чтобы прогнать образ гильотины. И она представляла всадника, несущегося во весь опор на выручку. Случалось, однако, что и после явления всадника Шэла чувствовала: родителям по-прежнему грозит опасность. Наверное, столь же острый и неотступный ужас испытываешь, если в дом врываются террористы, наставляют ствол на твоего ребенка или родителя, сестру или брата и кричат: «Делай то-то или им конец!» «Обжигающий, липкий, тошнотворный ужас разрастается и заполняет тебя целиком, — вспоминает она. — Вы сделаете все, что он прикажет». В данном случае «он» — это собственный мозг, предупреждающий, что родителей постигнет нечто ужасное, если она… Требование, что именно она должна сделать, менялось с течением лет. Неизменной оставалась убежденность, что об этом никому нельзя рассказывать: «Ты молчишь о том, что видишь у себя в голове, потому что, если проговоришься, это случится на самом деле. Я все держала в тайне».
Лишь в двадцать с лишним, обратившись, наконец, к психотерапевту, Шэла узнала, что происходящее с ней называется обсессивно-компульсивным расстройством. Оно заставляло ее выполнять ритуалы, внешне совершенно бессмысленные, от которых, однако, невозможно было удержаться. Ритуалы крутились вокруг цифры «четыре». Шэла считала до четырех, делила все что можно на четыре части, рассаживала игрушки и расставляла книги по четыре, чтобы поставить заслон несчастьям, грозившим ее родителям. Когда тревога становилась невыносимой, переходила к оружию крупного калибра. Шестнадцать. Даже тридцать два.
Шэла работала торговым представителем и менеджером по продажам по 13–15 часов в сутки. Только работа на износ помогала заглушить тяжелые мысли: пока ее ум был занят, он не мог повсюду искать опасности. Психотерапевты оказались бессильны. В поиске избавления она рассказала о своей зацикленности на четверке сначала одному, затем второму, третьему и череде других, но все, что обрела в этом эпическом странствии, — «совет просто перестать об этом думать». (Люди с обсессивно-компульсивным расстройством страдают от него в среднем 14–17 лет, прежде чем будет поставлен верный диагноз, и обращаются как минимум к двум психотерапевтам, пока не найдут того, кто умеет его лечить. Об этом свидетельствуют данные IOCDF.)
«Просто перестать!» — именно это чаще всего слышат жертвы компульсии. Ответ «ты псих» стоит на втором месте. Но перестать — последнее, что Шэла была в состоянии сделать. Пока она ехала на работу, мозг постоянно спрашивал ее, уверена ли она — абсолютно, железобетонно уверена, — что машину тряхнуло на банальной рытвине. Что, если она кого-то переехала? Нужно вернуться и проверить, хотя это чушь, конечно, однако, если развернуться сейчас же, жертву еще можно будет спасти. Ладно, едем назад. Проклятье! Где это место? В результате Шэла опаздывала. Компульсия, словно ядовитое облако из фильма ужасов, разрушала ее жизнь.
Однажды, когда ей было почти сорок, Шэла услышала новый шепот компульсии: «Кажется, твой кот Фред закрыт в холодильнике и вот-вот замерзнет насмерть». Чепуха, возразила свободная от ОКР часть ее разума. Как мог Фред оказаться в холодильнике? Хотя, конечно, проверить ничего не стоит. Маленькое дело для большого ума! Разумеется, ни следа Фреда. Распахнув дверцу, Шэла вглядывалась в нутро холодильника, пока не убедилась, что Фред не прячется ни в контейнере для овощей, ни за упаковкой апельсинового сока, — а затем компульсивно проверяла снова и снова, как это свойственно заложникам ОКР. Как-то раз Фред прошествовал мимо нее и скрылся в гостиной. У Шэлы мелькнула дикая мысль: что, если кот каким-то образом телепортировался в холодильник, как только пропал из вида! Она проверила еще раз. «Я сама понимала, как это глупо, — впоследствии рассказывала Шэла. — Я знала, что Фреда нет в холодильнике. Но просто не могла отойти от дверцы».
Навязчивые мысли, непреодолимое желание действовать
До 1980-х гг. распространенность обсессивно-компульсивного расстройства оценивалась в 0,005–0,5%. В 20-тысячной толпе, заполняющей Таймс-сквер в утренний час пик, нашлось бы от одного до десяти человек с этим заболеванием, то есть оно считались одним из самых редких психических нарушений. Но в последующие тридцать лет распространенность вроде бы выросла. Причина этого (диагноз ставится неоправданно часто или прежде выявляемость была слишком низкой?) является предметом яростных споров. Как бы то ни было, по оценкам Национального института психического здоровья, ныне у 1,6% американцев в течение жизни разовьется это психоневрологическое расстройство, а 1% взрослого населения, то есть от двух до трех миллионов человек, страдают им в каждый отдельно взятый год. Мужчинам и женщинам оно угрожает в равной степени. Дети болеют в два раза реже: среди лиц моложе 18 лет ОКР поражен один из двухсот. Наибольший риск развития обсессивно-компульсивного расстройства наблюдается в возрасте 10–12 лет, а также в старшем подростковом и раннем юношеском возрасте. В эти периоды мозг переживает бурный рост количества нейронов и связей между ними, а затем удаляет лишние связи, освобождая кору от необязательных синапсов. Это сложный процесс, в котором возможны сбои.
Базовое описание обсессивно-компульсивного расстройства весьма просто. Чтобы соответствовать диагностическим критериям Американской психиатрической ассоциации, нужно иметь угнетающие, повторяющиеся, неотступные мысли или мысленные образы — обсессии, — ощущающиеся как навязчивые и (почти всегда) эгодистонные. Последнее определение обозначает мысли, воспринимающиеся не как естественная часть подлинного «Я», а словно бы внедренные извне неким жестоким кукловодом, дергающим за нейронные ниточки вашего мозга. Они сталкиваются с вашими представлениями о самом себе и о том, что есть истина. При эгодистонности человек отчасти понимает, что навязчивые мысли (что он покрыт микробами, что что-то не так или что с близкими вот-вот случится какое-то несчастье) имеют самую призрачную связь с действительностью[7]. Уступив воображаемым требованиям и освободившись от тревоги, человек не испытывает ни радости, ни особого удовлетворения, поскольку он словно исполнил приказание кукловода. Битва за контроль над собственным мозгом была проиграна.
Ощущение, что навязчивые мысли рождаются вне той части разума, которая делает вас вами, не лишает их могущества и не ослабляет тиски болезни. Можно ли вообразить худшее состояние, чем, например, на начальной стадии болезни Альцгеймера, когда человек понимает, что теряет память и рассудок, но ничего не может сделать? Обсессивно-компульсивное расстройство в этом отношении аналогично: пациенты знают, что их мысли — сущее безумие, но это осознание не позволяет справиться с ними. Большинство людей с ОКР отдают себе отчет в том, что кот, только что скрывшийся из виду, не может оказаться в холодильнике, что духовка — выключенная, в чем они убедились пять минут назад, — не может быть включенной и что они не заболеют СПИДом, перестав скрести руки до крови. Вероятность, что их опасения справедливы, бесконечно мала, однако они чувствуют: бесконечно малый не значит невероятный. В результате возникает давящий страх, облегчить который можно лишь повторением действия, и больные сдаются этой потребности — сдаются снова и снова, причем здравая часть их рассудка наблюдает за этим безумием с беспомощным ужасом водителя, утратившего контроль над сорвавшейся в пропасть машиной.
Это второй элемент ОКР — компульсии, повторяющиеся и зачастую ритуализованные действия, которые больной чувствует себя вынужденным выполнять, поскольку подозревает, считает или боится, что в противном случае его навязчивый страх воплотится в жизнь. Люди компульсивно подчиняются приказам обсессии, потому что, если и пока этого не сделать, тревога не даст им дышать, а гормон стресса кортизол будет отравлять мозг, словно разлив токсичных отходов. Спектр компульсивных действий, вынужденно совершаемых больными ОКР, превосходит самые дикие выдумки больной фантазии. Судя по данным специализированных медклиник, наиболее распространенными являются компульсии чистоты (провоцируемая навязчивой мыслью о микробах и других источниках загрязнения) и контроля (следствие навязчивого убеждения в каком-то опасном упущении, например забытой включенной духовке).
Американцы старшего возраста сразу вспомнят самую знаменитую жертву обсессивно-компульсивного расстройства — Говарда Хьюза, промышленника, кинопродюсера, ставшего на склоне лет отшельником. У него развился невыносимый страх микробов и вследствие этого — контактов с людьми, и миллиардное состояние было спущено на выполнение требований компульсии. Например, его инструкция для обслуги по «приготовлению консервированных фруктов» включала девять безумных шагов. На третьем следовало вымыть невскрытую банку, дождаться, когда отмокнет этикетка, и удалить ее, цилиндрическую часть банки тереть «многократно, пока все частицы пыли, остатки этикетки и вообще любые источники загрязнения не будут удалены», а затем обработать «мелкие выемки по периметру» обильной мыльной пеной. Шаг пятый: «Перекладывая фрукты из банки на стерильную тарелку, следите за тем, чтобы ни в какой момент времени никакая часть тела, включая кисти рук, не находилась непосредственно над банкой или тарелкой. По возможности, держите голову, верхнюю часть тела, руки и прочее на расстоянии как минимум 30 см»[8].
Компульсия чистоты — это нормальное поведение, принимающее гипертрофированные формы у человека, мучимого ОКР. Вероятно, поэтому оно настолько распространено. Компульсивный контроль также отражает нормальные мотивы, раздутые обсессивно-компульсивным расстройством до иррациональной степени. Навязчивая мысль — «что-то не так» — терзает жертву, пока не будет выполнено определенное действие (убедиться, что заперта дверь или выключена духовка, сдать назад и удостовериться, что машина подпрыгнула ни на чем ином, как на «лежачем полицейском»). Совершение действия дарит чувство облегчения, поскольку опасности удалось избежать. На многих из нас в момент засыпания порой накатывает тревога: «Дверь действительно заперта?» В разум Тома Сомяка эта мысль многократно вторгается каждую ночь. Это началось, когда ему было около двадцати и он впервые стал жить один. Он чувствовал себя обязанным встать с кровати, спуститься по лестнице в прихожую и проверить замки и защелки на внешней и внутренней дверях — и так многократно, пока усталость не угомонит овладевших им демонов.
Каждое утро, когда Сомяк отправлялся на работу, его снова одолевала отчаянная необходимость удостовериться, что он запер дверь, вынуждая возвращаться и проверять. Как и ночная компульсия, дневная не ограничивалась однократной проверкой. Иногда он восемь раз разворачивался на полпути. Почти двадцать лет спустя Сомяк поделился со мной воспоминаниями об этом периоде жизни: «У меня было чувство, что что-то не в порядке. Я и не пытался с ним бороться. Просто сдавался и проверял». А потом проверял еще раз. И еще раз.
Рождение сына не просто изменило жизнь Сомяка. Это было событие как раз такого рода, которое могло убедить его разум, что в мире куда больше опасностей, чем представлялось ему в начале развития ОКР. Однажды утром он готовил ребенку ланч в детский сад, как вдруг его пронзила ужасная мысль: «Я только что прикасался к двери холодильника, а теперь у меня в руках ломтики хлеба для сандвича. Что, если на них попали микробы?» Он вымыл руки. Но затем ему понадобилась посуда, а кто знает, достаточно ли она чистая! И он снова вымыл руки. Прикоснулся к пакетику сока, который до этого неизвестно кто трогал в магазине, — опять мытье, лишь бы уберечь пищу своего малыша от смертельной заразы. «Мной овладела всепоглощающая навязчивая мысль, что все его вещи должны быть чистыми, — рассказывал Сомяк. — Я знал, что он ползает по полу, собирая всякую грязь и микробы, и все равно я должен был так поступать, чтобы его защитить». Приготовление завтрака заняло час. «Я понимал, что со мной что-то не так, но решил, что это пройдет», — вспоминал он.
Симптомы ослабли на несколько лет — для обсессивно-компульсивного расстройства это вполне обычно. Обычно и то, что, вернувшись, заболевание приняло другую форму. В 2001 г. неизвестный разослал споры сибирской язвы нескольким деятелям СМИ и политикам в Нью-Йорке и Вашингтоне. Это была самая страшная акция с применением биологического оружия в истории США. Пятеро получателей умерли, еще семнадцать перенесли тяжелое заболевание. Сомяк в это время находился в Остине, в штате Техас, где вел группу поддержки для больных ОКР, и, разумеется, не имел ни одной причины считать, что находится в списке адресатов у отравителей. Однако дело почти десять лет оставалось нераскрытым[9]. Кто знает, что еще планирует террорист и где?
Сомяк сделал то, что должен был: запретил кому бы то ни было, кроме него самого, забирать почту из ящика у подъездной дороги к дому. Сам он, чтобы сходить за ней, совершал сложный 90-минутный ритуал: переодевался в старую одежду и обувь, обрабатывал дезинфицирующим средством каждую поверхность, с которой соприкасалась почта, помещал конверты в особые пакеты… «Что, если бы мы получили письмо, прошедшее через тот же сортировочный аппарат [что и письма со спорами сибирской язвы]?» — заметил он при нашем разговоре. В этом есть рациональное зерно. Действительно, 94-летний житель Коннектикута Оттили Лундгрен каким-то образом получил смертельную дозу возбудителей болезни, и еще несколько человек заболели. Но тревога Сомяка приняла гипертрофированные формы. «Представьте, что вы ночной сторож на складе, — пояснил он. — Вдруг звучит сигнал тревоги. Вы идете посмотреть, что случилось. То же самое с теми, кто страдает ОКР. Чувствуешь, как тебя переполняет тревога, и ищешь причину».
• • •
Компульсивное стремление к порядку также проистекает из чувства некоего упущения или неправильности. Большинство людей, однако, согласятся, что компульсивный контроль направлен на устранение теоретически возможной угрозы (оставленная включенной духовка или незапертая дверь), тогда как объекты компульсивного стремления к порядку требуют исправления исключительно в глазах больных ОКР. Иррациональные ритуалы пожирают их, словно мистический костер, заставляя пересчитывать двери по дороге на работу, расставлять по алфавиту посуду на кухне, в магической последовательности прикасаться к определенным предметам, прежде чем выйти из дому.
Ощущение «что-то не в порядке» в таких случаях менее артикулировано, чем при навязчивых мыслях о микробах, однако оно порождает веру, что неправильный способ идти, разговаривать или мыслить приводит к чудовищной трагедии. Страх Шэлы Найсли, что ее кот заперт в холодильнике, представляет собой проявление именно этой разновидности обсессии с развитым воображаемым элементом. Чувство какого-то упущения завладевает умом, и щупальца тревоги прорастают буквально в каждую клеточку, в каждый нейрон, так, что дыхание перехватывает от невыносимого ожидания катастрофы, которая неминуемо разразится, если не выполнить требования внутреннего голоса. В более мягких формах компульсивное стремление к порядку возникает вследствие воспринимаемой неправильности в расстановке предметов, причем «неправильной» она является лишь в глазах больного.
У Меган компульсивная страсть к порядку впервые проявилась в четырехлетнем возрасте. Когда нужно было убирать игрушки, особенно конструкторы и наборы Lego, она не ограничивалась тем, чтобы просто побросать их в ящик. Она делала глубокий вдох, обводила взглядом спальню, пестревшую множеством цветов и форм, и для начала брала, скажем, красную деталь Lego с четырьмя выступами, которую клала в строго определенное место как основание башни. Дальше брала синюю деталь с четырьмя выступами — и задумывалась. Где ей место — рядом с такой же по форме красной или среди других синих? Не в силах понять, какое место в пространстве предназначено именно для этой детали и для любой другой игрушки, Меган лишалась возможности действовать. Она пробовала то один, то другой принцип систематизации и без конца меняла порядок под неотступное жужжание в голове: «Постой, ты уверена, что все правильно? Вдруг нет?»
«Если место не казалось совершенно правильным, я не клала туда игрушку, — рассказывает Меган. — Родители считали это упрямством. Но нет, это была всемогущая компульсия стремления к порядку. Лучше было оставить игрушки разбросанными как попало, чем сложить их неправильно. Всю жизнь, сколько себя помню, меня терзала эта тревога».
Сейчас Меган, сотрудница биологической лаборатории крупного университета на Среднем Западе, борется с компульсией методом «один предмет — один выбор». Он предназначается для людей с навязчивой потребностью класть вещи «правильно» и заключается в том, чтобы относить каждый предмет к одной из обширных категорий и сразу переходить к следующему. Если кто-то другой решает убрать оборудование в конце рабочего дня, Меган способна это вынести. Она знает, что у сослуживца есть свой принцип организации пространства, и это помогает держать тревогу по поводу порядка в узде.
• • •
ОКР является самой известной формой компульсивного поведения, но известный — не значит понятный. В массовой культуре это расстройство нередко изображается милой странностью, очаровательной эксцентричностью — как, например, в образе детектива Эдриена Монка из сериала «Монк», неизменно выравнивающего криво висящие картины, выстраивающего в линеечку письменные принадлежности и складывающего журналы симметричными стопками, чтобы все было «как надо». Однако все опрошенные мною больные c ОКР фактически повторяли слова Шэлы Найсли: «Со стороны не видно, что творится в душе у другого человека, поэтому вам не понять всей меры этого страха, этой тревоги, выпивающей все соки и скручивающей в узел внутренности. Большинство людей судят об ОКР лишь по внешним проявлениям. Тот, кто заявляет, что чуточку компульсивен, не имеет ни малейшего представления, о чем он говорит».
Если мысль не вызывает у вас ужаса, который вы ощутили бы, увидев пистолетное дуло, приставленное к виску вашего ребенка, это не ОКР. Если сердце от нее не готово выскочить из груди, это не ОКР. Если она не парализует вас, не позволяя делать ничего, пока вы не устраните источник тревоги, это не ОКР. «Это настолько подавляющее, частое и властное переживание, что оно лишает вас дееспособности, и настолько сокрушительное, что вы готовы на все, лишь бы от него избавиться», — пояснил глава IOCDF Джефф Шимански.
В соответствии с одним из диагностических критериев компульсивное поведение должно «приводить к клинически значимому стрессу или нарушению функционирования» в общении или на работе и «отнимать время». Таким образом, «чуточку компульсивен» — терминологический нонсенс сродни «немного беременна», оскорбляющий настоящих пациентов с ОКР. Это, однако, не отменяет того факта, что обсессивно-компульсивное расстройство, как и любое другое психическое нарушение, имеет спектр проявлений от слабо выраженных до тяжелых.
Психиатры долгое время были убеждены, что компульсивная составляющая ОКР является следствием обсессивной — вы моете руки, потому что считаете, что они кишат микробами, — но недавние исследования свидетельствуют, что возможно иное. Во всяком случае, у некоторых больных навязчивая потребность, к примеру, мыть руки предшествует обсессивным мыслям о загрязнении, а не является их следствием. Первопричина этой навязчивой потребности не ясна — возможно, это гипертрофированная привычка. Далее мозг пытается обосновать постоянное мытье и находит самое логичное объяснение — грязь и зараза: «Я мою руки каждые пять минут, должно быть, потому что они покрыты микробами». В подобных случаях не обсессия, а компульсия является главным проявлением и источником ОКР.
Небольшая плата за избавление от большой беды
За беспокойство отвечает эволюционно древняя система головного мозга, созданная естественным отбором по той же причине, по которой формируется и закрепляется любая наша способность: тревожность повышает шансы особи выжить и продолжить род, передав полезное свойство череде последующих поколений. Нутряное, чисто эмоциональное ощущение, что упущено нечто важное, появляющееся задолго до того, как рациональная, осознающая часть мозга сумеет его проанализировать, очень пригодилось нашим предкам. Те из наших палеолитических предков, кто не испытывал беспокойства при звуке крадущихся шагов и не реагировал на него, оказывались в эволюционном тупике. Не успев оставить потомства, они становились добычей хищников. Те же, кто испытывал тревогу и отвечал на нее поиском причины, имели шанс дожить до продолжения рода. Вследствие этого у нас, их отдаленных потомков, мозг «настроен» сначала подчиняться приказам тревожности, а лишь затем (и то не обязательно) обдумывать их обоснованность.
У Найсли и других больных обсессивно-компульсивным расстройством эта реакция по непонятным причинам выражена необыкновенно сильно. Связанная с ОКР нейронная сеть изучена намного лучше, чем сети, поддерживающие любую другую разновидность компульсивного поведения, но эти данные отвечают на вопрос «как», а не «почему». Почему эта сеть формируется, до сих пор остается загадкой, и максимум, что могут предложить ученые, — это туманные рассуждения о жизненном опыте и наследственности.
У тревоги есть одна особенность: если она становится по-настоящему сильной, непереносимой, мы пойдем на все, чтобы ее облегчить. Если это «все» является чем-то несущественным, но приносит огромное облегчение, ум накрепко усваивает урок, проведя своего рода анализ издержек и выгод. Когда Шэла Найсли подчинилась приказу своего мозга открыть холодильник, это казалось незначительной издержкой в сравнении с выгодой — уверенностью, что Фред не превращается в сосульку. Ведь эта мысль терзала ее, словно ядовитые когти тасманийского дьявола! Правда, стоило закрыть дверцу холодильника, страшное подозрение вернулось, и «стоимость» многократного освобождения от него неуклонно возрастала, пока потерянное время и отчаяние не поставили Шэлу на грань недееспособности. Однако было уже поздно. Обсессивно-компульсивный мозг запомнил, что выполнение навязчивого действия помогает. Если выполнение приказов террориста, приставившего дуло к виску вашей дочери (пользуясь сравнением Найсли), всякий раз помогает спасти ей жизнь, вы, разумеется, будете подчиняться.
В случае Дэйва Атласа анализ издержек и выгод очевиден. Его регулярно одолевает мысль, что семье грозит опасность. Он делает то, что должен, чтобы не допустить превращения кошмара в реальность.
«У меня много обсессивных мыслей, — рассказал Атлас. — И все они о том, как уберечь близких или самого себя от беды. Я вижу в интернете изображение акулы и, поскольку она представляет угрозу, должен трижды постучать по дереву и два раза произнести «с моей семьей будет все в порядке». Или, допустим, я иду по улице и вдруг понимаю, что с близкими вот-вот случится что-то дурное, — это происходит со мной двадцать или тридцать раз на дню. Тогда нужно трижды ударить себя по голове, чтобы избавиться от этого чувства. Когда я слышу, как кто-то восклицает "О, Боже!", то тоже боюсь, что с родными что-нибудь произойдет, и должен сложить ладони и обратить лицо к небу [словно заклиная злое божество]».
Мы разговаривали за столиком «Старбакс» под открытым небом в финансовом районе Манхэттена. Обсессивно-компульсивное расстройство не парализовало Атласа — он айтишник в сфере здравоохранения. Однако навязчивые мысли, словно избалованный двухлетка, постоянно требуют его внимания, мешают сосредоточиться и отвлекают от работы. Когда он описывал свои ощущения — тревогу, от которой перехватывает горло, — такси в резком рывке обогнало ползущую в плотном потоке машину и со скрежетом затормозило на красный свет впритирку к тротуару. Я невольно воскликнула: «О, Боже!» И Атлас проделал то, что должен был, чтобы обеспечить безопасность семьи. Он поднял лицо к небу, свел ладони вместе, а затем трижды быстро стукнул себя по голове.
• • •
После разговора с Атласом я направилась в северную часть Манхэттена на встречу с Ли. Она только что окончила колледж и собиралась выйти на работу в детском саду. Идя рядом с ней через 42-ю улицу в сторону штаб-квартиры компании Altria, я обратила внимание, что Ли необыкновенно тщательно выбирает дорогу, разглядывая мраморный пол Центрального вокзала, а затем асфальт улицы, словно боится попасть в ловушку, и приволакивает ноги. Когда мы нашли столик и сели, она объяснила свое поведение.
«Я все должна делать поровну, — сказала Ли. — Если я наступаю на что-то, например на клочок бумаги, то должна наступить на другой клочок такой же формы и величины. Наступив на трещину, должна шагнуть на другую, чтобы все уравновесить. Иначе на моего отца нападут».
Однажды, сидя в кафе, она почувствовала запах дыма. Примчавшиеся пожарные велели всем срочно покинуть помещение. В общей суете Ли побежала, не разбирая дороги, по трещинам и всевозможному сору, ничего не делая «поровну». И что же? Взлетела на воздух крышка канализационного люка. «Отчасти я знала, что это не из-за меня, не от того, что я нарушала равновесие. Но, знаете, лучше перестраховаться, чем потом жалеть, — вспоминала Ли. — Ведь мне это ничего не стоит». Просто немного внимания, когда идешь, и странноватая походка. Но разве это такая уж высокая плата за то, чтобы отвести беду?
Подобная компульсия у нее связана с метро. Когда поезд вползает на станцию и машинист объявляет ее название, Ли ощущает, как по телу поднимается волна тревоги и стискивает горло. Она вынуждена взяться за ближайшие поручни, прежде чем выйти, «за один левой рукой и за другой правой», — сказала она, как нечто само собой разумеющееся: «Одна мысль о том, чтобы этого не сделать, приводит в ужас. Если не сделаю, со мной и дорогими мне людьми случится что-то ужасное».
Тревожность во всех ее проявлениях
Американская психиатрическая ассоциация годами бьется над систематикой обсессивно-компульсивных расстройств, сталкиваясь с теми же сложностями, что и музыковеды, не знающие, считать ли Боба Дилана фолк-исполнителем или рокером. В третьем издании «Диагностического и статистического руководства», изданном в 1980 г., ОКР объединено в одну группу с тревожными расстройствами, такими как генерализованное тревожное и паническое расстройства, поскольку тоже характеризуется невыносимым страхом и дурными предчувствиями и часто сопровождается потением, повышением артериального давления и учащением сердцебиения. В DSM IV, опубликованном в 1994 г., ОКР формально осталось тревожным расстройством.
Однако в начале нового тысячелетия, когда группы экспертов работали над пятым изданием DSM (вышедшим в 2013 г.), некоторые психиатры стали оспаривать эту классификацию. Споры приняли несколько отвлеченный характер, но отправной точкой этого бунта ревизионистов стал резонный вопрос, действительно ли тревожность является определяющей при обсессивно-компульсивных расстройствах. Одна сторона считала тревожность причиной обсессивных мыслей и компульсивного поведения. Противоборствующая — симптомом обсессий, эмоциональным мостиком между навязчивыми мыслями и компульсиями: представление о том, что вокруг полно микробов, провоцирует тревожность, которая, в свою очередь, заставляет мозг любым способом пытаться нейтрализовать пугающую мысль, а именно выполнять компульсивные действия. Вторая сторона победила. Тревожность была признана не первопричиной ОКР, а промежуточным фактором, вытекающим из обсессии и порождающим компульсии. Вследствие этого обсессивно-компульсивные расстройства были выделены из категории «тревожные расстройства» в самостоятельную категорию.
Сомнения комиссии также вызывал тот факт, что тревожные расстройства и ОКР поддерживаются разными нейронными сетями. Большинство тревожных расстройств активизируют миндалевидное тело, где рождается чувство страха, и соответствующие нейронные пути. Напротив, при ОКР наблюдается повышенная активность в так называемой «сети тревоги» (я более подробно расскажу о ней в главе 11). Она включает лобные доли коры и полосатое тело — структуры, которые в здоровом мозге отвечают за ритуалы и обнаружение ошибок. Принципиально, что повышенная активность этой цепи не наблюдается ни при каком другом психическом нарушении. Благодаря этим данным новейших исследований психиатрическая ассоциация исключила ОКР из группы тревожных расстройств и классифицировала его как отдельное психическое заболевание.
При компульсиях чистоты и контроля содержание тревожных мыслей (Фред, возможно, коченеет за пачкой мороженого!) логическим образом порождает способ снижения тревоги (открыть дверцу морозильника). Но при других компульсивных действиях, особенно исполняемых для того, чтобы все было в порядке и близким не грозила смерть, эта логика отсутствует. Это странные ритуалы: например, прикосновение к предметам, или особый способ ходьбы, или компульсивные математические расчеты, необходимые, в чем вас убедил собственный мозг, для предотвращения катастрофы. Подобные «магические» компульсии часто остаются незаметными для окружающих. Мысли вызывают невыносимую тревогу, и только мысли способны с ней справиться. Об этом неврологическом реслинге мне рассказала Карли.
Мысленные компульсии
Карли написала мне, что будет единственной в обрезанных джинсах и футболке с роботом, поэтому мы легко найдем друг друга в толпе у входа в Брайант-парк, где условились встретиться в июльский пятничный вечер. Пока мы поднимались по лестнице к киоску с едой, я спросила: «Что Вы будете пить?» — заставив ее подумать: «Пятнадцать». Через несколько секунд она смогла попросить минеральную воду, я уточнила: «Негазированную или с газом?» — и ей пришлось подумать о числе двадцать три. Когда же я заметила, что мы наверняка сможем найти свободные места, она мысленно произнесла: «Тридцать шесть».
Все это количество букв в словах, с которыми я к ней обращалась.
Писательница и редактор Карли живет с диагнозом «обсессивно-компульсивное расстройство» с шестнадцати лет, но болезнь завладела ее разумом задолго до этого. По ее словам, в четвертом классе она начала считать слова в предложениях, которые ей адресовались, производя вычисления с автоматизмом пианиста, играющего с листа. Вскоре она перешла к подсчету букв. В припеве «I'll Be There for You» Джона Бон Джови, оказывается, девяносто три знака, включая апострофы. Незачем говорить, что в такого рода вещах есть свои правила.
Ее также тянуло составлять списки «всего»: всех штатов, всех кампусов Калифорнийского университета (Беркли, Ирвин и т.д.), всех публичных колледжей Огайо, всех серий телесериала (она может перечислить названия 117 серий «Семейки Брейди»), всех комнат общежития Массачусетского технологического института и всех его специализаций, каждая из которых имеет свой номер, — и Карли начала их мне перечислять (организация природоохранной деятельности — это один, машиностроение — два, материаловедение — три…). Забывая какой-то элемент, она чувствует такую тревогу из-за этой неполноты, что наводит справки. Что, если рядом нет компьютера и неоткуда получить информацию? Это ее парализует. «Однажды я не могла вспомнить седьмую из "Семи сестер"[10] и полчаса пролежала в постели, не в силах ничем заняться, пока меня не озарило. Колледж имени Вассара! — рассказывала Карли, пока мы шли, уворачиваясь от попрошаек, возникших из сумрака словно светляки. — Если я не буду об этом думать, моя кошка умрет».
Насколько она помнит, очевидного провоцирующего события не было. Ее мысленные компульсии выросли из убеждения, что на нее или на родных обрушится страшная беда, если она не будет считать слова, а затем буквы в произносимых предложениях или предметы в списке. «Это было нечто вроде неотвязного зуда в мозгу», — описывает она тревогу, достигавшую максимума, если не выполнять навязчивых действий. Из-за подсчета слов и букв в речи учителей изучать математику, историю и другие предметы было столь же трудно, что и плавать, одновременно играя на барабане. Карли окончила колледж благодаря писательскому дарованию и силе воли.
Счетом дело не ограничивается. Услышанное или прочитанное слово «рак» вызывает страх, что кто-то из близких заболеет, провоцирующий неодолимую потребность противопоставить силе дурного слова магический «ластик». Так, набрав в поисковике «рак щитовидной железы», которым заболела подруга, Карли должна была сразу же забить в поисковую строку «ревматизм суставов». Менее страшное заболевание нейтрализует мощь рака (все верно, его название также должно начинаться на «р»). Когда розовый цвет стал символом распространения информации о раке груди, для Карли стало обязательным всякий раз, как нечто розовое попадется на глаза, переключиться на любой другой цвет, чтобы смыть розовый. «Октябрь, месяц пропаганды профилактики рака молочной железы, когда все вокруг становится розовым, будто жевательная резинка, как нетрудно догадаться, тяжелое время для меня, — сказала она. — Стоит увидеть розовый, приходится тут же "нырять" в ревматизм».
По причинам, необъяснимым для специалистов, у людей, страдающих ОКР, появляются новые компульсии и исчезают некоторые старые. Вопрос о том, почему больной чувствует себя обязанным выполнять одно компульсивное действие, а не другое, практически не исследован. Обычно ОКР связано с чем-то реальным, что присутствует в жизни человека или с чем он мимолетно столкнулся. Для Марка Генри такой зацепкой стало кино.
В одиннадцатилетнем возрасте, вскоре после переезда в другой штат, Марк увидел фильм 1973 г. «Экзорцист». После этого у него появилось ощущение, что незнакомый скрипучий дом, где они теперь жили, населен призраками. Однако он знал способ держать демонов под контролем — нужно было особым образом смотреть в зеркало всякий раз, проходя мимо. Если он забывал об этом, спеша освободить ванную, то тревога поднималась до самого горла, проникала, казалось, в каждую молекулу его тела, и приходилось мчаться обратно и выполнять ритуал с зеркалом.
Вскоре зеркала стало недостаточно, и Марк был вынужден добавить ритуалы изгнания демонов: определенное количество раз пройти через дверной проем, пока не почувствуешь, что все в порядке; определенным образом раскладывать одежду, пока не возникнет ощущение, что вмешательство сверхъестественного перенесено на другой день. Это было гораздо обременительнее, чем ритуалы с зеркалами и дверями, часто Марку приходилось вынимать из шкафа школьную форму, белье и всю остальную одежду, чтобы выполнить действия правильно. Одеваясь, нужно было «думать о хорошем», если же в голову закрадывалась хотя бы тень плохой мысли, приходилось все начинать сначала. «Я испытывал неопределенное, но реальное чувство ужаса, — вспоминает он. — Сердце бухало, я вынужден был бродить взад-вперед».
Однажды утром Марк не смог завершить ритуал одевания. Он буквально примерз к полу гардеробной. На следующий день он был в психиатрической больнице, обезумевшие родители не могли понять, что за напасть обрушилась на их сына. Марк пролежал в больнице, пока не кончилась семейная страховка, но никакой помощи, кроме обычного ухода, не получил. Лечение обсессивно-компульсивного расстройства требует интенсивных сеансов когнитивно-поведенческой терапии, доступной лишь в немногих клиниках.
В возрасте тридцати пяти лет Марка стали одолевать новые компульсии. Он чистил канал теплотрассы в новой квартире, как вдруг нежданно-негаданно ощутил навязчивую потребность продезинфицировать все вокруг. Он преисполнился уверенности, что его одежда непоправимо загрязнена частицами оргстекла, и выбросил абсолютно все вплоть до последней рубашки, последних носков, трусов и джинсов. Чувство, что волосяные фолликулы забиты пылью от пластика, было настолько давящим, что Марк побрился наголо, лишь бы не оставить загрязнению ни одного шанса. Он не мог смотреть на свои простыни и одеяла: перед глазами плясали микроскопические асбестовые пылинки, и постельное белье также отправилось на помойку. Машина тоже была вся грязная, и он ее продал. Даже квартира казалась переполненной загрязнителями, так что Марку пришлось перебраться в отель и менять номер, едва почувствовав, что уровень загрязненности слишком высок. Единственной тканью, прикосновение которой к коже он мог переносить, оказался шелк — он почему-то казался не таким грязным. «Меня несло, как потерявший управление товарный поезд, — вспоминает он об этом периоде жизни. — Одна компульсия наслаивалась на другую».
Марк, ведущий занятия в группе поддержки для людей с ОКР, подкован в теории: что вызывает болезнь, какова вероятность, что наследственность и травмирующий опыт толкнут предрасположенного человека в бездну обсессивно-компульсивного расстройства. Столкновение Шэлы Найсли со смертью внедрило в ее разум мысль, что мир полон опасностей и что она должна замечать угрозы повсюду, чтобы выжить. Мозг Марка несколько иначе интерпретировал опасность. Как-то вечером, когда ему было семь лет, он захотел посмотреть мультфильм о Розовой пантере как раз в то время, когда старший родственник расположился перед телевизором ради выпуска новостей. Не ограничившись резким окриком, тот схватил Марка за щиколотку, отволок, словно оленью тушу, в спальню и выпорол ремнем. «Ребенок не в состоянии понять, что с ним происходит, — замечает Марк. — Благодаря ОКР чувствуешь, что можешь чем-то управлять. Когда я выполнял свой ритуал с зеркалом или с одеждой, то на краткие моменты ощущал, что, вот, я проделал все это и тем самым сумел оградить дом от призраков. Тревога, которая меня одолевала и заставляла выполнять ритуал, по ощущениям ничем не отличалась от реальной, зримой физической угрозы, такой как страх, что меня снова могут выпороть. Я не мог устранить реальные угрозы, но мог прогнать ужас, который внушали другие люди».
Подобно Марку, большинство больных ОКР годами ждут постановки верного диагноза. Это кажется странным. Разве трудно обнаружить отчаянную потребность каждые несколько минут мыть руки или ежечасно проверять, заперта ли дверь, как это бывает при ОКР? Однако картина не всегда столь очевидна. Как врачи-терапевты, так и клинические психологи довольно надежно выявляют компульсии, основанные на страхе загрязнения и тяге к симметрии, но если заболевание принимает иные формы — особенно навязчивой потребности делать все правильно, — то доля ошибочных диагнозов у терапевтов может достигать 50%. У клинических психологов результаты не намного лучше. В 2013 г. Йешива-университет в Нью-Йорке провел следующее исследование. Случайным образом выбранным 2550 членам Американской психиатрической ассоциации дали описания случаев обсессивно-компульсивного расстройства и предложили ответить, какой диагноз они бы поставили человеку с такими симптомами. В результате 39% участников не смогли узнать ОКР.
Религиозная скрупулезность
Представьте, какие испытываешь страдания при мысли о частицах оргстекла, проникающих под кожу головы, как в случае Марка, какая пытка думать, что одна несосчитанная буква отделяет твою мать от рака, как Карли, а весь мир от катастрофы — один поручень в метро, который ты забыл потрогать, как Ли. Но все эти страхи меркнут по сравнению с угрозой адских мук на веки вечные. При религиозной направленности обсессивно-компульсивного расстройства тревожность, служащая спусковым крючком навязчивости, затрагивает религиозные или нравственные убеждения, и формирующаяся вследствие этого компульсия погружает жертвы в совсем уж непроглядную пучину. Ведь им грозят не раздражающие неприятности вроде незапертой двери, а уверенность, что, если именно это компульсивное действие не будет выполнено совершенно правильно, они будут обречены на Геенну огненную.
На собрании больных ОКР в Атланте Тед Уитциг, пастор и клинический психолог Службы психологического и семейного консультирования христиан веры апостольской в Мортоне (штат Иллинойс), проводит неформальное занятие по религиозной скрупулезности. Он спрашивает тридцать участников, севших в круг, что их сюда привело. Один мужчина вспоминает, как ему пришлось проехать двадцать миль до дома в разгар рабочего дня, чтобы попросить прощения у жены: он сказал ей, что прогноз обещал ясную погоду, но только что заметил в небе белое облачко. Мысль о том, что он солгал жене, — он был убежден, что солгал! — причиняла страдания, «самые реальные и самые неотвязные, какие только можно представить». Молодой человек, сидящий рядом с ним, был убежден, что, если не ходить к мессе каждое воскресенье и не выполнять абсолютно все предписания католической церкви, попадешь в ад, причем в не самом отдаленном будущем. Женщину средних лет душил страх «сделать что-нибудь противное Библии и церковному учению», поэтому она читала и перечитывала Писание, чтобы не забыть, к примеру, повторить «Аве Мария» положенное число раз.
Религиозная скрупулезность — это демон, терзающий людей любой конфессии. Последняя определяет лишь облик, который он принимает. Католика может мучить страх, что он неправильно причастился или неверное число раз произнес «Аве Мария», иудей до смерти боится прочесть не тот раздел Торы в субботнее утро, а мусульманин — на ничтожную долю градуса отклониться от направления на Мекку, совершая намаз. В отличие от людей, исполняющих ритуалы в силу веры (или привычки), больные религиозной скрупулезностью делают это с целью избавиться от тревоги и угнетенности, которые в противном случае ощущают. Все внимание узко фокусируется на том, чтобы все сделать правильно.
Некоторых пациентов Уитцига терзает ужас, что они молятся не Господу, а Сатане. Другие волнуются, что не раскаиваются «должным образом», не постятся, как надо, или слишком часто сталкиваются с дурными числами, например сатанинским 666, чтобы это было случайностью. Кто-то усматривает лукавство в своих самых невинных поступках вроде пересказа неточного прогноза погоды или считает малейшую неискренность смертным грехом. (Некоторые даже считают нужным прочесть и понять каждое слово в бесконечно длинных онлайновых соглашениях, прежде чем кликнуть «Я согласен»!) Люди, которых консультирует Уитциг, утверждают, что посвятили себя Иисусу и ничего другого в жизни не хотят, кроме как следовать воле Господа, — а в результате лишь запутываются в тенетах разума и перестают понимать, в чем заключается эта воля. Им нужен знак, несокрушимо достоверное свидетельство Господней воли, но обсессивно-компульсивное расстройство умеет этому противостоять. Что бы они ни увидели и ни услышали, ОКР шепчет: «Постой-ка, ты уверен, что молния, вспыхнувшая, когда ты взял трубку, чтобы позвонить невесте, была знамением Божьим?» — точно так же, как шепчет другим своим жертвам: «Ты совершенно уверен, что выключил духовку?»
Послушаем рассказ Джейн. Если бы вы имели возможность видеть ее идущей в школу в середине 1980-х гг., когда ей было семь-восемь лет, то почти наверняка решили бы, что это крайне безалаберная девочка, то и дело возвращающаяся, словно что-то выронила. А может, она любопытна сверх меры и назад ее гонит желание рассмотреть забавного жука на земле. На самом деле маленькую девочку преследовали «жуткие-прежуткие» образы пентаграмм и могильных камней с ее именем, видения пожирающего ее адского пламени, богохульства и кощунства, которые неизбежно ускорят ее водворение в ад.
Джейн прекрасно знала, как не допустить, чтобы сатанинские видения материализовались, а богохульства достигли слуха Господня (и не сыграли бы против нее), — проделать в обратном порядке то, что делала, когда они возникли перед ее мысленным взором или слухом, — и возвращалась по собственным следам, словно вор-домушник, уничтожающий улики. Следы не всегда были видны, но Джейн знала, где они находятся, — она шагала назад ровно пять, девять или двенадцать раз, в зависимости от того, сколько успевала пройти за то время, когда ее воображением владела нечестивая картина или мысль. Она считала необходимым идти след в след и проходила собственный путь повторно, словно отматывая время назад и возобновляя жизнь с момента, предшествовавшего кощунству.
После нескольких невразумительных попыток описать взрослым яркие пугающие картины и мысли, вспыхивающие в мозгу, Джейн поклялась себе молчать о видениях, вынуждавших ее выполнять ритуалы. Так безопасней! «Я действительно считала себя дурным человеком, и это не позволяло мне откровенничать», — пояснила она. Она смирилась с необходимостью выполнять действия, которые, как подсказывал внутренний голос, были единственным препятствием для воплощения видений в жизнь. «С одной стороны, каких-то пять или десять секунд вашего времени, с другой — адово пламя на веки вечные, — заметила Джейн. — Какая-то часть моего разума знала, что все это неправда, но это нутряное чувство — тревога, заставляющая действовать компульсивно». Как она поступала, если мысль или образ, которые требовалось стереть, возникали, когда она сидела или лежала? «Следовало принять другое положение, — ответила Джейн. — Таково было правило. Тогда все стиралось».
Скоро, однако, Джейн угодила в западню: «Пока я возвращалась по своим следам, дурная мысль тоже могла вернуться, и мне приходилось стирать уже эти шаги, но при этом я снова видела, что горю в аду, и стирала еще раз, и еще, так что на это уходило уже не пять секунд, а пять минут, а то и двадцать. Бывало, мне не удавалось остановить мысли».
С возрастом мысли и образы, навеянные религией, уступили место земным. Стоило Джейн хотя бы мимолетно подумать, что она провалит тест по математике, как нужно было стереть шаги, пройденные за эти секунды, чтобы опасение не оправдалось. Если «дурная» мысль приходила во время теста, она считала необходимым стереть написанное перед этим, что в условиях ограниченного времени становилось катастрофой. Она опаздывала на уроки, свидания и встречи, лишь бы только не оставить видения нестертыми. Лишь на втором курсе колледжа Джейн узнала, что у нее обсессивно-компульсивное расстройство, и стала ходить к психотерапевту. К моменту нашей встречи она успела посетить пять сеансов. Это в какой-то мере помогло. Она узнала: когда начинают одолевать дурные мысли, нужно сделать паузу, вместо того чтобы кидаться стирать пройденные шаги. Иногда ей удается продержаться хотя бы несколько секунд, и этого порой бывает достаточно, чтобы полностью занять ум мыслями о чем-то безопасном и суметь продолжить путь. «Я испытываю потребность в компульсивных действиях, должно быть, каждый час каждого дня», — призналась Джейн. Тем не менее ей удалось окончить университет, стать магистром в области сохранения биоразнообразия и устроиться на работу в лабораторию эволюционной генетики при крупном государственном университете. «Что-то продолжает происходить в моей голове, и это не часть меня, — сказала она. — Мне страшно остаться один на один с собственным мозгом».
Как ни странно, чем безумнее идея, толкающая больного на компульсивные действия, тем легче она поддается терапии. Два самых успешных метода лечения ОКР задействуют способность мозга к самооздоровлению, а, возможно, и самоисцелению. (Оба — когнитивно-поведенческая терапия и методика внимательности (осознанности) — будут подробно рассмотрены в главе 3.) Если любой из них помогает ослабить или устранить компульсии при ОКР, это происходит благодаря осознанию больного, что убеждение, порождающее компульсию, ошибочно, и это можно доказать и наглядно продемонстрировать. Умные и успешные люди, подобные Джейн, отчасти понимают, что «стирание своих шагов» не отменяет мысль и не переписывает будущее, точно так же как Дейв Атлас сознает, что обращенное к небу лицо не отгоняет старуху с косой от родного порога. Эгодистонный характер ОКР можно обратить на борьбу с болезнью.
Сложность, однако, заключается в том, что предпосылки мягких форм компульсии не являются столь очевидно ложными. Вследствие этого избавить человека от навязчивой потребности определенным образом устраивать стирку, развешивать кухонные полотенца, сервировать стол или шагать за порог труднее, чем от тяжелых состояний. В каком-то смысле мягкие проявления компульсии еще более обременительны для близких, домочадцев и сослуживцев человека с ОКР, чем тяжелые. Они защищены броней обоснованности и логики, вследствие чего борьба с ними кажется делом неблагодарным и неразумным. Мое общение с людьми, имеющими легкую форму ОКР, показало, насколько плохо удается психиатрам и психологам провести четкую грань между психическим расстройством и эксцентричностью.
Глава 3 Лечение как путь к успеху: из сугроба в Голливуд
Первыми словами Итана Смита стали «муха» и «жук», но не потому, что его родители были энтомологами. Дело в том, что с самых ранних лет он испытывал давящий страх проглотить какую-нибудь шестиногую тварь, поскольку из своего детского понимания физиологии вынес убеждение, что у него от этого взорвется голова. Случались у него и типичнейшие проявления обсессивно-компульсивного расстройства. К примеру, он верил, что его непременно начнет тошнить во сне, если не моргать в такт со вспыхивающим двоеточием, разделяющим часы и минуты на экране электронных часов (точки зажглись — зажмуриться, погасли — открыть глаза). Это оказалось идеальным способом часами мучиться бессонницей. Однако в начале 1980-х гг., к шестилетнему возрасту, Итан окончательно остановился на собственном варианте мучительной компульсии — бесконечном поиске у себя симптомов серьезных заболеваний.
Сначала он подозревал опухоль головного мозга при каждой головной боли и менингит при малейшем повышении температуры. В средней школе он уже не расставался с тремя термометрами (один может разбиться, два тоже, отсюда эта страховка подстраховки) и мерил температуру так же часто, как сверстники разглядывали подбородки в надежде обнаружить первые признаки оволосения.
Примерно с двадцати лет Смит успешно занимался актерской работой в Южной Флориде: снимался в рекламе национального уровня и играл роли второго плана на телевидении и в кино. Но, когда ему минуло тридцать, ОКР окончательно его одолело. «Моей компульсией стала компьютерная томография», — пояснил он. У него по-прежнему перехватывало дыхание при мысли, что он, возможно, ударился головой или еще как-то спровоцировал внутричерепное кровотечение. Он был на 99% уверен в этом, и 1% сомнений от его рассудка были бессильны эту уверенность поколебать. Опасность казалась настолько реальной, что Итан стал являться в приемные отделения больниц с жалобами, что действительно ударился головой, лишь бы добиться направления на КТ. В какой-то момент ситуация настолько ухудшилась, что по окончании сканирования, приняв сидячее положение, он подумал, что мог — ведь мог же, никто не поручится в обратном! — стукнуться головой о сам томограф. Эта мысль вызвала такую панику, что он закричал: «Мне немедленно нужно обследоваться еще раз!»
Ученые в точности не знают, откуда берется компульсивная потребность требовать медицинского лечения отсутствующих заболеваний. Некоторые симптомы, например страх головокружения, вызванный убежденностью человека, что он тяжело болен, наблюдаются и при паническом расстройстве. Другие, скажем, обсессивный поиск симптомов и компульсивная потребность лечиться, характерны для ОКР. Однако в последние годы результаты исследований вывели на первый план теорию, согласно которой компульсивное прохождение медицинских обследований и курсов лечения является самостоятельным расстройством. Американская психиатрическая ассоциация назвала его синдромом тревоги о здоровье. Расстройство характеризуется поглощенностью мыслями о тяжелом заболевании, симптомы которого в действительности отсутствуют. По оценкам Ассоциации, в любой момент времени оно наблюдается по меньшей мере у 1,3% совершеннолетних американцев, причем его распространенность растет. Тревога по поводу здоровья в какие-то моменты охватывает каждого из нас, и в исследовании 2015 г., опубликованном в журнале Mindfulness, утверждается, что клинически значимые проявления этой тревожности могут единовременно демонстрировать до 5% всего населения США.
Ученые установили, что лишь малая часть (около 8%) пациентов с тревогой о здоровье (раньше известной как ипохондрия) также имеют ОКР. Хотя у них ОКР наблюдается чаще, чем в среднем в популяции, очевидно, что ипохондрическая тревожность — это самостоятельная компульсия, а не проявление обсессивно-компульсивного расстройства. Наоборот, люди с ипохондрической тревожностью подвержены большему риску развития генерализованного тревожного расстройства (73%, как сообщалось в 2000 г. в журнале Psychiatric Clinics of North America), большой депрессии (47%, в два раза выше среднего уровня) или фобий (38% в сравнении с 23% у остальных людей). Но почему компульсивная потребность обращаться за медицинской помощью не считается разновидностью обсессивно-компульсивного расстройства? Прежде всего из-за разницы в самоощущении тех и других больных. Пациенты с ОКР обычно считают свои тревоги нереалистичными (в этом проявляется эгодистонный характер обсессии) и пытаются с ними бороться, ипохондрики чаще всего убеждены, что тяжело больны. Итан, безусловно, разделял это убеждение, и чувство, диктующее его поведение, было, со всей определенностью, компульсивным. Отчаянный страх заставлял его проходить обследования и диагностические тесты, например КТ, и только это снижало тревогу — что характерно для всех компульсий, лишь на время.
Я спросила Смита, была ли у его навязчивого обращения за медицинской помощью первопричина в виде травмировавшей психику болезни или несчастного случая в раннем возрасте. Он ответил принужденным смешком. Нет, единственное, что он помнит, — это жуткий страх проглотить жука и лишиться головы из-за взрыва. Это согласуется с новейшими исследованиями данного типа компульсивного поведения. В предшествующие десятилетия психиатры считали, что оно восходит к предшествующему опыту — болезни, если не собственной, то кого-то из родных, наблюдаемой вблизи и пугающей. Однако, как дипломатично сформулировали в статье 2014 г. немецкие психологи, «эмпирические свидетельства [в пользу этого представления] недостаточны». Они опросили 240 добровольцев (около трети были здоровы, треть страдала ипохондрической тревожностью и еще одна треть другим тревожным расстройством). О перенесенном в детстве тяжелом заболевании или другом травмирующем опыте вспомнили больше респондентов-ипохондриков, чем здоровых из контрольной группы, но разницы между пациентами с ипохондрической и с другими формами тревожности не наблюдалось. Иными словами, детская болезнь и травма повышают риск развития тревожного расстройства, но оно не обязательно окажется ипохондрическим.
Смит не задавался вопросом о причинах своего компульсивного поведения. Врачи сказали его родителям, что кладут их сына в психиатрическую клинику — возможно, на всю жизнь, — и он очутился в Институте обсессивно-компульсивных расстройств при психиатрической больнице Маклина в пригороде Бостона, где провел два месяца. Во время одного из сеансов психотерапии в январе 2011 г. доктор Джейсон Элиас предложил Смиту изо всех сил ударить самого себя по голове. Он решил применить метод экспозиции и предотвращения реакции, или экспозиционную терапию (ЭТ), — стандарт в лечении обсессивно-компульсивного расстройства. Метод заключается в столкновении пациента с тем, что провоцирует его компульсии (если это микробы, нужно, например, прикоснуться к дверной ручке в общественном здании), причем провокация становится все более сильной (сладив с дверными ручками, пациент пытается потрогать унитаз в общественном туалете), а совершение компульсивного действия (вымыть руки) запрещается. Поскольку компульсия Смита проявлялась в обращении за медицинской помощью, его лечение заключалось в том, чтобы получить слабенький, совершенно безопасный шлепок по голове, а затем попытаться — просто попытаться! — не бежать в приемный покой, требуя компьютерную томографию.
«Я отказался бить себя, и мне сказали, что вызовут охрану, если я не подчинюсь», — вспоминает Смит. В отчаянии он, наконец, шлепнул себя по голове, и психотерапевт восхитился его «прогрессом». Смита, однако, переполняло отчаяние, какого он никогда не испытывал. Шатаясь, он выбрался из кабинета на выстуженные бостонские улицы.
Не подчинившийся
Саймон Рего наклоняется и хлопает ладонью по напольному ковру в том месте, где оказывается дверь его кабинета, распахнутая настежь. «Как вам это место? — спрашивает он. — Можете вы прикоснуться здесь, где никто никогда не ходил?» Стремительно разогнувшись, он трогает выключатель на стене: «А здесь? Или к обратной стороне этого сиденья? А к самому сиденью, куда люди помещают свои зады? Что вы думаете о двери со стороны кабинета? Я единственный, кто ее трогал? А снаружи? Не кажется ли она более грязной, поскольку выходит в приемную?»
Рего, клинический психолог, только что завершил прием очередного пациента и теперь расхаживает по своему кабинету в медицинском центре Монтефиоре в Бронксе, убеждая меня в том, что экспозиционная терапия вовсе не тот кошмар, каким воспринял ее Итан. ЭТ возникла в 1960-х гг., когда британский психолог Виктор Мейер применил к людям метод, помогавший испуганным животным. Если крыс долгое время вынуждали сталкиваться с предметом их страха, не давая возможности убежать, страх ослабевал. Во время Второй мировой войны Мейер, служивший военным летчиком, был сбит над Францией и оказался в немецком плену. Экспозиционную терапию он впервые использовал в 1966 г. в Мидлсексской больнице в Лондоне при лечении пациентки, испытывавшей ужасный страх перед загрязнениями и посвящавшей большую часть времени мытью. После неудачи шоковой, медикаментозной и психотерапии Мейер и его медсестра вынудили больную контактировать с предметами, вызывавшими у нее тревогу, а главное, не позволяли ей мыть вещи или руки, попросту перекрыв подачу воды в ее палату. Через четыре недели такого режима тревожность пациентки начала спадать. Через восемь недель мытье все еще оставалось компульсивным, но уже не поглощало ее целиком, хотя назвать ее здоровой было, конечно, нельзя. ЭТ и сегодня является наиболее часто используемым методом лечения обсессивно-компульсивного расстройства.
Психологический фундамент ЭТ заключается в том, что обсессии убеждают больных ОКР в неминуемости катастрофы и в том, что избежать ее позволяет лишь выполнение определенного действия (проверка, что дверь заперта, прикосновение к поручню в вагоне метро, смывание болезнетворной городской грязи с рук…). Поскольку выполнение компульсивного действия снимает тревогу, мозг усваивает, что это единственное эффективное средство против невыносимого страха, и приучается совершать компульсивное действие столь же быстро, как действовал бы любой из нас при виде маленького ребенка, балансирующего на краешке лестничной площадки.
Экспозиционная терапия заставляет вас наблюдать за малышом, не вмешиваясь, достаточно долго, пока вы, наконец, не увидите, как проказник благополучно отползает на безопасное расстояние от края. Видите? Вы не послушались своей компульсии, но все обошлось. Разумеется, терапевты в действительности не рискуют жизнями маленьких детей, но в представлении пациента происходящее не менее драматично. ЭТ постепенно подвергает больного воздействию ситуаций или предметов, провоцирующих тревожность. Предполагается, однако, что человек сопротивляется побуждению выполнить компульсивное действие и теоретически ждет, когда тревога уляжется сама собой. Это учит его, что тревога может пройти и проходит. Когда имеет место обсессивная ситуация, а компульсивная реакция на нее невозможна, уровень тревоги растет, но ничего ужасного не происходит, замечает мозг. «Вы встречаетесь лицом к лицу с опасностью, которую ваш ум считает неотвратимой и смертельной, но ничего не предпринимаете, чтобы себя защитить, — разъяснил Джефф Шимански. — Проявляя силу воли, чтобы узнать, что при этом случится или не случится (у вас не начинается болезнь, после того как вы потрогали дверную ручку и не вымыли руки), вы постепенно заставляете свой разум осознать, что все эти ужасы крайне маловероятны».
Терапевты, использующие метод ЭТ, разработали шкалу ужаса. Если больного одолевает страх перед вездесущими микробами, ему предлагается потрогать предмет, контакт с которым наверняка заставил бы его мыть руки где угодно и в каких угодно условиях. Затем пациент оценивает тревогу, которую испытывает при прикосновении, скажем, к ручке двери в кабинете врача, в баллах: «10» (я умираю), «9» (я на грани смерти), «8» (возможно, на этот раз я не умру, но…), «7» (это ужасно!), «6» (это неприятно), «5» (мне не нравится это ощущение) и так далее до «1» (я не чувствую дискомфорта) и «0» (я совершенно спокоен). Психотерапевт не убеждает и не подбадривает больного — никаких «успокойтесь, вы же знаете, что здесь нет смертельных микробов». Пациент должен испытывать убийственную тревогу, поскольку это единственный способ снизить восприимчивость и добиться привыкания. Аналогично, температура в доме на уровне 10 ºС (пример из личного опыта) приучает вас к холоду.
Поэтому Рего вихрем носится по кабинету, трогая выключатели, пятна на ковре и дверные панели — делая то, что предложил бы пациенту. «Нужно подняться достаточно высоко по десятибалльной шкале, чтобы чему-то научиться, — замечает он. — Итак, сиденье этого стула пугает вас на четыре балла? Отлично, когда будете готовы, положите на него ладонь. Задержите ее там. Что вы чувствуете? Как опишете свои ощущения? Держите ладонь прижатой достаточно долго, чтобы почувствовать, как нарастает и спадает тревога. Если вы отдернули руку, скажите, что заставило вас ее отдернуть? Что вы ощущали за мгновение до этого?»
Обычный курс лечения — это 16 еженедельных сеансов примерно по 45 минут плюс домашняя работа: пациент должен практиковать ЭТ дома, в идеале ежедневно. Желательно при этом менять воздействия, которым себя подвергаешь. Больная с навязчивым страхом сбить пешехода должна ездить по переулкам и автотрассам поздним вечером и в течение дня, в пасмурную и в солнечную погоду, с пассажирами и одна — всякий раз переезжая, к примеру, «лежачих полицейских» и не позволяя себе вернуться и проверить, не человек ли то был. «Вариативность помогает мозгу обобщить опыт», — объяснил Шимански: постепенно мозг учится снижать тревогу, вызванную обсессией, и пресекать стремление выполнять компульсивное действие.
Шэле Найсли этот метод помог. С помощью психотерапевта она научилась смотреть на холодильник, чувствуя, как неумолимо нарастает страх за Фреда, но не уступая побуждению открыть дверцу. Она прибегла и к разновидности ЭТ, которую можно было бы назвать экстремальной, принуждая себя браться за дверные ручки в общественных местах, даже если ей не нужно было открыть дверь, и есть с пола несколько раз в неделю, чтобы совладать с навязчивым страхом загрязнения. По словам Найсли, «это стоит риска подхватить простуду или другой пустяк» из-за намеренного контакта с микробами, главное — «что ОКР теперь под контролем». «Я все еще больна обсессивно-компульсивным расстройством, — сказала она. — Но хотя временами оно меня беспокоит, теперь это малость».
В среднем больные ОКР обращаются к трем психотерапевтам, прежде чем найдут компетентного, и получают эффективное лечение лет через четырнадцать после того, как обсессивно-компульсивное расстройство пустит первые корни у них в мозгу. Ни один из специалистов по ОКР, к которым обращалась Карли (с навязчивой потребностью считать буквы наряду с прочим), не владел методом экспозиционной терапии. И это в Нью-Йорке, где не наблюдается недостатка в психиатрах! Один применял гипноз, доказательства эффективности которого отсутствуют. Я пообщалась со случайно выбранными психотерапевтами на собрании IOCDF в Атланте, и добрая половина из них — в том числе утверждавшие, что лечили или хотели бы лечить обсессивно-компульсивные расстройства — не имели ни малейшего представления об ЭТ, тем более не знали, как ее проводить. «Сертификационных испытаний по лечению ОКР не существует, — сказал психолог Джерри Бабрик, специалист из Нью-Йоркского Института детской психики. — Врачи-клиницисты берут руководство по лечению ОКР, пролистывают его и заявляют, что умеют лечить эту болезнь. Нет ни стандартизации, ни фактически ответственности». Тем более что многие пациенты, состояние которых не улучшилось, винят в этом себя, а не врача.
Даже встреча с компетентным психотерапевтом еще не гарантия выздоровления. От четверти до половины людей с обсессивно-компульсивным расстройством отвергают экспозиционную терапию, порой еще до ее начала, поскольку просто не могут выдержать такое испытание. Как показывают исследования, у пациентов, реагирующих на ЭТ, выраженность симптомов заболевания снижается на 60–80%. Заметим, что эти цифры относятся только к тем, кто реагирует на терапию, и исключают больных, не сумевших вынести ни одного сеанса. Возникает подозрение, что экспозиционная терапия помогает в самых благоприятных для лечения случаях и что больные, которым она идет на пользу, — это люди, в принципе способные выдержать тиранию обсессивно-компульсивного расстройства.
Как же остальные? При отсутствии квалифицированных специалистов многие жертвы ОКР оказываются на попечении обычных терапевтов, способных разве что выписать рецепт на пароксетин, золофт, прозак и другие селективные ингибиторы обратного захвата серотонина. Любой пациент скажет, что банальное подсаживание на антидепрессанты оборачивается тяжелыми последствиями, нередко вызывая апатию, нервозность, тошноту, бессонницу и утрату сексуального влечения, испаряющегося быстрее, чем вода с раскаленной жестяной крыши.
У лекарств и экспозиционной терапии есть альтернатива, которая многим больным ОКР кажется как более эффективной, так и более переносимой. Это когнитивная терапия, основанная на осознанности. Изначально техника медитации, осознанность предлагает вам мысленно выйти за пределы своей личности и со стороны наблюдать содержание своего сознания без нетерпения, осуждения и эмоциональной вовлеченности. Определение «когнитивная» означает, что осознанность должна быть направлена на оценку ваших мыслей. Прием осознанности в терапии обсессивно-компульсивного расстройства впервые применил психоневролог Джеффри Шварц из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе. К примеру, пациенты учатся объяснять себе, что их обсессия — всего лишь ложный сигнал мозга, а не индикатор реальной опасности. «Осознанность задействует эгодистонный характер обсессии», — сказал Шимански из IOCDF. Поскольку примерно для 97% больных ОКР сообщение мозга «что-то не в порядке» противоречит тому, что они считают истинным, они получают преимущество при отслеживании своих мыслей — им проще увидеть в источнике тревоги обычные помехи, аберрацию сознания, нейронный шум. Поэтому применение техник осознанности представляется простым делом, хотя простота эта кажущаяся. Шварц и другие специалисты накопили свидетельства того, что этот метод вносит в работу мозга изменения, сопоставимые с результатами занятий медитацией: снижается активность гиперактивных зон, вероятно, являющихся источником ОКР. Детальные сравнения когнитивной терапии и ЭТ как методов лечения тревоги о здоровье (именно от нее страдал Итан Смит) — например, группой психолога Флориана Века из Майнцского университета в Германии — показали, что при применении обоих методов в течение 12 месяцев достигается ремиссия в 55% случаев. (Результаты исследования опубликованы в 2015 г. в Journal of Nervous and Mental Disease.)
Сегодня, в эпоху повальной киберхондрии — когда люди выискивают в интернете свои симптомы и утверждаются в мысли, что больны страшным неизлечимым недугом, — это благая весть. Когнитивная терапия, основанная на осознанности, продемонстрировала огромную эффективность в борьбе с тревогами, навязчивыми мыслями и сверхнастороженным отношением к ощущениям в теле, которые очень легко вызвать, просто заметив покраснение, до ужаса похожее на поражение кожи при лихорадке Зика. Психиатры Оксфордского университета описывают следующий случай. Женатый мужчина немного за сорок перенес серьезную операцию на сердце и с тех пор в течение десяти лет страдал от тревоги по поводу здоровья. Он постоянно измерял параметры дыхательной деятельности и любую мелочь, включая небольшую одышку, считал признаком приближающегося инфаркта или другой беды, предотвратить которую могла только экстренная медицинская помощь. Когнитивная терапия, основанная на осознанности, помогла ему понять, что «его ум создает сценарии катастроф» (как было сказано в статье 2015 г. в журнале Mindfulness), однако он может научиться видеть в этих сценариях безосновательные выдумки, а в провоцирующих тревогу ощущениях — всего лишь небольшую боль или дискомфорт. После восьми двухчасовых еженедельных сеансов он начал понимать, «что мысли, приходящие ему в голову, — это "просто мысли" и что он может, "не сходя с ума", принять их и впустить в свой разум», писали далее исследователи, благодаря чему «теперь он физически находился в "здесь и сейчас", а не в этих сценариях». Через восемь недель его ипохондрическая тревога в значительной мере развеялась.
Вернемся к Итану Смиту, сбежавшему с сеанса экспозиционной терапии.
Уверенный, что умрет без экстренной врачебной помощи, но доведенный до ужаса мыслью, что его выгонят из больницы Маклина за обращение к врачам, Смит подхватил с тротуара острый камень и разбил себе голову. В панике он сочинил историю, что поскользнулся, упал и сильно поранился, но подумал, что ей не хватает достоверности, и для большей убедительности лег и сунул голову в сугроб. Смит замерзал в снегу 25 минут, пока случайный прохожий не набрал 911. Смит наконец получил свою томографию.
Его все-таки выгнали из Института обсессивно-компульсивных расстройств, раскусив его хитрость и решив, что жестокость из милосердия — единственное, что еще может ему помочь. Родители отвернулись от него, заявив, чтобы он не смел появляться на пороге их дома во Флориде, иначе они вызовут полицию. Совершенно опустошенный, Смит снял конуру в трущобах Южного Бостона и шесть дней пролежал в кровати.
Он не просто лежал, вставая только, чтобы сходить в туалет, на кухню перекусить или к двери, чтобы получить пиццу с доставкой. Нет, Смит буквально не покидал кровати шесть дней, в течение которых не ел, не пил и мочился под себя. «Смерть казалась единственным выходом, но я не хотел умирать», — вспоминал он. Он понял, что есть лишь один способ не умереть — встать с постели и пойти в магазин на углу. Жажда жизни сумела разорвать смертельную хватку болезни. Выживание стало важнее компульсии. Лечащие врачи в Маклине приняли его назад, он терпел сеансы экспозиционной терапии три раза в неделю и снова стал дееспособным. Нашел работу в магазине гитар, познакомился с девушкой и начал жить нормальной жизнью. В 2011 г. Смит переехал в Лос-Анджелес, где ныне работает писателем, режиссером и продюсером. На Международной конференции по ОКР в Лос-Анджелесе в 2014 г. он являлся основным докладчиком.
Смит не излечился, но навязчивое желание пройти компьютерную томографию больше не парализует его. То, что он понял в лечебнице Маклина и на улицах, каким-то образом подействовало, он научился отделять человека по фамилии Смит от патологии — его компульсивной зависимости от КТ и делает все возможное, чтобы они не слились снова.
Глава 4 В тени ОКР: когда добросовестность переходит грань разумного
Сначала Бьянка не имела ни малейшего представления, почему считает необходимым поддерживать в своем просторном трехэтажном доме порядок как в казарме и чистоту как в операционной. Каждый стул должен стоять в определенном месте и ни в каком другом. Полотенца в ванной складываются единообразно: светлые вверху стопок, темные внизу. Посудомоечная машина загружается по строгой схеме, не допускающей отклонений: принадлежности для готовки вертикально, большие тарелки (всегда ставящиеся первыми) у задней стенки, средние впереди, чашки и стаканы поверх остальной посуды в нисходящем порядке от больших к маленьким. На кухне высокие стаканы помещаются в правой части верхней полки серванта точно над низкими, а средние — в левой части, чашки одного цвета висят все в одном месте, тогда как разномастные ссылаются в кухонный шкаф. Между тем Бьянка не фанатичная домохозяйка, уверенная, будто дом должен быть похож на натюрморт. Когда в гости приходят родные и приемные дети и внуки и все переворачивают вверх дном, она не испытывает невыносимой тревоги, как иные больные обсессивно-компульсивным расстройством при виде стула, стоящего не под идеальным прямым углом к столу. «Я знаю, что могу снова все разложить, как нужно, и не раздражаюсь, — замечает она. — Но я определенно испытываю острую потребность это сделать. Я привыкла спрашивать себя: Какую каверзу мир готовит для меня на следующий раз? Чего теперь от него ждать? Моя система дает мне контроль над происходящим хотя бы в четырех стенах моего дома».
Умеренная компульсия Бьянки со временем вышла за пределы родных стен. В годы работы настройщицей пианино она испытывала потребность перепроверять каждую ноту, в беспокойном состоянии снова и снова возвращаясь к уже настроенным, не в силах остановиться на достигнутом. В норме процесс настройки длится шестьдесят минут, но Бьянка регулярно тратила на работу два с половиной часа. Мысль о том, что какой-то тон мог втихаря сползти или подняться на волосок, изводила ее, словно жужжащий в голове комар. Ее ежеутренние процедуры также несколько компульсивны. Она каждый день встает в шесть, 45 минут занимается йогой, а затем час с четвертью ездит на велосипеде по району. «Все это полезно для меня, — говорит Бьянка. — Но главное, мне просто нравятся мои привычки. Они меня успокаивают».
В ходе нашей беседы начинают всплывать эмоциональные источники ее глубокой потребности в контроле. Бьянка росла в Европе в 1950–60-х гг. и почти ничего не решала в своей жизни, включая такие повседневные вещи, как выбор платья, стрижки или мебели для собственной комнаты. «Даже друзей и занятия для меня выбирали», — говорит она. Чувство, что ее судьба всецело находится в чужих руках, было весьма некомфортным и усугублялось тем, что она никогда не знала, «какая у меня будет мама на следующее утро». Настроение ее матери непредсказуемо менялось от неконтролируемого бешенства к сердечности и тут же к отчужденности. Из-за этого Бьянка не имела твердой почвы под ногами, той эмоциональной основы, которую создает предсказуемый родитель.
Она справлялась как умела, выработав стратегию, доведенную до совершенства еще в детские годы. Семья проводила лето на старой ферме, и всякий раз по прибытии дом нужно было проветрить, отмыть от пыли и паутины — словом, сделать пригодным для жизни, а газон постричь и прочесать граблями. Как-то раз мать дрогнула перед лицом этой прорвы дел. «Она была в полном отчаянии, и я сказала, что незачем заниматься всем этим прямо сейчас. Мы устали после долгой дороги. Можно для начала расчистить кусочек газона, вынести стол и несколько стульев и устроить уютный уголок, — вспоминает Бьянка. — Именно тогда я поняла: пусть я не могу исправить все, но, если хотя бы небольшой кусочек целого в порядке, если есть островок, где я в состоянии ясно мыслить, значит, все хорошо».
Потребность создавать островок порядка и покоя в море хаоса и смятения усилилась, когда Бьянка, двадцати с небольшим лет, переехала из Швейцарии в Соединенные Штаты. Разведенная мать-одиночка, пытающаяся найти свой путь в чужой стране, она пользовалась любой возможностью взять под контроль собственную жизнь. «Для меня стало важно, чтобы каждый предмет находился на своем месте и каждое дело делалось определенным образом даже в таких мелочах, как расстановка стульев или кофейных чашек, — говорит Бьянка. — Благодаря этому я испытываю умиротворение, чувствую, что есть вещи, над которыми я властна. Если я не имею возможности сделать все так, как хочу, то могу это терпеть, пока хотя бы в одном маленьком уголке царит идеальный порядок». В одном маленьком уголке, таком как клочок газона у стены фермерского дома! «Запустив дела, я чувствую сильный стресс и тревогу, пока не наведу порядок». Это напоминание самой себе, что она уже не маленькая девочка, чья жизнь и в большом, и в малом зависела от чужих капризов.
Теневые синдромы
На рубеже тысячелетий многие психиатры начали наклеивать ярлык психического заболевания на все и вся. Люди, страстно ищущие безупречный рецепт устриц под соусом киноа или воплощение платоновской идеи чиабатты по-тоскански, уже не просто лакомки, а жертвы «синдрома гурмана», утверждает команда ученых. Разведенные отцы, забывающие перечислять алименты, из безответственных эгоистов или просто поганцев превратились в больных с «синдромом зависимости от окружения», неспособных сосредоточиться ни на чем, что не находится у них перед глазами. И вовсе не безалаберность и не привычка все откладывать на потом мешает вовремя заполнять налоговые декларации, а «нераспознанная взрослая форма синдрома дефицита внимания», согласно книге 1997 г. «Теневые синдромы» (Shadow Syndromes).
Один из авторов книги, психиатр Джон Рэйти из Гарвардской медицинской школы, продвигал предложенный в заглавии термин в качестве обозначения легких форм психической болезни. Он опирался на теорию, согласно которой поведение, мысли и эмоции человека, которые прежде считались чудаковатыми, эксцентричными, странными или просто необычными, в действительности являются проявлениями психиатрических нарушений. Количество новых недугов росло как снежный ком. Создавалось впечатление, что психиатры пытаются внушить нам мысль, что все мы немного того.
Разумеется, последовала ответная реакция. Критики этого подхода объясняли его стремлением увеличить доходы психотерапевтов. «Это помешательство на деньгах», — писал психолог из Гарварда Ричард Макнэлли в книге «Что такое психическое заболевание?» (What Is Mental Illness?), изданной в 2011 г. Одна из крупнейших фигур в области психиатрии, бывший редактор DSM доктор Аллен Фрэнсис сетовал в эссе, опубликованном в 2010 г. в Psychiatric Times, что «проявления, прежде считавшиеся трудностями и горестями повседневной жизни, теперь зачастую объявляются психическим расстройством и лечатся таблеткой. Чудаки, которых следовало бы просто принимать такими, как есть, получают клеймо больных». Не все идиосинкразии и причуды, даже если за ними стоит острая тревога, питающая компульсии, являются симптомами психического расстройства, утверждал он и другие специалисты.
Противники расширения границ понятия душевного расстройства указывали, что грань между здоровой и больной психикой колеблется под влиянием меняющихся культурных норм, что ставит под сомнение предлагаемые сторонниками противоположного подхода научные обоснования теневых симптомов. Например, в 1850 г. врач из Луизианы Сэмьюэл Картрайт заявил ассоциации врачей штата об открытии до сих пор неизвестного заболевания. Он предложил назвать его драпетоманией, от древнегреческих драпетес (беглый раб) и мания (бредовая идея). Именно это психическое заболевание заставляет «негров убегать» от хозяев, объяснял он на страницах новоорлеанского медицинского журнала, поскольку только сумасшедший пытается бежать из рабства. Побег служил основным симптомом драпетомании, но были и второстепенные: недовольство тем, что являешься собственностью другого человека, и угрюмый нрав. Прежде чем высмеять (или оплакать) невежество непросвещенного века, вспомним, что до 1973 г. Американская ассоциация психиатров считала гомосексуальность психическим расстройством.
Стремление усматривать психическое отклонение в любой эксцентричности окончательно и бесповоротно опровергается одним критерием, который долгое время считался в психиатрии обязательным: чтобы поведение считалось симптомом душевной болезни, оно должно вызывать стресс или недееспособность. Многим из нас небольшие компульсии, наоборот, помогают жить нормальной жизнью и устраняют тревожность — отличительный признак компульсивного поведения. Они успокаивают, а не угнетают, помогают, а не разрушают жизнь. Одного этого достаточно, чтобы утверждать, что у Бьянки нет психического расстройства.
Хотя кампания под лозунгом «все мы немного психи», в общем, провалилась, представление о психическом здоровье как о континууме осталось — прежде всего, благодаря открытиям нейробиологии и генетики. Полученные методом нейровизуализации паттерны мозговой активности и нейронных цепей, связанных с рядом психических расстройств, неоднозначны. Аналогично революция в генетике последних двадцати лет принесла данные о том, что риск развития того или иного душевного расстройства может определяться множеством генов, и за редкими исключениями наличие единственного дефектного гена необязательно вызывает болезнь, а его отсутствие не гарантирует здоровья. «Идея континуума стала для генетики величайшим прорывом, — сказал специалист в области нейронаук Стэнфордского университета Роберт Сапольски. — Согласно ей, средний генетический груз [обусловленный действием генов, отвечающих за поведение и эмоции] оборачивается расстройством личности, несколько более легкий — некоторой странностью характера, еще более легкий делает вас самым обычным американцем». К примеру, около дюжины генов могут предопределять черту личности, которую психологи называют «поиском новизны», но все двенадцать проявляются лишь у немногих. Человек с десятью такими генами рискует стать героиновым наркоманом, а с одним-двумя всего лишь извертится при просмотре фильма, который уже видел, или будет непостоянным, возбудимым, вспыльчивым и чуточку экстравагантным — люди именно такого типа становятся исследователями, изобретателями и реформаторами. Целый ряд генов отвечает и за невротизм. Родители, нервно поглядывающие на часы, если ребенка-подростка вечером нет дома, возможно, имеют один или два таких гена[11], но для развития дисфункциональной агорафобии нужны все десять или двенадцать.
В первоначальном виде теория теневого синдрома объявляла всех этих людей душевнобольными в легкой (исследователи и обеспокоенные родители) или тяжелой (наркозависимые и агорафобы) форме. В настоящее время психиатрия признает, что никакое психическое состояние не является чем-то изолированным — это часть континуума, где границы между патологией и чудаковатостью, болезнью и эксцентричностью, ненормальностью и нормой колеблются вместе с изменениями в медицине и культуре, — и что термин «психическое расстройство» применим лишь к малой части этого континуума. Великое множество самых обычных поступков приближается к границам между болезнью и здоровьем, не нарушая их. Утверждать обратное означает доходить до абсурда, объявляя «душевнобольными» большой процент населения — таких людей, как Бьянка, имеющих легкие компульсии, но чье поведение не соответствует психиатрическому диагнозу.
Множество исследований показали, к примеру, что тревожность может заставить человека создать в своем мире уголок, где он обладает некоторой властью. Приведу один пример. Мартин Лэнг, в то время изучавший антропологию на последнем курсе Университета Коннектикута, с группой товарищей поставил перед 61 добровольцем (ими стали студенты Масарикова университета в Чехии) следующую задачу. Одним предстояло выступить перед искусствоведами с пятиминутной речью о металлическом декоративном предмете, стоящем перед каждым на столе, другим — просто смотреть на это произведение искусства и размышлять о нем. Всех снабдили датчиками сердечного ритма и акселерометрами (для измерения движений каждого запястья). Через три минуты ожидания авторы эксперимента предлагали участникам вытереть предмет влажной тряпкой, пока он не покажется им чистым. Наконец, следовало объявление, что искусствоведы не смогут прийти, и потенциальные докладчики освобождались от (предполагаемого) испытания.
Добровольцы, готовившиеся выступать, волновались сильнее тех, кто ожидал чужих выступлений, и датчики сердечного ритма это подтвердили — у них учащался пульс. Данные акселерометров оказались еще более красноречивыми. Самые обеспокоенные участники — те, что готовились выступать перед специалистами, — чистили предмет иначе, чем не испытывавшие подобного давления. Они действовали более предсказуемо и тщательно, совершая больше повторяющихся движений, — мы бы сказали, компульсивно, как сообщили Лэнг с коллегами в журнале Current Biology в 2015 г. «В сложной, неуправляемой и непредсказуемой ситуации» мозг охватывает тревога, поскольку он не знает, чего ждать. Чтобы справиться с этим стрессовым состоянием, люди склонны совершать действия, возможно, никак не связанные с тревогой, однако помогающие «восстановить ощущение контроля над ситуацией». «Вернувшееся ощущение контроля может привести к ослаблению тревоги», — заключили исследователи.
Едва ли вам когда-нибудь нужно было произвести впечатление на искусствоведов, но многие испытывали тревогу ввиду предстоящих переговоров. Вы готовились и сделали все что могли, но еще больше повысить управляемость ситуации уже не в ваших силах, и остается нервно наводить порядок в прикроватной тумбочке. Может быть, вы волнуетесь перед знакомством с родителями своего партнера — и компульсивно драите ванну. Почти наверняка вы знаете людей с подобными компульсиями. Их можно встретить где угодно: на улице, в соседнем номере, в вашей группе йоги, в постели рядом с вами… или даже в зеркале.
Раздутая добросовестность
Согласно широко используемой в психологии пятифакторной модели («Большой пятерки»), личность любого человека определяет комплекс из пяти черт: большая или меньшая выраженность доброжелательности, открытости (новому опыту), нейротизма, экстраверсии и добросовестности совместно образуют все неисчерпаемое многообразие человеческих типов. Хотя психологи спорят, насколько надежна эта система, она, бесспорно, отражает тот факт, что любого человека отличает большее или меньшее присутствие каждого из составных элементов личности. Самую тесную связь с компульсией среди этих элементов имеет добросовестность.
Наиболее ярко проявляющаяся в склонности к дисциплине, осмотрительности и обязательности, особенно в плане нравственности и ответственного отношения к семье и обществу, добросовестность также характеризуется стремлением к компетентности, любовью к порядку и целеустремленностью. Напротив, низкая добросовестность делает человека беззаботным, импульсивным, спонтанным и гедонистичным, а также безответственным, расторможенным и безалаберным. Высокодобросовестные представители рода человеческого — самоотверженные труженики с твердыми, часто незыблемыми моральными принципами и твердыми убеждениями. Люди со средней выраженностью этого качества готовы идти на местные выборы, до которых больше никому нет дела, или шлифовать презентацию для клиентов, когда сослуживцы убежали на обед. Именно эти удивительные существа ни на йоту не отступят от идеальной системы сортировки мусора. Ближе к крайней части спектра помещаются перфекционисты и трудоголики, люди, приверженность которых к порядку достигла степени одержимости правилами и списками, стремление к достижениям вылилось в компульсивную борьбу за карьерный рост и привычку, что называется, гореть на работе, а жажда компетентности приняла гипертрофированную форму перфекционизма. На этом полюсе добросовестность переходит границу нормы и превращается в обсессивно-компульсивное расстройство личности (ОКРЛ).
Таким образом, в спектре имеет место прерывность. Крайняя выраженность добросовестности может быть проявлением ОКРЛ, но крайняя степень ОКРЛ не есть обсессивно-компульсивное расстройство. ОКРЛ — это не мини-ОКР. К общему удивлению непрофессионалов и специалистов, лишь немногие больные обсессивно-компульсивным расстройством также имеют обсессивно-компульсивное расстройство личности и наоборот. То есть немногие люди с ОКР отличаются еще и чрезвычайной добросовестностью, дисциплинированностью и обязательностью, и немногие больные ОКРЛ страдают от парализующей тревожности, характерной для ОКР. Исследование, проведенное в начале 1980-х гг. под руководством психиатра Медицинской школы Университета Брауна Стивена Расмуссена, установило, что менее 20% совершеннолетних больных ОКР имеют еще и ОКРЛ, а больных ОКРЛ, имеющих вдобавок ОКР, и 20% не наберется. В конце 1980-х гг. психиатры облегчили диагностические критерии обсессивно-компульсивного расстройства личности, но и тогда доля лиц с ОКР, больных еще и ОКРЛ, не превысила 30%. Это даже не самый распространенный диагноз из группы расстройств личности у обсессивно-компульсивных пациентов. Еще в 1993 г. психиатры установили парадоксальный факт: если у больного ОКР имеется расстройство личности, это вряд ли будет обсессивно-компульсивное расстройство личности. (Об этом сообщалось в American Journal of Psychiatry за август того же года в статье ученых под руководством психиатра Дональда Блэка из Медицинской школы Университета Айовы).
Действительно, компульсивные черты не уникальны и даже не более характерны для людей с обсессивно-компульсивным расстройством личности. Эти черты равномерно распределены в популяции. Примерно три четверти больных ОКРЛ постоянно требуют от других людей выполнять то или иное действие строго определенным образом, и это неудивительно. Однако эта черта свойственна еще большему проценту пациентов с другими диагнозами — нарциссизмом и пассивной агрессией.
Разрыв между ОКР и ОКРЛ проявляется еще и в том, что компульсии при том и другом заболевании не имеют между собой практически ничего общего. Если постараться, можно эмпирическим путем доказать человеку с обсессивно-компульсивным расстройством, что его страхи не имеют реальных оснований. Можно взять мазок с его руки и продемонстрировать, что он не кишит патогенной микрофлорой. Можно заставить его наступить на трещину в асфальте, а затем убедиться, что его мать по-прежнему жива-здорова. И, конечно же, можно показать Шэле, что Фред находится в гостиной, а не в холодильнике. Напротив, компульсии больного ОКРЛ обычно прочно коренятся в реальности. Развешивание ковриков для ванной на просушку после использования действительно не дает им заплесневеть, выключение света в пустой комнате действительно экономит электроэнергию. Да что там говорить, вы найдете почти все эти «правила» не в одной, так в другой версии «Пятидесяти способов спасти нашу планету» (включайте посудомоечную машину, только когда она полностью заполнена; закрывайте кран, пока чистите зубы) или «Как защитить дом от микробов: десять советов». Если упорное желание есть органические продукты, пить дистиллированную воду, тщательно прожаривать курятину или заниматься физическими упражнениями по 50 минут в день — это проявление ОКРЛ, значит, этот диагноз можно поставить большей части американцев из верхушки среднего класса.
Самое главное, компульсии при ОКР воспринимаются как действия, которые вы вынуждены выполнять под давлением внешней силы. По сопутствующим ощущениям они эгодистонны. Компульсии больного обсессивно-компульсивным расстройством личности, наоборот, эгосинтонны: они кажутся ему рациональными, очевидными и разумными, представляются выражением глубинных убеждений, ценностей и потребностей. Он-то прав, это весь остальной мир свихнулся. В силу эгодистонного или эгосинтонного характера ОКР и ОКРЛ (не говоря о компульсивности, недотягивающей до ОКРЛ) совершенно по-разному переживаются пациентами. При ОКР компульсии воспринимаются как следствие деятельности «взбунтовавшегося» мозга, а при ОКРЛ или крайней добросовестности — как проявление собственного «Я».
Лайза Джейн определяет себя через свою компульсивную добросовестность. Если вам нужно починить компьютер, вы обратились по адресу. Когда ноутбук отрубается, объяснила она, «обычно люди решают: "Пусть все идет к чертям, я отформатирую жесткий диск"». Форматирование — это быстрая помощь компьютеру, которому вроде бы ничем больше не поможешь (например, вылетевшему в синий экран), но при этом теряются сохраненные документы, установки и программы, и пользователю приходится все восстанавливать с нуля. «Я бы ни за что так не сделала, — утверждает Лайза. — И я горжусь этим. Я не могу остановиться — требую, чтобы меня пустили поискать вирус или другую причину проблемы. Я трачу на это столько времени! Нарабатываю, должно быть, на двадцать пять центов в час. Но я никогда не отступаюсь. В лепешку расшибусь, а сделаю, и сделаю как следует».
Благодаря такому отношению к работе начальство тебя «обожает», замечает она. В этом проявляются некоторые преимущества компульсивной личности: педантичность и организованность, привычка высоко ставить планку и стремление к совершенству. Однако у этой медали есть и оборотная сторона. «В результате ты слишком многое делаешь сам», по словам Лайзы Джейн, ведь никто больше не соответствует твоим стандартам. Несмотря на этот побочный эффект, она не может отключить свою добросовестность, которую ощущает как тщательно продуманное и взвешенное проявление своих ценностей и ума. «Мне трудно поверить, что так жить неправильно», — говорит Лайза. Мысль о том, чтобы понизить планку, порождает тревогу, для подавления которой и потребовалась компульсия: «Для такого человека, как я, совершенно нормально жить в постоянной тревоге. Я просто стараюсь все делать хорошо или исправлять то, что нужно исправить».
«Безумные правила»
У каждого из нас есть личные предпочтения и привычки, но для человека с ОКРЛ только его выбор рационален и имеет для него нравственную, научную и логическую силу десяти заповедей и трех законов Ньютона вместе взятых. Это даже не выбор — императив. Такой человек считает свое поведение не просто оправданным, но безоговорочно превосходящим любой иной способ выполнения даже самых обыденных действий, и, если кто-то отклоняется от его предписаний, человек с ОКРЛ не в состоянии этого ни понять, ни вытерпеть. Для ОКРЛ характерно «избыточное рациональное обоснование собственного поведения», по словам хозяина онлайнового форума об этом расстройстве, представившегося Полом. Это обсессивно-компульсивное расстройство много размышляющего человека: компульсивная личность подкрепляет свои императивы логичными, продуманными и нравственно безупречными аргументами, достойными докторской диссертации.
Джули наблюдает это каждый день. При знакомстве будущий муж показался ей «очень скрупулезным», но после нескольких лет брака эта характеристика кажется ей недостаточной. По профессии он разработчик технической документации, и у него есть «система» для всего на свете: как свернуть валик из полотенца, чтобы не пропустить ни единого лучика света в спальню их дочери; как выбрасывать мусор (никакой липкой ленты — она может склеить стенки пакета); как разместить шнур жалюзи, чтобы никто не удавился. «Он говорит, что посвятил сорок пять лет поиску лучших способов мелких дел, — сказала Джули. — Если вы делаете что-то по-другому, значит, вы идиот. Хуже того, если не делать все правильно, он этого не выносит».
Причина превращения компульсий при ОКРЛ из разумного выбора в императив — та же тревожность, что является источником любого компульсивного поведения. Люди, страдающие ОКРЛ, убеждены, что есть однозначно правильный и очевидно неправильный способ делать буквально все, причем именно их способ является верным. Более того, поступая именно так, будешь в безопасности, в противном случае жизнь пойдет прахом. Следование жестким правилам умиротворяет — ты создаешь уголок порядка в мире хаоса, и любые несчастья обходят тебя стороной. Нарушил правила — и невыносимая тревога не дает вздохнуть.
Компульсивные личности бывают двух типов. Одни задают стандарты лишь себе самим, оставляя окружающих в покое, другие пытаются навязать свои представления о том, как нужно действовать, всем и каждому. Больные ОКРЛ называют эти представления «безумными правилами». Вот выдержка с онлайнового форума Пола.
Вилки и ножи в посудомоечную машину нужно помещать остриями вниз.
Пульт дистанционного управления всегда должен лежать на телевизоре, даже если он требуется вам, когда вы сидите на диване.
Никогда не заказывайте в ресторане то же блюдо, что и ваши спутники. Это лишает всех присутствующих возможности попробовать как можно больше блюд.
Поливочный шланг нужно скручивать после каждого использования, соблюдая «правильную» ориентацию наконечника-распылителя.
Изгибы дороги нужно «выпрямлять», пересекая, если требуется, двойную сплошную линию — главное, чтобы курс движения был максимально близок к прямой линии.
Наличие нескольких безумных правил необязательно свидетельствует об обсессивно-компульсивном расстройстве личности. Согласно DSM-5, диагноз ставится при соответствии любым четырем из следующих восьми диагностических критериев: зацикленность на правилах и списках; перфекционизм, мешающий выполнять задачи; «чрезмерная» поглощенность работой, приводящая к отказу от отдыха и общения с друзьями; чрезмерная жесткость нравственных норм и буквализм в следовании им; накопительство; скупость; неспособность к делегированию обязанностей (поскольку больше никто не способен выполнить их правильно); общая «ригидность и неуступчивость».
Проще пользоваться тестом Крамера на ОКРЛ, в котором респонденту предлагается ответить, насколько часто его поведение соответствует нижеследующим двадцати пяти утверждениям: никогда (один балл), иногда (два балла), часто (три балла), почти всегда (четыре балла).
1. Я предпочитаю, чтобы все делалось по-моему.
2. Я критикую людей, не соответствующих моим стандартам или ожиданиям.
3. Я твердо придерживаюсь своих принципов, что бы ни случилось.
4. Меня напрягают изменения окружающей обстановки или поведения людей.
5. Я педантичен и щепетилен, когда дело касается моих вещей.
6. Я расстраиваюсь, если не могу завершить дело.
7. Я требую наивысшего качества от каждой своей покупки.
8. Мне нравится доводить все, что я делаю, до совершенства.
9. Я точно следую определенному порядку выполнения повседневных действий.
10. Я делаю все аккуратно, до последней мелочи.
11. Меня напрягают сбои в моем расписании.
12. Я планирую свое время, чтобы не опаздывать.
13. Меня раздражает неопрятность и захламленность вокруг.
14. Я составляю списки дел.
15. Меня тревожат даже незначительные затруднения.
16. Я предпочитаю быть готовым к любой неожиданности.
17. Я строго отношусь к выполнению своих обязательств.
18. Я жду, что другие люди будут придерживаться высоких моральных стандартов.
19. Когда меня обманывают, это потрясение.
20. Меня напрягает, когда люди не кладут вещи именно туда, где я их оставил.
21. Я храню подержанные или старые вещи, потому что они еще могут пригодиться.
22. Я сексуально сдержан.
23. Я скорее работаю, чем отдыхаю.
24. Я предпочитаю оберегать свое частное пространство.
25. Я составляю план расходов и придерживаюсь его, никогда не трачу больше, чем могу себе позволить.
Если некоторые пункты вызвали у вас реакцию: «А что тут такого?» (в моем случае это пункты 6, 12, 16, 17, 21, 23, 24 и 25), значит, вы видите трещину в фундаменте теории теневых синдромов. Чтобы диагностировать психическое расстройство, требуется длинный список симптомов, однако из этого не следует, что малая часть этих симптомов определяет то же заболевание в слабой форме. Безусловно, многие характеристики личности из теста Крамера полезны — более того, служат основой дееспособного общества.
Обычным является результат в 50–70 баллов. Обратите внимание, сколь на многое вы можете реагировать компульсивно, не имея при этом обсессивно-компульсивного расстройства личности, которое диагностируется минимум при 75 баллах. К примеру, если вы ответите «всегда» в пунктах с первого по седьмой (28 баллов) и «иногда» в остальных 18-ти (36 баллов) — сочетание, на непрофессиональный взгляд, явно выдающее компульсивную личность, — то недотянете до диагноза. Тем не менее Национальное эпидемиологическое исследование алкогольной зависимости и сопутствующих заболеваний Национального института здравоохранения США за 2001–2002 гг., в ходе которого были опрошены 43 093 совершеннолетних американца, установило, что 7,9% (или почти 15 млн человек) имеют обсессивно-компульсивное расстройство личности. Таким образом, это заболевание оказалось самым распространенным среди расстройств личности. За десятилетие до этого исследования группа психиатров под руководством Джона Гранта из Медицинской школы Миннесотского университета опросила несколько тысяч взрослых и оценила риск заболеть ОКРЛ в течение жизни в 7,8%. Вероятность развития заболевания у мужчин и женщин примерно одинакова. Оно реже встречается у совершеннолетней молодежи, лиц азиатского и латиноамериканского происхождения и значительно чаще — у людей со средним или неполным средним образованием.
Моя компульсивность проявляется в покупке продуктов — в деле, где оптимальный способ действия должен быть понятен любому идиоту. Очевидно ведь, что нужно покупать только продукты со скидкой и в расфасовке с наименьшей ценой за штуку, пользоваться купонами и не поддаваться импульсу брать то, чего нет в списке. В тех редких случаях, когда за продуктами отправляется муж, он тратит прорву денег, поскольку обязательно нарушает какую-нибудь из заповедей покупателя. Моя компульсивность питается тревогой перерасходовать средства. Разумом я понимаю, что семьдесят девять центов за швейцарский сыр, переплаченные мужем, потому что он по глупости взял импортный бренд, а не магазинный, нас не разорят. Но я убедила себя, что если сегодня не экономить каждый пенни, то завтра будешь питаться кошачьим кормом.
Освежитель воздуха должен стоять на правильном краю крышки смывного бачка, а когда принимаешь душ, его нужно класть на бок.
Рубашки должны висеть в шкафу передней стороной налево.
Ни в коем случае нельзя останавливать машину, пока не доехал до места. Если загорелся красный, поворачивай направо, даже если тебе туда не нужно.
Нельзя идти в ванную и из ванной по одному и тому же пути, а не то протрете ковер.
Вся бумажная наличность должна лежать в развернутом виде, правильно ориентированная, портретом кверху и рассортированная по номиналу: вверху пачки — долларовые банкноты, под ними пятерки, дальше десятки и т.д.
К тому моменту, когда Бев рассталась с бойфрендом, количество правил пользования душевой, начавшихся с простой и разумной просьбы включать вытяжной вентилятор, достигло дюжины. Она постоянно выслушивала выговоры из-за двери, открытой на восемь дюймов вместо предписанных шести (идеальное расстояние, при котором в помещении не скапливается пар, но и не образуется опасных для купальщика сквозняков), небезупречно повешенного полотенца и не выровненного по линеечке коврика. Если они ужинали в ресторане, ей даже не позволялось самой выбрать себе еду, настолько твердо бойфренд знал, что ей «на самом деле нравится». Его поражала ее неспособность понять, как все это логично. «Люди с этим расстройством не понимают, что вы самостоятельная личность, и что они не могут вас контролировать, — сказала Бев. — Они даже считают, что вы должны любить те же блюда, что и они». Они уже провели столь тщательное исследование всех вариантов, что считают свое мнение столь же авторитетным, что и рекомендации Consumer Reports.
Крайняя добросовестность всегда обосновывается полнейшей рациональностью. Собственные обыкновения кажутся компульсивной личности абсолютно правильными, превосходящими любые другие продуманностью, эффективностью, оптимальностью. «Может показаться, что все это объясняется любовью к красоте и элегантности, — заметил один из участников онлайнового форума по ОКРЛ. — Находя самое изящное решение проблемы, выполняя повседневные обязанности самым разумным и тщательным образом, испытываешь огромное удовлетворение. Ты создаешь порядок и гармонию, борешься с энтропией и хаосом. В других случаях видишь, что это совершенно иррациональный страх некомпетентности, собственной или окружающих». «Правила могут быть безумными, но они нужны, чтобы мы могли выжить в мире», — сказал другой.
Один человек с обсессивно-компульсивным расстройством личности, видя, как кто-нибудь просматривает страницы книги по диагонали, испытывал угнетенность и тревогу сродни той, что внушил бы вид вандала, методично откалывающего куски от микеланджеловского «Давида». Такое чтение, пояснил он, «поганит» упорядоченность книги и «нарушает статус-кво», это ни в коем случае нельзя делать походя. Кроме того, скорочтение «превращает книгу в менее совершенный предмет, а это неприемлемо».
Газон нужно каждую неделю стричь в другом направлении.
На заправке прекращай заливать бак, когда на счетчике будет круглая сумма в долларах — в крайнем случае, с полтинником или четвертаком. В записной книжке, предназначенной исключительно для этого, фиксируй дату, пробег, количество галлонов, цену за галлон, общую сумму и место заправки.
Припасы в кладовой нужно распределять по системе часовых поясов: сначала Гавайи (ананас), затем США (булочки для хот-догов) и Италия (паста), в конце Япония (соевый соус). Все упаковки должны стоять этикетками вперед, фактически образуя карту мира.
Прежде чем выйти из машины, необходимо все кнопки и тумблеры — обогревателя салона, кондиционера или стереосистемы — привести в левое среднее или в вертикальное положение.
Здесь следует сделать оговорку. «Примерять» ОКРЛ к формам поведения и личностям — все равно что пытаться накрыть двуспальную кровать покрывалом на одного. Многие действия могут содержать элементы обсессивно-компульсивного расстройства личности, будучи совершенно иной природы. А именно, требование соблюдать правила и вспышки гнева при их нарушении имеют выраженные признаки контролирующего поведения и презрения к другим, что характерно для нарциссизма и даже склонности к психологическому насилию.
Что можно сказать о мужчине, запрещающем подругам и родственникам своей девушки звонить ей во время, отведенное им для «полноценного общения» с ней, — после 20:30 шесть дней в неделю и на протяжении всего воскресенья? Это правило продиктовано не сознательностью, перфекционизмом и стремлением порядку, как правила компульсивных личностей, а нарциссическим доминированием и контролем. Это относится ко многим «обсессивно-компульсивным правилам» мужей и жен, о которых мне часто рассказывали. Что вы скажете о требованиях «соглашаться со всем, что я говорю, без исключения», «делать все так, как мне нравится, потому что это правильно», «не иметь друзей, поскольку они отнимают у тебя время, когда ты можешь мне понадобиться, а я всегда на первом месте»? А также «дети должны выстраиваться перед дверью, словно солдатики, и встречать меня с работы, как всегда делала моя мать»? Нет, это не провоцируемые тревожностью компульсии ОКРЛ, а эгоистичные, диктаторские приказы, порожденные нарциссизмом и принудительным контролем.
Является ли обсессивно-компульсивное расстройство личности психическим заболеванием? Нельзя сказать, что рассудок людей, следующих «безумным правилам» и отличающихся крайней добросовестностью, функционирует плохо. Они не видят галлюцинаций и не слышат голосов, дееспособны и нередко вполне довольны своими убеждениями и компульсиями. Однако психиатры все-таки считают ОКРЛ психическим заболеванием еще со времен французского невролога Филиппа Пинеля (1745–1826). Прославившийся реформированием методов лечения душевных болезней, Пинель буквально освободил от цепей пациентов больницы Сальпетриер. Она была основана Людовиком XIV в середине XVII в. на территории бывшего порохового завода[12] и служила местом заключения десяти тысяч нищих и проституток, а также умственно отсталых, эпилептиков и людей с неврологическими и психическими заболеваниями. Наблюдая это ужасающее разнообразие тупиков, где может заблудиться ум, Пинель предположил, что можно иметь психическое заболевание, не будучи «сумасшедшим» — то есть без бреда и галлюцинаций, умственной неполноценности или других расстройств мышления. Ясность мысли может наблюдаться и при «дефектах страсти и аффекта», утверждал Пинель, так что мыслительная деятельность не страдает, но эмоции оказываются совершенно разбалансированными. И вот результат: некоторые типы личности превратились в «расстройства».
В начале XX в. американские и европейские психиатры с увлечением описывали всевозможные формы патологии личности. Поверхностность, самонадеянность или ненадежность — все становилось основанием для постановки диагноза. Например, «чрезмерная» склонность критиковать других, ворчливость, импульсивность, неуверенность, переменчивость настроения, вздорность, беспомощность, холодность, ригидность или неуступчивость. В каждое издание «Диагностического и статистического руководства», начиная с первого, 1952 г., включены расстройства личности. С годами диагностические критерии для обсессивно-компульсивного расстройства личности сократились. Согласно DSM–III 1980 г. нужно соответствовать четырем из пяти критериев, а DSM–III-R 1987 г. — пяти из девяти. Это понижение планки привело к удвоению числа больных ОКРЛ, замечают психиатры Университета Айовы Брюс Пфоль и Нэнси Блум в главе «Расстройства личности в DSM–IV» из книги 1995 г. Однако, продолжают они, «неясно, является ли это улучшением». Действительно! Споры о том, любой ли тип личности может принимать болезненную форму, достигли пика в вопросе о добросовестности на работе.
Работать, работать и еще раз работать
Компульсивность в работе, проявляющаяся в чрезмерном трудовом энтузиазме и повышенной результативности ценой отказа от близких отношений и свободного времени, — один из восьми диагностических критериев обсессивно-компульсивного расстройства личности. «Это очень коварная разновидность компульсии, поскольку она окупается», — сказала Мишель, владелица фирмы по созданию сайтов из Остина в Техасе. Общество соблазняет вас призраком богатства и признания за самоотверженный труд. Мало найдется компаний, где сотрудников просят не перерабатывать, и лишь немногие родители посоветуют своему ребенку-студенту отказаться от программ углубленного изучения и не приукрашивать свои достижения в резюме. Обычно происходит обратное. Считаться трудоголиком и мастером многозадачности — это предмет гордости в Америке XXI в. «В нашей культуре, — полагает Мишель, — пытаться избавиться от трудоголизма — все равно что рассчитывать остаться трезвым в баре».
Семена невыносимой тревоги, возникающей у трудоголика, если он занят чем угодно, кроме работы, были, скорее всего, посеяны еще в детстве. Особенно это характерно для определенной социальной группы (не ниже среднего класса, образованные родители, проживание в крупном городе или его пригороде), где «дети постоянно должны быть чем-то заняты и продуктивны», отмечает Мишель: «Просто безумие какое-то!» Самых маленьких записывают на курсы младенческой йоги и «развития музыкального восприятия», устраивают совместные игры с другими такими же детьми, водят их в музеи и центры знакомства с науками. «Это продолжается в школе, где их жизнь расписана по минутам». Лишь в редких случаях это занятия ради самого предмета, тем более ради связанного с ним удовольствия. (Помните, если побудительным мотивом поведения является тревога, а не радость или другая положительная эмоция, такое поведение считается компульсивным.) Если окажетесь на тренировке внеклассной секции футбола или баскетбола, спросите детей — особенно сидящих на скамейке запасных, — почему они сюда ходят. Ответы «мне нравится футбол» и «я люблю баскетбол» далеко уступают по популярности варианту «Мне нужны дополнительные занятия, чтобы поступить в колледж». Если родители больше самого ребенка хотят, чтобы он учился музыке, был волонтером, собрал спортивную команду, руководил дискуссионным клубом и редактировал ежегодник, налицо проявление их тревоги и компульсии, передаваемых «по доверенности».
Обусловленная тревожностью компульсивность в работе появилась у Мишель в начальной школе. «Я постоянно пыталась привлечь к себе внимание, получая прекрасные отметки. Я усвоила: ты чего-то стоишь, только пока чего-то добиваешься. В колледже я подрабатывала официанткой, а там чем быстрее двигаешься, тем больше успеваешь и больше получаешь». Чтобы свести к минимуму время отдыха, когда в тревоге ей казалось, что тело пытается выпрыгнуть из кожи вон, она назначала дела впритык одно к другому и была вынуждена, едва окончив одно, хвататься за следующее. «Я постоянно куда-то спешила, — рассказывает Мишель. — Присев перед телевизором посмотреть фильм, тут же вскакивала. Я не могла просто сесть и расслабиться. Не могла смотреть телевизор, если попутно не занималась чем-нибудь еще. Не могла читать, если чтение не было связано с работой или учебой и не выглядело полезным. Даже на каникулах я следила, чтобы мы были постоянно чем-то заняты, и вечно говорила, что хватит сидеть, пора на пляж, на теннис или на экскурсию». Ощущение, что «все в порядке», движущее людьми с обсессивно-компульсивным расстройством, не приходило к Мишель с выравниванием фотографий или повторением волшебных цифр. Его давало только погружение в работу.
Когда нет работы, тревога переполняет каждую клеточку жертвы компульсии — узнала я одним солнечным сентябрьским утром. Я ехала в Вест-Пойнт пообедать с Брюсом в историческом отеле Thayer, монументальная каменная громада которого возвышается над легкоатлетическими площадками военной академии. Мы сели за столик, откуда открывался потрясающий вид на реку Гудзон.
Уже ребенком Брюс работал компульсивно, испытывая потребность обойти брата и добиться внимания родителей и других взрослых. «Что бы он ни сделал, я должен был сделать лучше», — вспоминал он. Все началось, когда брат стал бойскаутом младшей дружины. Брюсу не хватило нескольких недель до проходного возраста, и обида подстрекнула его к соперничеству. Если команда брата участвовала в сборе макулатуры (да, были времена, когда никто не сортировал мусор и макулатурой занимались бойскауты!), не имеющая официального статуса ватага Брюса обходила всех — у него сохранилась фотография, где он балансирует на вершине трехметровой кипы. В средней школе он уже возглавлял местные молодежные объединения, группы юных христиан, политические союзы, отряды бойскаутов — «абсолютно все школьные объединения, кроме ассоциации девочек-легкоатлеток». Это был его персональный «Век тревоги» — почти физический страх, проистекающий из сомнения: «Моя жизнь действительно что-то значит? Останется ли в этом мире какая-то память обо мне?» Он прошел отбор в бейсбольную, футбольную и баскетбольную команды. Его фотографии 66 раз появлялись на страницах школьного ежегодника. Он нашел способ оставить свой след.
По окончании юридического факультета он устроился на работу в контору окружного прокурора в сельской местности. «Я засиживался на работе до двух-трех часов ночи, — вспоминал Брюс. — Шел в пустой зал судебных заседаний и раскладывал двадцать три пачки судебных дел по двадцати трем стульям присяжных, поскольку вел двадцать три дела одновременно… Так я заслужил положение в наших кругах. Я гордился, что работаю дольше, упорнее, изобретательней, лучше и быстрее любого другого в нашей конторе». Погоня за признанием и деньгами — «вот чем я жил с восьми лет. Я создал образ сверхкомпетентного, суперуспешного, могущественного, всеми уважаемого профессионала. И добился соответствия этому образу».
Компульсивная работа привела к тому, что жена подала на развод. «Но я продолжал таскать домой полный портфель бумаг, — делился воспоминаниями Брюс. — Когда вторая жена сказала, что нам нужно переехать настолько далеко от моего офиса, чтобы я не мог работать до десяти вечера каждый будний день, а также в выходные, я осознал: мой мозг должен быть полностью загружен, даже если в результате я не разбогатею настолько, чтобы устилать купюрами футбольные поля. Дело не в награде, а в том, чтобы все время давать мозгу работу. Мне нужна была постоянная мыслительная деятельность. Иначе я чувствовал себя опустошенным». Его буквально трясло, когда он не работал, словно он бы разрушил всю свою жизнь, совсем немного сбавив обороты.
Ритуалы: дикарские и… баттерские
Тот же самый внутренний зуд скрывается за самыми распространенными в нашем обществе компульсиями — спортивными. Джордж Гмелч, в 1960-х гг. игрок первой базы в бейсбольной команде низшей лиги Detroit Tigers, по окончании спортивной карьеры увлекся антропологией и объединил две свои страсти: стал изучать ритуалы в бейсболе, как другие антропологи изучают ритуалы дикарских племен. Его особенно заинтересовало классическое исследование обитателей Тробрианских островов, или архипелага Киривина, принадлежащего Папуа — Новой Гвинее. Антрополог Бронислав Малиновский наблюдал, как тробрианцы ловят рыбу в лагуне, где она водится в изобилии, и в открытом море, где улов непредсказуем. Островитяне редко прибегают к магии перед рыбалкой в лагуне, поскольку убеждены, что улов там зависит от их знаний и навыков, писал Малиновский в книге 1922 г. «Аргонавты западной части Тихого океана»[13]. Однако, готовясь выйти в открытое море, проводят все магические обряды, унаследованные от предков, в надежде обеспечить свою безопасность и привлечь удачу.
Гмелч усмотрел параллели с тробрианскими ритуалами в бейсболе. Успех подающего и бьющего зависит в равной мере от мастерства и немалой удачи. Лучшая подача питчера может оказаться за пределами поля, а худшая отскочит прямо в перчатку принимающего и принесет дабл-плэй. Аналогично бьющий может прекрасно отработать битой по мячу лишь для того, чтобы увидеть, как его перехватывает подоспевший издали аутфилдер, а может едва ударить, но все сложится так удачно, что команда получит автоматический дабл. Таким образом, подача и отбив имеют нечто общее с ловлей рыбы в отрытом море. Напротив, успех полевых игроков почти полностью (не считая случаев неудачного отскока мяча) зависит от их умения — как и улов в лагуне. И Гмелч обнаружил, что бейсболисты, совсем как рыбаки-островитяне, прибегают к магии в ситуациях, когда госпожа Удача может оказаться сильнее любого таланта, как тайфун порой оказывается сильнее лучшего рыбака. Происходит это только в хиттинге и питчинге, но не в полевой игре.
Много лет игрок на третьей базе Уэйд Боггз, выходивший отбивающим как против средних, так и против выдающихся игроков сначала в рядах Boston Red Sox, затем New York Yankees в 1980–90-х гг., ел курятину перед каждой игрой. Гмелч привел этот и следующие примеры в 1992 г. в очерке «Суеверие и ритуал[14] в американском бейсболе» (Superstition and Ritual in American Baseball), опубликованном в Elysian Fields Quarterly. Игрок между второй и третьей базами Chicago White Sox Оззи Гиллен не стирал форменную майку после удачной игры. После каждой победы San Francisco Giants питчер Рон Брайант прилеплял очередной шарик жвачки к тайной коллекции в заднем кармане. Питчер низшей лиги Джим Омс из Daytona Beach Islanders в этом случае клал в бандаж очередной пенни, и к концу удачного сезона каждый его рывок к первой базе сопровождался характерным звяканьем. Один кэтчер низшей лиги, однажды сумев сделать три хита, на последующие матчи выходил в майке, в которой был на той игре, и вся игровая неделя оказалась очень удачной. «Потом стало жарко, как в пекле, — за тридцать — и очень душно, но я бы ни за что не снял эту майку, — рассказывал он Гмелчу. — Я носил ее еще десять дней, и все считали, что я свихнулся». Великий Yankee Майки Мэнтл компульсивно трогал вторую базу на пути к центру или из центра поля. Другой игрок был более педантичен: он трогал третью базу, возвращаясь на скамейку запасных, но только после иннингов, номер которых делился на три. Аутфилдер Джон Уайт рассказал Гмелчу, как в начале игры выбежал в центр поля и подобрал там клочок бумаги и в тот вечер прекрасно отбивал: «Конечно, я подумал, что это как-то связано с той бумажкой. На следующий вечер я подобрал обертку от жвачки и снова провел отличную игру… С тех пор я каждый раз подбирал бумажки с поля».
Питчеры считаются людьми одновременно рассудочными и невротичными, что неудивительно, поскольку в своей игре чрезвычайно зависят от того, как отработают остальные восемь членов команды. Питчер низшей лиги Деннис Гроссини, игравший вместе с Гмелчем в Tigers, вставал ровно в десять утра всякий раз, когда должен был открывать вечернюю игру. Через три часа после подъема он заходил в ближайший ресторан, где заказывал два стакана чая со льдом и сэндвич с тунцом. Затем надевал свитшот и бандаж, в которых был на последнем победном матче, и за час до игры совал за щеку порцию жевательного табака Beech-Nut. На питчерской горке он прикасался к буквам в названии команды на своей форме после каждой подачи и поправлял бейсболку после каждого болла. После каждого иннинга, где противник набирал очки, он мыл руки. «Я бы побоялся что-нибудь изменить, — сказал Гроссини Гмелчу. — Пока я выигрываю, буду делать все одинаково… Если у меня нет возможности вымыть руки, мне страшно возвращаться на горку. Я чувствую себя не в своей тарелке».
Разумеется, это относится не только к бейсболистам. Ритуалы характерны для любого вида спорта, отчасти потому, что победа и поражение однозначны и непосредственны. Поэтому их так легко связать с каким-то действием, принесшим хороший или плохой результат, даже если рассудком понимаешь, что это действие никак не может повлиять на твое выступление. Выходя на корт, великий теннисист Рафаэль Надаль расставляет бутылки с водой согласно одному ему известному ритуалу, берет полотенца в определенном порядке, шагает шире или у`же, чтобы не наступить на разметку, пока не сделает подачу. Когда противники меняются сторонами площадки и ненадолго садятся на стулья у боковой линии, Надаль трясет ногами, будто пытаясь стряхнуть с них муравьев. На корт он возвращается зигзагами, оказавшись на задней линии, подпрыгивает как кенгуру. С помощью ритуалов, писал Гмелч, спортсмен «пытается обрести контроль над своей игрой», подобно тому как обычный смертный с компульсивной личностью пытается с помощью безумных правил контролировать свой мир.
В глазах рыбака-островитянина, питчера на горке стадиона Yankee и теннисиста, выходящего на корт Уимблдона, ритуалы действенны и даже рациональны, поскольку дают ощущение контроля над ситуацией и, соответственно, уверенность в себе, что проявляется в большей результативности. Рыбак, верящий, что амулеты и заклинания уберегут его от волны-убийцы, благодаря обретенному ощущению контроля и уверенности менее склонен паниковать при виде опасной волны, а значит, имеет больше шансов спасти свою жизнь. Хиттер, убежденный в чудесных свойствах съеденной на обед курятины, возможно, лучше видит мяч и становится на шаг ближе к удару века.
У меня ритуалы, у тебя компульсии
В определенных ситуациях компульсивное поведение не только далеко от патологии, но и является настолько обыденным, что остается незамеченным. Мы называем такие формы поведения культурообусловленными ритуалами. При взгляде извне культуры, которая их породила, они могут показаться, скажем так, любопытными — в антропологическом смысле — или даже будут восприняты как проявление ОКР, как предполагали исследователи еще в 1990-х гг. В 1994 г. в знаковой статье, опубликованной в журнале Американской антропологической ассоциации Ethos, Сири Далэни и Алан Пейдж Фиш заявили, что черты, «характеризующие ритуалы… также определяют психиатрическое заболевание — обсессивно-компульсивное расстройство», и что у ритуалов и ОКР имеется «общий психологический механизм». Идея сходства культурообусловленных и религиозных ритуалов с ритуалами людей, борющихся с компульсией, восходит, по меньшей мере, к Фрейду, утверждавшему, что в обоих случаях люди испытывают болезненную тревогу, если не выполняют ритуал, а при выполнении проявляют крайнюю педантичность. Ритуалы, писали Далэни и Фиш, «носят принуждающий характер».
Но являются ли они проявлением ОКР? На первый взгляд, сходство несомненно. Рассмотрите любую культуру, которая вам нравится, экзотическую или близкую вам. Например, ритуальное омовение, миква, которое ортодоксальные иудейки считают обязательным для восстановления своей «чистоты» после менструации или родов, или ритуальные свечи шаббата, которые умеренно приверженный вере иудей неукоснительно зажигает каждую пятницу с заходом солнца. Причастие, принимаемое ревностным католиком во время мессы, или намаз, который пять раз в день совершает мусульманин, обратясь лицом к Мекке. Из области экзотики: непальские шерпы, чтобы задобрить демонов и заставить их уйти, расставляют в строгом порядке в виде четырех концентрических кругов 100 крохотных глиняных моделей святилища, 100 печеных лепешек, 100 масляных ламп и 100 фигурок, слепленных из теста. Гуджары — представители этнической общности, проживающей на территории индийского штата Уттар-Прадеш, — пытаются отвести от себя беду совершением ритуального омовения и очищения, сопровождающегося жертвованием богам черного риса, черного кунжута, черных цветов, жженого ячменя и семи черных коров и последующим семикратным обходом образа божества против часовой стрелки. Племя американских индейцев зуньи проводит ритуал шалако, чтобы попросить у богов дождь, здоровье и благополучие. Участники совершают ритуальные подношения в шести местах вокруг деревни, шесть раз затягиваются особой сигаретой и развеивают ее дым в шести направлениях согласно своей системе сторон света. Далее присутствующие наблюдают, как шесть фигур в масках заходят в шесть домов, где будут танцевать и распевать песнопения под шестидольный ритм.
Думаю, Шэла Найсли — убежденная, что числа «четыре», «восемь» и «шестнадцать» обладают особой способностью отгонять несчастья, — прекрасно понимает, что́ должны были чувствовать индейцы зуньи, если заставить их прервать ритуальное курение после пяти затяжек или молиться богам в сопровождении пятидольного ритма. Сила ритуала мгновенно улетучилась бы, как воздух из проколотого шарика, и верующие остались бы, в лучшем случае, взвинченными, неудовлетворенными и растревоженными. Подметив подобные черты сходства между ритуалами и патологическими компульсиями, Далэни и Фиш сделали вывод, что ритуалы, «не имеющие культурной обусловленности… должны считаться симптомами ОКР». Более того, добавляли они, «все виды симптомов, на основании которых ставится диагноз ОКР», наблюдаются в описаниях ритуалов любой культуры.
Отсутствует лишь один — но важнейший — симптом. Как вы помните, обсессивно-компульсивное расстройство эгодистонно. Навязываемые им требования настолько расходятся с тем, что, как больной прекрасно знает, является правдой (наступив на трещину в асфальте, невозможно обрушить гибель и несчастья на свою семью), что ощущаются как нечто стороннее, как результат вторжения в разум, а не собственное его порождение. Напротив, требования ритуала воспринимаются как обоснованная и, в силу погружения в культурную среду и воспитания, неотъемлемая часть самого себя. Даже участники, несколько сомневающиеся в целесообразности ритуала, находят в нем успокоение. До самой смерти моя тетушка благожелательно терпела мои докучливые расспросы, зачем она зажигает свечи шаббата. Разумеется, Эвелин не думала, что Господь поразит ее молнией, если она пропустит пятницу-другую. «Я бы чувствовала, что это неправильно, — говорила она. — Если бы я не зажгла свечи, то весь вечер меня бы не покидало ощущение, что я что-то не сделала. Словно наблюдала бы за собой извне своего тела и ждала, когда эта женщина, на которую я смотрю, распахнет дверь, раз уж она ее отперла, повесит трубку телефона, завершив разговор, — словом, сделает дело, которое прямо-таки напрашивается». Это все равно, что услышать троекратное «соль» в начале Пятой симфонии Бетховена, объясняла она: испытываешь настоящую потребность услышать последующее разрешение в «ми». Без еженедельного ритуала она бы страдала от чувства незавершенности, ее бы постоянно царапала мысль, что она что-то упустила.
Тед Уитциг, ведущий семинара по религиозной скрупулезности — разновидности ОКР, о которой говорилось в главе 2, — высказал твердое убеждение, что даже «крайнее религиозное рвение», с которым исполняют ритуалы глубоко верующие люди, порождается не тревожностью, а исключительно религиозностью и ревностным служением. Это источник «смысла и цели существования». Я стояла на своем, поскольку, наблюдая за собственными верующими родственниками и друзьями, составила впечатление, что по крайней мере часть их действий продиктована тревогой, которую они опасались почувствовать, не делая этого. Попробуйте встать между матерью иудейского семейства и ее свечами шаббата за минуту до заката! Уитциг пошел на уступку: «Что ж, если попытаться помешать человеку сделать что-то, типичное для его конфессии, то тревога будет вполне нормальной реакцией».
Ученые обнаружили нечто подобное в ритуалах. Поскольку ритуалы дают чувство контроля над хаосом и непредсказуемостью мира, они веками формировались с той же целью, которой служат компульсии, — с целью контроля тревожности. То, что они этому способствуют, становится очевидным, когда мы не только выполняем предписания для определенных периодов жизни — крещение, бар-мицву, венчание, — но кидаемся искать в них утешение во внезапных трагедиях, раскалывающих наш мир, словно молния ясное небо. Майкл Нортон и Франческа Джино из Гарвардской школы бизнеса предложили 247 добровольцам письменно рассказать о смерти кого-то из близких или о разрыве значимых отношений. Половина участников писали только о событии, а другая половина — еще и о ритуалах, к которым прибегали, чтобы справиться с потрясением, причем вторые испытывали менее жестокие терзания. Они, например, реже говорили, что без утраченного человека «жизнь стала пустой», и чувствовали себя не столь беспомощными и бессильными, как сообщили Нортон и Джино в Journal of Experimental Psychology: General в 2014 г. Одна респондентка рассказала, что играла песню «Я безумно по тебе скучаю» (I Miss You Like Crazy). Другой написал, что держал строгий траур первую неделю после смерти матери, а теперь читает кадиш на каждую годовщину: «Она скончалась 21 год назад. Я буду делать это до самой смерти», — пообещал он. Участие в подобных ритуалах, утверждали ученые, «служит компенсаторным механизмом для восстановления чувства контроля после утраты». Люди прибегают к ритуалам, компульсивно или нет, чтобы создать или укрепить ощущение, что властны над своей судьбой. Хотя бы немного властны.
Едва ли это патология — не более чем компульсивное стремление Бьянки поддерживать порядок в своем мире. Наоборот! Ритуалы имеются во всех культурах, следовательно, людям свойственно придумывать и исполнять их, точно так же, как свойственно создавать и усваивать язык. Конкретное содержание ритуала, как и языка, определяется окружением, в котором мы оказались, но существующие нейронные сети помогут закодировать любой проводимый ритуал. И эта естественная настроенность на ритуал может обернуться самым настоящим обсессивно-компульсивным расстройством. Но объявлять слабо выраженные компульсии психическим заболеванием — грубейшая ошибка. Подобно культурообусловленным ритуалам, слабые компульсии преображают, упорядочивают наш мир и дарят ощущение, что мы можем управлять хотя бы крошечной его частицей. Потребность действовать определенным образом, чтобы снять тревогу, не есть проявление патологии. Это свойство человеческой природы — точнее, того, что значит быть человеком в наш век тревоги.
Глава 5 Видеоигры
Компульсивное увлечение видеоиграми отличается от всех остальных компульсий. Большинство людей не становятся патологическими собирателями, больными ОКР, компульсивными едоками, культуристами или шопоголиками. В силу своего психотипа они не рискуют провалиться в черную дыру подобных поведенческих схем, поскольку имеют достаточно высокую сопротивляемость мучительной тревоге. Но видеоигры и другие электронные соблазны эксплуатируют универсальные стороны человеческой психологии. Как я уже отмечала, компульсивное поведение человека не означает, что он сумасшедший. Наоборот, адаптивная реакция на тревогу, которая иначе была бы невыносимой, совершенно нормальна.
Ни в чем это не проявляется так ярко, как в игромании. Видеоигры чрезвычайно притягательны, поскольку их создатели научились пользоваться универсальными аспектами функционирования нашего мозга. Поэтому практически любой человек может почувствовать влечение к играм и неспособность ему сопротивляться. Джон Доерр, знаменитый венчурный капиталист из Кремниевой долины, вложивший деньги в компанию-разработчика игр Zynga, сказал в 2011 г. в интервью Vanity Fair: «Верно, эти игры не для всех, но они ближе к этому, чем что-либо, мне известное». Я надеялась, причины этого смогут объяснить геймдизайнеры и ученые, посвятившие себя новой сфере исследования — психологии игры. Но прежде следовало убедиться, что игры удовлетворяют обязательному условию — способности уменьшать тревогу, — чтобы быть предметом компульсии, а не, скажем, аддикции.
В 2012 г. в статье в New York Times Magazine критик-консультант Сэм Андерсон рассказал о своей компульсивной потребности играть в Drop7 — выпущенную компанией Zynga в 2009 г. игру наподобие судоку, где нужно манипулировать шариками, падающими сверху вниз в сетке семь на семь квадратов. «Я играл, вместо того чтобы мыть посуду, купать детей, общаться с родственниками, читать газету, а главное, писать, — признался Андерсон. — Игра стала для меня обезболивающим, аварийной спасательной капсулой, дыхательным аппаратом, ксанаксом». Игра стала цифровым успокоительным. Он понял, что с ее помощью занимается самолечением, хватается за Drop7 «в любой экстремальной ситуации», например «после разговора на повышенных тонах с матерью; как только узнал, что моя собака, возможно, умрет от рака». Один из онлайновых комментаторов подтвердил, что видеоигры, во всяком случае, для него, неотделимы от компульсии. «Они снижают мою тревожность, и я подтверждаю, что играю в Bejeweled[15] именно с этой целью, — написал он. — Я не обращал внимания на то, сколько времени посвящаю этой игре, пока однажды не осознал, что играю в нее на велотренажере во время физиотерапии» — перед тем как свалиться с него. Нил Гейман описал это состояние в стихотворении 1990 г. «Вирус»:
Играешь — слезы в глазах, Ноет запястье, Мучает голод… а после — уходит все. Или — все, кроме игры. В моей голове теперь — только игра И ничего больше[16].Десятки миллионов человек могли бы подписаться под этими словами. В мае 2013 г. Донг Нгуен, никому доселе неизвестный создатель игр из вьетнамского Ханоя, выпустил Flappy Bird, о которой в следующем году сказал репортерам: «Это была, пожалуй, простейшая идея, какая только могла мне прийти в голову». Игра оказалась воплощением презираемых серьезными геймерами «тупых игрушек», в которых отсутствие сюжета, внешней привлекательности и полноценной разработки компенсируется лишь совершенной бездумностью процесса. В Flappy Bird игрок тычет пальцем в экран, пытаясь заставить едва анимированную птичку (она даже не машет зачаточными крылышками — собственно, они едва видны) пролететь в просвет между вертикальными зелеными трубами. Однако, несмотря на тупость — или, наоборот, благодаря ей, — игра стала сенсацией. В начале 2014 г. она возглавила списки самых популярных скачиваний как у Apple, так и у Android, к совершенному недоумению создателя. «Мне непонятно, почему Flappy Bird так популярна», — сказал Нгуен в интервью Washington Post. Иэн Богост, профессор интерактивных компьютерных систем Технологического института Джорджии и геймдизайнер, написал, что бесчисленных игроков «изумляет и угнетает тот факт, что они одновременно ненавидят эту игру и захвачены ею». Это наблюдение отразилось в названии страницы посвященного видеоиграм британского сайта n3rdabl3.co.uk «Я ненавижу Flappy Bird, но не могу перестать в нее играть».
Разумеется, в игры играют еще и для того, чтобы сбросить напряжение после трудного дня, испытать хотя бы капельку гордости за свои достижения или просто расслабиться и отключиться от всего. И не каждое действие, которому уделяется слишком много времени, компульсивно. Чрезмерность не признак компульсивности (даже если оставить в стороне вопрос о том, что само понятие «чрезмерности» субъективно). Существует множество причин, по которым люди играют в видеоигры за счет других занятий и в ущерб работе, — например, избавляются от скуки или тянут время, избегают общения или справляются с одиночеством. Но, как свидетельствуют приведенные примеры, а также изучение феномена психологической притягательности видеоигр, для некоторых людей это занятие все-таки становится компульсией, в том числе и деструктивной. С первого десятилетия XXI века в Южной Корее и Китае открываются «лагеря перезагрузки» для лечения детей, неспособных противиться компульсивной потребности часами просиживать за видеоиграми.
Из этого, однако, не следует, что компульсия представляет собой психическое заболевание. Группа экспертов, определявших, какие расстройства должны быть включены в последнее издание «Диагностического руководства» Американской психиатрической ассоциации, изучила около 240 исследований, призванных описать «болезненную зависимость от онлайновых игр». В результате они решили не включать игровую компульсию в число официально признаваемых наукой психических заболеваний, сойдясь лишь на том, что эта проблема заслуживает дополнительного изучения. На сегодняшний день наука с определенностью утверждает одно: даже человека с совершенно здравым рассудком может затянуть компульсивная игра.
Поток, прерывистое подкрепление и Angry Birds
Никита Микрос является на интервью в мокрой от пота футболке и со шлемом под мышкой, катя рядом с собой велосипед. Мы условились встретиться в старом складском здании на берегу в Дамбо[17] — хипстерском районе Бруклина, царстве булыжных мостовых и кофеен.
Микрос, разработчик видеоигр и аркад с 1990-х гг., предложил мне провести утро в его компании и узнать много интересного. Например, почему головоломка Candy Crush Saga от гиганта мобильных игровых приложений King Digital Entertainment собрала в 2013 г. 66 млн игроков, Алек Болдуин позволил высадить себя из самолета, готового взлететь, лишь бы не отрываться от Words with Friends[18] компании Zynga, а Tetris по результатам голосования оказался самой захватывающей игрой всех времен и народов. «Мы многое узнали о том, как сделать игры соблазнительными, — написал мне Микрос по электронной почте. — К сожалению, от некоторых хитростей мне самому жутковато».
Микрос стремительно ведет меня в помещение своей компании-разработчика игр Tiny Mantis. Это всего две комнаты и с десяток рабочих станций. Среди геймеров Микрос прославился созданием таких вещей, как Dora Saves the Crystal Kingdom[19], Dungeons and Dungeons[20] и Lego Dino Outbreak[21]. Помещения заставлены плоскими мониторами в окружении одноразовых стаканчиков из-под кофе, антуражем служат выставленные на всеобщее обозрение коммуникации, расписанные кирпичные стены, дыры в потолке и постеры с мистером Споком и пандой. Микрос отлучается на минуту и возвращается в свежей футболке — черной, с изображением Моны Лизы, истекающей кровью. Я настроилась все утро наблюдать, как он режется в Diablo и Angry Birds, но он загружает презентацию, которую для меня подготовил. Вместо того чтобы выпускать кишки монстрам, мы погружаемся в идеи Михая Чиксентмихайи.
Психолог Чиксентмихайи предложил идею «потока» — состояния ума, характеризующегося полным единением с текущей деятельностью. В состоянии потока вы настолько погружены в то, что делаете, что внешний мир почти не проникает в ваше сознание, никакие другие мысли не одолевают ваш ум, исчезает чувство времени, не ощущаются даже голод и жажда. Побывав «в потоке», многие изумляются: «Мать честная, куда делось время и почему так хочется есть?»
Лучшие разработчики игр, объясняет Микрос, вводят игроков в состояние потока: «Забываешь себя, чувство времени меняется. Начинаешь играть, и сам не заметишь, как это вышло, но — опа! — уже утро. Ощущения от игры становятся самоцелью. Но у каждого человека зона потока имеет свои габариты. Если ставить перед игроками слишком много трудностей, они испытывают лишнюю тревогу и сдаются, а если все слишком просто, то заскучают и бросят игру. А вот будучи в центральной зоне, они полностью погружены в процесс». Поток настолько притягателен, что опыт его переживания западает в душу, и отказаться от него очень непросто.
Один из способов удерживать игроков разного уровня «в русле потока», по словам Микроса, — постоянно корректировать сложность. Этот метод использовался в классике 1980-х гг. Crash Bandicoot[22]. Если игрок оказывался фатально неспособен, скажем, запрыгнуть на движущиеся полки, игра проявляла милосердие, не откатывая слишком далеко к началу в случае гибели персонажа и упрощая навигацию в полном препятствий окружении. С другой стороны, стоило набраться опыта, и играть становилось сложнее. «Некоторым это нравится, — рассказал Микрос. — Раз я играю все лучше, рассуждают они, пусть задачи усложняются, иначе это просто прогулка».
Другой способ удерживать игрока в состоянии потока заключается в том, чтобы, к примеру, сокрушить монстра, применив против него новое умение, и в нескольких последующих ситуациях использовать только это умение. «Ваши возможности растут, теперь вы можете победить монстра, который раньше был неуязвимым, — объяснил Микрос. — Хорошие разработчики ведут вас узким коридором в зоне потока, наращивая сложность и тут же давая чуть более легкое задание, снова повышая уровень сложности и вновь предлагая нечто попроще».
Я признаюсь, что не вижу ничего особенного в том, чтобы создавать игры, удерживающие нас в потоке. Очевидно, игра должна обладать этими характеристиками, чтобы быть привлекательной (поскольку ей нужно удержать внимание игрока достаточно долго, чтобы он успел втянуться), однако это условие кажется мне необходимым, но недостаточным. Универсального рецепта не существует, соглашается Микрос: «Если бы мы точно знали, что нужно делать, каждая игра превратилась бы в Angry Birds».
За четыре года с момента релиза этой игры компанией Rovio Entertainment она была скачана 2 млрд раз. Похоже, люди не способны противиться искушению с помощью виртуальной пращи швырнуть взбешенную птицу в тырящую яйца зеленую свинью! Почему? Есть много причин, объясняющих, почему играть в Angry Birds весело: это простая игра, никакой тебе кривой обучения, а при прямом попадании свинья взрывается, к восторгу любого внутреннего дошкольника. Но причины неотвязности игры более глубоки. Если за действием гарантированно следует вознаграждение (удачно бросил птицу — свинья взорвалась), то в мозге запускается система выработки дофамина. Прежде считалось, что ее единственное предназначение — вызывать субъективное ощущение награды или удовольствия, но оказалось, что система действует сложнее: она рассчитывает вероятность того, что действие обеспечит вознаграждение, и соответствующим образом настраивает модуль ожидания в нашем мозге. «Присутствие дофамина подает мозгу сигнал, что ожидается вознаграждение — например, роскошное зрелище взлетающих на воздух домов из стекла и дерева, — в 2011 г. написал в Psychology Today психолог Майкл Хорост (удаливший Angry Birds со своего телефона, чтобы избавиться от компульсивной потребности играть). — Однако мозг не знает, насколько крупным будет вознаграждение. Птица просто скользнет по поверхности или угодит прямо в яблочко? Эта неуверенность порождает напряжение, и мозг жаждет облегчения. В результате вы пойдете на все, чтобы обрести это облегчение». К примеру, будете снова и снова пускать в ход виртуальную пращу.
Неудивительно, что многие люди, неспособные перестать играть в Bejeweled или даже в FreeCell[23], испытывают при этом далеко не приятные ощущения. Они чувствуют принуждение, невозможность вырваться из пут игры и поневоле продолжают играть, почти не получая удовольствия, за исключением редких моментов успеха. Видеоигры каким-то образом «подключаются» к глубинным свойствам нашей психики, заставляющим нас ожидать удовольствия, вызывают у нас неприятные переживания и вынуждают постоянно повторять опыт, хотя мы знаем, что разочарование и досада неизбежны. Игры могут быть притягательными, не будучи особенно увлекательными, поскольку их разработчики эксплуатируют две очень действенные психологические уловки: вариативное и прерывистое, или вероятностное, подкрепление.
Подкрепление является прерывистым при переменной вероятности получения вознаграждения: иногда за свое достижение вы получаете приз (например, игровой трофей или переход на следующий уровень), а иногда… ничего — за то же самое действие. Вариативное подкрепление — это система вознаграждения, в которой ценность награды за данное достижение меняется. Игорные автоматы — это квинтэссенция вариативного и прерывистого подкрепления. Играя, вы всякий раз совершаете одно-единственное действие — дергаете за ручку однорукого бандита, — или, с переходом от механических устройств к электронным, нажимаете кнопку. Иногда выигрываете, иногда проигрываете — но в большинстве случаев проигрываете. Входной сигнал один и тот же, выходной меняется от джекпота до разорения. Неудивительно, что хрестоматийный образ любителя игровых автоматов — это человек, прикованный к машине, будто загипнотизированный, механически сующий четвертаки в железное нутро. Компульсивно играющий, пока не спустит все, и вынужденный возвращаться домой на автобусе.
Подобно игровому автомату, «Diablo 3 использует вариативные вознаграждения, и это одна из причин, почему она так затягивает», — объяснил Микрос. Поясню для несведущих: Diablo 3 — это релиз 2012 г. в рамках игровой франшизы, основанной в давнем 1996 г. Blizzard Entertainment. Все три релиза представляют собой ролевую игру в жанре «экшен» с упором на массовое истребление противников в ближнем бою (так называемый hack-and-slash, или попросту «рубилово»). Игрок, он же герой, ведет своего аватара через королевство Хандурас, сражаясь с вампирами и другими врагами, чтобы покончить с властью Дьябло, повелителя Ужаса. Если удастся пройти 16 уровней подземелий и добраться до Ада, герой сойдется с Дьябло в финальной битве. По дороге игрок швыряется заклятьями, получает оружие и другие полезности и взаимодействует с различными персонажами — воином, разбойницей, волшебником и прочими.
В начале игры вознаграждения, фактически, фиксированы: убиваешь монстра, и происходит нечто хорошее, скажем, подъем на уровень или повышение «опыта» (по сути, боевой мощи). Однако по мере прохождения игры вероятность получить в награду эффективное новое оружие или другое средство, способствующее выживанию и продвижению вперед, уменьшается, зато ценность вознаграждения увеличивается. «Вы по-прежнему ожидаете этого, но получаете не всякий раз, — говорит Микрос. — Вы уже привыкли, что уничтожение данного демона или монстра обеспечит вас чем-то полезным, скажем, золотом, особым мечом или луком. Но теперь вы не знаете, получите ли что-нибудь, и ждете этого момента с нетерпением, даже с тревогой».
Разработчики игр называют этот эффект «петлей компульсии». Он коренится в особенностях работы нашего мозга и позволяет понять суть гибридной природы игр. Как и другие электронные приманки вроде почты и сервисов обмена сообщениями, видеоигры представляют собой хрестоматийный пример занятия, в котором аддикция и компульсия перетекают друг в друга, словно демон, меняющий обличье.
Доступ к дофамину
Аддикции питает отчаянная потребность в очередной дозе наслаждения. Причина этого заключается в том, что аддикции рождаются из удовольствий — первоначальный опыт всегда приятный, захватывающий, доставляющий радость и кайф. Эти ощущения формируются в так называемой системе вознаграждения в головном мозге. Система активизируется, когда мы испытываем наслаждение, и состоит из нейронов, которые соединяются в сеть под воздействием дофамина. «Соединение в нейронную сеть» заключается в том, что электрический сигнал, дойдя до конца одного нейрона, переходит через синапс на следующий нейрон вследствие того, что первый нейрон выпустил в синаптическую щель дофамин. Дофамин преодолевает разрыв между двумя нейронами и собирается нейроном-реципиентом, как модули МКС собираются космическим кораблем «Союз». «Шлюз» нейрона называется рецептором дофамина. Факт стыковки способствует продвижению электрического сигнала по всей длине нейрона-реципиента, и процесс повторяется многократно, пока не будет воспринят нами как удовольствие — субъективное чувство, вызываемое пищей, сексом, алкоголем, никотином, кокаином и уничтожением монстров в Diablo 3. Именно поэтому все эти субстанции и занятия, будучи источниками глубокой эйфории, имеют столь выраженный эффект подкрепления.
Впрочем, протекающие в головном мозге процессы оказались сложнее, чем изначально представлялось ученым, и выработка дофамина не исключение. Деятельность центра удовольствия проще понять, если рассматривать ее как механизм ожидания: она формирует прогнозы того, насколько приятным будет опыт.
Чтобы лучше разобраться в том, как разработчики видеоигр используют систему выработки дофамина, я обратилась к Джейми Мадигану, доктору психологии, много лет проработавшему в компании, создающей игры. Мадиган прославился в мире геймеров благодаря сайту psychologyofgames.com, где выкладывает материалы по интересующим меня темам, включая «дофаминовый приход» — с которым, по собственному признанию, он сам едва справлялся, играя в Diablo 3.
В конце Diablo 3, рассказал он, «вы завершаете сюжетную линию», заключавшуюся в истреблении вампиров и монстров, с тем, чтобы добраться до Дьябло и сразиться с ним, «и получаете все более многочисленные и эффективные трофеи, чтобы убить больше монстров и получить еще более сильные трофеи». Уровней больше десяти, «и чем лучшее снаряжение вы приобретаете, тем более живучими становятся монстры. Этому нет конца. Постепенно я понял, что делаю одно и то же по три часа каждый вечер, и меня это уже не радует. Если уж я, знающий, какие элементы игры делают ее прилипчивой, попался на крючок…» Он смолкает.
Но что это за элементы, провоцирующие компульсию? Ник Микрос привел еще один хрестоматийный пример игры, которая, как и Diablo, эксплуатирует систему вариативного / прерывистого вознаграждения. Это суперпопулярная World of Warcraft[24], также известная своей способностью ввергать игроков в компульсию, предлагая им непредсказуемые и неожиданные находки. Массовая многопользовательская сетевая ролевая игра (MMORPG), выпущенная в 2004 г., она имеет более 10 млн подписчиков, каждый из которых выбирает себе персонажа и проходит квест по множеству уровней виртуального мира. В World of Warcraft игроки выбирают профессию, например кузнечное или горное дело, и могут овладеть любым из четырех второстепенных умений (археология, кулинария, рыбная ловля или оказание первой помощи). Они объединяются для выполнения заданий, либо ситуативно, либо в рамках постоянных объединений — гильдий, приглашая друг друга через встроенный в игру мессенджер, групповые «текстовые каналы» или, в некоторых играх, системы голосового общения. В гильдиях игроки получают доступ к инструментарию, который пригодится в квестах — миссиях, образующих сюжетный костяк игры и дающих игрокам очки опыта, полезные объекты, умения и деньги. Кроме того, World of Warcraft и другие MMORPG дают возможность бегства в тщательно проработанный, сложный, интересный мир, где нет родительских наездов, начальников-самодуров или неблагодарных супругов. Они эксплуатируют наше стремление к достижениям, пусть достижения — разгром врагов, уничтожение монстров, спасение принцесс, накопление богатства или повышение статуса и переход на более высокие уровни — не вполне реальны.
Это, однако, очевидный в психологическом отношении и относительно безобидный фактор притяжения многопользовательских игр. Джейми Мадиган стал жертвой другого механизма. Однажды он добродетельно истреблял бандитов в World of Warcraft, зарабатывая шанс пополнить арсенал доспехов, оружия или других расходных — трофеев, которые пригодятся в последующих сражениях и квестах. Трофеи бывают разного качества, о котором сообщает цвет сопровождающего текста: серый — самые слабые, белый — чуть более ценные, далее зеленый, синий, пурпурный и оранжевый. Персонаж, которого игрок выбирает в качестве аватара, также имеет определенное место в иерархии. «Классы» — монахи, мошенники, шаманы, воины и друиды — имеют собственный стиль поведения, определяющийся доступным им оружием и защитными приемами, а также умениями, силами и магией, которые зарабатываются прохождением всевозможных этапов. Его персонаж ничем особенным не блистал и едва ли мог рассчитывать на ценные приобретения, поэтому Мадиган «был потрясен выпавшим трофеем — редкостной парой "синих" рукавиц, которые идеально отвечали нуждам моего класса на тот момент», вспоминает он. Для низового персонажа «найти синий предмет на случайном враге — случай уникальный, и я решил, что меня ждет колоссальный рывок. Что еще более важно, одновременно возникло острое желание продолжать игру и убить больше бандитов».
Прерывистое вознаграждение в форме редкого трофея поддерживает накал страстей, как никакие ожидаемые и предсказуемые призы. «Это невероятно эффективный способ удерживать людей в игре в силу особенностей функционирования дофаминовой системы вознаграждения», — объяснил Мадиган. Как вы помните, «дофаминовые нейроны» предвосхищают всплеск удовольствия от приятного опыта, зажигаясь еще до поступления вознаграждения (например, когда сигнал микроволновки сообщает вам, что готово ваше любимое блюдо). «Но это лишь одна из причин огромной действенности игр, основанных на собирании трофеев, — продолжил он. — Главное то, что дофаминовые нейроны просто зажигаются, как только ваш мозг научится предсказывать событие, но буквально идут вразнос, получив неожиданную, непредсказуемую дозу дофамина, и заводят вас еще сильнее. Нечто вроде "Вот это да! Еще одна порция — нежданно-негаданно! Продолжай делать то, что делаешь, пока мы пытаемся выяснить, как добиться повторения!" И вы продолжаете играть».
Что с того, что рациональный мозг убеждает вас остановиться! Если вы находитесь на эмоциональном взводе — например, когда истребляете злодеев в онлайновой стрелялке или мчитесь по дьявольским трассам Gran Turismo, подхлестываемые визгом покрышек, — то не помните, что должны позаботиться о хлебе насущном, подготовиться к завтрашней презентации или закончить курсовую. «Все намерения, продиктованные здравым смыслом, бессильны — вы уже мыслите другим мозгом, после того как какой-то вонючка побил ваш рекорд в шутере либо вы сами совершили потрясающий подвиг в другой игре, — объяснил Мадиган. — Рациональность уползает, поджав хвост, а вы вдруг понимаете, что сейчас без четверти три и впереди рабочий день, но все равно бормочете, что уделаете еще одного, и на этом все…»
Ник Микрос не в восторге от того, что разработчики видеоигр научились пользоваться дофаминовой системой. Кажется, половина цокольных помещений в Бруклине занята геймдизайнерами, встраивающими петли компульсии в свои творения. Однако не все люди этой профессии гордятся этим, доведенным до совершенства, навыком коллег. «У меня волосы дыбом встают от игр, являющихся материальным воплощением ящика Скиннера, — признается Микрос под занавес. — Я не поэтому хочу делать игры, не для того чтобы люди получали корм. Нажал на рычаг, получил гранулу. Сомневаюсь, что это путь к прогрессу человечества».
Доморощенная нейронаука
Мне начинало казаться, что я прохожу квест в Halo 3[25] в надежде, что следующее помещение, в которое я проникну, — следующий эксперт, у которого возьму интервью, — раскроет остальные секреты компульсивной игры. Моей следующей локацией стал Центр разработки игр Нью-Йоркского университета.
Он столь недавно обосновался в бизнес-центре MetroTech в Бруклине, что у его директора Фрэнка Ланца, встретившего меня у лифтов, не сработала ключ-карта от офиса. (Нас выручил студент-дипломник.) Мониторы в комнате отдыха еще были обернуты целлофаном, всюду громоздились коробки. Центр разработки игр, основанный в 2008 г. в качестве кафедры Школы искусств Тиш, предлагает двухлетнюю магистерскую программу по созданию компьютерных игр.
Ланц — легенда в игровом мире. Он сооснователь компании Area / Code (приобретенной Zynga в 2011 г.), разработавшей такие Facebook-игры, как CSI: Crime City и Power Planets («Управляйте судьбой своей собственной миниатюрной планеты. Стройте здания, чтобы обеспечить счастливую жизнь обитателей, и… создавайте источники энергии, чтобы поддерживать развитие своей цивилизации»). Он сделал множество игр для iPhone, в том числе Drop7. В Sharkrunners, созданной им для «Недели акул» канала Discovery 2007 г., игроки могут почувствовать себя морскими биологами, взаимодействующими в океане с настоящими акулами, к которым прикреплены GPS-датчики, снабжающие игру телеметрическими данными.
Ланц сел за почти пустой стол (его вещи еще не были распакованы) и выразил удовлетворение тем, что геймдизайн наконец-то признан полноценной учебной дисциплиной, — тем более что в этой сфере сходятся идеи из столь разнородных сфер, как архитектура и литература. «Большинство создателей игр преследуют творческие цели, и это для них более сильный мотив, чем желание сделать игру, от которой игроки не смогут отказаться», — заявил он. Однако, если разработчики и руководствуются эстетическими и прочими возвышенными соображениями, компании-продавцы игр как никогда прежде стремятся получить за свои вложения неотвязную игру. В былые годы подросток выложил бы $59,95 за Gran Turismo, и это было бы последним, что компания Sony смогла бы на нем заработать (вплоть до релиза Gran Turismo 2). Если игрок терял интерес, это никого не заботило.
В 2000-х гг. утвердилась другая бизнес-модель: вместо того чтобы платить вперед, геймеры получали свободный бесплатный доступ, часто в форме скачивания на мобильное устройство, но затем им назначались «микровыплаты». Например, в Farmville можно за один доллар купить магию, восстанавливающую урожай (зачахший из-за вашего небрежения, черт бы побрал эти домашние задания!) или ускоряющую его созревание (чтобы вы успели собрать овощи до того, как вас погонят спать). Farmville постоянно побуждает игроков возвращаться на виртуальные поля, поскольку имеет таймер: урожай гибнет, если не проведывать его достаточно часто. Многие люди терпеть не могут терять добытое, и этот эффект настолько силен, что психологи дали ему название — «неприятие убытков».
Другие игры предлагают вам заплатить один или два доллара за обход препятствия, доступ к более экзотической части игрового мира, крутой прикид для вашего аватара или виртуальную еду и напитки для виртуальных обитателей CityVille[26]. В модели микровыплат прилипчивость — привлекательность настолько сильная, что геймеры не в состоянии перестать играть, — это альфа и омега. «Коммерческая операция встроена в игру, — говорит Ланц. — Это вызывает по-настоящему серьезные споры вокруг геймдизайна, поскольку некоторые приемы воспринимаются как манипулятивные. Они призваны не улучшить впечатления игрока или воплотить ви`дение разработчика, а подтолкнуть вас к микровыплатам. Я сомневаюсь, что геймдизайнеры расчетливо применяют приемы поведенческой психологии, чтобы заставить игроков прилипнуть к игре. Очень немногие разработчики знают, что создают механизм компульсии. Они хотят, чтобы люди, оценив впечатления от игры, сказали, что это было круто и весело. Тем не менее они понимают, что опираются на знания психологии».
И это мягко сказано. Методом ли проб и ошибок или в ходе целенаправленного поиска, игроделы достигли пугающего могущества в создании неотвязных игр. По мнению Ланца, этому способствует даже такая элементарная вещь, как таблица рекордов, пробуждающая желание попасть в нее и, таким образом, эксплуатирующая нашу глубинную потребность в высоком статусе, для удовлетворения которой мы готовы играть и играть, пока не прорвемся в первую сотню (или у нас не отсохнут пальцы). Или, например, «вложенные» цели. В видеоигре 1991 г. Civilization участники, совершая ходы по очереди, «строили империю, способную выдержать проверку временем», как гласила аннотация. В роли правителя будущей империи каждый начинал свой путь в 4000 г. до н.э. с единственного воина и нескольких простолюдинов, которых мог перемещать, чтобы организовывать поселения. Путем исследования новых земель, дипломатии и войн игроки развивали свои цивилизации, строя города, накапливая знания (что вы изобретете сначала, гончарное дело или алфавит?) и осваивая окружающие территории.
«Почему это так затягивает? — подхватывает Ланц мой вопрос. — Потому что здесь сходятся срочные цели: скажем, расселение крестьян или успешное прохождение вашим персонажем квеста, среднесрочные, которые должны быть достигнуты за следующие три-четыре хода, например создание города, и долгосрочные, рассчитанные на десять-пятнадцать ходов [достижение расцвета цивилизации]. Игра пронизана ритмом, и, когда ближайшая цель достигнута и ум мог бы отдохнуть, вы уже размышляете о нескольких предстоящих ходах. Перекрывание, или "вложение", ближних, средних и дальних горизонтов планирования невероятно увлекательно. В реальном мире мы зачастую даже не подозреваем, что с чем связано». Скажем, не знаем, какое сиюминутное достижение могло бы в дальнейшем вылиться в нечто большее. Цифровой мир видеоигры дарит определенность: из «А» обязательно следует «Б».
Еще один прием разработчиков, позволяющий сделать компьютерную игру прилипчивой, — это моментальное вознаграждение. «Вы совершаете какое-то действие, и персонаж прыгает, — объяснил Ланц. — Это очень привлекательно, поскольку в реальном мире множество кнопок оказываются сломанными». Вы нажимаете на кнопку «упорно учись в школе», но в результате не попадаете в избранный колледж, как было обещано, или нажимаете «окончи колледж», но это не помогает получить хорошую работу. В видеоиграх кнопка работает так, как было обещано, «что и делает их такими притягательными».
World of Warcraft, провоцирующая компульсивную игру при помощи вариативного / прерывистого вознаграждения, имеет еще одну психологическую приманку, как в хорошем романе, детективе или триллере. «Именно поэтому вы каждый вечер открываете "Войну и мир", чтобы прочесть очередную главу, — говорит Ланц. — Вы хотите узнать, что будет дальше». Незнание вызывает тревогу — ту самую, что заставляет компульсивно играть. «Не так-то просто погрузиться в сюжет, проследить его до конца и суметь расстаться с ним» — преодолеть компульсию.
В том, что не каждому это по силам, убедился Райан Ван Клив. Урожденный Райан Андерсон, в 2006 г. он принял новое имя, позаимствованное из World of Warcraft. В 2007 г., в канун Нового года, его увлеченность игрой едва не обернулась трагедией. Ван Клив, профессор колледжа, поэт и редактор, был лишен преподавательской должности из-за компульсивной игры: он играл до 80 часов в неделю и совершенно отдалился от жены и друзей. 31 декабря он сказал жене, что сбегает за леденцами от кашля, но вместо этого поехал к Арлингтонскому мемориальному мосту в Вашингтоне, откуда задумал спрыгнуть. Поскользнувшись, он едва не свалился в ледяные воды Потомака, но спохватился в последний момент и сумел отползти от края. В 2010 г. он издал книгу «Выйти из виртуала: мое путешествие в темный мир зависимости от видеоигры» (Unplugged: My Journey into the Dark World of Video Game Addiction), где описал свое падение в игровой ад. Игра стала самым важным в его жизни, в ущерб всему остальному: жена грозилась уйти, дети его ненавидели, а родители отказывались приезжать в гости. «Я настолько глубоко погрузился в виртуальные миры, — писал Ван Клив, — что едва помню, что происходило в реальной жизни. Почти все прошло мимо меня».
• • •
Ланцу горько сознавать, что мастерство и креативность, которые он видит в геймдизайне, могут становиться причиной подобных трагедий. «Я думаю, разработка игр — это нечто вроде доморощенной психологии или нейронауки "на коленке", — заметил он. — Созидается эмоциональный опыт, так что, конечно, разработчики учитывают психологию. Задолго до появления игр с бесплатной установкой существовала цель обеспечить геймерам захватывающий опыт, но под этим понималось создание годной игры, а не просто игрового автомата. Разработчики знают, что, если подбрасывать необходимые игрокам ресурсы: силу, возможности, жизни, оружие — к примеру, в каждый четвертый мусорный ящик, это заставит людей продолжать обследовать ящики. Такова сила прерывистого вознаграждения».
«Во всем этом немало шаманства, — подытожил Ланц. — Мы до сих пор не знаем точной причины популярности Angry Birds. Это просто нечто необъяснимое». Собираясь уходить, я спросила, какая у него любимая игра. Оказалось, го — древняя китайская настольная игра, в которой нужно делать ходы черными и белыми камнями на доске девятнадцать на девятнадцать клеток.
Цифровой наркотик
Возникновение компульсии у поклонника видеоигр возможно в интервале, напоминающем узкий горный пик: стоит спуститься на шаг в одну сторону от вершины, и окажешься в долине излишней простоты, в другую — в пропасти чрезмерной сложности. Слишком простые или сложные игры мы бросаем из-за скуки или разочарования, поэтому геймдизайнеры применяют адаптацию, чтобы все время оставаться в геймерской «зоне Златовласки»[27]. Одним из первых таких примеров стал тетрис. В этой геометрической головоломке из верхней части экрана в нижнюю падают блоки разной формы — в виде букв L, T, I, квадратов две на две клетки, — и игрок должен за время падения успеть развернуть и сместить их таким образом, чтобы они образовывали сплошную стену внизу, причем заполненные нижние ряды исчезают по мере нарастания верхних.
«Ее назвали фарматроником, эту электронную штуку, влияющую на мозг как наркотический препарат», — говорит Том Стаффорд, специалист по когнитивной науке Шеффилдского университета. По его словам, тетрис невероятно прилипчив в том числе потому, что использует психологический феномен — так называемый эффект Зейгарник. Однажды, сидя в берлинском кафе, психолог Блюма Зейгарник (1901–1988) заметила, что официанты прекрасно помнят заказы, еще не доставленные клиентам. Но как только заказ исполнен, он тут же забывается. «Запоминаются незавершенные дела, — объяснил Стаффорд, — и тетрис великолепно этим пользуется. Это мир бесконечных незавершенных дел. С каждой завершенной линией сверху падают новые блоки. Каждый блок, который вы ставите на место, создает новое пространство, куда можно пристроить следующий блок». Мы помним нерешенные задачи, и это вызывает у нас потребность наконец сделать дело и тревогу, пока оно не будет завершено.
«Игра тетрис гениально эксплуатирует свойство памяти зацепляться за неоконченные дела и втягивает нас в компульсивную спираль выполнения заданий и создания новых, — продолжает Стаффорд. — Желание завершить очередное дело заставляет играть бесконечно». Если мы начали что-то делать, предприняли определенные шаги к цели, то чувствуем себя обязанными закончить. Однако незавершенные действия овладевают нашим разумом не только в силу эффекта Зейгарник. Существует также эффект невозвратных затрат: мы терпеть не можем бросать дело, в которое уже вложили время и силы. Если перед вами стоит задача написать и отправить письмо и вы ее наполовину выполнили, то чувствуете необходимость продолжить работу.
Многие MMORPG эксплуатируют склонность избегать невозвратных затрат, глубоко затягивая нас с самого начала. «У этих игр, что называется, высокая скорость поглощения, — говорит Захир Хуссейн, психолог британского Университета Дерби. — Начиная играть, вы попадаете в весьма комфортную среду: приятные цвета и звуковые эффекты, несложные квесты, с которыми вы справляетесь без особых проблем, получая за это вознаграждение. Это заставляет проводить за игрой все больше времени». Способствует этому и использование другой особенности человеческой психики, обнаруженной бихевиористом Б. Ф. Скиннером в 1950-х гг.: если вознаграждение становится более редким и труднодостижимым, как это свойственно многим онлайновым играм, вы не просто продолжаете играть, но проявляете все бо́льшую компульсивность в решимости получить чертов приз, казалось бы, такой доступный всего один или два уровня назад. В World of Warcraft и других MMORPG в нижней части экрана находится индикатор текущего состояния, сообщающий, сколько квестов вы прошли и насколько приблизились к очередному уровню или вознаграждению, — по словам Хуссейна, это «стимул продолжать игру». Остановиться так близко от очередного достижения, особенно если это отбросит тебя в начало уровня или квеста, означает потерять уже затраченные время и усилия.
Как бы то ни было, читатели Guardian в опросе 2014 г. назвали самой «затягивающей»[28] игрой всех времен тетрис, набравший 30% голосов. Второе место заняла World of Warcraft (22%), третье — Candy Crush Saga (10%).
Ох уж эта Candy Crush! Чтобы открыть секрет ее дьявольского очарования, я вновь обратилась к Джейми Мадигану, которого пытала по поводу дофамина. Меня заинтриговал его анализ спиралей компульсии, и я подумала, что никто лучше него не объяснит, почему миллионы людей так погружаются в Candy Crush, что проезжают свою остановку, плюют на домашнюю работу, работу по дому, да и просто работу и забывают о существовании детей, супругов и друзей. Для несведущих объясню, в чем заключается игра. Экран заполнен «конфетками» разного цвета и формы, и игрок должен, передвигая их, собрать три одинаковые в ряд (игра-предшественница, Bejeweled, была устроена аналогично). Как только результат достигнут, троица исчезает, окружающие элементы перестраиваются, и вы получаете награду в виде разноцветных вспышек, очков, нарастания громкости звука и появления на экране слов-стимулов, например «вкуснятина».
На самом базовом уровне Candy Crush апеллирует к склонности нашего ума обнаруживать закономерности в, казалось бы, случайных группах объектов — в силу этого дара древние греки и римляне разглядели лебедя, близнецов и медведицу в хаосе звезд, разбросанных по ночному небу. «В ходе своего развития мозг научился замечать нечто хорошее даже там, где его вроде бы не должно быть, например находить источник пищи, ранее отсутствовавший, — пояснил Мадиган. — Таким образом, в силу эволюции мы почемучки. Мы так устроены, что ищем смысл в схемах, особенно в неожиданных схемах». Кроме того, Candy Crush опирается на нашу привычку класть вещи на место, все организовывать, вообще наводить порядок. Именно за это, по собственному ощущению, вы беретесь, когда смотрите на игровое поле, где царит полная неразбериха, зная, что можете переставить элементы так, чтобы одинаковые оказались рядом. Поэтому игра притягивает и доставляет радость.
Есть, однако, множество занятий — просмотр фильмов, садоводство, кулинария или любое другое, которое вы предпочитаете в свободное время, — доставляющих радость, но не «прилипчивых». По словам Мадигана, игру Candy Crush делает прилипчивой то, что вознаграждения не просто продолжают поступать, но появляются неожиданно. Иногда с падением собранной вами тройки элементов образуется комбинация, в которой таких троек много, и все они тут же проваливаются за игровое поле, взрывающееся яркими вспышками, громкими звуками, демонстрацией набранных баллов и поздравлением во весь экран. Из-за этого «дофаминовые зоны мозга сходят с ума, — сказал Мадиган. — Нечто подобное испытывали наши древние предки, охотники-собиратели, прекрасно знавшие, где гарантированно можно найти пищу, когда вдруг натыкались на богатый дар в совершенно неожиданном месте, например на рыбный ручей или заросли ягодного кустарника, о которых прежде не подозревали. Обратить внимание на такое место и запомнить его — самая что ни на есть адаптивная реакция. Мы так устроены, что особенно остро реагируем на вознаграждение, если оно оказалось неожиданным, а затем рассчитываем, что это случится еще раз и еще. Разработчики игр используют это в своих интересах».
У Candy Crush есть и другие психологические козыри в рукаве. В игре действует система «жизней»: если вы не смогли убрать, скажем, 100 пурпурных элементов за определенное время или число ходов, то теряете жизнь. Потеряв пять жизней, вы выбываете из игры и можете в нее вернуться только после того, как прождете несколько часов, заплатите (реальные) деньги или попросите друзей помочь вам снова залогиниться. При этом эксплуатируется психологическая особенность — «гедонистическая адаптация», в силу которой мы постепенно привыкаем к источнику приятных переживаний, будь то новый автомобиль, шикарный жилой район или работа нашей мечты, так что в результате и близко не испытываем тех чувств, что вначале.
Исследование 2013 г. выявило механизм действия этого психологического феномена. Психологи Джорди Квойдбах из Гарвардского университета и Элизабет Данн из Университета Британской Колумбии разбили добровольцев на три примерно равные группы и дали следующие инструкции. Одним запретили есть шоколад неделю вплоть до повторного визита в лабораторию; другим выдали почти килограмм и велели съесть как можно больше, чтобы только не стало плохо; третьим не сказали ничего, кроме просьбы снова прийти через неделю. По возвращении всех снова угостили шоколадом и спросили, нравится ли он. «Участникам, временно отказавшимся от шоколада, он показался гораздо более вкусным и доставил больше удовольствия», чем тем, кому в неявной форме позволили есть сколько захочется или явно толкнули на шоколадное обжорство, как сообщили ученые в Social Psychological and Personality Science. Ограничивая время в игре, Candy Crush поддерживает в вас тревожное ожидание большего, причем тревога растет, пока вы не прикончите ее прямым попаданием в три одинаковых элемента. «Большинство из нас привыкло играть сколько влезет, пока игра не приестся, и бросать ее, но Candy Crush хитростью заставляет нас вести себя иначе», — пояснил Мадиган. Игроки, оказавшиеся вне игры, не находят себе места, пока не дождутся очередного захода, и гедонистической адаптации у них не происходит.
Потенциальные игроманы
Настало время решить очередную задачу — выяснить, зависит ли опасность превратиться в компульсивного геймера от индивидуальных особенностей личности, возраста, пола или других переменных.
Научное изучение этой проблемы «переболело» массой детских болезней, характерных для новой области исследования. Даже базовые понятия — скажем, что делает поведение проблемным и как именно такое поведение выглядит, — ученые, каждый в своем исследовании, определяют по-разному. Это поведение «не является ни последовательным, ни специфичным», как сказал Скотт Каплан из Делаверского университета. Проблему иллюстрирует изменение описания личности, имеющей наибольший риск развития компульсивной игровой зависимости. В начале 2000-х гг., когда в интернете присутствовало меньше людей, чем сейчас, исследования чрезмерного увлечения онлайновыми играми (и чрезмерного интернет-пользования в целом) ставили своей основной целью обнаружение прогностических факторов такого поведения. К сожалению, как свидетельствует даже поверхностное ознакомление с опубликованными результатами, ученые «выявили значимые корреляции с большим числом психологических характеристик», — отметил Дэниел Кардефельт-Уинтер из Лондонской школы экономики и политических наук в статье в Computers in Human Behavior за 2014 г. По сути, продолжил он, «практически все психологические характеристики вносят значимый вклад в вероятность» развития игровой зависимости. Называя вещи своими именами, самый главный фактор риска — это наличие человеческого мозга.
Поначалу типичный компульсивный геймер был «одиноким, испытывающим трудности в общении типом, возможно, с социальной тревожностью», рассказал Каплан: «Но в те времена только такие и играли в видеоигры». Таким образом, особенности личности были внешним проявлением подлинной, глубинной причины чрезмерного увлечения игрой, а не собственно причиной. К примеру, такая особенность, как нейротизм, связана с неспособностью выносить тревогу, в связи с чем она фиксируется в исследованиях характеристик игроманов. Но не нейротизм как таковой вынуждает людей играть в онлайновые игры, а тревога, которую они не в силах снизить иными средствами.
Аналогично ученые выявили корреляцию между чрезмерным увлечением онлайновыми играми и великим множеством личностных особенностей, таких как, скажем, одиночество, депрессия, тревожность, застенчивость, агрессивность, трудности в межличностных отношениях, жажда острых ощущений и недостаток социальных навыков. Эти черты, однако, отличали не столько лиц, предрасположенных к компульсивному онлайновому поведению, сколько большинство интернет-пользователей, как отличающихся, так и не отличающихся компульсивностью. «Сегодня интернетом пользуются все, в том числе через смартфоны, и описание типа людей, делающих это компульсивно, также должно измениться», — добавил Каплан.
Как и в случае других компульсий, компульсивное занятие видеоиграми само по себе не является ни патологией, ни проявлением душевного расстройства. Люди по многу часов каждый день играют в игры (пользуются интернетом, Twitter, сервисами обмена сообщениями или Facebook, о чем пойдет речь в следующей главе) «по тем же причинам, по которым компульсивно совершают другие действия, — из-за скуки, эскапизма, соревновательности и общительности, поскольку этим занимаются их друзья», — объяснил Каплан. Принципиально важно, что онлайновые игры, особенно многопользовательские, обеспечивают социальное взаимодействие за спасительной личиной аватара, что привлекательно для людей, которым проще общаться анонимно, чем лично контактировать со знакомыми. Люди с хрупкой психикой могут предпочитать онлайновое общение просто потому, что личное слишком стрессогенно или плохо им дается — виртуальная жизнь для них более комфортна. Таким образом, многие люди проводят очень много времени за видеоиграми в порядке компенсации. Это стратегия адаптации, способ справиться со стрессом или депрессией, спастись от одиночества, скучной работы или любой другой отвратительной стороны реального мира. В исследовании 2013 г. Каплан с коллегами опросили 597 подростков, регулярно игравших в онлайновые игры. Самым надежным прогностическим фактором проблемного игрового поведения и негативного влияния игр на остальную жизнь человека оказалось обращение к игре с целью нормализации настроения (к примеру, чтобы избавиться от уныния, скуки или чувства одиночества) и невозможность решить эту задачу иными способами. «Если я одинок и иду в интернет, это компенсация, — пояснил Каплан. — Это не первичная патология». Игры дают нам что-то, в чем мы нуждаемся или чего хотим. Если компенсация оказывается эффективной и становится дежурным средством избавления от тревоги, она может стать компульсивной.
Все ли мы относимся к группе риска? Не в равной степени. Как вы помните, массовые многопользовательские сетевые ролевые игры, такие как World of Warcraft, мастерски используют трюк, на который ловят игроков «однорукие бандиты», — вариативное / прерывистое подкрепление, обеспечиваемое такими приманками, как неожиданные ценные трофеи, нажимающие на наши «дофаминовые кнопки». Восприимчивость к подобным приманкам — практически универсальная человеческая черта, но, как и в любом другом отношении, здесь имеется множество слабых мест.
Мадиган высказал еще одно соображение по поводу компульсивности, связанной с видеоиграми. Помимо прочих чар простейшие игры вроде Candy Crush и Angry Birds отличает возможность играть в крохотные промежутки времени, скажем, между заданиями на работе, домашними делами или на пути из точки А в точку Б. В былые времена мы пользовались этими моментами, чтобы размышлять, строить планы или просто мечтать. В нынешнюю эпоху вечного онлайна многим людям претит сама мысль о подобных занятиях. Они скорее перенесут разряд электрошокера, чем останутся наедине с собственным разумом (в буквальном смысле, о чем я расскажу в следующей главе). Онлайновые игры, особенно для мобильных устройств, паразитируют на компульсивной потребности заполнить свободные минуты — ничем их не забив, мы чувствуем тревогу. «Сначала вы играете пару-тройку раундов в Candy Crush за завтраком, ожидая, когда сварится кофе, — сказал Мадиган. — Но очень скоро играете каждый вечер перед сном». Если вы никогда не скачивали Angry Birds, она вас, разумеется, не затянет. Как вы сейчас убедитесь, избежать других цифровых наркотиков сложнее.
Глава 6 Смартфоны и интернет
В 1995 г. доктор Айвен Голдберг, нью-йоркский психиатр, разместил онлайн объявление об открытии группы поддержки для больных «интернет-зависимым расстройством» (ИЗР). Он писал, что это психическое заболевание «распространяется в геометрической прогрессии», а следовательно, требуется создание форума, где жертвы могли бы рассказывать о своей проблеме, а врачи — предлагать эффективное лечение. Голдберг определил интернет-зависимость как «дезадаптивную схему пользования интернетом, ведущую к клинически значимым нарушениям или дистрессу», и — в соответствии с форматом «Диагностического руководства» Американской психиатрической ассоциации — оговорил, что больными считаются лишь те, у кого в течение года наблюдаются минимум три из семи симптомов. Возможно, имеет место привыкание, вынуждающее проводить все больше времени онлайн, «чтобы достичь удовлетворения», или синдром отмены при отказе от интернета, включая нервозность, тревогу и навязчивые мысли о том, «что делается в сети»[29].
Голдберг попал в самую точку. Его знакомые психиатры ставили самим себе диагноз «интернет-зависимость», сотни людей выкладывали описания своих страданий в онлайновой группе поддержки, организованной в формате информационной рассылки, признаваясь, что проводят онлайн двенадцать часов в день, пока их «РЖ» (реальная жизнь) рушится из-за «враждебного поглощения» виртуальной, и подумывают «провести дома вторую телефонную линию, чтобы изредка общаться с семьей».
И все бы ничего, если бы не одно но. Голдберг разместил объявление в качестве розыгрыша, насмешки над привычкой психиатров искать патологию в любой избыточности. Его «диагноз» можно было получить, просто уделяя «много времени… занятиям, связанным с пользованием интернетом», покупая книги или ища что-то онлайн, проводя в сети больше времени, чем планировалось, и меньше общаясь в силу того, что предпочел редактирование статьи о цикле Кребса в Википедии пивному марафону в баре кампуса. Как вы, наверное, заметили, если подкорректировать диагностические критерии, предложенные Голдбергом для интернет-зависимого расстройства под другие занятия, то миллионы людей окажутся компульсивными бегунами, компульсивными книгочеями, компульсивными слушателями выпусков новостей, компульсивными тусовщиками, компульсивными спортивными фанатами или компульсивными кинозрителями. «ИЗР — понятийное зло, — сказал Голдберг в интервью New Yorker в 1997 г. — Нелепо рассматривать любое поведение как медицинскую проблему, помещая его в номенклатуру психиатрических заболеваний».
Так и есть. Навязчивое пользование интернетом — от лазания в Facebook до обмена текстовыми сообщениями — как никакой другой пример доказывает, что компульсивность в отношении чего бы то ни было еще не означает душевной болезни. Поведение не становится патологическим только потому, что оно компульсивно. Наоборот, понимание притягательности интернет-присутствия проливает свет на самые что ни на есть здоровые и совершенно нормальные схемы работы мозга.
Несмотря на отсутствие доказательств, что чрезмерное пользование интернетом является психической патологией, идея тут же была подхвачена. Не прошло и двух лет с тех пор, как Голдберг выложил свое объявление, а университеты стали предлагать помощь студентам, считающим, что компульсивно пользуются интернетом (программа Мэрилендского университета называлась «Пойманные в Сети»), а уважаемая психиатрическая лечебница Маклина под Бостоном организовала службу помощи жертвам компьютерной аддикции. В Питтсбургском университете психолог Кимберли Янг в 1995 г. основала центр борьбы с онлайн-зависимостью, которую призвала психиатров включить в DSM в качестве официального диагноза, чтобы побудить страховые компании покрывать лечение полисами. В 2009 г. в Фолл-Сити, штат Вашингтон (возле штаб-квартиры Microsoft в Редмонде), открылась программа исцеления от интернет-зависимости reStart, впервые предложившая стационарное лечение «компульсивного пользования чатами и сервисами обмена сообщениями, а также других проявлений интернет-аддикции». В объявлении об открытии reStart утверждалось, что эта напасть поразила «от 6 до 10% интернет-пользователей повсеместно». Примерно в то же время в Китае и Южной Корее интернет-аддикция была объявлена главной угрозой здоровью населения. В 2013 г. Янг стала сооснователем стационара для интернет-зависимых больных при региональном медицинском центре в Брэдфорде (штат Пенсильвания), причем «интернет-аддикцией» называлось «любое компульсивное интернет-пользование, мешающее нормальной жизни и оказывающее сильное давление на членов семьи, друзей, возлюбленных и профессиональное окружение пациента». Далее разъяснялось, что речь идет о «компульсивном поведении, полностью подчинившем себе жизнь зависимого человека». Десятидневный курс лечения в «отделении с безопасной средой и самоотверженным персоналом», начинавшийся с 72-часовой так называемой «цифровой детоксикации», стоил $14 000.
Что касается Голдберга, скончавшегося в 2013 г. в возрасте 79 лет, в конце жизни он пришел к мысли, что малый процент населения страдает «расстройством патологического интернет-пользования». Эта осторожная формулировка скрывала невозможность определить, является ли такое поведение компульсией, зависимостью или нарушением контроля импульсов — либо ничем из вышеперечисленного.
С тех пор, как Голдберг подбросил идею «интенсивное интернет-пользование есть психическое расстройство», ее проверяли на прочность в исследованиях, результаты которых оказались для нее неблагоприятными. При поверхностном ознакомлении с научной литературой создается впечатление, что данное расстройство не только существует, но и почти так же распространено, как сами смартфоны. В действительности ученые все больше сходятся на противоположной точке зрения: многие люди компульсивно заходят в интернет, но их состоянию далеко до психического заболевания. Решающий удар был нанесен в 2013 г., когда — несмотря на сотни статей в психологических и психиатрических журналах, описывающих чрезмерную онлайновую активность как аддикцию или компульсию, — психиатры отказались вносить «расстройство интернет-пользования» в DSM-5 в качестве самостоятельного диагноза. Главной причиной послужило то, что люди проводят слишком много времени в интернете вследствие самых обычных ментальных процессов, и оснований объявлять такое поведение «заболеванием» не больше, чем считать душевной болезнью рационализацию после покупки («я это купил, значит, это хорошая вещь») — также свойственную почти всем когнитивную особенность. Еще одно соображение заключалось в том, что рассматриваемое поведение представляется «чрезмерным» стороннему наблюдателю, и по мере того, как все больше видов онлайновой активности становятся социально приемлемыми, само понятие «чрезмерности» меняется. Пользование интернетом может быть компульсивным у многих людей, но это не значит, что оно патологично. Утверждать обратное — все равно, что считать повсеместно распространенное поведение психическим отклонением, следствием неадекватной работы мозга.
Результаты, полученные сторонниками иной точки зрения, оказались неубедительными и не соответствовали даже минимальным критериям Американской психиатрической ассоциации, позволяющим утверждать, что возможность оценки данного поведения как психического расстройства заслуживает дальнейшего изучения. Многие исследования были настолько ущербными, что смутили бы даже студента, слушающего курс «Введение в психологию». Или, как сказал основатель информационного ресурса по психическому здоровью PsychCentral Джон Грохол: «Интернет-зависимость плохо подтверждена, поскольку большая часть посвященных ей исследований столь же плохи».
Насколько плохи? Оценки распространенности патологического интернет-пользования по результатам 39 исследований, проведенных с 1990-х гг., отличаются огромным разбросом, утверждает группа ученых из Университета Нотр-Дам под руководством Марины Блэнтон в отчете, опубликованном в CyberPsychology & Behavior. Начать с того, что отсутствует общеупотребимое определение предполагаемого заболевания. В некоторых исследованиях использовался единственный критерий — время, проводимое в интернете. По милосердной формулировке Блэнтон с коллегами, этот подход имел «серьезные ограничения». Например, охватывал миллионы людей, не испытывающих особого желания находиться в интернете, но вынужденных делать это по работе и, следовательно, испытывающих зависимость от сети не в большей степени, чем, скажем, от печатания текстов. Другие исследования опирались на диагностические опросники из 32 вопросов с вариантами «верно» и «неверно», из 13 вопросов с ответами «да» или «нет» или что-нибудь еще, совершенно в ином духе, и ничто не доказывало, что человек, «соответствующий» (или не соответствующий) критериям одного опросника, был бы признан больным (или здоровым) в соответствии с другим. Отсутствие валидизации налицо. Практически ни одно исследование не подтверждало точности описания изучаемого поведения, а методы поиска участников во многих случаях приводили к серьезным ошибкам отбора. Ученые искали добровольцев, интересующихся интернетом, что оборачивалось раздутыми оценками распространенности интернет-аддикции. Это равнозначно попытке оценить распространенность алкоголизма, опрашивая завсегдатаев пивных.
Главной проблемой, разумеется, является то, что критерии из большинства опросников по интернет-зависимости позволяют что угодно назвать патологической компульсией. Пребывание в сети «дольше, чем вы намеревались», пренебрежение домашними делами, «чтобы провести больше времени онлайн», завязывание отношений по интернету, проверка электронного почтового ящика «прежде других дел», жалобы домочадцев или сослуживцев по поводу того, сколько времени вы проводите в интернете… Что ж, поставьте сюда любое занятие, которое общество считает более достойным, и увидите, насколько это нелепо.
Кроме того, исследования компульсивного интернет-пользования не смогли отделить контент от формы. Пользователи, которые идут в сеть ради порнографии, тотализатора или шопинга, чувствуют настоятельную потребность смотреть порно, делать ставки или покупать. Их притягивает не интернет как таковой. Интернет лишь место, где все больше людей смотрят порно, играют на деньги и делают покупки. Аналогично, если ваши друзья общаются посредством текстовых сообщений, вам остается наловчиться набирать тексты большими пальцами либо выпасть из общения, и подобное использование цифровой технологии не свидетельствует о компульсивном поведении.
Я попросила Нэнси Петри, психолога из Коннектикутского университета, возглавлявшую группу экспертов Американской психологической ассоциации по изучению поведенческих аддикций, которые претендовали на включение в DSM-5, подытожить аргументы против того, чтобы считать проблемное пользование интернетом психическим расстройством. Она ответила 11-минутной речью. Это состояние невозможно однозначно оценить, «и если по разным диагностическим тестам распространенность нарушения колеблется в пределах от 1 до 50% населения, проблема очевидна». Во многих опросниках используются нелепые критерии, например недосыпаете ли вы из-за выходов в интернет поздно вечером или есть ли у вас из-за этого «невыполненные домашние дела». «90% подростков и молодых людей ответят на эти вопросы утвердительно» — как и большинство людей, любящих читать, слушать музыку или проводить время с друзьями, — «но это не свидетельствует о психиатрическом заболевании», по мнению Петри. «Анкеты задают слишком низкий порог — достаточно подтвердить наличие лишь нескольких симптомов, причем без каких-либо доказательств их клинической значимости. Следует отличать психиатрические заболевания от обычного неумения распределять время, расставлять приоритеты или в целом соответствовать жизненным требованиям».
• • •
Важно развенчать миф о болезненном интернет-пользовании или интернет-зависимом расстройстве, поскольку необоснованные заявления о распространенности этого «заболевания» и даже о его существовании имеют пагубные последствия. Они превращают обычное поведение в патологическое, таким образом, обесценивая само понятие патологии. Крохотный процент людей действительно имеют компульсивную потребность жить виртуальной жизнью в ущерб реальной. Объединять их в одну категорию с подростком, рассылающим 300 сообщений в день, — в старые добрые 90-е гг. прошлого века многие люди вели в день не меньше личных, лицом к лицу, разговоров, — означает низводить их серьезную проблему до пустяка. Кроме того, как и в отношении видеоигр, есть все основания полагать, что в чрезмерном пользовании интернетом повинна не зависимость от интернета как такового, что это проявление или симптом другой проблемы, например социальной тревожности или депрессии. «Если вы проводите много времени в Facebook, является ли это психиатрическим отклонением само по себе, или имеет место нечто иное, скажем, желание всегда оставаться на связи с друзьями, скука, одиночество, стеснительность или просто потребность бездумно отвлечься?» — спрашивает Петри. Объявлять интернет-пользование первичной патологией — все равно что называть патологией использование нескольких сот бумажных платочков ежедневно: при этом симптомы выдаются за болезнь, и подлинные причины соответствующего поведения остаются в тени. Диагноз «интернет-компульсия» сродни «Kleenex-зависимости». Осталось лишь назначить плаксе лечение стоимостью в $14 000, вместо того чтобы разбираться с настоящей причиной слез — депрессией. «Специалисты слишком расходятся во взглядах, чтобы можно было признать интернет-зависимость реальным психическим заболеванием», — подытоживает Петри.
Тем не менее интенсивное пользование интернетом, как и другие компульсии, никоим образом не являющиеся патологией, проливает свет на то, как работает мозг — нормальный мозг. Что это занятие может быть компульсивным, доказывают хотя бы миллионы долларов, затраченные интернет-компаниями на достижение этой цели, — и можете быть уверены, их целевой аудиторией является вовсе не крохотная доля пользователей с психическими отклонениями. Нет, они точно знают, что действенные приманки, во многом аналогичные тем, которые встраивают в свои творения геймдизайнеры, способны любого человека превратить в компульсивного посетителя сайта. Как сообщалось в Technology Review в 2015 г., в команде, делающей сайт о путешествиях Expedia, имеется «главный продакт-менеджер по компульсии», нанимающий консультантов «для создания компульсивных переживаний». Структура на основе прерывистого и вариативного вознаграждения, лежащая в основе видеоигр, — это лишь начало.
Смартфоны и страх что-то упустить
Что же делает пребывание в онлайновом мире настолько притягательным для людей в здравом уме и твердой памяти? Чтобы ответить на этот вопрос, исследователи обращаются к киберпсихологии видеоигр, поскольку в видеоигры встроены те же психологические ловушки — приемы, вынуждающие людей играть, — что и в сетевой контент.
Начнем с того, что затраты времени и усилий на единичную онлайновую «транзакцию» — клик, просмотр, проверку Instagram или новостной ленты Facebook — ничтожны почти до неуловимости. Зачастую они настолько малы (Я просто жду баристу, чтобы сделать заказ), как если бы были отрицательными. То есть не написать / проверить / прочитать сообщение на своем смартфоне — большее бремя, чем это сделать. «Масштаб времени при пользовании онлайновой технологией является главной причиной ее притягательности, — сказал Том Стаффорд из Шеффилда. — Она всегда к вашим услугам, и время дробится на крохотные порции. Что еще интересного можно сделать за пять секунд? Так почему бы не заглянуть в смартфон? Во многом "интернет-пользование компульсивно" именно поэтому».
Это наводит на мысль, что стремление выходить в интернет, особенно через смартфоны, проистекает из чувств и мыслей, более характерных для людей с обсессивно-компульсивным расстройством — в особенности с навязчивой потребностью контроля, — чем для зависимых больных. «Стимулом, стоящим за пользованием мобильным телефоном, является не удовольствие», как при аддикции, «скорее это реакция на нарастающий стресс и тревогу». Таково мнение Моэза Лимайема из Университета Арканзаса, автора исследования, результаты которого были представлены на Конференции Северной и Южной Америки по информационным системам 2012 г. Мы испытываем беспокойство, если не используем каждый, самый ничтожный промежуток времени.
Насколько трудно — даже тягостно и тревожно — остаться наедине со своими мыслями, ярко продемонстрировало исследование 2014 г. Группа ученых под руководством специалиста по социальной психологии Тимоти Уилсона из Виргинского университета предложила добровольцам (студентам) выбор из двух вариантов: ничего не делать 15 минут либо ударить самих себя небольшим разрядом электрического тока (от чего до начала эксперимента три четверти участников предпочли бы даже откупиться). В результате две трети мужчин и четверть женщин выбрали электрошок, настолько их подмывало «делать хоть что-то». Не стоит критиковать поколение нулевых: взрослые люди, набранные исследователями в церкви и на фермерском рынке, повели себя так же, испытывая внутренний зуд и беспокойство, оставшись наедине с самим собой. Первым — как и многое другое — это выразил Мильтон в «Потерянном Рае», сказав о разуме, что он «в себе обрел свое пространство и создать в себе из Рая — Ад и Рай из Ада он может»[30]. В наши дни, очевидно, разум предпочитает общество самого себя в последнюю очередь: «Нетренированный ум не любит оставаться наедине с самим собой», — подытожили Уилсон с коллегами.
Это особенно вероятно, если ум, тренированный или нет, сталкивается с приманкой в виде премиальной структуры, характерной для многих видов социальных СМИ, служб обмена сообщениями и электронной корреспонденцией, — системой прерывистого / вариативного вознаграждения, с которой мы познакомились на примере видеоигр. Бо́льшая часть контента, наполняющего ваш Twitter или Facebook, является инфомусором («Барбара сменила заставку!»). Вознаграждение — нулевое. Но время от времени вы находите редкую драгоценность: подруга предлагает два бесплатных билета на концерт Брюса Спрингстина, которыми не может воспользоваться, или приятель пишет, что завтра будет в ваших краях, и зовет посидеть в баре. Перескакивая с сайта на сайт, вы задерживаете свое внимание на том, который рассказывает секрет ремонта скрипучих деревянных полов или о вновь взорвавшей интернет Кардашьян, и это создает у вас иллюзию, что время было потрачено не впустую. Структура когнитивного вознаграждения в интернете такова, что побуждает многих людей перескакивать с одного сайта на другой (Вдруг именно здесь я узнаю нечто такое, что изменит всю мою жизнь?), пользоваться социальными СМИ, проверять, какие видео выходят в лидеры просмотров на YouTube, лишь бы только не пропустить ни бита судьбоносной, сколько-нибудь важной или просто занятной информации. Наш мозг требует большего, и пальцы послушно кликают ссылку за ссылкой. Страх упустить жемчужные зерна в куче информационного сора порождает компульсивное интернет-пользование.
«Если подкидывать вам нечто "вкусное" иногда, вы будете всегда проверять, не появилась ли очередная порция, поскольку не знаете, когда это случится, — сказал Том Стаффорд. — Как бы часто вы это ни делали, пусть даже секунду назад, электронное письмо вашей мечты уже могло прийти. [Или подруга запостила на Foursquare всего через секунду после вашего последнего посещения, что сидит в баре, мимо которого вы только что прошли.] Вас тревожит риск что-нибудь пропустить». Подобные действия, не требующие усилий и порой приносящие ценное вознаграждение, являются для мозга лакомой приманкой — эти ощущения почти гарантированно привлекают человека и подсаживают его на прерывистое / вариативное вознаграждение.
Если нам что-то мешает выполнить компульсивное действие — например, проверить текстовые сообщения в смартфоне, — наваливается тревога, которую сдерживало компульсивное поведение. По сообщениям психологов, у людей, разлученных со своими смартфонами, ускорялся пульс и наблюдались другие признаки тревоги. В одном исследовании 2016 г. добровольцы, отвечавшие на вопросы стандартной анкеты о пользовании смартфонами и сопутствующих эмоциях, сообщили ученым, что берутся за гаджеты, чтобы «избежать неприятных моментов или переживаний» и «избавиться от чувств, связанных с ситуациями, вызывающими тревогу». Психолог Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне Алехандро Льерас назвал это явление — амортизацию переполняющей пользователя тревоги — эффектом подушки безопасности. Это наблюдение подтверждается все большим числом исследований, согласно которым люди обмениваются текстовыми сообщениями, чтобы избавиться от тревоги. При анкетировании около 70% респондентов отвечают, что смартфоны и текстовые сервисы помогают им справиться с беспокойством и другими отрицательными эмоциями. Это уже стереотипная реакция на затруднительную (то есть вызывающую тревогу) ситуацию: люди «хватаются за мобильные телефоны, чтобы от нее отрешиться», по словам исследователей из Иллинойса, и аналогичным образом поступают «в периоды сильного стресса».
Льерас и его коллеги решили не ограничиваться наблюдениями и поставить полноценный эксперимент, результаты которого были опубликованы в журнале Computers in Human Behavior. Добровольцам предложили написать небольшой текст, который якобы будут проверять два эксперта. Чтобы сделать ситуацию еще более стрессовой, ученые сказали, что эксперты также будут обсуждать результат с каждым автором перед видеокамерой. В ожидании этого одна половина участников имела доступ к своим смартфонам, а другая нет. Из 24 добровольцев, имевших возможность писать сообщения и смотреть все, чего запросит одолеваемая волнениями душа, сильную тревогу испытывали 11 человек, тогда как среди 25 лишенцев таковых оказалось восемнадцать. Причем 82% участников первой группы без конца обращались к смартфонам на протяжении 10-минутного ожидания. Поддавшись компульсивной потребности пользоваться телефоном, они смогли в значительной степени избавиться от тревоги. По словам исследователей, «люди испытывают меньший стресс в провоцирующих тревогу ситуациях, если имеют доступ» к своим мобильным телефонам.
Смартфоны «выполняют функцию успокаивающих объектов, служат противоядием в агрессивной среде неуклонно расширяющегося социального круга», отметил британский социальный теоретик Джеймс Харкин еще в 2003 г. Они позволяют постоянно чувствовать себя на связи с миром, тем самым ослабляя тревогу, переполняющую нас в состоянии одиночества и потерянности. Стимулируемое тревожностью пользование мобильными устройствами настолько распространилось, что породило неологизм «номофобия» (от «no mobile phone», англ.) — страх отсутствия мобильного телефона. Эту патологическую тревогу, перерастающую в страх, вызывает невозможность спрятаться под любимым «успокоительным одеяльцем», будь то Galaxy, iPhone или другой смартфон. Неудивительно, что в 2013 г. 40% владельцев смартфонов брались за них прежде, чем встать с постели (по результатам исследования Ericsson ConsumerLab, подразделения шведского технологического гиганта), и что в 2015 г. американцы проверяли смартфоны 46 раз в день (в 2014-м им хватало 33 раз), а в группе лиц студенческого возраста — 74 раза, по данным консалтинговой фирмы Deloitte.
День Кевина Холиша неизменно начинался с мобильного телефона — обычно с 20-минутной прокрутки «пропущенных» твитов и писем. Он засыпал, положив смартфон у изголовья, нырял в него, с кем бы ни общался, постоянно проверял переписку, а мысль о том, чтобы его отключить, была для Кевина столь же дика, как для сердечника — идея отключить генератор сердечного ритма. «Я боялся не заметить очень важное письмо, — объяснил Холиш, техдизайнер и разработчик из Питтсбурга. — Гендиректоры некоторых фирм любили поговорить, и я хотел быть всегда наготове. Я словно воображал заветный билет, который вот-вот появится в папке входящих». В 2013 г. он сделал приложение Moment, позволяющее отследить, сколько времени пользователи каждый день уделяют смартфонам. Узнав собственный результат — обращение в среднем каждые двадцать три минуты, — он не избавился от тревоги, возникающей, если этого не делать, но справился с искушением заглядывать в смартфон. Холиш начал на ночь оставлять смартфон за дверью спальни и удалил из него свой почтовый ящик. Эти меры помогли ему постепенно осознать, что не нужно мгновенно отвечать на каждое письмо — многие элементарно подождут до утра, а то и до следующего дня.
Один из персонажей поставленной в 2014 г. в Нью-Йорке пьесы Лоры Исон «Секс с незнакомцами», узнав, что в отеле отсутствует мобильная связь, восклицает: «Все решат, что меня нет в живых!» Никому не нравится чувство, будто ты умер. Эксперимент, поставленный в 2010 г. Международным исследовательским центром СМИ и актуальных общественных проблем Мэрилендского университета, позволил оценить всю меру экзистенциального ужаса, охватывающего людей, отрезанных от онлайнового мира. Ученые попросили 200 студентов университетского кампуса «Колледж-парк» не пользоваться телефонами и компьютерами (а также другими средствами связи) 24 часа, после чего им предложено было описать свой опыт. Воспоминания студентов об ощущении изоляции, о страхе пропустить что-то важное или отстать от жизни были полны слов и образов, заставляющих вспомнить о компульсии: неимоверное желание, ужасная тревога, жуткое беспокойство, отчаяние, паника, безумие.
Несколько цитат заслуживают внимания.
«Переписка и обмен мгновенными сообщениями с друзьями дарит мне постоянное чувство покоя… Невозможность общаться через устройства была почти непереносимой».
«Я чувствовал себя оторванным от всех людей и думал, что они звонят мне, но оказалось, половину времени никто не звонил».
«Я вернулась с занятий около пяти, отчаянно нуждаясь хоть в чем-нибудь цифровом. Было невыносимо оставаться в комнате… одной… не имея, чем занять ум, и я сдалась».
Это свидетельствует о внутреннем беспокойстве, занозой засевшем в умах людей XXI века, о нашей неспособности оставаться наедине с собственными мыслями с тех пор, как мы сами и наши телекоммуникационные игрушки объединились в пространстве ладони. Как-нибудь летним вечером понаблюдайте за одинокими посетителями уличных кафе. В былые времена они бы развлекали себя, разглядывая прохожих, возможно, читали бы. Теперь прокручивают списки входящих, постоянно проверяют, нет ли новых сообщений, и лихорадочно перескакивают с сайта на сайт, чтобы наверняка не отстать от жизни.
Многие люди не допускают и мысли о том, чтобы расстаться со смартфоном, не только из нежелания лишиться упомянутых переменных и прерывистых вознаграждений. Дело в том, что эти устройства стали для нас основным средством связи с другими людьми и с миром в целом, и невозможность следить за обновлениями вызывает тревогу еще и в силу ощущения изоляции, страха пропустить нечто важное — как будто все остальное человечество (по крайней мере, друзья и коллеги) на связи, в теме, в гуще событий, а мы нет. Как онлайновому миру удалось проникнуть в кору нашего головного мозга и научиться вызывать у нас взвинченность, тревогу, нервозность, когда мы в офлайне? Прежде всего, запустив свои щупальца практически в каждый аспект жизни — от шопинга до личных отношений, от общения с друзьями до самоощущения «я в курсе событий». «Некоторым людям кажется, что если они не сидят на определенном ресурсе или сайте, то что-то пропускают — что-то, связанное с друзьями, собственным здоровьем и чем угодно еще, — сказал мне психиатр Дэвид Райсс, имеющий практику в Сан-Диего. — Всему виной боязнь чего-то не узнать, если не возвращаться на сайт каждые пять минут». Иначе говоря, интернет эксплуатирует FoMO (Fear of Missing Out) — страх что-то упустить.
Это понятие, которое было введено в обращение в середине нулевых и впервые внесено в словарь (UrbanDictionary.com) в 2006 г., определяется как «устойчивое убеждение, что другие люди получают вознаграждающий опыт, которого вы лишены». Такую формулировку предложили в статье для журнала Computers in Human Behavior за 2013 г. психологи английского Эссекского университета во главе с Эндрю Пржибильски и Валери Гладуэлл. Для FoMO «характерно желание постоянно быть в курсе того, что делают другие». Около трех четвертей молодых взрослых, опрошенных в ходе исследований в 2011–2012 гг., подтвердили, что по крайней мере временами испытывают «неприятное, порой всепоглощающее чувство, что остались за бортом, и что ровесники узнают или овладевают чем-то большим или более значимым». У некоторых людей стремление не отстать от жизни становится компульсивным в том смысле, в котором я использую это понятие на протяжении всей книги. А именно, мысль о том, что они упускают возможность увидеться с приятелями (или просто получить информацию, что те встречались), узнать то, что знают «все», или познакомиться с новым статусом друга в Facebook, провоцирует нервозность и острую, мучительную тревогу. Не быть на связи — все равно что оказаться вне игры.
Именно так обстояло дело с Синтией Томпсон. Писательница, жившая в Лондоне, в 2010 г. она впервые стала мамой, перешла на удаленный режим работы и попала под неодолимую власть онлайнового мира. «Для меня это была возможность узнать, что происходит», — сказала она. Чувствуя себя оторванной от профессиональной среды, она выходила в сеть практически круглые сутки, проверяла телефон, чтобы узнать, что она пропустила, и испытывала беспокойство, когда он разряжался. «Мы настолько привыкли к культуре мгновенного отклика, что через час или два — уже слишком поздно. Я действительно немного нервничаю, если не могу немедленно заглянуть в телефон», — пояснила Синтия. Ее постоянные проверки обновлений проистекают из неотступной потребности снова и снова убеждаться, что она не пропустила срочное сообщение из школы, где учится сын, или деловое письмо.
Группа ученых Эссекского университета предложила группе из 1031 добровольца в возрасте от 18 до 62 лет из США, Великобритании, Индии, Австралии и Канады (все они были найдены через интернет, что могло привести к искажению результатов!) ответить, насколько точно 32 утверждения описывают их повседневную жизнь. Оценка давалась по пятибалльной шкале — от «совершенно не соответствует действительности» до «полностью соответствует». На основании полученных данных исследователи выделили десять утверждений, лучше всего отражающих индивидуальные особенности людей с FoMO.
1. Иногда я опасаюсь, что другие люди получают более вознаграждающий опыт, чем я.
2. Я боюсь, что друзья имеют более вознаграждающий опыт, чем я.
3. Я чувствую беспокойство, узнав, что мои друзья веселятся без меня.
4. Я чувствую тревогу, если не знаю, чем мои друзья собираются заняться.
5. Для меня важно ловить шутки, понятные только в кругу моих друзей.
6. Иногда мне кажется, что я трачу слишком много времени на то, чтобы не отстать от событий.
7. Я чувствую раздражение, если упускаю возможность встретиться с друзьями.
8. Если я хорошо провожу время, для меня важно поделиться подробностями онлайн (иными словами, обновить статус).
9. Если я не попадаю на назначенную вечеринку, то испытываю раздражение.
10. Уезжая на каникулы, я продолжаю отслеживать, чем занимаются мои друзья.
Шкала оценки страха что-то упустить, как назвали ее ученые, была первым инструментом измерения изучаемого понятия. FoMO оказался более выраженным у юношей, чем у девушек, а также у молодых людей в сравнении с людьми старшего возраста. Затем исследователи сопоставили баллы по показателю FoMO со стандартной оценкой удовлетворенности трех базовых психологических потребностей каждого человека — во взаимосвязи с другими людьми (чувстве близости или контакта), в автономии (ощущении, что являешься хозяином собственной жизни) и в компетентности (уверенности в том, что способен оказать влияние на мир и проявить себя в нем). Оказалось, что у людей, особенно страдающих от неудовлетворенности этих базовых потребностей, наиболее часто имелся и страх что-то упустить. Кроме того, люди с высокими баллами по шкале FoMO чаще чувствовали себя несчастными и неудовлетворенными жизнью в целом. Наконец, главное: именно они наиболее массово пользовались социальными медиа, такими как Facebook, Twitter, Instagram, и другими ресурсами, позволяющими нам не только заявить о собственном существовании, но и держать руку на пульсе и оставаться «в теме», хотя бы временно ослабляя страх от мысли, что где-то происходит нечто такое, в чем мы не участвуем. «Страх что-то упустить, — сделали вывод ученые, — играет ключевую и однозначную роль в вовлеченности в пользование социальными медиа» независимо от таких характеристик, как возраст и пол, и даже психологических факторов, например настроения. «Люди с низким уровнем удовлетворения базовых потребностей в компетентности, автономии и взаимосвязи с другими людьми относительно чаще испытывают выраженный страх что-то упустить — как и люди с пониженным фоновым настроением или общей неудовлетворенностью жизнью».
Но что если мы действительно что-то упускаем? Если мы не на связи? «Меня озарило, что мы все время подключены отчасти потому, — заметил постоянный автор The New York Times, пишущий о СМИ, Дэвид Карр в 2014 г. незадолго до безвременной кончины, — что хотим, чтобы каждый человек — на другом конце телефонной линии, в Facebook и Twitter, в интернете, в электронной почте — знал, что мы являемся частью настоящего момента. О чем мы беспокоимся? Мы беспокоимся, что можем исчезнуть». Если существование человека определяется его онлайновым присутствием, то не быть онлайн означает не существовать. История человечества не знает более сильного стимула к действию, чем экзистенциальный бунт против умирания, опровержение бренности всего сущего продолжением себя в детях, которых мы рождаем на свет, в творениях, которые создаем, в отметине, пусть легчайшей, которую пытаемся оставить на ткани бытия. Реалити-TV не возникло бы в отсутствии этой глубокой и мощной человеческой потребности заявить: «Смотрите, я существую!» Когда мы не в сети, не на связи, не участвуем в событиях, мы не существуем, и это порождает самую мучительную тревогу — экзистенциальную.
Не интернет-пользование как таковое и не пользование именно социальными СМИ являются компульсивными. Компульсивно стремление избежать чувства одиночества, скуки или оторванности от жизни. То, что исследователи (к слову, большинство из них на несколько десятков лет старше интернет-пользователей, которых они изучают) называют отклонением от нормы, в действительности представляет собой новый способ существования, развлечения, социализации, коммуникации и работы, «который ученые в настоящее время способны интерпретировать лишь в патологическом ключе» — по заявлению Дэниэла Кардефелта-Уинтера из Лондонской школы экономики и политических наук. В той же статье в Computers in Human Behavior за 2014 г. он писал: «Было бы натяжкой считать это психическим расстройством».
Таким образом, компульсивное интернет-пользование легче всего понять как следствие почти универсальных психологических особенностей. Необходимость чувствовать себя соединенным с другими людьми, возникшая задолго до того, как в уме Марка Цукерберга мелькнул замысел Facebook, страх что-то упустить, реакция на вариативные / прерывистые вознаграждения, базовая потребность добиться признания собственного существования у друзей и незнакомцев — все это может толкнуть нас компульсивно выходить в сеть. Как и в случае компьютерных игр, компульсивное использование интернета является, в самом крайнем случае, стратегией выживания. Временами каждому из нас требуется помощь, чтобы справиться с жизнью. По аналогии с любым другим компульсивным поведением питаемая тревогой потребность постоянно проверять посредством смартфона или иного устройства, что делается в виртуальном мире, — это проявление нормальной, полезной, адаптивной, практически всеобщей работы мозга. Именно с этой точки зрения следует воспринимать цифровую компульсию — не как патологию, но как результат способности онлайнового мира откликаться на глубинные движения человеческой психики. Это и делает многих из нас заложниками цифровых устройств.
Глава 7 Компульсии прошлого
Иоанн был подростком — обычным подростком середины VI в. н.э., — когда бросил изучение искусств и наук, в которых настолько преуспел, что удостоился почетного звания «схоласта», и предался монашеской аскезе в пустыне Синай. Эта суровая местность несколько веков притягивала святых отшельников, поскольку считалось, что именно здесь Моисей получил от Господа Десять заповедей. Желая избежать «опасностей рассеяния и отдохновения»[31], Иоанн покинул огромный монастырь на вершине горы Синай и обосновался в скромной хижине на склоне. Там он «ревностно читал священные книги и писания святых отцов, став одним из самых знающих учителей церкви», и прославился самоотречением, смирением, послушанием и истовой верой.
Одно только ревностное служение не приковало бы к Иоанну внимания историков, изучающих психические расстройства. Этому способствовала «Лествица, или Скрижали духовные» — сочинение, благодаря которому он удостоился прозвания Иоанна Лествичника, начатое им в возрасте 75 лет в сане настоятеля монастыря Св. Екатерины на горе Синай. Среди правил восхождения души к христианскому совершенству оказалось самое раннее известное нам описание ОКР-подобной компульсии. Речь идет об искушении предаваться «мерзким помыслам» по обольщению «самого лютого из наших врагов и супостатов», коего «нечестивые, непостижимые и неизъяснимые слова внутри нас не душа наша произносит, а богоненавистник бес, который низвержен с небес»[32].
Компульсии, религиозные и прочие, очевидно, родились не в шестом веке. Нетрудно представить себе неандертальца, компульсивно запасающего бивни мастодонта. Но свидетельства на протяжении веков после Иоанна Лествичника настолько редки, что всеобъемлющий труд 1995 г. «История клинической психиатрии: происхождение и история психических расстройств»[33] содержит главы, описывающие отношение общества буквально к каждой душевной болезни, известной человечеству, — кроме компульсии. Причина, как утверждает один из авторов книги, Герман Берриос из Кембриджского университета, что «мы не смогли найти социолога, который смог бы глубоко проработать тему».
Это служит препятствием для «поведенческой археологии» — изучения форм, принимаемых компульсией в различные эпохи, и восприятия этой проблемы обществом прошлого. Из редких исторических свидетельств явствует, что до конца XVII в. компульсивные мысли и действия считались следствием сатанинского вмешательства и исцелялись священниками. Медицины как системы и организации, которая могла бы оспорить право церкви диагностировать и лечить религиозные компульсии, не существовало. В XVIII в. медицина, наконец, становится профессиональной сферой деятельности, и с этого момента в немногих описанных случаях компульсия нерелигиозной природы рассматривается преимущественно как милая эксцентричность, чудаковатое, но безобидное проявление многообразия человеческой натуры. Прежде чем крайние формы компульсии могли быть отнесены к числу неврологических расстройств, врачи должны были узнать, что головной мозг является органом, отвечающим за когнитивную и эмоциональную функции, что произошло лишь около 1800 г. Но и после того, как компульсии стали рассматриваться как следствие некоего сбоя в мозге, врачи яростно спорили — насколько яростными вообще могли быть споры между благовоспитанными учеными мужами викторианской эпохи, — к какому именно типу расстройств они относятся. Отголоски этой битвы умов ныне звучат в непрекращающихся дебатах о том, где пролегает граница между безумием и нормальностью и почему адаптивная эмоция — тревога — может выйти из-под контроля.
Вмешательство дьявола
Мысленные компульсии — мысли, от которых не удается избавиться, — одолевали множество благочестивых людей, в том числе будущих святых, и «неизменно объяснялись прямым вмешательством Сатаны», как писал родоначальник американской психологии Уильям Джеймс[34]. Преследовали они и обычных людей, например англичанку Марджери Кемп. Родившаяся около 1373 г., она стала автором первой англоязычной автобиографии, которую, будучи неграмотной, надиктовала. Марджери признавалась в «многочасовых нечестивых мыслях и воспоминаниях о блудодействе и всяческой скверне»[35], в особенности о «мужских членах и иных подобных мерзостях». Ей никак не удавалось изгнать из головы мысли об «оголенных членах». Тот факт, что у Марджери было четырнадцать детей, каждый может истолковывать, как сочтет нужным.
Лучше всего задокументированной разновидностью компульсии является патологическое накопительство. Истории о барахольщиках-скопидомах уходят в глубину веков. Компульсивное скопидомство, безусловно, существовало в начале XIV в. и было достаточно известно, чтобы Данте упомянул его в «Божественной комедии». Вслед за своим проводником, Вергилием, Данте спускается в четвертый круг Ада, где терпят наказание повинные в грехе жадности. Там вечно противостоят друг другу те, «кто недостойно тратил и копил». Данте описывает, как «два сонмища сходились, рать на рать, толкая грудью грузы» — символ бремени имущества, которое прокутили или собрали за всю свою жизнь. «Потом они сшибались и опять с трудом брели назад, крича друг другу: "Чего копить?" — или "Чего швырять?"»[36]
Поведенческая археология почти не имеет материала вплоть до эпохи Возрождения. Интеллектуальная революция Ренессанса отчасти избрала своей мишенью традиционные верования, включая представление о том, что необычное поведение (понятие душевной болезни отсутствовало) вызывается бесовской или демонической одержимостью. Ренессансные мыслители предложили религиозным компульсиям более естественные объяснения, например, религиозную скрупулезность — неодолимую потребность неукоснительно придерживаться церковных ритуалов и духовных мыслей, дополняемую неизбывным страхом человека, что он не верует, как должно, неправильно выполняет обряды или неверно мыслит о Боге. Скажем, архиепископ Антонин Флорентийский (1389–1459), впоследствии признанный святым, описывал «скрупулезное сознание» как вечно пребывающее в сомнениях вследствие диких необоснованных страхов, что верующий молится или в целом поступает не по воле Божьей. Что до причины этого состояния, Антонин занимает промежуточную позицию между доренессансным мышлением и мышлением нового времени: скрупулезность, заключает он, может быть вызвана либо дьяволом, либо психической болезнью.
Мнение Антонина, что некоторые случаи религиозной скрупулезности имеют не сатанинскую, а физиологическую природу, является одним из самых ранних задокументированных примеров, когда нарушения мышления и поведения понимаются как болезнь, требующая, по словам архиепископа, «медицинских или иных физических целительных средств». Желающим освободиться от религиозных компульсий он советовал исповедаться, изучать Св. Писание, регулярно молиться и оказывать духовное сопротивление побуждению к излишней молитве или причастию. В то же время он с одобрением цитировал слова Жана Шарля де Жерсона, теолога и ученого XIV в., что крайняя скрупулезность подобна своре «псов, лающих и скалящихся на прохожих; лучший способ вести себя с ними — это игнорировать их и относиться к ним с презрением». Словом, как и сейчас нередко предлагают компульсивным личностям: «Просто перестань это делать!»
Игнатий де Лойола (1491–1556), основатель ордена иезуитов, в автобиографии описывает мучавшую его религиозную скрупулезность, основу которой составляла неспособность избавиться от определенных мыслей. «Его полная исповедь в Монсеррате была тщательно подготовлена и полностью выполнена в письменной форме… однако временами ему казалось, что он не исповедался в каких-то проступках, — писал он о себе. — Это сильно его угнетало… Он стал искать духовных людей, способных избавить его от этих угрызений, но ничто не помогало… Он упорно продолжал соблюдать семичасовые моления на коленях, регулярно вставая в полночь, и все прочие обряды, упомянутые ранее. Ни в одном из них, однако, он не находил никакого облегчения своим душевным терзаниям».
Первое явное упоминание о компульсии чистоты принадлежит врачу Ричарду Нейпиру (1559–1634), у которого была пациентка, «испытывавшая неодолимый соблазн ни к чему не прикасаться из страха, что тогда ее начнет одолевать желание омыть свои одежды, даже со спины». Она «страдала, пока вынужденно не перемывала все свое платье, каким бы опрятным и новым оно ни было, — писал врач. — Она бы не вынесла, если бы ее муж, ребенок или любой из домочадцев надел новое платье, прежде его не выстирав, из страха, что пыль с него попадет на нее. Они не осмеливались и ходить в церковь, дабы не ступать на землю, из ее страха, что хоть крупица пыли пристанет к ним».
Некая Ханна Аллен, англичанка, прославившаяся автобиографией, написанной в 1683 г., сказала об одолеваемых меланхолией людях, что их «страхи чрезмерны… далеко превосходя свою причину», и заметила: «Все, что бы они ни увидели и ни услышали, тут же увеличивает их страхи… Их мысли по преимуществу заняты ими самими, словно жернова, истирающие друг друга в отсутствии зерна; так же и одна мысль порождает другую. Их мысли поглощены их же мыслями». Здесь схвачена самая суть тревожности, лежащей в основе компульсивного поведения, которое служит единственным лекарством от нее. Саму Анну лечили от навязчивых тревог кровопусканиями, что также свидетельствовало о понимании физиологической, а не сверхъестественной природы ее недуга. Впоследствии ей помог Ричард Бакстер (1615–1691), глава английской Пуританской церкви, получивший всеобщее признание в качестве целителя.
Болезнь, а не бесовская одержимость
Бакстер выделяется в истории изучения компульсии тем, что безоговорочно отверг объяснения компульсивного поведения демонической одержимостью и приписал его «непроизвольным эффектам болезни». Человек, одолеваемый «сомнениями, и страхами, и тягостными мыслями, и богопротивными соблазнами», подобен больному «в лихорадке» и страдает «неодолимой немощью». Друзьям и близким таких страдальцев Бакстер советовал «отвлекать их от мыслей, составляющих предмет их тревоги, занимать их иным разговором или делом, нарушать их уединение и прерывать раздумья… Если иные средства не помогут, не пренебрегать физическими [медицинскими]… пусть даже несчастные будут против, считая, что болезнь ограничивается лишь разумом».
Англиканский епископ Джон Мур (1646–1714) упоминал в проповеди «нарушение рассудка», влекущее за собой нежелательные «гадкие и порой богохульные мысли», особенно во время богослужений. Люди, мучимые ими, «винятся, что согрешили против Духа Святого», говорил он, но в действительности компульсия возникает вследствие «непорядка и нездоровья тела». Это свидетельствовало о растущем понимании, что подобные тяготы имеют физический, а не потусторонний источник. Решение предлагалось следующее. «Не нужно яростно противиться [компульсиям], — советовал Мур, — поскольку опыт свидетельствует, что они усиливаются и питаются неистовой борьбой, однако слабеют, и рассеиваются, и исчезают, будучи оставлены без внимания». Увы, это проще сказать, чем сделать!
К XVIII в. все больше врачей оставляют воспоминания о пациентах, одолеваемых мысленными компульсиями, необязательно имеющими религиозную составляющую. Доктор Джон Вудворд (1665–1728) описывает некую миссис Холмс 26 лет, которая в 1716 г., находясь в положении, однажды выглянула из окна и заметила в водах Темзы крупную морскую свинью, «зрелищем которой была весьма восхищена». Через две недели ею внезапно «завладела» «сильная ошеломляющая мысль о морской свинье, а также страх, как бы это не оставило проклятия на ее ребенке». Препровожденная в постель ввиду близящихся родов, миссис Холмс «предавалась мыслям о дьяволе, искушающем и неистово склоняющем ее ко злу, в особенности к тому, чтобы бросить своего ребенка в огонь, выбить из него дух и тому подобное». Вудворд прописал «масляную микстуру и… слабительное… рекомендованные к приему на следующее утро», добавив, что послабляющие эффекты были весьма заметны — средство вызвало «стул не менее дюжины раз», — а мысли больной на следующий день приняли менее «буйный» характер.
В изданном в 1754 г. «Directorium Asceticum, или Наставлении к духовной жизни» теолога-иезуита Джованни Баттисты Скарамелли (1687–1752) содержится одно из самых ранних описаний поведенческих компульсий, «внешних действий», в том числе примеры людей, которые качают головой, прижимают руки к груди, закатывают глаза, молятся и постоянно исповедуются. Предвосхищая исследования XXI в., Скарамелли заключает, что причиной компульсий является «тревожный характер», и делится наблюдением, что, идя на поводу компульсии, можно лишь подкрепить, но не одолеть вызывающую ее тревогу: «Чем сильнее отгонять мысли, тем более они возвращаются». Самозащита особенно очевидна у компульсивных молящихся: «Некоторые люди испытывают огромные тяготы при произнесении молитв вслух, надумывая, будто пропустили что-то или неверно произносили слова, и оттого произносят те же самые слова снова и снова».
Конец XVIII в. ознаменовался эпохальным изменением во взглядах ученых на безумие. Отныне причины душевной болезни усматриваются в нервной системе. Знаменитый случай признания медициной, что поведение отражает нечто, происходящее в нервах и мозге, имел место в 1787 г., когда два десятка девушек-работниц хлопковой мануфактуры в Ланкашире поразила массовая истерия. Все началось с того, что одна из девушек сунула мышь в платье другой, и с той от ужаса случилась, по описанию свидетелей, «падучая» — жестокие судороги длились двадцать четыре часа. На следующий день еще три девушки — без всякой мыши — забились в падучей, на другой день еще шесть и так далее на протяжении недели. Истерия поразила даже девушек, живших и работавших в нескольких милях от мануфактуры. Они «заразились от одного только рассказа, не видя других пациенток», сообщает один из свидетелей, добавляя с изумлением, что девушки испытывали «тревогу, удушье и очень сильные судороги» — настолько сильные, что «нужны были четверо или пятеро человек, чтобы не дать больным вырывать у себя волосы и биться головой об пол или стены».
Доктора Сент Клера вызвали из соседнего городка. Отвергая саму мысль о демонической одержимости, он прибыл, вооружившись лишь одной вещью — устройством, дающим разряд электрического тока. Перезаряжая его вручную, он применил его ко всем девушкам по очереди. Как сообщается: «Все без исключения были исцелены. Как только пациентки и жители округи уверились, что болезнь имеет сугубо нервную природу и легко лечится», эпидемия сошла на нет. Этот случай является не только блестящим примером эффекта плацебо, но и, что более важно, свидетельством коренного сдвига в понимании безумного поведения: причиной являются не дьявольские козни, а «нервы», и лекарство обретается в физическом, а не в духовном мире.
Приблизительно в то же время был совершен следующий качественный рывок. Прежде врачи знали лишь три психические болезни: «помешательство», характеризующееся утратой связи с реальностью, — то, что ныне называется психотическим расстройством, «меланхолию» (под этим словом подразумевалась иррациональность, а не депрессия) и «идиотию», или умственную отсталость. Эти состояния были постоянными и комплексными; все, что не полностью поражало когнитивные способности, не считалось болезнью, в том числе даже тяжелые случаи компульсий чистоты или контроля. С XVIII в. во врачебной среде распространяется понимание того, что душевные расстройства могут быть частичными и временными, а не только полными и непреходящими. С этого момента странное поведение становится законной добычей неврологов (предшественников психиатров в качестве специалистов по всему, что связано с мозгом). Прежде слабо выраженное, частичное, проявляющееся время от времени психическое расстройство считалось изюминкой личности, почти привлекательной чертой. Это прослеживается в случаях, которые, если бы они имели место в другой социальной среде и не были столь массовыми, безусловно, диагностировались бы как поведенческая компульсия, — в проявлениях мании собирательства.
Кунсткамеры
В течение двух веков, начиная с 1600-х гг., европейские монархи, ученые и аптекари увлекались «собраниями диковин», составляя беспорядочные коллекции из всего экзотичного, красивого или редкостного, что удавалось найти в собственном имении или в дальних краях. В 2013 г. манхэттенский Клуб Гролье, жемчужина среди музеев, устроил выставку этих коллекций, которые выставлялись в шкафах и на полках «кунсткамер», или, как их принято было называть в Германии, Wunderkammers — «комнат чудес». Тяга и настойчивость — бесспорно, компульсивные — к собиранию и накоплению, каталогизации и демонстрации экспонатов кунсткамер столь же очевидны, сколь и фантастическая причудливость их содержимого. В этих собраниях присутствовали гербарии экзотических растений и скелеты крохотных животных, раковины и кораллы, кальцинированные артерии и почечные камни, античные монеты и медали, ископаемые и минералы, научные инструменты и даже чучела крокодилов, а также многое другое, все занесенное в подробные описи.
Маниакальное увлечение кабинетами редкостей прошло, как проходят все маниакальные увлечения, многие коллекции стали ядром выдающихся европейских и американских музеев естественной истории (а также куда менее величественных заведений — шоу уродов и странствующих балаганов). Однако, пока кунсткамеры существовали, они являлись социально приемлемой компульсией. Грань между болезнью и культурной деятельностью уже тогда была расплывчатой, как строчки в столетних описях, но там, где она пролегала, клеймо помешательства заменялось представлением о безумии как прерогативе чувствительных и утонченных образованных классов. Считалось, что оно отсутствует среди «бедных и менее цивилизованных обитателей современной Европы», как писал Томас Арнольд в книге 1782 г. «Замечания о природе, типах, причинах и предупреждении умоисступления, помешательства или безумия» (Observations on the Nature, Kinds, Causes and Prevention of Insanity, Lunacy or Madness). Безумие, включая компульсивное поведение — умеренное, облагороженное, благопристойное, — стало рассматриваться как свойство цивилизованности, породы и интеллектуальности. В XVIII в. обсессии и компульсии «выдвинулись на роль выражения самой сущности человеческой природы и отличительного признака гения, благородного происхождения и репутации», — утверждает Леннард Дейвис из Университета Иллинойса в книге 2009 г. «История обсессии» (Obsession: A History).
Французский психиатр Жан-Этьен Доминик Эскироль (1782–1840) около 1820 г. предложил термин «мономания» — однопредметное помешательство — для обозначения психического дисбаланса вследствие единственного направления мыслей или предмета внимания. Во всем, что не касается предмета помешательства, больные мономанией способны думать, размышлять и вести себя нормально. Едва появившись, мономания стала одним из самых распространенных диагнозов у пациентов французских лечебниц для душевнобольных. Это отразилось не только в поведении людей и их отношении к соплеменникам, но и в художественной литературе. Главный герой романа Генри Маккензи «Человек чувства», написанного в 1886 г., посещает Бедлам (больницу Св. Марии Вифлеемской) — первую в Англии психиатрическую больницу, — где встречает математика, испытывающего неодолимую потребность вычислять траектории движения комет, и знаменитого школьного учителя, вынужденного искать верное произношение древнегреческих глаголов. Компульсивная нужда бесконечно что-то собирать или создавать, рассчитывать орбиты или раскрывать тайны мертвого языка делала эту мягкую форму безумия (если это вообще безумие) модной особенностью, признаком остроты интеллекта и стойкости духа. Безумная одержимость считалась проявлением интеллектуальной состоятельности.
• • •
К концу XVIII в. среди историй болезней людей, вынужденных думать определенные мысли или совершать действия, преобладали нерелигиозные случаи. Из этого не следует, что религиозная скрупулезность исчезла, однако, поскольку светские институты и способы мышления начали конкурировать с церковью, обнаружилось множество других способов быть компульсивным, не предаваясь богопротивным мыслям и не исповедуясь снова и снова. Действительно, в светских обществах симптомы религиозного ОКР наблюдаются реже, чем в глубоко религиозных культурах. В конце концов, редко встретишь атеистку, у которой сжимается сердце от тревоги, если не зажжены свечи шаббата. В исследовании 2004 г. ученые Федерального университета Рио-де-Жанейро сравнили взрослых пациентов университетской клиники в Рио, имеющих диагноз ОКР, с больными тем же расстройством в других частях света. Преобладание религиозных обсессий наблюдалось только на Среднем Востоке, из чего авторы сделали вывод в отчете для Journal of Psychiatric Research, что «культурные факторы могут играть существенную роль» в компульсиях, охватывающих население.
Была еще одна причина, почему преобладающими стали компульсии чистоты, контроля и т.д. Поскольку медицина стала профессией, люди, страдающие от компульсий, начали обращаться за помощью к врачам, а не к священникам. Соответственно, именно врачи — впоследствии к ним присоединились психиатры — вели их истории болезни, и пациенты поняли, что теперь могут рассказать не только о религиозной скрупулезности, но и о других компульсиях.
Одно из таких описаний дошло до нас, поскольку его героем являлся Сэмюэль Джонсон (1709–1784) — эссеист, поэт, литературный критик, биограф и лексикограф. В книге Джеймса Босуэлла,[37] изданной в 1791 г., рассказывается, что Джонсон имел обыкновение, идя по улице, «постоянно прикасаться к столбам». «Я видел, — писал биограф, — что к каждому столбу, мимо которого проходил, он намеренно прикладывал ладонь. Пропустив же один из них и успев отойти на какое-то расстояние, он словно бы внезапно спохватывался, немедленно возвращался, тщательно исполнял привычную церемонию и продолжал свой путь, не пропуская ни одного столба, пока не подходил к перекрестку».
Босуэлл также отмечает его «тревожную заботу, входя или выходя, шагнуть в дверь или проем за определенное число ступеней или хотя бы так, чтобы движение начиналось всегда с правой или с левой ноги [добавляя, что не помнит, какой именно]» и далее пишет: «Я бесчисленное множество раз наблюдал, как он внезапно останавливается и, похоже, начинает считать шаги с глубокой сосредоточенностью; когда же он пренебрегал этим своего рода магическим движением или проделывал его неправильно, я видел, как он возвращается [и] принимает нужную позу для начала церемонии».
Франсис Рейнольдс, художница, младшая сестра английского портретиста XVIII в. сэра Джошуа Рейнольдса, вспоминая Джонсона, описала «причудливые телодвижения или выкрутасы, которые он выделывал руками и ногами, особенно проходя мимо порога двери или скорее перед тем, как вознамериться пройти через любой дверной проем. Входя в дом сэра Джошуа с бедной миссис Уильямс, слепой дамой, проживавшей у него, он должен был отпускать ее руку или же волок ее вверх по ступеням, заставляя повторять все те увертки и раскачивания, которые исполнял сам».
И ученые, и обычные люди считали такое поведение эксцентричным, занятным или чудны́м, но не безумным. В «Жизни Сэмюэля Джонсона» Маколей утверждает, что гениальность Джонсона была неразрывно связана с его «чудачествами», и жители славного города Лондона, бесспорно, согласились бы с таким диагнозом. Наблюдая великого человека, трогающего каждый фонарный столб на своем пути, они «считали это эксцентричным, но не более того», по словам Леннарда Дейвиса, подытожившего: «Никто не звал экзорциста».
Медицина выходит на авансцену
В XIX в. профессиональная медицина, наконец, вступила в свои права и объявила компульсии (и многое другое, что прежде считалось заботой священнослужителей) своей вотчиной. Французские врачи первыми признали компульсии болезнью, не связанной с религией, и медицинские описания компульсивного поведения стали множиться, как грибы под дождем. Врачи только начали прорабатывать понятие безумия и спорили, являются ли компульсии волевым, интеллектуальным или эмоциональным расстройством. За немногими исключениями, французские врачи на протяжении XVIII–XIX вв. считали компульсии эмоциональным расстройством, а немецкие — нарушением интеллектуальной и волевой сферы.
Первый медицинский отчет о компульсивном контроле принадлежит Жану-Этьену Доминику Эскиролю — врачу, предложившему термин «мономания». Сочетая врачебное чутье с зачаточными знаниями эпидемиологии, он описывал психические болезни и оценивал их распространенность точнее любого предшественника. Будучи главврачом парижской больницы Сальпетриер, Эскироль прославился своими усилиями по распространению более гуманных методов обращения с психически больными пациентами, и его труд 1838 г. «О душевных болезнях, рассматриваемых в медицинских, гигиенических и судебно-медицинских отношениях» (Des maladies mentales, considérées sous les rapports médical, hygiénique, et médico-légal) считается первой современной работой по клинической психиатрии.
Одна из его пациенток, голубоглазая мадемуазель Ф. тридцати четырех лет, страдала навязчивым состоянием, которое мы бы назвали компульсивным контролем. «Она проводила много времени за сверкой бухгалтерских ведомостей и счетов, опасаясь допустить ошибку, заменить одну цифру другой и вследствие этого обсчитать покупателей», — писал Эскироль. Никакого явного безумия здесь не наблюдается, но для врача этого было достаточно, чтобы говорить о психическом нездоровье и «интересном случае». У м-ль Ф., обратившейся за медицинской помощью в 1834 г., имелись и навязчивые страхи загрязнения. «Уход за собой обычно отнимал у нее полтора часа, а то и более трех часов», когда симптоматика обострялась, зафиксировал Эскироль: «Прежде чем лечь спать, она отчищает стопы 10 минут, чтобы удалить любую возможную нечистоту между пальцами или под ногтями. Затем она переворачивает ночные туфли, встряхивает их и передает горничной, чтобы та после тщательного обследования подтвердила, что в них не завалилось ничего ценного. Волосы огромное количество раз прочесываются гребнем с той же целью. Каждый предмет ее туалета многократно подвергается излишне тщательному изучению, исследуется всеми возможными способами, по всем складочкам и оборкам, и энергично перетряхивается… Если по какой-либо причине эти меры не предпринимаются, она целый день не ведает покоя». Как и современные пациенты с ОКР, м-ль Ф., отмечал врач, «отдает себе отчет в своем состоянии, сознает нелепость своих опасений и абсурдность предосторожностей». Эскироль диагностировал «непроизвольную, неодолимую и инстинктивную деятельность», «приковывавшую» несчастную к «поступкам, которые не порождались ни мыслью, ни эмоцией и которые… воля не могла подавить».
К этому времени самыми частыми стали компульсии, связанные с чистотой и контролем, причиной чему послужило распространение микробной теории заболеваний. Компульсивный контроль питался стремлением к безопасности в собственном доме, особенно на волне массового внедрения бытовых удобств, в частности, кухонных плит, использование которых было сопряжено с определенными рисками. «Беспокойство как таковое, судя по употреблению слова "беспокоиться" (worry) в современном значении, пришло в английский язык в XIX в», — писал Леннард Дейвис.
Французский врач Анри Легран-дю-Соль (1830–1886) окрестил эту навязчивую потребность «болезненным сомнением и страхом прикасаться к предметам» (La folie du doute avec delire de toucher — одноименную книгу он опубликовал в 1875 г.) В отличие от Эскироля, усматривавшего источник компульсий в нарушениях интеллектуальной и волевой сфер, дю-Соль считал их эмоциональными нарушениями, что ближе к точке зрения XXI в., согласно которой они порождаются тревожностью. «Драма болезни», по словам дю-Соля, начинается с «приступа неослабевающего страха» заражения, влекущего за собой «невроз», который характеризуется «боязнью прикасаться к определенным предметам, а также растущей аномальной поглощенностью поддержанием чистоты в форме крайней чистоплотности и многократного мытья». Больные «ни на минуту не утрачивают осознания нелепости своего поведения», писал дю-Соль, одним из первых отмечая эгодистонный характер заболевания, впоследствии названного обсессивно-компульсивным расстройством.
В книге La Folie du Doute дю-Соль приводит двадцать семь случаев, в том числе историю болезни молодой женщины, к отцу которой однажды пришел посетитель с «раковым изъязвлением на лице». «Ею овладела мысль, что все предметы одежды и обстановки в доме теперь в большей или меньшей степени заражены и покрыты раковой тканью. Подавленная этой картиной, она… посвящала все время чистке, скоблению и мытью, — писал врач. — Она прекрасно понимала, что ее страхи лишены оснований, но была не в силах их отогнать».
Годы спустя, выйдя замуж и став матерью, она узнала, что в ее дом забредала бешеная собака. Она «не могла заставить себя прикоснуться к "зараженной бешенством пыли" на мебели, на камине, на полах, в собственных карманах, на одежде других людей и на кухонных принадлежностях, — писал дю-Соль. — Она протирала, отчищала, терла щеткой или мыла все, до чего дотрагивалась, даже в чужих домах, и не решалась коснуться дверного молотка собственного дома. Она сетовала на свое нынешнее состояние (на тот момент ей было тридцать шесть лет), понимала, что ее страхи беспочвенны, и умоляла докторов излечить ее», — продолжал дю-Соль, не указав, однако, смог ли кто-нибудь, включая его самого, справиться с этой задачей.
Американец доктор Уильям Хаммонд (1828–1900), начальник медицинской службы армии юнионистов в годы Гражданской войны, описывал «молодую даму восемнадцати лет», которую в 1879 г. лечил от компульсивного поведения, проистекающего из смертельного страха заражения. «Мало-помалу у нее укоренилась мысль, что невозможно избежать источников заразы, что другие люди так или иначе могут ее загрязнить, — писал он в работе 1883 г. "Трактат об умопомешательстве в его медицинских аспектах" (Treatise on Insanity in Its Medical Relations). — Когда она выходила на улицу, то тщательно подбирала юбки, проходя мимо любого человека, поскольку боялась заразиться от малейшего контакта. Каждый день она посвящала многие часы придирчивому обследованию и очистке своих гребней и волосяных щеток, но и после этого не считала их совершенно чистыми». Она мыла руки «больше двухсот раз в день» и «ни к чему не могла прикоснуться, не испытывая неодолимой потребности отмыть их мылом и водой».
«Снимая одежду вечером, готовясь ко сну, она внимательно следила за тем, чтобы не коснуться ее руками, не имея надлежащей возможности вымыть их, — продолжал врач. — Соответственно, ей требовалась посторонняя помощь, чтобы распустить шнуровку, после чего она ждала, чтобы одежда упала на пол, и переступала через нее. Ничто не заставило бы ее прикоснуться к любому предмету белья, который она уже надевала, прежде чем его снова не выстирают… Помимо мытья рук и изучения состояния гребней и щеток она проводила почти все остальное время, тщательно обследуя каждый предмет мебели и многократно стирая с него пыль». Молодая дама «признавала абсурдность своих представлений», отметил Хаммонд, но все равно «не могла поступать иначе».
Безумие или эксцентричность?
К концу XIX в. во врачебной среде сформировалось убеждение, что компульсии не являются разновидностью безумия, вопреки представлению современников. Как утверждал английский психиатр Генри Модсли в учебнике 1879 г. «Патология рассудка» (The Pathology of Mind), они возникают, когда потребность «совершить некое бессмысленное и абсурдное действие… овладевает воображением и не отпускает его», вынуждая жертву «повторять действие снова и снова, поскольку лишь это позволяет достичь спокойствия».
В 1894 г. Дэниел Хэк Тьюк поднял дискуссию о компульсиях статьей в неврологическом журнале Brain. «Я обращаюсь к случаям болезни, когда человека нельзя счесть безумным, хотя психическое нарушение может иметь столь же тяжкие последствия, как и при подлинном сумасшествии», — писал он. Симптомы компульсии многообразны и могут включать «определенные мысли или слова, всплывающие с болезненной частотой и живостью». Подобные мысленные компульсии могут сопровождаться физическими, как, например, у «людей, неизменно трогающих определенные предметы, проходя мимо них во время привычной прогулки, противоположностью чему является страх прикосновения к определенным предметам (Délire du toucher)». Тьюк также выделял «арифмоманию, или болезненное стремление считать ни с того ни с сего или выполнять бесконечные вычисления». Он сетовал на тогдашнее повальное увлечение «удостоверяющих вменяемость психиатров» изобретать название для каждой компульсии, досадуя, что это «отвлекает внимание от основополагающих характеристик, общих для всех [ее типов]», среди которых «автоматизм, всеподавляющая и повторяющаяся склонность быть захваченным определенной идеей, совершать определенные действия… при осознании совершенной бесполезности и абсурдности» компульсивных мыслей или поступков.
Это было первое признание того факта, что все компульсии, сколь бы разные формы они ни принимали — будь то необходимость возвращаться и проверять, не переехал ли ты пешехода, тренировки на велотренажере до упаду или лихорадочное листание страниц в смартфоне, — являются проявлением одного внутреннего состояния — громадной тревоги, которую можно облегчить (пусть только временно) лишь выполнением компульсивных действий. Жертва компульсии «совершенно не способна ей сопротивляться», по словам Тьюка. Причиной же является «неадекватная работа мозга, сильная эмоциональная взвинченность» — главные составляющие тревожности, эмоции, свойственной людям и в самом здравом уме. «Легкая степень» тревоги, провоцирующая компульсии, «не является редкостью у психически совершенно здоровых людей». Лаборант в психиатрической лечебнице признался Тьюку, что «сделав последнее за вечер дело — заперев дверь, — и не имея никаких сомнений, что она заперта, он возвращается раз, а то и два, чтобы в этом удостовериться». «Я знал людей, — продолжал врач, — которые вскрывали конверт, куда положили чек, и с величайшим вниманием проверяли дату и подпись, желая убедиться, что все верно». Когда наука делала первые шаги к изучению компульсий, специалисты уже признавали, что они могут принимать столь мягкие формы, что было бы абсурдом считать их безумием — или, выражаясь современным языком, психическим заболеванием.
Английский психиатр сэр Джордж Генри Сэвидж (1842–1921) соглашался с тем, что компульсии не являются проявлением умопомешательства. Он называл их «очень распространенными» и предполагал, что «практически каждый имеет те или иные», добавляя: «У меня возникает особое чувство, полагаю, свойственное многим, когда я иду по тротуару. Я испытываю стремление не наступать на трещины и в то же время склонность… касаться тростью стального ограждения, идя по улице… Лишь немногие подобные случаи дают постоянных обитателей домов умалишенных».
Это мнение, однако, разделяли не все. Английский невролог Джон Хьюлингс Джексон (1835–1911), основатель журнала Brain, называл компульсии, которые Тьюк и Сэвидж пытались избавить от клейма безумия, «бредовыми иллюзиями». Соответственно, разгорелся спор, продолжающийся поныне: является ли компульсия проявлением психического заболевания или всего лишь заостренной формой универсального, в сущности, поведения.
Задумаемся о причинах самых обычных действий. Почему мы протираем кухонные столы и застилаем постели, покупаем запас продуктов на несколько дней, да просто прилежно учимся и держимся за рабочее место? Нет ли в них оттенка одолевающих нас страхов — микробов или беспорядка, голода или провала? Человеческое поведение представляет собой обширнейший спектр вариантов, и, хотя крайние проявления могут внешне отличаться от средних, они относятся к единому множеству, а не выпадают из него, как у жертв психотического расстройства, при котором мозг входит в режим функционирования, резко отличающийся от нормального. Однако компульсивная потребность отмывать руки после туалета, проверять, не пришло ли за последнюю минуту судьбоносное письмо, или компульсии, провоцируемые любыми другими тревогами, время от времени посещают любого из нас. Как писал Тьюк сто лет назад, «разница лишь в степени, и… самое сложное — понять, в какой момент грань оказывается пересечена».
В споре победила позиция Тьюка. К началу прошлого века было признано, что компульсии, как и управляющие ими тревоги, являются неврозами, а не психозами — странностями, причудами, «вывертами», но не безумием. Даже Хьюлингс Джексон, отстаивавший учение о «бредовых иллюзиях», уступил, приняв аргумент Тьюка, что, хотя это «отклонения от нормального психического состояния или, по крайней мере… заостренные и устойчивые психические состояния», они происходят от тревожности, являющейся нормальным состоянием для представителей рода человеческого, в силу чего «считать [их] ненормальностью было бы чрезмерным буквализмом».
Компульсии заняли положенное место в науке в 1903 г., когда французский психиатр Пьер Жане (1859–1947) издал 750-страничный труд, посвященный обсессиям и компульсиям, «Обсессии и психастения» (Les Obsessions et La Psychasthenie)[38]. Это был на тот момент самый исчерпывающий анализ заболевания, которое сегодня называется обсессивно-компульсивным расстройством. В нем подробнейшим образом описывались симптомы ОКР, в том числе симметричных компульсий, как в примере Жане, когда «больной, увидев красный предмет справа от себя, должен [затем] найти подобный слева». Автор утверждал, что компульсивное поведение провоцируется ощущением, что действия не были выполнены должным образом, то есть — согласно нашему современному пониманию — тревогой. (Во Франции ОКР до сих пор называется la folie du doute — «психоз сомнения».) Компульсии, писал он, есть результат «сниженной энергии в самых главных элементах психической организации» — фактически следствие того, что разум слишком слаб, чтобы справиться с тревогой, порождающей компульсию.
Предложенный им метод лечения был весьма изобретательным. Жане рекомендовал прописывать людям, попавшим в тиски компульсии, «правильное питание, здоровый сон, свежий воздух и избегание переутомления», добавляя, что «могут принести пользу препараты брома в больших дозах». Он также полагал, что наркотический «приход» творит чудеса, временами прописывая опиум «страдающим от сильной тревоги». Уильям Хаммонд, приводивший случай молодой женщины с компульсивной потребностью наводить чистоту, выписывал успокоительные. Английский психиатр Генри Модсли в учебнике психиатрии, изданном в 1895 г., рекомендовал опиум и морфий трижды в день, иногда дополненные малой толикой мышьяка.
Несмотря на расхождения по поводу лечения, к концу XIX в. специалисты сошлись во мнении, что компульсии «проистекают из нарушения эмоциональных, а не мыслительных процессов», как писал в «Истории клинической психиатрии» (A History of Clinical Psychiatry) Герман Берриос. «Тревожность была принята в качестве возможной причины, поскольку это объяснение поддержали великие деятели, а также потому, что на протяжении второй половины XIX века «аффективность» [и] эмоции» вновь стали предметом научного интереса. В результате, хотя в XVIII и XIX вв. компульсии считались расстройствами волевой или мыслительной деятельности, к рубежу XX в. «гипотеза "эмоциональной природы" возобладала».
«Я должен был идти»
В конце XIX в. во Франции разразилось нечто вроде эпидемии одной из самых удивительных разновидностей компульсий в истории психиатрии — мании путешествий. По причинам, о которых до умопомрачения спорили ведущие психиатры того времени, трудовой люд — конторские служащие, мастеровые, ремесленники, чернорабочие — внезапно охватила неодолимая тяга к перемене мест. Люди отправлялись куда глаза глядят и двигались пешком и по железной дороге неделями, порой годами, зачастую не имея при себе ничего, кроме одежды, в которой ушли, и нескольких франков в кармане.
Имя первого «безумного путешественника» назвал философ Йэн Хэкинг в своем выступлении в рамках лекций Пейджа-Барбура в Университете Вирджинии в 1997 г. Это был некто Альбер Дада, слесарь-газовщик из Бордо, родившийся в 1860-х гг. В юности у Альбера развилась необычная психическая болезнь: услышав название далекого города, а именно Марселя, он испытал настоятельную потребность его посетить. Так он и поступил, проходя до 40 миль в день. Прибыв на место, он случайно стал свидетелем разговора об Африке и счел себя обязанным сесть на корабль до Алжира. Дальнейшие перекочевки, обычно сопровождавшиеся амнезией — Альбер забывал, кто он такой, — швыряли его из Бельгии в Голландию, затем в немецкий Нюрнберг и все дальше на восток: Прага, Берлин, Познань, Москва, где он побывал в 1881 г., путешествие из Бордо в Верден в 1885-м.
Снова и снова, по сообщению Хэкинга, «потребность двигаться овладевала им». Лечащему врачу Альбер сказал, что его «терзает необходимость путешествовать». В этих словах слышна тревожность, питающая современные компульсии. «Все, что мне нужно, — это идти, — поведал Альбер одному доктору. — Несколько мгновений назад мной овладело огромное желание пуститься в путь. Я едва не уехал от вас в Льеж». В дороге его почти всегда охватывает «веселость», говорил он врачам. Если и накатит печаль, достаточно пройти с километр, «и печаль проходит сама собой». Угнетенность из-за пребывания на одном месте становилась невыносимой при виде отъезжающих путников, например солдат, садящихся в поезд, чтобы отправиться в полк. «Это было невыносимо, — впоследствии рассказывал он врачу. — Я завидовал всем этим новобранцам, которые едут повидать страну». В таких случаях, признавался Альбер, «я чувствовал, что нужно идти, пройти долгий путь. Ни на минуту меня не покидал этот гнет, толкавший в дорогу».
Альбер часто оказывался то в одной, то в другой больнице, где компульсивно мерил шагами коридоры, и психиатры могли без помех изучать его случай. Психическая реакция бегства, аналогичная состоянию после эпилептического припадка — заявила одна школа. Чепуха, возражала другая: истерия, которая лечится гипнозом. Нет, дромомания — этим неологизмом, образованным от древнегреческого названия скакового круга, обозначили состояние, при котором человек испытывает неодолимую потребность податься в бега. Врач Филипп Тисси, наиболее глубоко изучавший болезнь Альбера, поставил диагноз «патологический туризм», который считал формой сумасшествия. Это была эпоха, когда путешествия из привилегии аристократов превратились в массовое явление, что способствовало возникновению таких культовых фирм, как Thomas Cook & Son. Но если лондонские коммерсанты в большинстве своем ограничивались размышлениями, не купить ли у Кука тот или иной тур, перемещения Альбера были «обсессивными и неконтролируемыми», по словам Хэкинга, — «не столько путешествиями с целью познать себя, сколько попытками уничтожить свою самость». Они стали «началом эпидемии маниакальных путешествий».
Как и в других случаях массовой истерии, слух о поведении одного человека спровоцировал сотни подражателей. Безумных путешественников описывали врачи Германии и России, северной Италии и других регионов Франции, помимо Бордо, откуда был родом Альбер. Независимо от подробностей жизни этих мужчин (практически все больные были мужчинами; женщины, будь то больные или здоровые, редко путешествовали в одиночестве по Европе 1880-х гг.) и их скитаний, каждый рассказывал своему врачу, что «был захвачен непреодолимым желанием идти». И «они уходили против собственной воли, бросая все, чтобы утолить эту нужду», согласно тексту диссертации 1892 г., основанной на историях болезни восемнадцати лиц с патологической страстью к бродяжничеству — пациентов лечебницы Тисси в Бордо. Впрочем, мания путешествий закончилась так же быстро, как и началась. «Компульсивное бесцельное скитальчество как медицинский феномен» наблюдалось с 1887-го по 1909-й г., сообщил Хэкинг, «и впоследствии не повторялось».
Компульсия и психоанализ
Итак, на авансцену выходит Зигмунд Фрейд (1856–1939).
Родоначальник психоанализа считал заболевание, ныне именуемое обсессивно-компульсивным расстройством, самым интересным из психических нарушений, и посвятил ему четырнадцать статей. Однако в эссе 1909 г. он признался, что «до сих пор не смог разрешить ни одного серьезного случая».
Тем не менее Фрейд облегчал состояние своих компульсивных пациентов. Его подход к лечению резко отличался от всей предшествующей традиции, поскольку он анализировал компульсии точно так же, как сны, воспоминания и практически любые другие сообщения пациентов — как символы. К примеру, девятнадцатилетняя пациентка поведала ему о компульсивном ритуале отхода ко сну, без которого не могла уснуть. По описанию Фрейда, она останавливала большие часы в своей спальне и выносила за дверь остальные, в том числе карманные, даже «крохотным наручным часикам… не положено было лежать в ящике прикроватного столика». Дверь между спальнями ее и родителей должна была оставаться приоткрытой ровно наполовину, для чего она подкладывала в дверной проем различные предметы. Она передвигала цветочные горшки и другие сосуды, чтобы исключить их случайное падение, и укладывала подушки в форме бриллианта. Больная встряхивала пуховое одеяло до тех пор, пока пух не перемещался в его нижнюю часть, но, добившись этого, нервозно разравнивала наполнитель, пытаясь разделить пушинки. «Ее всегда преследовало ощущение, что не все сделано, как надо, — писал Фрейд. — Все нужно было проверить и повторить, поскольку то одно, то другое вызывало сомнения».
Современные психиатры, скорее всего, диагностировали бы у пациентки компульсивную потребность сделать «все правильно», питаемую тревогой, которая вспыхивала при нарушении обстановки и размещения предметов в спальне. Фрейд усмотрел в компульсивном ритуале этой молодой женщины скрытый — как обычно, сексуальный — подтекст. Подготовка постели символизировала ее желание забеременеть (устройство гнезда для своего чрева). Часы, настенные и наручные, тоже имели сексуальную символику — «генитальную, поскольку связаны с периодическими процессами», а также потому, что «молодая женщина, возможно, гордилась, что ее менструации точны, как часы». К тому же «тиканье часов можно сравнить с биением или пульсацией в клиторе при половом возбуждении». Женщина — которую он определил как «невротичную» больную с «агорафобией и обсессивным неврозом» — убирала часы, поскольку хотела избавиться от «символов женских гениталий… на ночь», пояснил Фрейд на лекции. Сосуды — цветочные горшки и вазы — также женские символы, и ритуальное избавление от них пациентки перед отходом ко сну диктовалось страхом, что в первую брачную ночь у нее не будет кровотечения и окажется, что она не девственница. Сначала женщина отвергла предложенное им символическое объяснение, заявил Фрейд, но постепенно «приняла все интерпретации» и отказалась от «церемонии в целом».
Фрейд не ограничился рассмотрением компульсивного поведения пациентки как такового и предположил, что обсессии и компульсии чаще всего уходят своими корнями в детство (как и любая психическая болезнь). Если ребенок хотел заняться игрой, продиктованной тягой к насилию или связанной с сексуальностью, но родитель ему воспрепятствовал, конфликт неудовлетворенного желания и запретного действия порождает «вытеснение» психической энергии, питающей желание. Эта энергия оказывается заперта в подсознании и впоследствии, у взрослого, проявляется в обсессиях и компульсиях. Большинство психиатров придерживались, в тех или иных вариациях, фрейдистской интерпретации ОКР со всеми атрибутами — бессознательным, вытеснением, защитными реакциями эго — почти до 1970-х гг..
Фрейда можно назвать «сапожником без сапог», поскольку у него самого была компульсия. Он «не расставался с ручкой, писал везде и всегда и никогда не изменял привычке», отмечает Лидия Флем в его биографии[39]. Он всегда работал компульсивно, принимая пациентов с утра до позднего вечера, а затем писал до глубокой ночи, обычно до двух или трех часов. Фрейд признавал: «Я действительно не представляю себе нормальной жизни без работы: размышлять и работать — это для меня одно и то же, и ничто больше меня не радует». В признании, перекликающемся с современным пониманием тревоги как основы компульсивного поведения, Фрейд выражал ужас, что слова могут оказаться бессильными, а мысли перестанут его посещать, заключая, что «об этом невозможно думать без дрожи». Он никогда не мог рассчитывать на «продуктивность в любой момент и в любом настроении», у него случались дни, «когда ничего не ладилось» и он «рисковал полностью утратить способность к работе и борьбе». Обратите внимание на последнюю фразу. В ней ясно читается компульсивная потребность писать и лечить, создаваемая тревогой, более того, экзистенциальным ужасом, что однажды он будет на это не способен.
Фрейд обозначал обсессивность и компульсивность термином Zwangsneurose — «невроз принуждения», близким к понятию Zwangsvorstellung — навязчивая (букв. «принудительная») идея, — предложенному австрийским и немецким психиатром Рихардом фон Крафт-Эбингом для обозначения неотступных мыслей. В Англии понятие Zwang стали переводить словом «обсессия», а в США — «компульсия». Термин «обсессивно-компульсивное расстройство» является компромиссным. Таким образом, хотя современные психиатры и ученые старательно подчеркивают двойственную природу этого заболевания — обсессивные мысли провоцируют тревогу, облегчить которую может только компульсивное действие, — исследователи-первопроходцы считали его одноплановым.
Плюшкин и другие барахольщики
В теории Фрейда существует так называемая «анальная триада» — предположительный синдром, в котором проявляются три отличительные черты специфического типа характера: скупость, педантичная аккуратность и упрямство. По Фрейду, осознание ребенком своей беспомощности (перед родителями) является травмирующим опытом, с которым некоторые личности справляются при помощи накопления вещей, обретая контроль над своим — чрезвычайно обширным — достоянием. Понятие анально-удерживающего характера было порождено особым интересом психоаналитиков к генитальной области человеческого тела и конкретно, в данном случае, убеждением, что дети сопротивляются побуждению к дефекации по неким хитромудрым причинам, очевидным исключительно для фрейдистов. Это понятие легло в основу диагностических критериев обсессивно-компульсивного расстройства личности в DSM–III. Одним из девяти критериев стало патологическое накопительство.
Этим ознаменовался принципиальный разрыв с давней традицией отношения общества к накопительству. В литературе скопидомство традиционно рисовалось странностью, эксцентричной чертой, возможно, пороком, но никоим образом не проявлением безумия. У персонажа романа Николая Гоголя «Мертвые души», написанного в 1842 г., богатого помещика Плюшкина, «наготовлено было на запас всякого дерева и посуды, никогда не употреблявшейся»[40]. Автор сравнивает его рабочий двор с московским щепным рынком, где «горами белеет всякое дерево, шитое, точеное, лаженое и плетеное: бочки, пересеки, ушаты, лагуны, жбаны с рыльцами и без рылец, побратимы, лукошки, мыкольники, куда бабы кладут свои мочки и прочий дрязг»… Гоголь задается вопросом, на что «нужна была Плюшкину такая гибель подобных изделий», поскольку «во всю жизнь не пришлось бы их употребить даже на два таких имения, какие были у него, — но ему и этого казалось мало».
Стремясь приумножить достояние, Плюшкин «ходил еще каждый день по улицам своей деревни, заглядывал под мостики, под перекладины» и подбирал все, что, на его скопидомский взгляд, являлось сокровищами. Мужики прозвали его «рыболовом» за привычку, словно пруд неводом, прочесывать окрестности в поисках «старой подошвы, бабьей тряпки, железного гвоздя, глиняного черепка». После этих ежедневных экспедиций «незачем было мести улицу: случилось проезжавшему офицеру потерять шпору, шпора эта мигом отправилась в известную кучу; если баба, как-нибудь зазевавшись у колодца, позабывала ведро, он утаскивал и ведро». Гоголь объясняет поведение Плюшкина жадностью, усугубившейся после смерти жены и отъезда детей, разочаровавших его выбором жизненной стези (дочь убежала с армейским офицером, сын проигрался в карты). Вскоре после выхода в свет «Мертвых душ» имя Плюшкина стало в русском языке нарицательным для накопителей бесполезного хлама, а русские психиатры назвали патологическое накопительство «синдромом Плюшкина».
Патологическое накопительство вскоре «прописалось» в культурном пространстве всей Европы. В романе Чарльза Диккенса «Холодный дом», сюжетную основу которого составляет бесконечная тяжба в Канцлерском суде, выведен Крук, торговец тряпьем и бутылками, скупщик макулатуры, а также хозяин пансиона, где живут двое других действующих лиц. Диккенс описывает его лавку: «В одном углу окна висело изображение красного здания бумажной фабрики, перед которой разгружали подводу с мешками тряпья. Рядом была надпись: "Скупка костей". Дальше — "Скупка негодной кухонной утвари". Дальше — "Скупка железного лома". Дальше — "Скупка макулатуры". Дальше — "Скупка дамского и мужского платья". Можно было подумать, что здесь скупают все, но ничего не продают. Окно было сплошь заставлено грязными бутылками: тут были бутылки из-под ваксы, бутылки из-под лекарств, бутылки из-под имбирного пива и содовой воды, бутылки из-под пикулей, винные бутылки, бутылки из-под чернил».[41]
По иронии судьбы неграмотный Крук обсессивно собирал исписанную бумагу, поскольку «забрал себе в голову, что у него есть важные документы» и «целую четверть века все пытался их прочитать». Диккенс верно подметил, что барахольщики отказываются расстаться со своим достоянием из соображения «а вдруг» — на тот случай, если предмет, кажущийся бесполезным, когда-нибудь пригодится. Переубеждать барахольщика бессмысленно, причем Диккенс коварно сообщает читателям, что среди кип макулатуры, громоздившихся в лавке Крука, действительно имелись бумаги, которые позволили бы окончить бесконечную тяжбу «Джарндис против Джарндиса».
Подобно Круку, Шерлок Холмс «терпеть не мог уничтожать документы, особенно если они были связаны с делами, в которых он когда-либо принимал участие, — пишет Артур Конан Дойл о своем герое в рассказе 1893 г. «Обряд дома Месгрейвов», — но вот разобрать свои бумаги и привести их в порядок — на это у него хватало мужества не чаще одного или двух раз в год… Таким образом, из месяца в месяц бумаг накапливалось все больше и больше, и все углы были загромождены пачками рукописей. Жечь эти рукописи ни в коем случае не разрешалось, и никто, кроме их владельца, не имел права распоряжаться ими»[42]. (Честно говоря, это описание подошло бы для доброй половины научных учреждений, во всяком случае, до появления компьютеров и планшетов.) Сам Артур Конан Дойл, по словам биографа Джона Диксона Карра, во множестве скапливал записные книжки, дневники, газетные вырезки и письма в Уиндлишем-мэноре, своем сельском доме в Суссексе.
Уильям Джеймс утверждал, что приобретательство свойственно человеческой природе, но не задавался вопросом, может ли эта инстинктивная склонность принять гипертрофированную форму. Свою лепту в обсуждение внес психоаналитик Эрих Фромм (1900–1980) в книге 1947 г. «Человек для себя»[43], назвавший накопительство одним из четырех типов «непродуктивной ориентации»[44]. Для личностей стяжательской ориентации, утверждал Фромм, характерна неспособность привязываться к другим людям и склонность формировать привязанность к предметам, следствием чего становится десоциализация. Их также отличает стремление окружить себя «защитной стеной, и их главная цель — как можно больше в свое укрытие приносить и как можно меньше из него отдавать»[45]. Скупость таких людей распространяется «как на деньги и материальные вещи, так и на чувства и мысли», писал Фромм: «Любовь для них — это, по существу, обладание: сами они не дают любви, но стараются получить ее, завладевая "любимым"».
По мнению Фромма, стяжательская ориентация личности была широко распространена в XVII–XVIII вв., в эпоху, когда купец, лавочник и иной представитель формирующегося среднего класса был «более консервативен, менее заинтересован в безоглядном добывании, чем в методическом решении экономических задач, основанном на… сохранении добытого». Для стяжателя «собственность была символом его «Я», а ее защита — высшей ценностью». Обретаемая стабильность наделяла выходцев из среднего класса чувством «общности, уверенности в себе и гордости». Иными словами, то, что мы сегодня считаем психическим расстройством, являлось, по утверждению Фромма, нормой для крупных общественных групп.
Представление о компульсивных накопителях у Фромма во многих отношениях значительно отличается от современного. Он считал, что «данная ориентация дает людей, мало верящих в то, что они могут получить из внешнего мира что-то новое; их безопасность основывается на стяжательстве и экономии, траты они воспринимают как угрозу». Еще больше он промахнулся с утверждением, будто для стяжателей характерен специфический внешний облик, в частности «плотно сжатые губы» и жесты «погруженных в себя людей». Фромм приписывал им «педантичную аккуратность» и «маниакальную чистоплотность», что удивило бы любого сегодняшнего специалиста, сталкивающегося с больными патологическим накопительством.
Фрейда свергают с пьедестала
Единственную теорию, всерьез конкурирующую с фрейдистским пониманием компульсивного поведения, предложил Эмиль Крепелин (1856–1926), психиатр, давший название компульсивной потребности покупать. Крепелин не считал, что любая странность в поведении проистекает из нереализованных сексуальных фантазий детских лет, и утверждал, что многие компульсии, подобно фобиям, питаются страхом. Это близко современному пониманию компульсивности как тревожного расстройства. Некоторых больных с «компульсивными страхами», заявлял Крепелин, «терзает мысль, что… их загрязняет или отравляет контакт с другими людьми» (это очередное свидетельство того, что компульсивная чистоплотность существует веками). Другими пациентами движет опасение «порвав любой клочок бумаги, уничтожить важные документы» (как и патологическими накопителями, не способными расстаться ни с одним обрывком, скажем, с 1979 г.). Третьи не прикасаются к книгам, видя в них «источник заражения», «часто вытирают посуду» и «изучают каждый кусочек пищи» из страха перед микробами, мучительно «сомневаются, не забыли ли запереть дверь или наклеить марку на письмо, которое отправили». Здесь мы вступаем на территорию современного понимания компульсии.
Крепелин подчеркивал, что компульсивным поведением движет принуждение, воспринимаемое разумом как внешнее. Оно «не проистекает из нормального предшествующего осознания мотивов и желаний», писал он в книге 1907 г. «Клиническая психиатрия», «но кажется пациенту навязанным ему чуждой волей». Выполнение компульсивного действия, согласно Крепелину, дает облегчение. Эта идея в настоящее время составляет основу понимания компульсии как способа снятия невыносимой тревоги.
Стоит отметить, что многие упомянутые Крепелином компульсии настолько широко распространены, что их проявления едва ли можно считать психическим расстройством. Например, он писал, что некоторые люди считают необходимым вспомнить имя, и если не могут, то «думают об этом целый день, лежат без сна ночью, пытаясь вызвать его из памяти, и внутреннее напряжение не проходит, пока оно не всплывет». Другие склонны «обращать внимание на числа», например «компульсивно пересчитывать гостей за столом, количество вилок, ножей и стаканов». Третьи постоянно задаются вопросами о сущности Бога, происхождении человека и создании Вселенной. Крепелин признавал, что «подобное происходит даже с нормальными людьми», предвосхитив признание современными врачами того факта, что слабо выраженные компульсии весьма распространены и, хотя не причиняют таких страданий, как тяжелые, также имеют своим источником тревогу.
Глава 8 Компульсивное накопительство
Оглядываясь назад, Бонни Грабовски приходит к выводу, что проблемы начались, когда ее муж Глен впервые принес домой с работы пустые картонные коробки. Маленькие, большие, средние — удобные вместилища для всякой всячины: журналов, до которых у нее не дошли руки, газетных вырезок об удивительных местах, которые она надеялась когда-нибудь посетить, детских игрушек, дорогой посуды, использовавшейся лишь по особым случаям. Несмотря на всю обыденность, их содержимое за десятилетия приобрело значимость, которую сама Бонни далеко не сразу смогла осмыслить.
Ее семейная жизнь была непростой. У Бонни было четверо сыновей, одна дочь и семь выкидышей, в том числе в Рождество, когда она потеряла девочку. Глен, ее возлюбленный со студенческих времен, служил в ВМФ, воевал в 1970-х гг. во Вьетнаме, и впоследствии его долгие годы преследовали ужасные воспоминания. В кошмарах вьетконговские снайперы обстреливали его взвод из замаскированных укрытий, мины-ловушки взрывались под ногами солдат, пробиравшихся узкими тропами сквозь джунгли, и бойцы противника в черных штанах и рубахах, выскакивавшие из зловонных зарослей, вонзали ножи в его товарищей. Бонни всегда знала, когда разум спящего Глена одолевали подобные образы, — он вертелся, пока не находил ее рядом, а найдя… пытался задушить.
Бонни и Глен жили в восточной части Кливленда, вблизи от ее родных мест. Когда дети пошли в начальную школу, брак, доставлявший мало радости и множество тягот, превратился для нее в ловушку. «Помню, я думала, что не хочу больше жить», — признается она. Довериться было некому, и она посвятила всю себя детям: «Собственные дела я отложила. Думала, прочитаю эту книгу как-нибудь потом. И когда-нибудь снова начну вязать».
Коробки заполнялись. Мотки шерсти, спицы и книги оказались лишь началом. Бонни хранила ткани на скатерти и одежду для детей и все необходимое для перетяжки мягкой мебели. Собирала гофрированную и цветную бумагу, картон и опилки для оформления карнавальных платформ к параду детской бейсбольной лиги и все необходимое, чтобы ее мальчики стали скаутами-«орлятами» (походные печки и палатки, деревянные шесты, топорики, многотомные хроники о том, как отличился каждый, и многое другое). Коробки заполнялись на глазах, но Глен постоянно приносил новые, которые тоже вскоре чем-то заполнялись. Так всё и продолжалось.
Семья жила в маленьком доме с тремя спальнями и одной ванной: гостиная три на три метра, кухня два с половиной на три. На первом этаже вообще не было кладовки, на втором имелась всего одна, в общей спальне четырех сыновей. Родителям набивать комоды и гардеробы было нечем — они старались как можно меньше тратить на одежду. В детстве «отчаянная аккуратистка», теперь Бонни сваливала шмотки на стулья или в бесконечно множившиеся коробки Глена. «Но тогда я еще это контролировала», — уверяет она.
Когда дети выросли и разъехались, Бонни начала одолевать тревога, ощущение, что жизнь «идет к концу». Глен то терял работу, то снова находил, и Бонни, когда он работал, запасала туалетную бумагу, арахисовое масло и другие товары длительного хранения — на всякий случай. Сначала все это помещалось в шкафы, но затем «вещи стали громоздиться кучами», явственно удивляется Бонни, сама не понимая, как ситуация могла настолько выйти из-под контроля и стать катастрофической.
Бакалеей дело не ограничивалось. «Я люблю информацию, — рассказывает Бонни, — и всегда собирала газеты за неделю. Но когда кипа уже есть, легче ее просто наращивать». Почта и другие бумаги заполняли пакет за пакетом, поскольку она не могла решиться их разобрать и отделить важные от бросовых, и «очень скоро» сложилась ситуация, когда «сегодняшние громоздились поверх вчерашних, и становилось все хуже и хуже». А Глен каждый день приносил домой очередные две или три коробки. «Он никогда ничего больше мне не дарил, — поведала мне Бонни. — Это были его подарки. Поэтому я их хранила». В 2012 г. Глена убил сердечный приступ.
Однажды Бонни огляделась и поняла, что ее дом похож на крысиную нору: узкие проходы пронизывали кипы барахла в человеческий рост.
За входной дверью грозили обвалом десять огромных пластиковых пакетов с почтой. Многие письма пришли после смерти Глена, и ей не хватало душевных сил их прочесть. Кухню и коридоры от пола до потолка заполняли пакеты, набитые тарелками для бойскаутских мероприятий, журнальными вырезками, книгами, мелкой бытовой техникой, зонтами… Она и сама толком не знала, чем именно. В спальни невозможно было зайти из-за коробок с одеждой, книгами и игрушками. Бонни не могла спать в своей постели, также заваленной вещами.
У нее рука не поднималась выбросить старую одежду детей — все это могло пригодиться менее благополучной семье. Пробираться между мешками барахла и кипами бумаг было не легче, чем Геркулесу вручную вычистить Авгиевы конюшни, но при мысли о том, чтобы выбросить вещи, не проверив и не рассортировав, ее охватывала мучительная тревога. Заметка о миссии морпехов в Ираке, в которой участвовал младший сын, и сообщение о смерти матери в местной газете — все это там! Где-то там…
Бонни не в силах была расстаться с детскими игрушками, особенно с бесчисленными наборами конструкторов лего, оставшимися от младшего сына. Он строил из них замечательные замки! И разве можно выбросить деревянные комплекты для игры в железную дорогу, или запасные тостеры, или микроволновки? «Мы покупали не для того, чтобы выбрасывать, — объясняет Бонни. — Я не шопоголик. Мне никогда не нравилось ходить по магазинам. Все это нам было когда-то нужно, вещи просто скопились за годы. А при взгляде на детскую одежку возникают светлые воспоминания. Не знаю, в чем тут дело, просто чувствую, что привязана к этим вещам».
Как и многие другие люди, страдающие патологическим накопительством, Бонни испытывает радость исключительно от того, что хранит принадлежащие ей вещи и видит их вокруг себя, но не от их использования. Поскольку ее вещи пребывают в потустороннем мире почти безграничных перспектив и радужных воспоминаний, ей не приходится смотреть в лицо фактам, что часть старого оборудования бесполезна, что статьи из газет не способны изменить жизнь и что ей никогда больше не придется оформлять платформу для парада бойскаутов. Смысл накопительства — в возможном в противовес реальному, перед которым ставится заслон.
Во время нашего разговора Бонни оглядывает громоздящиеся вокруг кипы хлама и вдруг понимает еще кое-что. Многие коробки в этих башнях до потолка пусты. Она не может себя заставить выставить их на тротуар в дни, когда приезжает мусорная машина, разве что под угрозой городских властей признать дом непригодным для проживания. «Это единственное, что мне приносил муж», — шепчет она.
Я уговариваю Бонни найти способ расчистить дом хотя бы настолько, чтобы инспектор дал добро. Она обводит руками подборки газетных и журнальных статей о здоровье, садоводстве и местах отдыха, фотографии красивых комнат и оконного убранства, рассортированные по темам, каждая в отдельной подписанной коробке. «Думаю, моя проблема в том, что я много мечтаю, — говорит она, наконец. — Я воображала, как мы будем хорошо жить, как поедем в отпуск, или у меня появится прекрасный сад или милая комната, как в журналах. Но муж всегда зарабатывал немного, и ничего из этого не вышло. Вместо того чтобы иметь вещи, о которых я мечтала, или ездить в отпуск, я привязалась к кусочкам бумаги. Бумага — все, что у меня сегодня есть».
• • •
Безусловно, накопительство имеет много общего с коллекционированием, подобно тому как слабая компульсия является тенью серьезного ОКР. Объяснения Бонни, почему она не может выбросить вещи, напоминающие о лучших временах, перекликаются с рассказом бывшего профессора Гарвардской школы права Алана Дершовица о том, что он чувствовал, продавая в 2016 г. коллекцию иудаики, которую собирал почти полвека. «У меня сердце разрывалось, когда пришлось все это продать, — сказал он. — Мне хочется чувствовать свою связь с прошлым».
Тем не менее коллекционирование считается занятием достойным и даже вызывает симпатии. Нил Альберт, удалившийся от дел адвокат, собрал четыре с лишним тысячи миниатюрных книг, отпечатанных по всем правилам, но не более трех дюймов в высоту. Есть и экземпляры величиной с зуб и даже с рисовое зерно. Часть коллекции он держит в «коттедже» наверху своего многоквартирного дома в Верхнем Ист-Сайде на Манхэттене, остальное — в двадцати ящиках в хранилище. Впрочем, его трофеи имеют крохотные размеры, а сам он живет в просторной квартире и отличается организованностью.
Художник по театральным и телевизионным декорациям Юджин Ли коллекционирует самые разные предметы: пишущие машинки, пульверизаторы в стиле ар-деко, трости, которые выставляет в плетеной корзине, шведские бюро, картины и силуэтные изображения с блошиных рынков, сотнями покрывающие стены почти целиком, словно редкие марки — страницы альбома. Его жена Брук собирает медные глобусы, сделанные после 1900 г.: две сотни экземпляров от нескольких сантиметров до тридцати сантиметров в диаметре теснятся на полках по стенам гостиной. Все это множество предметов создает впечатление музейного запасника, и их георгианского стиля особняк в Провиденсе (Род-Айленд) — безусловно, далеко не такой захламленный, как жилища патологических накопителей, — ломится от вещей. «Мы не сумасшедшие», — заявила Брук в интервью New York Times в 2014 г.
• • •
Патологическое накопительство, однако, идет дальше коллекционирования в ряде важных аспектов. Компульсивная потребность приобретать и хранить собственность, порой живую (накопительство домашних животных — отдельный вариант ада на земле), заставляет больного окружать себя несоизмеримо большим количеством вещей, чем человеку нужно, чем он в состоянии использовать или хотя бы запомнить. Такие люди не способны перестать покупать вещи или просто позволять им появляться в их жизни и не могут избавиться от своего имущества, даже когда оно переполняет дом и перекрывает двери, вынуждая домочадцев пробираться внутрь через окно. Обычно накопители не знают, чем владеют, многократно покупают такие же или похожие вещи и не обязательно ими пользуются. Им нужно просто знать, что у них есть эти вещи. Многие стыдятся своего поведения. Но не все. Некоторым патологическим накопителям удовлетворение компульсивной потребности в приобретении и сбережении — даже в таких огромных количествах, что в доме остаются лишь узкие тропки в массе барахла, — дарит чувство умиротворения, избавляя от невыносимой тревоги. Чаще всего копят сумки, книги, документы, газеты и старую одежду.
Накопительство — это не банальная бесхозяйственность, обычно являющаяся следствием хронической неорганизованности или наплевательского отношения к состоянию собственного жилища. Безалаберный человек охотно принимает чужую помощь в наведении чистоты и избавлении от хлама. Страдающий компульсивным накопительством, напротив, скорее позволит отнять одну за другой собственные конечности, чем сделает выбор между пунктом сбора вторсырья, мусорным баком и секонд-хендом.
Таких компульсивных накопителей, как Бонни — рискующих лишиться домов или оказаться вне пределов досягаемости спасателей в случае пожара или другого бедствия, — довольно много. Настолько много, что по всем США создаются специальные группы, призванные помочь им расчистить свое жилье, чтобы оно хотя бы стало пригодным для обитания (с точки зрения властей). Финансируемые правительством или действующие на добровольных началах, эти группы обычно состоят из социальных работников, психотерапевтов, пожарных и представителей учреждений, помогающих престарелым (последние особенно склонны к накопительству). Первая такая группа была организована в Фэрфаксе (штат Виргиния) в 1989 г. К 2007 г. их стало пять, а к 2016-му уже двадцать семь в одном только Массачусетсе и более сотни по всем США (примеру которых последовали Канада, Британия и Австралия).
Сколько именно человек подвержены патологическому накопительству — вопрос дискуссионный. Повторное национальное исследование коморбидной патологии 2008 г., в ходе которого около 10 000 совершеннолетних отвечали на вопросы о своем психическом здоровье, установило, что у 14% в определенный период жизни наблюдались симптомы патологического накопительства. Однако аналогичный европейский опрос выявил проявление этих симптомов на протяжении всей жизни только у 2,6% респондентов. Эксперты, с которыми я обсуждала эту проблему, сошлись на том, что самая реалистичная оценка содержится, по-видимому, в эпидемиологическом исследовании расстройств личности Медицинской школы Джонса Хопкинса за 2008 г.: 5,3% населения в любой момент времени. Ученые опросили 735 человек с целью выяснить, отвечают ли они критериям компульсивного накопительства. Пример вопроса: «Находите ли вы почти невозможным выбросить вышедшие из строя или бесполезные вещи? Приведите несколько примеров. Является ли это проблемой для вас или для других людей?»
Данное исследование позволило составить представление о демографических характеристиках патологических накопителей. Накопительство почти в два раза чаще наблюдается у мужчин (5,6%), чем у женщин (2,6%), хотя согласно другому исследованию среди обращающихся за медицинской помощью преобладают женщины. Это заставляет предположить, что мужчины неохотнее признают свою тягу к накопительству или менее склонны усматривать в ней проблему. Фактором риска, по-видимому, является вдовство. Распространенность заболевания увеличивается с возрастом: в возрастной группе 34–44 лет больны 2,3%, а среди лиц старше 55 лет — уже 6,2%. Этому способствуют, по меньшей мере, три фактора. Во-первых, с течением времени хлам порождает все больше хлама, и для того, чтобы от него избавиться, нужно больше усилий. Во-вторых, по мере старения воспоминания зачастую становятся все более ценными для нас, памятные записи — жизненно важными. Более спорным представляется третье объяснение, согласно которому ослабление когнитивной функции, в той или иной форме сопровождающее процесс старения, повышает риск развития этой проблемы.
До 80% людей с синдромом патологического накопительства являются также компульсивными покупателями, но остальные подобны Бонни. Они покупают не больше вещей, чем любой из нас. Они попросту никогда ничего не выбрасывают: ни единой записки, ни журнала или газеты, ни даже упаковочной тары, пакетов, оберточной бумаги и емкостей, поступающих в дом в ходе удовлетворения повседневных нужд.
СМИ эксплуатируют тему патологического накопительства со времен документальных сериалов «Барахольщики»[46] и «В плену ненужных вещей»[47]. Начав собирать материал и опрашивать людей при работе над этой книгой, я установила в Google оповещение на поисковое слово «накопительство». Не самый разумный мой шаг! Я узнала о несчастной женщине из Коннектикута, погибшей в июне 2014 г., когда пол ее дома провалился под тяжестью «почты, свертков, бутылок, множества бумаг, газет, журналов и прочего», как сообщил репортерам сержант полиции. Хлам «громоздился до потолка в большинстве комнат». Властям пришлось прорезать отверстие в стене одноэтажного дома и ковшом экскаватора вычерпать часть мусора, чтобы войти.
Годом раньше в Сент-Поле (Миннесота) пожарные сделали все возможное, чтобы проникнуть внутрь горящего дома и спасти его владельца, — даже расширили оконные и дверные проемы бензопилой, — но обнаружили его уже мертвым в окружении гор из вещей, высившихся, по словам пожарного эксперта-криминалиста, «от пола до потолка». Книги, коробки из-под хлопьев, безделушки… В апреле 2016 г. тело шестидесятивосьмилетней Элис Ли, пропавшей двумя месяцами ранее, было обнаружено под кучей одежды, одеял и мусора в спальне дома в Нью-Милфорде (Нью-Джерси), где она жила. Домовладелец как раз получил судебное разрешение на выселение Ли из-за многомесячной просрочки арендной платы. «Ее тело мумифицировалось, а трупный запах перебивала вонь мусора и оставшихся без присмотра кошек», — сообщил шеф полиции на местном новостном сайте.
Ужасы этих крайностей мешают увидеть ключевую особенность накопительства. Как и за любой другой компульсией, проявления которой зачастую очень далеки от диагноза «обсессивно-компульсивное расстройство», за накопительством стоят побуждения, свойственные большинству из нас. Прежде всего — склонность хранить предметы, имеющие для нас сентиментальный смысл, значительно превосходящий их объективную, реальную ценность. Дершовиц следующим образом объяснил свое компульсивное коллекционирование иудаики — таких вещей, как конфискованное нацистами блюдо для трапезы на иудейскую Пасху, фронтиспис Торы с китайской иероглификой и многое другое со всех концов света: «Я старался купить как можно больше, чтобы спасти эти предметы. Каждый значим для меня»[48]. Если вы считаете, что вам это не свойственно, поройтесь в картонных коробках в своей кладовой, в сейфе или в других местах, где храните «ценности», и наверняка найдете, что выбросить: диплом вашего колледжа (зачем он вам, если в учебных заведениях имеются данные о выпускниках!), приглашение на свадьбу, табель успеваемости вашего ребенка, картонные спички из ресторана, где у вас с супругом было первое свидание (мой случай), фотография со свадьбы ваших родителей, спортивные награды — ваши или детей, люлька вашего первенца (и снова мой случай). Утратив привязанность к такого рода предметам, мы в каком-то смысле перестанем быть людьми. Понимание крайнего проявления этой склонности — патологического накопительства — проливает свет на общее свойство человеческой природы.
Накопительство в прошлом
Несмотря на массовость явления и интерес к нему литераторов от Данте до Гоголя, накопительство фактически оставалось за рамками изучения психологов и психиатров вплоть до 1990-х гг. Время от времени описывались случаи этого расстройства, но значительно реже, чем в современных СМИ. «Психиатрия обратила внимание на накопительство не ранее поколения назад, — сказал психолог Рэнди Фрост во время ежегодного собрания Международного фонда изучения ОКР в 2013 г. — Возможно, потому что это нарушение не попадает ни в одну категорию DSM, и многие специалисты из сферы психического здоровья не видят в нем медицинскую проблему, даже если сталкиваются с ним на практике. Они объясняют его ленью или неряшливостью и предлагают "просто перестать это делать". Понятие "компульсивное накопительство" впервые появилось в статье 1966 г., посвященной единичному случаю странного поведения и преследовавшей цель отделить нормальное сбережение и коллекционирование от патологического».
Нежелание психиатрии и общества видеть в компульсивном накопительстве психическое расстройство в значительной мере сохранялось и в 1990 г., когда Фрост вел семинар по ОКР для двенадцати студентов Колледжа Смита. Одна из студенток задала вопрос о накопительстве, поскольку «мать часто призывала ее "наводить порядок в комнате, чтобы не кончить как братья Кольер"».
Среди жителей Нью-Йорка, чье детство пришлось на середину XX в., братья Кольер были не менее известны, чем мэр или президент. Начало этой известности положил звонок в один из полицейских участков города утром 21 марта 1947 г. Некто сообщил о «трупе в доме Кольеров». Несколько полицейских были направлены в особняк на северо-западном углу Пятой авеню и 128-й улицы, где жили братья — младший, шестидесятипятилетний юрист Гомер, и старший, инженер Лэнгли. Однако войти в трехэтажный кирпичный дом на двенадцать комнат полиция не смогла: кипы газет, слежавшиеся до прочности кирпичей, мешали открыть дверь в подвал, а горы мусора заблокировали входную дверь и даже окна верхних этажей. Патрульный в конце концов протиснулся внутрь через окно второго этажа и увидел лабиринт узких ходов. Они змеились сквозь залежи старья, в которых обнаружились духовки, книги, ящики, велосипеды, журналы и газеты, картофелечистки, верхняя часть конного экипажа, каноэ, бесчисленные зонты, детали автомобилей, одна из первых моделей рентгеновского аппарата, четырнадцать роялей, старинные кабриолеты, шасси автомобиля Ford Model T, и прочее, и прочее — в общей сложности 170 тонн вещей, нагроможденных от стены до стены и практически от пола до потолка во всех комнатах, в подвале и на чердаке.
Из страха перед взломщиками братья понаделали мини-ловушек, одна из которых, видимо, случайно сработала за несколько дней до прибытия полиции. Через два часа пробивания завалов один из полицейских нашел тело слепого, прикованного к постели Гомера — очевидно, скончавшегося от голода. Рабочие восемнадцать дней выбрасывали мусор из окон и 8 апреля обнаружили тело Лэнгли, погребенного под лавиной барахла. Накопительство поглотило этих выходцев из богатой нью-йоркской семьи (их отец был врачом), некогда успешных профессионалов, и довело их до неуплаты налогов, отчуждения заложенной недвижимости, отключения коммунальных услуг и прочих атрибутов нищеты. В том же году особняк снесли.
На тот момент, когда студентка поведала эту историю, Фрост ничего не знал о таком психическом расстройстве, как накопительство. «Это маргинальный симптом, в профессиональной литературе найдется лишь пара описаний клинических случаев не больше абзаца», — ответил он девушке. Тем не менее, рассказал мне Фрост, «я предложил разместить в местной газете объявление с просьбой откликнуться людей, имеющих проблемы с захламлением жилища. Она так и сделала, и мы получили около сотни откликов». Эти добровольцы дали основной материал для первого исследования. «Опрашивая этих людей, я настолько заинтересовался, что тема захватила меня и не отпускает до сих пор», — сказал Фрост.
Классификационный парадокс
Так началась исследовательская одиссея Фроста, превратившая его в суперзвезду в сфере изучения накопительства. Он стал соавтором первого систематического исследования, опубликованного в 1993 г. (другие научные работы представляли собой лишь пересказы историй болезни отдельных пациентов), — «Накопление имущества» (The Hoarding of Possessions). В этой работе данное поведение определялось как «приобретение или неспособность избавиться от вещей, оказывающихся бесполезными или малоценными».
До 1996 г. не вышло и десяти исследований накопительства. Отсутствие интереса проявилось еще и в том, как психиатры классифицировали эту проблему. «Ее формально отнесли к обсессивно-компульсивному расстройству личности, но лечащим врачам сказали, что в тяжелых случаях рекомендуется диагностировать обсессивно-компульсивное расстройство», — пояснил психиатр Санджая Саксена из Калифорнийского университета в Сан-Диего.
Научный фундамент такого решения был шатким и, по сути, сводился к тому, что накопительство и ОКР частично перекрываются. По данным исследований, примерно от 10 до 30% больных ОКР занимаются накопительством, а от 12 до 20% патологических накопителей имеют обсессивно-компульсивное расстройство. Однако больные ОКР гораздо реже страдают патологическим накопительством, чем глубокой депрессией, генерализованной тревожностью, социофобией или расстройством дефицита внимания с гиперактивностью. Накопительство занимает лишь четвертое место по распространенности среди симптомов ОКР (предшествуя компульсивному чтению молитв и другим проявлениям религиозной скрупулезности) и встречается намного реже, чем навязчивая потребность наводить чистоту или проверять, все ли в порядке. Психиатры знали, что «и обсессивно-компульсивное расстройство, и обсессивно-компульсивное расстройство личности не слишком хорошо объясняют такое явление, как патологическое накопительство», — подытожил Саксена.
Главной проблемой является то, что человеку с накопительством мысли об избавлении от вещей или их сохранении не кажутся чуждыми или навязанными извне, что характерно для ОКР. (Как вы помните, какой-то частью своего сознания Шэла Найсли знала, что кота Фреда нет в холодильнике.) Напротив, привязанность больного к своей собственности и глубокая подавленность при мысли о том, чтобы ее лишиться, никоим образом не выпадают из общего потока его сознания. Для накопителя мысли о вещах — о том, чтобы владеть ими, сберегать их, утешаться ими, — как раз и составляют нормальный поток сознания. Что самое главное, это не гнетущие мысли, в отличие от тех, что движут обсессивно-компульсивным расстройством (например, раздумья о включенной духовке или заразном сиденье унитаза). Наоборот! Накопители, такие как Бонни, испытывают умиротворение, когда смотрят на свои вещи, думают о них и сознают, что они у них есть. К стрессу приводят опасения, что их заставят все это выбросить, или бытовые неудобства, связанные с обитанием в захламленном жилище.
Тем не менее определенная логика в том, чтобы считать накопительство формой ОКР, присутствовала. Страх утраты вещей, которые имеют сентиментальный смысл для данного человека (скажем, старой вырезки из газеты, напоминающей о радужных мечтах в день свадьбы) или кажутся ему полезными (эти коробки кому-нибудь понадобятся!), близок к обсессии при ОКР, тогда как компульсивное накапливание напоминает компульсию при том же диагнозе. Поэтому в DSM-III — R, опубликованном в 1987 г., накопительство включено в список диагностических симптомов обсессивно-компульсивного расстройства личности, а DSM-IV — TR от 2000 г. рекомендует «рассмотреть обсессивно-компульсивное расстройство в качестве возможного диагноза, особенно при тяжелой форме накопительства».
К стыду профессионального сообщества, убежденного в прочности своей научной базы, психиатры-составители DSM-5, ломающие голову над вопросом, куда отнести патологическое накопительство, обнаружили «поразительно мало эмпирических данных, обосновывающих включение накопительства в число критериев ОКРЛ», как было сказано в статье с описанием их работы. Отнесение этого заболевания к ОКР также проблематично: у накопителей с обсессивно-компульсивным расстройством все их обширное имущество аккуратно сложено, выровнено, содержится в чистоте и, как правило, рассортировано по размеру, цвету или иному принципу. Они склонны собирать странные предметы, которым приписывают магические свойства, так же как действиям, например избеганию трещин на тротуаре. Накопители с ОКР могут испытывать потребность в ритуалах, связанных с их скарбом, — скажем, проверять его сохранность или пересчитывать вещи. Ничто из этого не свойственно настоящему накопителю. Окончательно покончила с трактовкой патологического накопительства как ОКР нейровизуализация. «На удивление, визуализации мозга пациентов с патологическим накопительством и пациентов с ОКР не имели ничего общего, — пояснил Саксена. — Различий оказалось больше, чем сходства».
В DSM–5 накопительство было вынесено за рамки ОКР и ОКРЛ. Вместо симптома первого или второго «патологическое накопительство» стало самостоятельным психическим расстройством. Профессионалы, наконец, признали его.
Личность патологического накопителя
Исследования за два десятилетия, прошедших с 1993 г., когда Фрост опубликовал свою эпохальную работу, подтвердили верность предложенного им психологического профиля человека с патологическим накопительством.
• Компульсивная потребность в накопительстве проявляется уже в детском или подростковом возрасте. Накопительство позволяет таким людям чувствовать себя готовыми к любой неожиданности. Так, если бы у Бонни появилась возможность заново обставить дом (чудеса ведь случаются!), журналы, посвященные оформлению интерьеров, были бы к ее услугам. Накопители имеют склонность закупать лишнее, поскольку испытывают сильную тревогу при мысли, что у них не окажется чего-нибудь нужного. Поэтому у них в сумках, карманах и машинах лежит больше обычного вещей «на всякий случай». От 60 до 80% накопителей покупают или иным образом приобретают вещи с запасом. Они хранят девять старых сломанных обогревателей на случай, если десятый сломается, и его можно будет починить, сняв исправные детали с одного из предыдущих девяти. Хранят бесчисленные старые джинсы, изношенные до дыр, чтобы было из чего выкроить заплату для «хорошей» пары. Они испытывают глубокое удовлетворение от мысли, что никогда, ни в какой ситуации не окажутся без чего-то необходимого.
• Им трудно принять решение, и в большинстве своем они хуже не склонных к накопительству людей справляются с ситуациями множественного выбора, например какие блюда заказать или на какой фильм пойти. «Им сложно отдать предпочтение одной из альтернатив», — сказал Саксена. Поэтому они не в силах выбрать одну из семнадцати садовых леек, решить, какую из сорока трех бесплатных гостиничных щеток для зубов оставить себе, отдав остальные на благотворительную распродажу, и рассортировать кипы вещей в человеческий рост на те, что нужно сохранить, подарить или выбросить. Принятие решений — одна из исполнительных функций мозга наряду с систематизацией, удержанием внимания на задаче (например, на разгребании хлама) и сложным мышлением, таким как сортировка вещей на действительно ценные и никчемные. «Мы считаем, что трудность с принятием решений связана с проблемами обработки информации, — сказал Фрост. — Она чрезвычайно неэффективна: области мозга, ответственные за принятие решений, находятся у накопителей в сильно возбужденном состоянии». Это свидетельствует о чудовищной рассогласованности процессов в нейронной сети, ответственной за принятие решений.
• Сам акт решения провоцирует у накопителя тревогу, мучающую его не меньше, чем прикосновение к унитазу в общественном туалете — пациента с ОКР с навязчивым страхом заражения. Тревога усугубляется боязнью выбросить что-нибудь, что следовало бы сохранить. Сберегая все, что попало в руки, человек избавляется от необходимости принимать решение. В результате дом заполняют горы барахла, чеки из гастронома перемешиваются с документами на машину, бутылки из-под газировки соседствуют с институтскими дипломами, пожелтевшие газеты — с обручальным кольцом, а новехонькие ботинки — с растоптанными шлепанцами, покрытыми засохшей грязью 1987 г.
• Накопители склонны к перфекционизму, который еще более затрудняет для них принятие решений. Из-за сомнений в безошибочности своего выбора барахольщики вообще отказываются выбирать. Они откладывают любое дело в долгий ящик и испытывают трудности в его организации или выполнении, поскольку «боятся совершить ошибку, — сказал Фрост. — Одна женщина не могла заставить себя расчистить дом из страха, что не сможет сделать это идеально».
• Многим накопителям свойственна сильнейшая эмоциональная привязанность к любому предмету, появившемуся у них. Отказываясь выбрасывать вещи, они избегают эмоциональной боли, сопутствующей расставанию с тем, что имеет для них огромную нематериальную ценность, защищаются от тревоги и сожалений, которые терзали бы их при каждом воспоминании об утраченном предмете. Накопители скапливают отнюдь не бесполезные вещи, как утверждалось в DSM–IV от 1994 г., а такие же вещи, что и мы с вами. Просто в большем количестве. Неизмеримо большем.
• Накопители видят полезность вещей, которые всем остальным кажутся мусором, замечают массу возможностей в любом предмете, вследствие чего выбрасывание чего бы то ни было равносильно разбазариванию. Они испытывают глубочайшее неприятие к расточительности, как установили Фрост и его коллега из Бостонского университета Гейл Стекити, в силу чего риск выбросить нечто, что может однажды пригодиться, мучает их не меньше, чем верующего — перспектива нарушить религиозный запрет. Многие люди, поведение которых не позволяет диагностировать заболевание, внесенное в DSM, тоже ненавидят пустые траты. Наверняка многие из вас просят завернуть недоеденное в ресторане, чтобы скормить собаке, и знают людей — а может, являются такими людьми, — которые испытывают беспокойство при виде «совершенно целой» мебели, стоящей на тротуаре в ожидании мусоровоза. Многие из тех, кто не соответствует диагностическим критериям DSM, покупают немного больше, чем нужно, «просто на всякий случай» — никогда не знаешь, когда захочется посмотреть этот диск или полистать тот журнал. Разница в том, что люди с патологическим накопительством хранят все это. На всякий случай.
Накопителям необязательно пользоваться вещью, чтобы ею дорожить. Достаточно просто знать, что она есть. Клочок бумаги с неизвестно чьим телефонным номером может обернуться огромной удачей, сказала Фросту одна больная. Разумеется, она была не в силах его выбросить. Однако она не звонит по этому номеру, лишь хранит исключительно ради его потенциальных возможностей, шанса, не имеющего ничего общего ни со скучной повседневностью, ни тем более с разочарованием. В конце концов, Бонни ни разу не воспользовалась идеями проведения отпуска из рекламных брошюр, которые копила, не сделала даже крохотного усовершенствования в доме, чтобы хотя бы на шаг приблизить его к красивым домам из собранных ею журналов. Реальность разочаровывает — в отличие от мечты, которая так и остается мечтой.
Боб Хартцелл — яркое воплощение выдающейся способности больных накопительством видеть потенциал любых вещей. Возьмем, к примеру, картонный манжет со стакана кофе из Starbucks… Боб так и поступал, насобирав за долгие годы столько, что сделал рождественский венок, вставив их друг в друга и замкнув в кольцо. Или картонные коробки, в которых продается бумага для принтера. На его последнем месте работы, в фармацевтической компании-дистрибьюторе, сотрудникам разрешалось забирать их домой, и Боб забирал — сначала понемногу, затем по два десятка, пока в его маленьком доме в Огайо не скопилось по меньшей мере двести штук. Он собирался хранить в них болты и гайки, инструменты и всякую всячину, но со временем коробки просто сложились в башни от пола до потолка. «Я боюсь выбросить хоть одну, потому что они могут мне понадобиться, — объяснил он. — Боюсь, потому что вот она, отличная полезная коробка, и я окажусь дураком, если с ней распрощаюсь».
Боб питает особую склонность к всевозможным емкостям. Баночки из-под лекарств целиком заполняют большой ящик тумбочки. Кухонный стол засыпан пластмассовыми контейнерами, бутылками, кусочками фольги, кастрюлями, сковородами и бесчисленными пластиковыми пакетами. Чем больше скапливается емкостей, тем сильнее его «страх отлучения», как он это называет, — стоит подумать о том, чтобы выбросить хлам, чего требует его рациональная часть, как его переполняет тревога. «Огромным прорывом для меня стало решение хранить в каждой коробке что-то одно, например бутылки, вместо того чтобы заполнять их разнородными предметами», — сказал он.
Вскоре, однако, бутылочки из-под лекарств, пусть и в особых коробках, породили новую проблему. Однажды Боб вознамерился выкинуть их, но едва не задохнулся от невыносимой тревоги. «Когда-нибудь они могут пригодиться, — подумал он. — Какое транжирство!» Потребовалась вся его сила воли, чтобы бросить бутылочки в мусорное ведро. То, что он не отложил их для вторичного использования, стало настоящей победой, осознанием того факта, что некоторые вещи действительно являются мусором. При этой мысли его замутило, накатила волна тревоги, от которой, казалось, сжимается каждая жилка в теле, но Боб справился и в день сбора мусора навсегда распрощался с бутылками. К несчастью, его взгляд сразу же упал на опустевшую коробку с надписью «Бутылки» наверху горы вещей. Она выглядела такой заброшенной, такой ненужной — словно мать, покинутая детьми. Боб снова стал собирать бутылки. «Это как-то само получается», — сказал он устало.
Во время нашего разговора Боб расхаживал по дому, где живет вдвоем с женой, всматривался в этикетки на коробках, тянулся к верхним, чтобы заглянуть под крышку, наклонялся прочитать подписи на тех, что оказались внизу: «В этих лежат бумаги, журналы и старые газеты… Вот это да! Эти коробки простояли здесь лет десять и не подписаны. Я не знаю, что в них». Вокруг громоздились башни из старой мебели, жалюзи, деревянных ставней, картонной тары, сломанных стульев, коробок из-под компьютеров. Пластиковый шланг, теннисная ракетка, жестянка от попкорна, напольная дорожка, кошачий лоток, стеллаж, цветочные горшки. Боб обескуражен, что вещи так расплодились, и чувствует себя увязшим в бесконечной, кошмарной шахматной партии: «Кажется, фигуры на доске постоянно пополняются, и я не в силах остановить их появление или избавиться от них».
Сентиментальная привязанность к вещам, боязнь выбросить что-то, что еще может пригодиться, и сложности с принятием решения — у Боба имеются все ключевые психологические характеристики склонной к накопительству личности. На вопрос, как он дошел до жизни такой, Боб, помешкав, завел разговор о своем детстве, пришедшемся на 1950–60-е гг., когда мальчиков приучали скрывать чувства. Огорчение, разочарование, безысходность, тоску одиночества следовало держать в себе. «Если пожалуешься, что тебе плохо, взрослые потребуют не давать себе воли, — вспоминал он. — Или высмеют тебя. Я научился прятать свои переживания. Это вошло в привычку. "У меня все нормально", вот и весь ответ. Думаю, поэтому я привязался к вещам, а не к людям. Вещи не судят и ничего от вас не требуют».
Если вы считаете, что накопительство разрушило жизнь Боба, то вы ошибаетесь. У него высокооплачиваемая работа и жена — преподаватель престижного университета. В принципе, он мог бы избавиться от вещей, но их сохранение причиняет меньше боли и даже оказывается целительным.
• • •
Чем бы в конечном счете ни порождалось патологическое накопительство — неспособностью принять решение, сохранением бесчисленных сувениров, рачительностью или любым сочетанием этих факторов, — непосредственным мотивом в любом случае является бегство от тревоги, сопутствующей расставанию с вещами. Нет ничего из ряда вон выходящего в том, чтобы действовать определенным образом в случае, когда иной образ действия причиняет страдания. Для больных социальным тревожным расстройством взаимодействие с другими людьми настолько болезненно, что они сторонятся их. Накопители не в силах расстаться со своим имуществом, поскольку сама мысль об этом наполняет их такой же глубокой, острой и мучительной тревогой, что и мысль о том, чтобы отрезать собственную конечность.
За вычетом названных трех психологических особенностей, накопители столь же разнообразны, как и люди в целом. Среди них есть общительные и нелюдимые (последнее часто является следствием, а не причиной накопительства), неспособные найти работу и профессионально состоявшиеся. Одни отделяют себя от окружающих стенами из вещей, защищаясь от внешнего мира, для других накопительство становится способом заполнить утраты в своей жизни и обрести ощущение стабильности благодаря вещам, которые никогда их не покинут. Это способ одолеть экзистенциальный ужас, порождаемый осознанием эфемерности всего сущего.
Накопительство почти никогда не приносит радости или гордости, что отличает его от коллекционирования. Накопители могут считать каждую свою вещь сокровищем, но выставки своего хлама не устраивают. Максимум, что ощущает пациент, — душевный комфорт от того, что всем этим владеет.
Именно так чувствовала себя Мишель. Однажды вечером на собрании Международного фонда изучения ОКР в Атланте она поведала мне, что ее накопительство началось в 1970-х гг., когда она вступила в клуб любителей лоскутного шитья, а также начала прясть. Сначала расходные материалы помещались на столе, но постепенно переместились и на пол. Потом она стала делать резиновые печати, потом ткать. «Я творческая личность, — сказала она. — Поэтому самая большая спальня в доме [бунгало на три спальни площадью 100 м2, которое они с мужем купили в 1970 г.] заполнена моим добром. У меня столько проектов!» Она вздохнула. «Есть комната для работы с тканью, есть ремесленная мастерская и комната со всем необходимым для изготовления штампов. Я понимаю, что мои "творческие интересы" создают основу моей компульсии. Я люблю шить, немного вяжу спицами и крючком, расписываю и окрашиваю ткани, занимаюсь батиком, каллиграфией, фотографией и многим другим. Изобразительное искусство — моя учебная специализация, и мне нравятся красивые вещи».
Однако проекты Мишель редко воплощаются в жизнь. Она часто заглядывает в магазин Армии спасения и покупает, например, джинсы только из-за карманов. «Карманы синих джинсов — шикарная штука, — пояснила она. — Я могу столько всего из них сотворить». И продолжила после паузы: «Но мне в то время некуда было поставить швейную машинку, и я ничего не сумела сделать». Что же помешало? «Книги! Обожаю книги, — ответила она, просияв. — В гостиной у меня стоят коробки с журналами, коробки с книгами и газетные вырезки, до которых пока не дошли руки. Но все это в полном порядке. Оставлены широкие проходы. Это вовсе не узкие козьи тропки!» Хотя два стоящих в гостиной кресла завалены вещами, «места достаточно, чтобы пройти».
Гардеробы всех трех спален заполнены одеждой Мишель. «Я коллекционирую футболки из разных мест», — объяснила она. Кроме того, она арендует три складские ячейки, и все они забиты. Мишель не испытывает сильной эмоциональной привязанности к своим вещам, как многие накопители, однако синдром «когда-нибудь это может мне понадобиться» налицо, да и пытаться разгрести это материальное изобилие — сизифов труд. «Как-то я попробовала разобрать кое-что, — призналась она. — Наклеила этикетки на все ящики. Но это отняло так много времени! Даже начать оказалось слишком утомительно. А все эти каталоги! Нужно просмотреть их, прежде чем выбросить, но на это просто нет времени. Но, возможно, я могла бы начать с кухни, перейти в гостиную… потом принести вещи из гаража и разобрать их…» И Мишель замолкает.
Путь к освобождению
Мишель, по крайней мере, верно оценивает происходящее. Накопители понимают, каких усилий стоит изменить ситуацию. Беда, однако, в том, что большинство из них совершенно этого не хотят. Они интуитивно понимают, почему собирают вещи, чему служит это поведение. Не забывайте, чувства, питающие компульсивное накопительство, не являются эгодистонными или чуждыми подлинному самоощущению и личности человека, в отличие от больного ОКР. В сущности, они его характеризуют. Вследствие этого «большинство накопителей даже не обращаются к врачу, пока супруг не заговорит о разводе, кто-то из домочадцев не выставит ультиматум или домовладелец не пригрозит выселением», объясняет психотерапевт Терренс Шульман, основатель Центра Шульмана по лечению компульсивного воровства, транжирства и накопительства в Мичигане, пациентам, которые все-таки приходят к нему лечиться: «Дело не в вещах как таковых. Дело в эмоциях, которые за ними стоят. Даже попытка подступиться к решению проблемы требует такой изнурительной борьбы, что у людей руки опускаются, но, потеряв все из-за наводнения или пожара, они испытывают громадное облегчение».
Рецепта избавления от накопительства не существует, однако многочисленные исследования подтвердили эффективность разновидности когнитивно-поведенческой терапии, по крайней мере, частичную и для некоторых накопителей. Когнитивный элемент терапии заключается в том, что клиенту или пациенту объясняют, что такое патологическое накопительство, и учат его постановке целей — сначала скромных, например, к следующему сеансу избавиться от одного предмета или воздержаться от предполагаемой покупки, — а также принципам организации и принятия решений. Этот подход был воплощен в программе «Погребенные в сокровищах», названной так же, как эпохальная книга Фроста и Стекити, изданная в 2007 г. В течение тринадцати еженедельных двухчасовых сеансов участники программы, возглавляемые обученным куратором (необязательно врачом; руководство можно бесплатно скачать в интернете), размышляют, почему хранят тот или иной ненужный предмет (который приносят с собой), обсуждают, что мешает им избавиться от мусора, и другие вопросы. Они нарабатывают навык сортировки вещей, обычно начиная с малого, к примеру, с содержимого кухонного стола. (Это помогает обрести веру в себя, а возможность снова пользоваться собственной кухней, как ничто другое, свидетельствует о прогрессе). Затем учатся бороться с желанием приобретать вещи.
Этот метод испытывается на практике примерно с 2007 г., и результаты настолько обнадеживающие, что ученые приступили к полноценному апробированию. Так, в ходе исследования, проведенного в 2013 г. под руководством Рэнди Фроста и Гейл Стекити, сорок шесть человек, страдающих патологическим накопительством, были случайным образом разбиты на две группы — участников терапевтических сеансов и кандидатов[49]. Лечебное вмешательство включало двадцать пять или более часовых терапевтических сеансов, а также посещение домов пациентов в течение 9–12 месяцев. В ходе терапии, представляющей собой нечто среднее между когнитивной и поведенческой, психологи прежде всего помогали больному понять свои мотивы — многие больные почти или совершенно не представляют причин своего поведения. Врач стремился сформировать у пациента другое, более здоровое отношение к вещам, к самому себе и своим воспоминаниям, заставляя усомниться в том, что расставание с бесполезным предметом — такой уж гнусный поступок и что отдать в дар вещи покойного супруга равносильно предательству любви. Через три месяца 43% пациентов, получавших лечение, продемонстрировали «значительное» или «очень значительное» улучшение по результатам оценки состояния их домов врачами-клиницистами, тогда как из списка ожидания положительной динамики не было ни у кого. (Патологическое накопительство редко проходит само.) В момент проверки кандидаты получали предложение пройти когнитивно-поведенческую терапию. Как сообщили исследователи в журнале Depression and Anxiety, по прошествии следующих двадцати шести недель лечения 71% накопителей добились прогресса, причем у большинства из них положительный эффект оказался стабильным: спустя год значительное или очень значительное улучшение наблюдалось у 62% пациентов.
Натан опробовал когнитивно-поведенческую терапию, во всяком случае, ее неформальную версию, как в составе неофициально действующей группы, так и самостоятельно. Пригласив меня в свою квартиру в Бруклине, он показал мне фотографии, как она выглядела прежде, глядя на которые я удивлялась, как в нее вообще можно было просочиться. Но так было раньше, когда Натан хранил сотни килограммов бумаг, в том числе карандашные записки деда о Холокосте, считая своим долгом написать историю семьи (иначе его родственники, многие из которых были убиты нацистами, снова исчезнут с лица земли), а также шесть, или двенадцать, а может, шестьдесят штук практически всего, от футболок до зубных щеток, чтобы никогда и ни в чем не нуждаться. Натан организовал неформальную группу для страдающих накопительством, собиравшуюся в манхэттенском небоскребе дважды в неделю, и рассказывал о программе, которой следовал сам. Программа помогла ему в течение нескольких месяцев отучиться накапливать вещи (хотя было убийственно трудно сказать «нет» работнику кулинарии, предлагающему шесть бесплатных лоточков с хумусом) и, предмет за предметом, избавиться от барахла.
Поскольку это были по большей части бумаги, Натан дал себе зарок очистить квартиру от скопившихся за десять с лишним лет налоговых документов (у него были не только налоговые декларации, но и вся сопутствующая документация) и купил машину для уничтожения бумаг. Много дней этот демон, грозящий уничтожить его личность, простоял без дела. У каждого, кто пытается избавиться от привычки к накопительству, бывает озарение. Озарением Натана стала следующая мысль: если он сумеет пропустить через машину хотя бы одну страницу декларации, его коллекция станет ущербной, как полное собрание сочинений Шекспира без «Гамлета». «Благодаря этой неполноте, — объяснил Натан, — мне стало проще уничтожить следующую страницу налоговой декларации, затем сопровождающие документы. Когда я покончил с 1997-м г., 1993-й дался легче, и так далее». Демонстрируя кухню, спальню и гостиную, Натан смущался из-за того, что у него по-прежнему остается много бумаг и пластиковых пакетов, десятки папок исторических документов и исследований, аккуратно расставленных на полках стеллажа во всю стену, и десятки футболок во встроенных шкафах. Когда же я заметила, что с хламом, запечатленным на фотографиях, в сущности, покончено и что в оставленных им вещах нет ничего ненормального, он просиял.
Причины накопительства
Спусковым крючком компульсивного накопительства может стать хроническое состояние, как, например, глубокая тоска Бонни из-за того, что ее мечты обратились желтеющими страницами газет. Иногда это острая травма, скажем, потеря супруга или ребенка, побуждающая хранить каждую попавшую в руки вещь, чтобы не уподобиться жестокому мирозданию, способному выбросить из жизни любую ценность. Действительно, исследование, проведенное в рамках подготовки DSM–5, установило, что проблемы многих страдающих накопительством начались со смерти супруга или отъезда из дома детей. Людей у меня отняли — так будь я проклят, если позволю отнять еще и вещи!
Фрост обнаружил, что около половины пациентов вспоминают стрессовое событие, примерно совпавшее по времени с началом собирания и сохранения вещей. Это такие люди, как Патти, откликнувшаяся на мое объявление на Craigslist о поиске страдающих накопительством. Уезжая из родительского дома по окончании колледжа, она купила подержанную машину, куда сложила все свои пожитки. Это была повседневная одежда, книги и электроника, а также ксерокопии практически всех написанных ею писем (по большей части родителям в студенческие годы), призванные составить летопись ее жизни. Однажды машину угнали, и она навсегда лишилась тех вещей. Через несколько лет Патти забыла оплатить ежемесячную аренду складской ячейки, и ее содержимое — опять-таки, одежда, записи, мебель, безделушки, часы, бумаги, лампы — было распродано. После этого, рассказала Патти, ей «стало нравиться хранить вещи и окружать себя ими». Это давало чувство безопасности. Если предмет находится у нее на глазах, можно быть уверенной, что он не пропадет.
У пациентов с патологическим накопительством, вызванным внезапной потерей дорогих людей или вещей, такое поведение обычно начинается позже, чем в случаях, когда пациент не в состоянии назвать травмирующий эпизод. Напротив, у людей с медленно развивающейся компульсивной потребностью в накоплении ее корни можно проследить вплоть до детского возраста. Есть нечто в человеческой природе — атавистические воспоминания о первобытном голоде или внутреннее стремление к обладанию, — побуждающее большинство детей собирать что-нибудь, от дохлых жуков до дорогих кукол или фигурок супергероев. Так поступают почти 70% шестилетних. Даже если потребность ребенка в коллекционировании грозит превратиться в полномасштабное накопительство, до состояния «козьих тропок» он вряд ли дойдет: дети не свободны в своих поступках и не располагают кредитками. Обычно родители ограничивают коллекционное рвение, не говоря уже о патологическом накопительстве, выдвигая старое как мир требование «убрать свою комнату» — и являясь туда с мешками для мусора, если понадобится. Матери роются в школьных портфелях детей в поисках «забытых» домашних заданий, попутно выбрасывая исписанную бумагу и всякий хлам, возможно, не подозревая, что для ребенка это сокровища (Мам, где мой дохлый мотылек?!)
Тем не менее первые намеки на патологическое накопительство нередко просматриваются уже в детстве, в возрасте от восьми до десяти лет. Подобно взрослым накопителям, многим из которых не даются такие высокоуровневые когнитивные процессы, как оценка и принятие решений, дети с низкой способностью к целенаправленной деятельности — это обобщающее понятие включает организацию, планирование и концентрацию внимания — относительно чаще демонстрируют склонность к накопительству. Если вы человек неорганизованный, то не всегда понимаете, что вам нужно, а что является необязательным или лишним. Вы не можете найти книгу или ручку — и покупаете новые.
Возрастные участники одного из исследований, отвечая на вопрос, когда они начали накапливать вещи, указали средний возраст 29,5 года. Однако дополнительные направляющие вопросы, касающиеся детских и подростковых лет, помогли пациентам вспомнить о проблемах с накопительством или, по крайней мере, о склонности к нему, имевшихся уже в раннюю пору. Они точно так же чувствовали необходимость приобретать и сохранять вещи, боялись лишиться их и отчаивались, теряя, как и в дальнейшей жизни, просто будучи детьми, не имели возможности поступать, как им хочется. Это подтверждается данными других исследований, в ходе которых пациентам предлагалось вспомнить, когда они впервые начали приобретать вещи в избыточном количестве. В среднем, как оказалось, в двенадцать лет, причем 80% респондентов имели симптомы накопительства до восемнадцатилетнего возраста. (Исследование 2010 г. определило возраст начала заболевания 11–15 годами.) Очевидно, что подростки требуют как большей самостоятельности действий, так и собственного пространства. Именно тогда совершаются первые шаги к финансовой самостоятельности благодаря карманным деньгам, подработке и другим источникам собственных средств. Накопительство внешне может казаться неаккуратностью и неряшливостью, столь же свойственными для переходного возраста, как акне, поэтому родственники и даже сам подросток редко видят в таком поведении компульсию, не говоря уже о психическом расстройстве.
Совершеннолетние накопители чаще вырастают в семьях с такой же проблемой. Это сообщение из доклада ученых Бостонского университета на конференции по ОКР подтверждает данные других исследований: 50–80% пациентов имеют хотя бы одного близкого родственника, считавшегося барахольщиком, если не очевидным накопителем. Цифры внушают тревогу, поэтому важно знать, что это поведение, как и любое другое с определенной наследуемостью, необязательно передается следующему поколению. Исследование семей пациентов с ОКР, проводившееся Университетом Джонса Хопкинса с 1996-го по 2001-й г. и охватившее чуть больше 800 человек с обсессивно-компульсивным расстройством, обнаружило, что лишь 12% ближайших родственников накопителей страдали тем же расстройством. Отсюда следует, что только один из восьмерых детей человека с патологическим накопительством унаследует эту проблему, когда вырастет.
Как именно наследуется накопительство — вопрос открытый. В 2013 г. британские ученые сообщили о влиянии генетических различий на это расстройство у мужчин, но не у женщин. Они предложили 3974 однояйцевым и разнояйцевым близнецам 15-летнего возраста заполнить анкету. Основной смысл исследования с участием близнецов состоит в том, что, поскольку у однояйцевых одинаковые гены, а у разнояйцевых общими является только половина аберрантных генов, сравнение схожести двух типов близнецов проливает свет на степень влияния наследственности. Если у однояйцевых близнецов оказывается больше общего, это свидетельствует о преобладающем влиянии наследуемых генов. Симптомы накопительства среди близнецов проявляли 2,6% девочек и 1,2% мальчиков, сообщили ученые в журнале PLOS One. Однако у мальчиков оба ребенка из пары чаще оказывались накопителями в группе однояйцевых близнецов (гены объясняли 32% дисперсии), тогда как у девочек разницы между группами выявлено не было (вклад наследственности составлял ничтожных 2%). У обоих полов окружение имело несопоставимо большее значение для развития патологического накопительства.
Если даже наследственность действительно на что-то влияет, можете быть уверенными — гена патологического накопительства не существует. Это слишком сложное поведение, чтобы передаваться подобным образом. Скорее, можно говорить о предрасположенности, определяемой множеством генов, которые формируют нейронную цепь, отвечающую за исполнительные функции мозга, возможно, за принятие решений. Очевиден и другой путь передачи патологического накопительства внутри семьи, при котором дети воспринимают в качестве модели склонного к накопительству родителя, бабушку или дедушку — необязательно сознательно, а лишь потому, что постоянно наблюдают этот образ жизни и усваивают, что он совершенно нормален. Ясно одно: накопительство, ставшее привычным, трудно искоренить. По сообщению исследователей из Бостонского университета, накопительство проходит само только у одного подростка из семи.
Многие люди надолго задумываются, прежде чем ответить на вопрос о самых ранних своих воспоминаниях, пытаясь вызвать призраки давно минувшего прошлого, но Грейс ответила сразу: «Помню, как играю с сестрой на полу, а вокруг огромные черные пластиковые мешки для мусора, полные всякой всячины, на которых мы валяемся. Мне года четыре или пять». В мешках, сложенных в кучи почти в рост взрослого человека, лежала одежда и почта, сломанные электроприборы, газеты и журналы — вещи ее родителей, для которых навести порядок в их филадельфийском доме на три спальни означало сложить свое добро в эти мешки. «Из них получились такие высокие стены, что мы не могли за них заглянуть», — рассказывала Грейс.
Входная дверь вела в гостиную, за которой располагалась кухня. Чтобы попасть в любое из этих помещений, приходилось осторожно пробираться узкими ходами, обозначенными пластиковыми напольными дорожками. Бесчисленные мешки высились почти до потолка, поглощали любые усовершенствования в доме вроде устройства стеллажей или шкафов по стенам, диван и кресла были погребены под письмами и газетами, картонными коробками и пластмассовыми контейнерами. «В каждое место вела своя тропа, — вспоминала Грейс. — В подвал, также забитый снизу доверху, к стиральной машине в прачечной за кухней, к кушетке, в кухню». Впрочем, кухонный стол много лет назад скрылся под горой пластмассовых столовых приборов, картонных тарелок и емкостей непонятного назначения. Сила притяжения делала свое дело, и Грейс с сестрой привыкли к «хрусту и звону разномастного сора под ногами». Если неожиданно звонили в дверь, семейство затаивалось, а в тех редких случаях, когда гостя ждали, родители торопливо совали почту и одежду в неизменные черные мешки и волокли в подвал или в гараж, отчаянно пытаясь придать относительно нормальный вид хотя бы гостиной.
Старания скрыть от окружающих образ жизни семьи пошли прахом, когда подруге Грейс пришлось после школьной экскурсии дожидаться у нее дома, когда за ней заедут родители. «Никогда в жизни мы с сестрой не поднимались на крыльцо так медленно», — вспоминала Грейс. Она старалась оттянуть неизбежное, бодрым голосом говоря, что грешно торчать в четырех стенах в такой прекрасный день, но подруга устала и мечтала присесть. «У нее буквально челюсть отвалилась. Мы пытались отвлечь ее, включив телевизор, но она не могла оторвать взгляда от груд барахла вокруг».
Вскоре после этого семья переехала в другой дом, требующий ремонта и в неблагополучном районе (у родителей начались проблемы с деньгами). Казалось, вот он, чудесный шанс покончить с бардаком и выбросить бо́льшую часть пожитков. Слушая разговоры родителей о том, чтобы «начать с чистого листа», Грейс грезила о бесконечной череде черных мусорных мешков, выстроившихся вдоль тротуара, как другие девочки мечтают о поездке в Диснейленд. Увы, все мешки переехали вместе с ними, собранные в лихорадочной спешке в день, когда они должны были освободить прежний дом, и в большинство из них даже не заглядывали. И комоды, забитые хламом, — отец попросту затолкал их в грузовик со всем содержимым. И почта за долгие годы. Отец настаивал, что все это нужно (или понадобится когда-нибудь), а мать была не в состоянии решить, что оставить и что выбросить. «Они просто были на это неспособны», — сказала Грейс. Казалось, их скарб — неотъемлемая часть их самих, как проклятый альбатрос на шее Старого моряка[50].
В 2012 г. Грейс получила диплом психолога и вернулась в дом родителей. Она педагог-дефектолог и, как многие представители поколения нулевых, не может позволить себе жить отдельно. Им с сестрой удалось превратить в зоны, свободные от барахла, не только собственные спальни, но и гостиную с кухней. Поскольку даже почта за два дня грозит отобрать у них жилое пространство, они непреклонны в сортировке вещей и выбрасывании всего ненужного. Когда-нибудь они надеются съехать, но не сомневаются, что в этом случае их родителей, вероятно, постигнет судьба братьев Кольер.
Коллекционеры
Ученые, исследующие патологическое накопительство, утверждают, что между такими людьми, как родители Грейс, у которых наблюдаются диагностические признаки психического расстройства, и коллекционерами существует принципиальная разница. Начать следует с того, что коллекционеры классифицируют свои экспонаты, которые обязательно относятся к четко определенной и сознательно выбранной категории. Один собирает спичечные коробки, но не журналы, другой — модели поездов, но не одежду. Коллекционирование — это структурированная, планомерная и избирательная деятельность. Накопители тащат в дом любые случайные вещи. Коллекционеры с гордостью выставляют свои трофеи, будь то детские ложечки, орхидеи, фигурки супергероев в неповрежденной упаковке, серебряные доллары Моргана, бродвейские сувениры, значки президентских избирательных кампаний, первые издания книг, старинные клюшки для гольфа, географические карты XV в., парфюмерные флаконы, куклы Барби или Мадам Александер, модели машин, винтажные шляпы, телескопы, друзы или окаменелые трилобиты. Накопители суют вещи куда и как попало, зачастую забывая, что́ хранится в растущих кучах коробок и мешков. Предметы коллекционирования обычно исключены из повседневного применения. Страстный коллекционер склонен пользоваться своими реликвиями в быту не более, чем сотрудники музея Метрополитен — располагаться попить чайку на стульях «чиппендейл». Если же накопитель не пользуется вещами, то лишь потому, что они бесполезны или их невозможно отыскать. Кроме того, коллекционеры не ведают угнетенности и бессилия, свойственного многим больным патологическим накопительством.
Тем не менее, как и многие другие формы поведения, коллекционирование и накопительство имеют немало общего, особенно в плане эмоциональных стимулов, вследствие чего трудно провести четкую грань между «милой эксцентричностью» и психическим расстройством. «Определенные черты являются общими для накопительства и коллекционирования, — сказал Рэнди Фрост. — В обоих случаях имеет место привязанность к вещам, свойственная, впрочем, любому из нас».
Что движет коллекционерами? Одни стремятся привнести смысл в «мировой хаос», а также сосредоточить предельное внимание на маленьком фрагменте этого хаоса и познать его в мельчайших деталях. Об этом писал профессор классической археологии Стэнфордского университета Майкл Шэнкс, исследовавший коллекционирование, в своей книге 2012 г. «Археологическое воображение» (The Archaeological Imagination). Для других это способ самоопределиться, заявить: «Смотрите, вот я кто». Обладатель коллекции — бейсбольных карточек или фигурок, камней, кукол, снежных шаров или (об этих двух необычных случаях пишет Шэнкс) всего, что связано с руками (перчатки и шаблоны для них, кукольные руки, форштевни и скульптуры) либо с «Волшебником страны Оз» (книги, костюмы, сувениры), — стремится упорядочить окружающий мир и застолбить его крохотный кусочек, определив свою самость уникальным образом.
Коллекционеры характеризуют себя посредством своих собраний, как другие люди — посредством iPhone, смартфона Galaxy или мебели эпохи Реставрации. Джон Круз, участник Ночи коллекционеров 2014 г. в Бруклинском историческом обществе, использует с этой целью символику президентских избирательных кампаний, прежде всего сотни значков, по каждому кандидату (на предварительных и всеобщих выборах) начиная с 1894 г. В его коллекции есть такие жемчужины, как носовой платок 1880 г. с изображениями Джеймса Гарфилда и Честера Артура. Круз, преподаватель политологии в старшей школе в Бронксе, сказал репортерам, что увлекается политикой с восьми лет, с 1984 г., и «пытается объяснять взрослым, что такое NAFTA[51]».
Коллекционеры активно и даже демонстративно выставляют на обозрение экспонаты, отражающие их идентичность, ценности, вкус, эрудицию или другое качество, которым гордятся. Кайл Сапли, также представлявший свою коллекцию на бруклинском мероприятии, был настолько очарован часами из начальных титров знаменитого фильма 1985 г. «Назад в будущее», что в восемь лет стал методично собирать все часы, какие только мог приобрести. Теперь их почти двести: часы с кукушкой и диснеевские часы, часы-кошка, часы в стиле ар-деко и т.д. (Посмотрите на YouTube его видео «Кайл в 12 лет: собиратель часов» (Kyle at Age 12: Clock Collector).) «Думаю, коллекционеры чуточку рискуют превратиться в накопителей, — признал он в интервью New York Times. — Дай нам шанс, мы бы заполонили весь дом. Поэтому важно со вкусом оформлять коллекцию». Наоборот, настоящие накопители практически никогда и никому не предлагают взглянуть на свое достояние, тем более не устраивают выставок, делая все возможное, чтобы скрыть имущество от внешнего мира. Что значит «все возможное»? Когда Уилл попытался войти в дом в пригороде Нью-Йорка, где вырос и где осталась жить его сестра, страдающая патологическим накопительством, то услышал отказ открыть дверь. Он влез внутрь через окно первого этажа, и сестра вызвала полицию.
Чтобы помочь психиатрам классифицировать патологическое накопительство для DSM–5, ученые провели полевые исследования. Целью было оценить, насколько точно различные диагностические критерии описывают людей с этим расстройством, не приводя в то же время к ошибочной постановке диагноза здоровым людям. «Мы же не хотим навесить ярлык патологического накопительства на такую обаятельную деятельность, как, например, коллекционирование, — пояснила психиатр из Колумбийского университета Кэролайн Родригес, давшая мне интервью на рабочем месте в монументальном здании в Вашингтонских холмах[52]. — В Англии около 20% населения увлекаются коллекционированием».
В исследованиях приняли участие двадцать девять человек, признавших себя страдающими накопительством, и двадцать, считающих себя коллекционерами (собирающих, в том числе, комиксы, монеты, марки, стеклянных слоников, винтажные беспроводные радио, игрушечных солдатиков и модели подводных лодок). В предложенной им анкете содержались вопросы о том, трудно ли им выбрасывать вещи и насколько захламлено их жилище, например достигает ли беспорядок такой степени, что пользоваться основными жилыми зонами совершенно невозможно, вызывает ли беспорядок или мысль о том, чтобы что-то выбросить, «стресс и бессилие» (почти универсальный критерий диагностики психического заболевания, согласно основополагающему принципу американской и британской психиатрии) и «заставляют ли эти симптомы избегать любой деятельности, посещения любых мест или общения с кем бы то ни было».
Среди двадцати коллекционеров не оказалось ни одного накопителя, сообщили ученые из лондонского Института психиатрии в 2012 г. в журнале Comprehensive Psychiatry, хотя 90% опрошенных признали трудности с избавлением от вещей и 85% — стресс при мысли об этом. Единственная причина, по которой у них не было диагностировано патологическое накопительство, заключалась в том, что их коллекции не захламляли жилье, не создавали таких проблем, как невозможность попасть в некоторые части дома, и однозначно не угнетали своих владельцев. Прекрасная коллекция — повод для гордости и источник радости. Напротив, страдающие накопительством сообщают, что их имущество порождает бытовые трудности, а нередко и стресс.
• • •
При любой компульсии грань между патологией и эксцентричностью неочевидна. Специалисты по патологическому накопительству утверждают, что его легко отличить от коллекционирования, прежде всего, по наличию «стресса и дисфункции» — скажем, утраты возможности нормально пользоваться помещениями и мебелью в своем доме. В отсутствие этого нет и психического расстройства. «Природа привязанности к вещам у коллекционеров и накопителей различна, — добавляет Фрост. — Людей, страдающих накопительством, характеризует крайняя, ригидная, негибкая привязанность к вещам, причем ко множеству вещей».
Совместно со Стекити и клиническим психологом Дэвидом Толином Фрост систематизировал критерии стресса и дисфункции, составив анкету для диагностики патологического накопительства. Ученые руководствовались базовым определением накопительства как приобретения большого количества вещей, почти или совершенно не имеющих практической пользы или ценности (для объективного наблюдателя), с неспособностью избавиться от них, в результате чего пространство обитания оказывается слишком загромождено, чтобы использоваться по назначению, что вызывает клинически значимый стресс или нарушения (дисфункцию) в социальной, учебной или профессиональной сферах. Отвечать на каждый вопрос предлагается в баллах от нуля («совершенно нетрудно», «не является проблемой») до восьми («чрезвычайно трудно», «является огромной проблемой»). Промежуточным баллам соответствуют малая, средняя и большая мера затруднений.
1. Насколько вам трудно из-за беспорядка или количества вещей пользоваться комнатами в вашем доме?
2. Насколько вам трудно выбросить (сдать во вторичную переработку, продать, подарить) обычные вещи, от которых избавились бы другие люди?
3. Насколько серьезной проблемой для вас в настоящее время является принятие в дар бесплатных вещей или покупка большего числа вещей, чем нужно, чем вы можете использовать или можете себе позволить?
4. Насколько сильный эмоциональный стресс вы испытываете из-за беспорядка, сложностей с выбрасыванием вещей или проблемами с покупкой или иными способами приобретения вещей?
5. В какой степени вы испытываете трудности (в повседневных делах, на работе/в учебе, в социальной сфере, в общении с родственниками, в денежном отношении) из-за беспорядка, сложностей с выбрасыванием вещей или проблемами с покупкой или иными способами приобретения вещей?
Критерии «стресса и дисфункции» в вопросах (4) и (5), очевидно, являются неоднозначными и в другой области психиатрии породили бы яростные споры. А именно, два человека могут одинаково себя вести и проявлять одинаковые симптомы психического расстройства, однако, если это поведение и ощущения беспокоят лишь одного из них, только он, а не другой (не страдающий от стресса и дисфункции), является психически больным. Например, человек может находиться в глубокой депрессии, но, если он сам находит это состояние совершенно нормальным для самоощущения и жизни («не испытывать депрессии может только тот, кто ничего не знает о происходящем в мире»), он не болен. В случае патологического накопительства существует опасность объявить одного человека больным, а другого, накапливающего так же много вещей и столь же привязанного к ним, здоровым, поскольку у второго много домов и ему есть где хранить свое барахло, не страдая от дисфункции. Подобные ситуативные дефиниции возможны только в психиатрии: высокое артериальное давление — это высокое артериальное давление, независимо от того, беспокоит оно вас или нет. Акцентируя эту свойственную психиатрии неопределенность, ведущий специалист по патологическому накопительству заявил в журнале New England Journal of Medicine за 2014 г., что накопители «необязательно сообщают об угнетенном состоянии».
«Стресс» в качестве критерия порождает еще одну проблему. Возможны ситуации, когда увлеченность чем-то социально приемлемым и общераспространенным — тем же коллекционированием — не вызывает угнетенности именно в силу этих качеств, тогда как поведение, которое психиатры объявляют психическим отклонением, а общество высмеивает (см. реалити-шоу «Патологическое накопительство: в плену ненужных вещей»), фактически обречено угнетать. Лишь немногие накопители, покончившие со своей проблемой при содействии социальных работников, соглашаются, что поступали иррационально, не говоря уже о том, чтобы признать себя ненормальными. «Большинство накопителей скажут, что никогда не считали это болезнью», — отметил Санджая Саксена. Разве только родственники или власти убедят их, что это болезнь и что так жить нельзя. Это и вызывает стресс, и вот уже поведение, до сих пор не удовлетворявшее ключевому диагностическому критерию психического расстройства, набирает достаточно соответствий, чтобы человек официально был признан больным.
Психическое расстройство представляет собой лишь часть огромного спектра вариаций человеческого поведения, вопрос только — какую именно. Поговорив с Бонни, Бобом и другими накопителями, позволившими мне заглянуть в свою жизнь, вы бы узнали, почему они начали копить вещи и какую боль испытывают при требовании расстаться с ними. Точно такую же боль переживает любой из нас, прикипевший душой к старому учебнику физики («Этот курс изменил мою жизнь»), обручальному кольцу своей матери или крестильному платьицу ребенка. Единственная разница состоит в том, что обычный человек привязан к нескольким определенным вещам, а сердце страдающего накопительством отдано всей их массе.
Бонни Грабовски, история которой открыла эту главу, является ярким примером пациента с патологическим накопительством. Ее неспособность расстаться с имуществом проистекает из глубокой эмоциональной привязанности к вещам — потому ли, что это память о супруге и собственных мечтах или связь с молодыми годами, когда дети были маленькими, а взрослым казалось, что все еще впереди и на смену бедам придет счастье. Одна из клиенток Фроста не могла выбросить ни единой вещи, связывающей ее с прошлым. Однажды, когда он помогал ей разбирать завалы, она нашла в куче хлама на диване старый конверт, с его поддержкой сумела бросить его в корзину для сбора вторсырья — огромное достижение для накопителя! — и тут же расплакалась. Она словно «потеряла тот день своей жизни», привел Фрост ее слова. Если выбросить слишком много, сказала она, от нее «ничего не останется».
Поскольку многие страдающие накопительством во всем видят эмоциональную ценность, определение этого заболевания в старых изданиях DSM — «неспособность расстаться с отслужившими свое или бесполезными предметами, даже не имеющими эмоциональной ценности» (курсив мой. — Авт.) — ошибка. Для пациента откровеннейший хлам может иметь колоссальное сентиментальное значение. Каждый обрывок и ошметок — это частица его жизни, и утрата хотя бы одного грозит распадом общей картине. Все мы чувствуем нечто подобное, если не к конверту, то к пригласительному на мероприятие, на котором пожали руку Эдлаю Стивенсону[53] (как мои родители), к карточке команды-участницы последнего бейсбольного матча, на который ходили с ныне покойным отцом (как мой двоюродный брат), или к платью, в котором блистали на первом свидании с человеком, ставшим нашим супругом. (Так, бывшая певица, ныне модный дизайнер Виктория Бекхэм в 2014 г. в интервью британскому журналу Stylist призналась, что никогда не расстается с замшевым мини-платьем, надетым в 1997 г. на первый совместный выход в свет со звездой футбола Дэвидом Бекхэмом, с которым они поженились два года спустя.) Все эти примеры отличаются от накопительства только количественно, а не качественно. Фрост говорит об «особой способности видеть уникальность и ценность там, где другие не видят». Если механически следовать указаниям прежних редакций DSM, Бонни и миллионы ей подобных нельзя счесть накопителями, поскольку вещи, громоздящиеся кучами до потолка, для них бесценны.
Склонность многих накопителей наделять свои приобретения колоссальной внутренней значимостью представляет собой один из полюсов спектра, в который вписываются личности каждого из нас. В расписанной бутонами вазе на моей этажерке стоит засушенный цветок с похорон моей матери. Рядом вы найдете полдесятка конфетти со встречи нового тысячелетия на Таймс-сквер. Мне пришлось работать 1 января 2000 г., и я, шагая утром по безлюдным улицам от Центрального вокзала к офису Newsweek на площади Колумба, подбирала их и думала: «Когда мне стукнет пятьдесят, будет здорово прикоснуться к ним, зная, что они побывали на самом знаменитом месте встречи Нового года в канун самого знаменитого Нового года в современной истории». В комнате моего сына Дэниэла хранятся фотографии его футбольной команды, дешевые трофеи, завоеванные на матчах детской лиги, пожелтевший похвальный лист за «примерное поведение» в первом классе. (Спешу отметить, что сейчас Дэниэл живет в безупречно аккуратной комнате на другом конце страны, но эти реликвии — до сих пор в его детской спальне.) Разве это признаки психического расстройства?
Бестрепетно расставаясь со старой одеждой, бумагами и даже книгами (которые я отношу в библиотеку), я храню эти и немногочисленные другие вещи, потому что они связывают меня с прошлым и людьми, которых я никогда больше не увижу. Это крохотные фрагменты в мозаике моей личности. Наши вещи расширяют нашу идентичность, придают дополнительное измерение жизни, дарят чувство защищенности и соединяют нас как с собственным прошлым, так и с окружающим миром.
Глава 9 Компульсивный шопинг, или «дайте две!»
Человек — это зверь, который подыхает. Но если у этого зверя появляются деньги, он начинает покупать, покупать, покупать. Я думаю, единственная причина того, что он покупает все подряд, — это безумная надежда купить себе вечную жизнь… Увы, это невозможно…
Большой Па в пьесе Т. Уильямса «Кошка на раскаленной крыше»[54]Не бывает накопительства без приобретательства, а в Америке XXI в. приобретательство стало национальной забавой. На пресс-конференции в декабре 2006 г. президент Джордж Буш назвал его патриотическим долгом американцев: «Я призываю всех вас чаще покупать». Для многих из нас приобретение вещей в количестве, по крайней мере большем, чем нужно для удовлетворения повседневных потребностей, стало удовольствием, развлечением, способом развеяться, побаловать и вознаградить себя за хорошую работу или компенсацией за все несправедливости и перекосы в жизни. («Сегодня начальник наорал на меня при всех, так что я заслужила новые сандалии!») Как практически любое человеческое поведение, принимающее крайние формы, чрезмерное приобретательство — через покупки, кражи в магазинах или собирание бесплатных товаров — может проистекать из любого из трех источников, описанных во введении: импульсов, с которыми мы не можем совладать, характерного для аддикции поиска удовольствия или необходимости ослабить невыносимую тревогу, которая нарастает, угрожая нас сокрушить. Мы с вами поговорим о последнем случае — избыточном приобретательстве как компульсивном поведении, являющемся следствием тревоги.
• • •
Весенним вечером в Верхнем Вестсайде, когда Дженни шла на встречу со мной, сама Вселенная подала ей знак: из пакета наверху переполненного мусорного ящика выглядывало красивое кашне. За неделю до этого Дженни поклялась перед другими членами неформальной группы барахольщиков противостоять побуждению принести в свою квартиру любую вещь, не являющуюся совершенно, абсолютно необходимой.
Разумеется, «необходимый» — понятие субъективное.
Судя по всему, кашне было совсем новое, и Дженни, вспомнившей свою клятву, показалось, будто ангел и демон одновременно шепчут ей с двух сторон каждый свое. Ангел умолял не брать вещь, которая лишь увеличит захламленность, настолько ужасную, что для Дженни в собственной квартире остались только узкие «козьи тропки», компьютерный стол и кровать, которые ей удавалось спасать от хлама. Демон искушал тем, что «такой случай выпадает раз в жизни». Ее рациональный ум знал, что это неправда. На Манхэттене так часто выбрасывают совершенно целые вещи, что в этой находке не было ничего исключительного. Главное, ей просто не нужен еще один шарф! Она торопливо отошла с пустыми руками, и сердце тут же болезненно сжалось от сомнений и тревоги. «Если мироздание поместило сюда эту вещь, — пересказывала она мне свои мысли, — значит, я должна ее взять».
Дженни, актриса, перебивавшаяся эпизодическими ролями и неделями, а то и месяцами сидевшая вовсе без ролей, никогда не купалась в деньгах. Она выросла в бедной семье, где приучилась съедать все, что лежит на тарелке. «Чего добру пропадать!» — было их семейное кредо. Теперь она покупает любую вещь, идущую со скидкой. Честно говоря, не «вещь» — не одну вещь. Она регулярно покупает восемь-десять банок любимого консервированного тунца. Постойте, возразила я, очень многие поступают так же. Возможно, вы вовсе не уникум, тем более не компульсивный покупатель? Дженни глубоко вздохнула и рассказала о стиральных машинах.
Несколько лет назад машинка, стоявшая в ее квартире, сломалась, и у Дженни не было денег на ремонт или покупку новой. Она приготовилась ходить в общественную прачечную, как вдруг, идя по улице, увидела на тротуаре стиральную машинку той же модели. Она заплатила соседскому пареньку, чтобы тот помог втащить машинку к ней на пятый этаж в доме без лифта, и вскрыла обе — чужую и свою. (Дженни наловчилась чинить вещи, поскольку из-за компульсивного накопительства не может пригласить в квартиру ремонтников.) Детали, вышедшие из строя в одной машинке, оказались исправными в другой и наоборот. Они идеально дополняли одна другую. Дженни разобрала принесенную машинку и починила сломанную.
Неудивительно, что она отказывается признать привычку подбирать «хлам» на улице признаком психического расстройства. «Я просто замечаю вещи, — сказала она. — Одна задвинута за пожарный гидрант, другая прячется за кучей мусора, а я прямо-таки чую, что там что-то… интересное. Такие, как я, видят потенциал вещей, незаметный другим. Я знаю, что плетеная корзина — не живое одушевленное существо. Но она заслуживает своего шанса, понимаете?» Как и туалетный столик. Она нашла на улице почти целый, разобрала и перетащила домой частями. Именно его ей и не хватало, чтобы починить сломанный комод. «Когда психотерапевты заявляют, что безумие считать, будто какие-то части хлама могут пригодиться, у меня это в голове не укладывается», — заметила Дженни.
Недалеко от ее дома находится магазин единой цены. Недавно она прошла мимо него. Сначала прошла. Но вскоре задумалась: «Ничего страшного не случится, если просто посмотреть, нет ли чего новенького!» Разглядывая собачьи пеленки, она твердила себе, что имеющегося запаса более чем достаточно для ее семнадцатилетней собаки, но вдруг ее озарило: «А ты знаешь, где они лежат?» Она знала единственный способ успокоить тревогу — бросить упаковку в тележку. Потом она заметила виниловые скатерти, подобные тем, которые режет на клеенку для собаки. И снова с ней заговорила Вселенная: эти скатерти были в шотландскую клетку, а геометрический узор с прямыми линиями и углами удобнее всего для разрезания. Ангел и демон снова взялись за дело, но всякий раз, как ангельское «не покупай!» могло победить, Дженни овладевала тревога, перехватывающая дыхание не хуже отека Квинке. «Я говорю сама с собой, пытаюсь убедить себя, что мне не нужны больше ни пеленки, ни скатерти, а следующий миг в глазах темнеет и накатывает чувство бессилия», — сказала она. Упаковки скатертей перекочевали в ее квартиру.
Приехав на лето к матери в сельский дом, Дженни открыла для себя Мекку шопоголика — торговые центры распродаж. «Там можно было за несколько сот долларов купить товар, который тянул на несколько тысяч, и отправить в Нью-Йорк через UPS, — вспоминала она. — Потрясающе! Я целыми днями покупала до полного изнеможения. Одежду, товары для дома, предметы обстановки, кухонную утварь, консервированные продукты, сыпучие продукты вроде хлопьев и конфет».
Даже теперь Дженни не жалеет об этом, по крайней мере, не обо всем. «Однажды я отправила домой двадцать пять упаковок пасты из анчоусов. В Нью-Йорке они стоили $2,99, а там всего четвертак!» Она делает паузу. «Часть этой пасты до сих пор лежит у меня дома. А прошло уже десять лет». Тяга к экономии была настолько сильна, что при попытке сопротивляться импульсу к покупке подсознание подавало сигнал к отступлению в форме удушающей тревоги. Компульсивное приобретательство «так успокаивает», сказала Дженни: «Словно возводишь стену или крепость наподобие тех, что я строила в детстве. Мне не нравится так жить, но я не могу справиться с компульсией». Прощаясь и беря пластиковый пакет с найденным кашне, Дженни решается сказать еще кое-что. Его владелец, кто бы он ни был, вытащил на улицу еще кучу всего: простыни, одеяла и тому подобное. «Я оставила столько же, сколько взяла», — говорит она — с гордостью или оправдываясь, и не поймешь.
«Магазинная зависимость»
В 2006 г. в ходе исследования с участием 2513 совершеннолетних американцев психиатры из Стэнфордского университета обнаружили у 5,8% из них компульсивное покупательское поведение. В основу исследования лег скрининговый опросник «Шкала компульсивного приобретательства». В отчете Лоррин Коран и ее коллег в American Journal of Psychiatry утверждается, что среди компульсивных покупателей преобладает молодежь, и что, вопреки замшелым стереотипам, мужчинам это поведение свойственно не меньше, чем женщинам. Новые исследования выявили схожую распространенность этой проблемы: отчет в Journal of Consumer Research за 2008 г. оценивает долю компульсивных покупателей среди американцев в 9%.
Избыточное приобретательство является воплощением уже описанного мною феномена: внешне одно и то же поведение может быть проявлением импульсивности, аддикции или компульсии. «Поведение одинаковое, но ведут к нему совершенно разные пути, — сказала клинический психиатр и нейрофизиолог Сюзан Амари при нашей встрече в Колумбийском университете (впоследствии она перешла на работу в Университет Питтсбурга). — В одном случае поведение порождается тревогой, а в другом, по видимости точно такое же, является следствием депрессии, мании или банальной скуки». У некоторых подобное поведение «ближе к расстройству контроля над импульсами», утверждала Эйприл Бенсон, психотерапевт, прославившаяся изучением и лечением чрезмерного приобретательства: «Их охватывает желание что-то получить, и они не могут от этого удержаться».
Именно так воспринимали компульсивный шопинг психиатры в начале XX в. Первое упоминание об этом нарушении в медицинской литературе встречается в книге 1902 г. «Обсессии и компульсии», одним из авторов которой был невролог из Бордо, лечивший пациента с manie des achats — «манией делать покупки». Термин прижился. Немецкий психиатр Эмиль Крепелин, считающийся основоположником современной научной психиатрии, в своих эпохальных учебниках писал о «компульсивном расстройстве, связанном с покупками», и о «покупательской мании». Шведский психиатр Пауль Эйген Блейлер (1857–1939), прославившийся введением в научный оборот терминов «шизофрения» и «аутизм», рассмотрел компульсивное приобретательство в своем учебнике 1930 г., назвал его «ониоманией» (от греч. ониос — «на продажу») и охарактеризовал как «реактивный импульс» или «импульсивное помешательство», во многом напоминающее клептоманию. Он процитировал высказывание Крепелина об «ониоманах, которые даже покупки совершают компульсивно, бездумно делая долги и постоянно затягивая с платежами, пока не разразится катастрофа, несколько нормализующая ситуацию».
Крепелин и Блейлер ограничились краткими упоминаниями этого недуга, и в дальнейшем на протяжении почти всего XX в. психиатрия его практически не замечала. Компульсивное приобретательство даже не было включено в издание DSM 1987 г., удостоившись, впрочем, нескольких строк в версии 2004 г. в качестве «расстройства контроля над импульсами, неуточненного». Версия 2013 г. вновь обошлась без него. Исследователи, изучающие покупательское поведение, уделяли некоторое внимание компульсивным покупкам, но, что касается психологов и психиатров, эта проблема «фактически исчезла из их учебных пособий вплоть до 1990-х гг.», по словам Дональда Блэка, психиатра из Университета Айовы, одного из ведущих экспертов США в этой области: «Казалось, никто о ней и не думает».
Однако с начала 1990-х гг. психиатры и другие специалисты начали описывать истории болезни людей, испытывающих неодолимую потребность сметать товары с полок магазинов: двадцать случаев в одном исследовании, двадцать четыре в другом и сорок шесть в третьем. Именно тогда у ученых возникло понимание, что они имеют дело с феноменами различного генеза.
У одних шопоголиков это поведение является следствием не мгновенного импульса, описанного Крепелином и Блейлером, а всплеска эмоций — чаще всего депрессии, тревоги, скуки или гнева, как установил Блэк на основании изучения научной литературы, а также историй болезни собственных пациентов. «Самыми распространенными последствиями являются эйфория или освобождение от отрицательных эмоций», — отметил он. Если наградой за действие становится облегчение, имеет место компульсия, о чем мы поговорим далее. В случае эйфории такое поведение напоминает аддикцию с мощным гедонистическим «приходом». В этом случае «присутствует элемент предвкушения — они думают об этом, возбуждение усиливается, и они совершают покупку», — объяснил Блэк: «При невозможности покупать люди описывают ощущения, аналогичные абстиненции. Они испытывают умеренную дисфорию, раздражительность и даже нервозность с двигательным возбуждением». От одной пятой до половины (по данным разных исследований) людей, покупающих больше, чем нужно, также злоупотребляют психоактивными веществами, что заставляет предположить, что склонные к наркозависимости наиболее предрасположены к зависимому варианту шопоголии. Они испытывают огромный кайф, снова и снова опустошая кредитку и чувствуя, как сумки с логотипами магазинов приятно оттягивают руки. Без этой регулярной «дозы» шопоголик несчастен и подавлен — как игроман, не делающий ставок, — и точно так же вынужден покупать и покупать, чтобы получать острые ощущения и поддерживать (временный) эмоциональный подъем.
Очень близок шопингу как средству достижения гедонистического «прихода» шопинг в качестве лекарства от скуки или депрессии, при котором покупка очередной красивой вещицы облегчает болезненные эмоции: «На этот четверг меня никто не пригласил, зато я купила восхитительные туфли на шпильках». Одиночество, злость, чувство несостоятельности и заброшенности, разочарование и обида — все эти переживания могут провоцировать покупательскую лихорадку. «Большинство моих пациентов говорят, что это отвлекает их от боли и подавленности», — говорит Терренс Шульман. Хотя чувство одиночества, обеспокоенность или обида сами по себе почти никогда не связаны с шопингом, он «выступает в роли успокоительного средства», особенно для людей, которые чувствуют себя «неполноценными без материального изобилия». Голосование, проведенное в 2013 г. The Huffington Post, показало, что 40% женщин и 19% мужчин покупают, чтобы справиться со стрессом.
Напротив, в случаях, когда покупка лишних вещей является по-настоящему компульсивной, она приносит нечто большее, чем временное избавление от тревоги. Как патологические накопители почти не получают радости от своих вещей, которые являются, скорее, подношениями, призванными умиротворить грозных богов тревожности, так и компульсивные покупатели испытывают тревогу и подавленность, пока не купят что-нибудь, после чего их отпускает. «Имеет место растущая тревога, которую можно снять, лишь пойдя в магазин и сделав покупку, — объяснила Эйприл Бенсон. — Вы чувствуете себя вынужденными сделать то, чего на самом деле не хотите». От 40 до 80% таких людей также имеют тревожное расстройство. К этой группе относятся истинные компульсивные покупатели, такие как Дженни. Она не импульсивно схватила выброшенный кем-то шарф или закупила пасту из анчоусов на всю оставшуюся жизнь и не получила особого удовольствия от своих действий. Нет, она долго и упорно противилась внутреннему голосу, твердившему: «Чувствуешь? Чувствуешь, как у тебя перехватывает горло, а сердце колотится как сумасшедшее? Это твое подсознание говорит, что если ты не возьмешь эту вещь, то будешь страдать неизвестностью, как если бы твой любимый попал в авиакатастрофу, и ты не знала, выжил ли он».
«Тревога, которую испытывает компульсивный покупатель, необязательно связана с чем-то конкретным, — сказала Бенсон. — Это может быть страх "оказаться за бортом", например оставшись без предмета гардероба, который носят все, или пропустив июльскую распродажу в Nordstrom». Часто тревога связана с самооценкой или с чувством неполноценности («Если я могу себе позволить очередной мешок вещей из H&M, значит, до нищеты мне далеко, верно?») или порождается мыслью о том, что случится, если не сделать покупку. Одна клиентка психолога Рэнди Фроста как-то раз увидела в телемагазине щенячий помет. Когда на них не нашлось покупателей, ее охватили опасения, что щенкам будет больно «сознавать», что они никому не нужны. И купила всех шестерых, чтобы они могли чувствовать себя желанными, тем самым избавившись от тревоги по этому поводу.
Человек совершает компульсивные покупки, поскольку это облегчает его угнетенность и тревогу, но не получает от этого удовольствия, во всяком случае, не больше, чем при мысли «А хорошо было бы избавиться от страха за свою жизнь». Подлинная компульсия в том смысле, в котором я употребляю этот термин, — в соответствии с представлениями рождающихся на наших глазах нейронаук — дарит облегчение, а не радость. Приведу пример: шестидесятилетняя женщина лечилась от патологического накопительства в рамках исследования Бостонского университета. Придя к ней в первый раз, врачи даже не смогли войти в дверь ее жилища и вынуждены были общаться с ней на подъездной дорожке. Софи согласилась в качестве первого шага рассортировать свое имущество по трем категориям — сохранить, подарить, выбросить, — пометив цветными стикерами. Все шло прекрасно, пока однажды ей ни с того ни с сего не позвонил отец-алкоголик — впервые за пятнадцать лет. При звуках его голоса Софи охватила такая тревога, что она сделала единственное, что, как ей было прекрасно известно, могло ее ослабить: кинулась в магазин и купила восемь пылесосов. Дженни трактовала свои приобретения как «возведение стен» между собой и внешним миром со всеми его притязаниями и жестокостями. Так и Софи видела в покупках защиту от возвращения к прошлому, от которого сумела бежать.
Корни ониомании
У большинства людей, лечащихся от компульсивного приобретательства, проблема возникает в позднем подростковом или раннем юношеском возрасте, когда человек обретает бо́льшую свободу выбора, относительную финансовую независимость (многие подростки подрабатывают присмотром за маленькими детьми и стрижкой газонов), а также — ведь это Америка! — права на управление автомобилем. Зависимости между конкретикой жизненного опыта в этот период и риском стать компульсивным покупателем не выявлено.
К тринадцати годам Дебби Роэс успела убедить себя, что другие ученицы ее школы в Сан-Карлосе, богатом пригороде Сан-Франциско (родители Дебби относились к среднему классу), привлекательнее, круче, умнее и популярнее, чем она могла бы стать даже в самых смелых мечтах. Вдобавок эти девочки каждый день появлялись в новых сногсшибательных нарядах, и Дебби могла поклясться, что ни один не надевался дважды. «Помню, как терзалась, что не соответствую уровню, — призналась она мне. — Я отчаянно хотела быть такой, как они, но чувствовала, что этому не бывать».
Тогда она и увлеклась покупками. То, что началось как веселое времяпрепровождение с подругами, постепенно превратилось в настоящую манию. Едва у нее появлялись деньги — заработок няни, еженедельная сумма на карманные расходы, подарок, сделанный отцом после развода с ее матерью (Дебби было четырнадцать), — она мчалась в торговый центр, часто одна. Элемент социализации вытеснила захватившая ее компульсия. «Казалось, деньги жгут мне руки», — пояснила она. Дебби была пухленькой и диетами довела себя до расстройства пищевого поведения. Чем меньше она весила, тем сногсшибательнее, по собственному мнению, выглядела в новой одежде. «Худея, я покупала все больше, — вспоминала она. — И думала, как же круто, что я могу носить одежду, на которую раньше не отваживалась». Обтягивающие джинсы, свитера в облипку, короткие платья… «Я все равно не чувствовала себя на уровне, — призналась Дэбби. — Однако говорила себе: пусть другие красивее, популярнее, пусть они богаче и умнее, зато я лучше одета. Я всегда стремилась к самоутверждению, и шопинг мне в этом помог. Он стал утешительным призом, помогая чувствовать себя менее несчастной и никчемной. Все это было замешано на стрессе и разочаровании. Иногда я испытывала себя на прочность, ничего не покупая неделю или даже месяц, но дольше выдержать без шопинга не могла. Стоило сдаться, и вот оно, восхитительное чувство облегчения!»
Компульсивная потребность Дебби покупать в значительной мере объясняется страхом что-то упустить, если не совершать покупок. «Такое чувство, что этим занимаются все, кроме меня, — говорит она. — Я нервничаю, поскольку всюду огромные скидки, и если я не пойду в магазин и не воспользуюсь этой прекрасной возможностью, то буду казнить себя, что так сплоховала. Или боюсь упустить единственный в жизни шанс купить нечто, что поможет мне выглядеть и чувствовать себя на все сто, ведь стоит промедлить день, и этого шанса уже не будет. Нужно ехать сейчас же. И если я не еду, то тревога становится невыносимой». Излишне говорить, что облегчение длится не дольше, чем занимает дорога домой. Оно испаряется, как эйфория алкоголика, оборачивающаяся похмельем на следующее утро. Возникающее при этом внутреннее напряжение становится фундаментом следующего приступа компульсивного приобретательства.
Несколько лет назад Дебби стала консультантом по гардеробу, прекрасно сознавая, что это столь же рискованный выбор, что и для алкоголика — профессия бармена. «Но я действительно знаток шопинга, и мне казалось, я смогу помочь людям», — поясняет она. К сожалению, ее шопинг стал еще более компульсивным, поскольку появился новый источник тревоги: если она не будет выглядеть воплощением модных трендов, клиенты в ней разочаруются. Дважды ее долги гасил отец, один раз бывший бойфренд, но и это не избавило ее от компульсивных покупок.
В начале 2011 г. Дебби стала отслеживать судьбу каждой купленной вещи: сколько раз она ее надела и вернула ли в магазин. Результаты оказались «ошеломляющими». На следующий год ситуация не улучшилась. Ее шкаф оказался еще более плотно забит вещами, которые она носила только один раз или вообще ни разу. При редких попытках проредить гардероб она без труда находила, скажем, тридцать четыре вещи, которые следовало отдать другим. В отличие от патологических накопителей, для которых расстаться с имуществом смерти подобно, приобретатели обычно не испытывают с этим сложностей[55]. Но однажды Дебби услышала совет из программы Эйприл Бенсон, посвященной когнитивным, эмоциональным и поведенческим аспектам избыточного приобретательства. Бенсон рекомендует своим клиентам, когда их охватывает покупательский зуд, задать себе следующие шесть вопросов.
1. «Почему я здесь?» Под «здесь» подразумевается физический или онлайновый магазин.
2. «Что я чувствую?» В случае такого ответа, как «нервничаю из-за того, что мой единственный приличный пиджак совсем старый, а мне нужно хорошо выглядеть завтра на собеседовании» или «беспокоюсь, поскольку у меня действительно нет ни одной вещи, в которой было бы уместно появиться на свадьбе друзей в ближайшую субботу», покупка совершенно обоснованна. Если же ответ ближе к «чувствую, что взорвусь, как взболтанная бутылка газировки, если не куплю эти туфли, которые, как я прекрасно знаю, мне не нужны», то вами, вероятно, движет компульсия, а завести она вас может только в тупик. Теперь переходите к следующему вопросу.
3. «Мне нужна эта вещь?» См. комментарий к предыдущему пункту. Если ответ в духе «да, ведь я устраиваюсь на работу» или «конечно, меня же пригласили на свадьбу», переходите к следующему вопросу.
4. «Что, если я отложу покупку?» В случае ответа «я буду нелепо выглядеть на собеседовании / свадьбе» отлагательство не имеет смысла. Если ваш вариант «умру от тревоги», то постарайтесь заглянуть в будущее. Представьте будущего себя, одолеваемого еще более сильной тревогой, чем нынешняя. (Этот прием зачастую нейтрализует имеющуюся тревогу без необходимости покупать.) А именно, задумайтесь о следующем.
5. «Как я оплачу эту покупку?» Нередко перспектива увеличить уже имеющийся долг пугает сильнее, чем отказ от покупки. Сосредоточьтесь на сопутствующих эмоциях. Представьте, как сожмется сердце при взгляде на следующую выписку с кредитного счета, как тяжело будет перебирать квитанции и ломать голову, с оплатой которых придется повременить, и как ужасно просить супруга или других близких дать вам денег. Подумайте об отрицательных эмоциях, которые овладеют вами, если вы совершите эту покупку. Возможно, они перевесят те, что сопутствуют отказу от покупки. Аналогично люди, испытывающие побуждение красть в магазинах, могут остановиться, вспомнив об ужасных перспективах ареста или тюремного заключения и об унижениях при огласке.
6. «Куда я дену эту вещь и как буду ею пользоваться?» Этот вопрос также помогает справиться с имеющейся тревогой. Загляните в будущее: вот вы дома со своей покупкой, оглядываетесь, ищете для нее место. Если у вас уже скопилось огромное количество обуви, рубашек или побрякушек, — причем, возможно, многие предшествующие покупки так и лежат нераспакованные или неиспользуемые — тогда вещь, судьбу которой вы сейчас обдумываете, растворится среди них, будто капля в море. Прочувствуйте ее никчемность — и сможете избавиться от тревожного побуждения ее купить. (Этот прием помог другой нашей героине, Дженни, отказаться от многих даров судьбы, которые ее так и подмывало принести из магазина или с улицы. Она представляла себе будущее в и без того захламленной квартире, и хватка компульсии слабела.)
Помимо следования этой методике Бенсон советует клиентам задуматься и понять, что побуждает их покупать лишнее — «с чего все началось», как она это называет, — а также отследить ситуативные «спусковые крючки» тревоги, справиться с которой способна только покупка. «Мне пришлось разобраться, что меня провоцирует и что происходит, когда я покупаю сверх меры», — сказала Роэс. В январе 2013 г. она стала вести блог «Шопоголик на пути к исцелению» (Recovering Shopaholic) в надежде, что публичное признание в каждой покупке, в каждом побудительном мотиве и каждом последствии заставит ее контролировать свою компульсию из страха стыда. К середине 2013 г. у нее были сотни постоянных читателей по всему миру. Благодаря блогу она почувствовала себя голосом миллионов жертв той же компульсии, что управляла ею тридцать лет. «Я не хочу, чтобы моя жизнь прошла в торговых центрах. Хочу сделать что-то полезное, — сказала Дебби. — До сих пор я утешалась тем, что, хотя многого в жизни не достигла — у меня нет детей, да и карьера не задалась, — зато знаю толк в покупках!»
При лечении компульсивных покупателей психотерапевты часто добиваются успеха, если прежде всего помогут пациентам обнаружить эмоциональные стимулы походов в магазины — уныние, чувство собственной несостоятельности, злость, страх, разочарование, стыд, чувство вины и т.д. Затем пациентам предлагается подумать о том, что Бенсон, автор книги «Купить или не купить: почему мы покупаем лишнее и как с этим покончить» (To Buy or Not To Buy: Why We Overshop and How to Stop), называет «подлинными и важными глубинными потребностями», связанными с провоцирующими покупки эмоциями. Например, чувству вины сопутствует потребность в искуплении или примирении, самоуничижению — в более милосердной и адекватной оценке нашей личности. Этот подход работает не со всеми, но, по крайней мере, учитывает эмоциональные мотивы чрезмерного шопинга многих людей, в том числе тревогу, составляющую фундамент компульсивных покупок.
Кражи в магазинах
Если остальные компульсии грозят поработить ваш разум, то эта — единственная из настоящих компульсий[56] — может в буквальном смысле привести вас в тюрьму. Неизвестно, скольким больным компульсивные кражи сходят с рук, но существует оценка, согласно которой 87% из них арестовывают по крайней мере один раз, хотя в тюрьму попадает лишь каждый пятый.
Клептомания — это расстройство контроля над импульсами, причем довольно редкое, поражающее менее 1% населения. Но существует и компульсивная форма клептомании, провоцируемая нарастанием тревоги, которую позволяет снять только кража. Это звучит как самооправдание, однако, чем больше людей рассказывали мне, что заставляет их красть в магазинах, тем заметнее для меня становилось зерно истины в их исповедях. Они описывали хроническое внутреннее напряжение, достигающее непереносимого уровня и вынуждающее сдаться и стянуть что-нибудь, — и напряжение тут же улетучивается, как воздух из неплотно завязанного шарика. Кражи клептоманов не связаны ни с гневом, ни с желанием отомстить, но что касается компульсивных краж… Предоставлю слово Кейтлин.
На момент нашей беседы в 2014 году она не крала уже пятнадцать месяцев, и я, выслушав ее, подумала: «Да ведь это равносильно уходу Майкла Джордана из баскетбола на пике карьеры». Дело в том, что пятидесятилетняя Кейтлин была исключительно ловкой воровкой. Первый трофей — конфету — она добыла в девятилетнем возрасте, однако затем много лет не испытывала потребности красть, за исключением пары случаев в двадцать с чем-то лет. После тридцати у нее начались материальные трудности, и ловкость рук вновь оказалась востребованной. Не имея наличных, она стала красть одежду, витамины, косметику и еду. Обычно это происходило следующим образом. Кейтлин сидела дома, погруженная в невеселые мысли о своем финансовом положении: денег, которые приносил маркетинг на условиях неполной занятости, не хватало, она допускала перерасход по кредитной карте и занимала у друзей, — как вдруг физически ощутимая тревога пронизывала ее до самых кончиков пальцев. Казалось, кровь становилась более горячей и густой. После ссоры с бойфрендом или неудачного дня в висках стучало от тревоги, она становилась беспокойной, раздражительной и дерганой, как наркоманка. Затем вспоминалась какая-нибудь вещь, увиденная в торговом центре, и Кейтлин нутром чувствовала — вот что избавит ее от беспокойства.
В одном из первых случаев, когда она поддалась этой внутренней убежденности, Кейтлин пошла в аптеку за рецептурным средством и обнаружила: чтобы стянуть нужные ей вещи — зубную пасту, шампунь, мыло, витамины, косметику — достаточно нагнуться к нижней полке. Ее сумочка тут же приоткрылась, будто по волшебству. «Я шла в магазин, когда чувствовала накопившуюся тревогу, и все получалось само собой, — признается она. — Невероятное облегчение!»
Кейтлин выросла в доме алкоголика-отца, который избивал ее братьев и держал в страхе весь дом дикими пьяными выходками. Мать срывалась на Кейтлин и часто била ее. Семья жила в нищете и временами не имела денег на еду. Это было трудное детство, и, когда у Кейтлин начались финансовые проблемы, в голове словно что-то щелкнуло: «Я столько пережила, такого натерпелась, долгие годы жестокого обращения…» Голос рассказчицы срывается. «Я пыталась все это как-то компенсировать», — говорит она наконец. Она не могла вычеркнуть насилие из памяти, но, подворовывая в магазинах, как будто пыталась сделать «все это» — мир, жизнь, судьбу, соотношение добра и зла, правды и лжи, радости и горя — чуть более справедливым.
Теренс Шульман, излечивший многих компульсивных покупателей и магазинных воров, подтверждает, что для последних характерно «стремление восстановить справедливость», часто вследствие перенесенных насилия или лишений: «Их мучает потребность сравнять счеты. Они чувствуют себя вправе поступать подобным образом в качестве компенсации за былые обиды».
Вот типичный случай. Кейтлин возвращалась на родину из отпуска, проведенного в Европе, но рейс был отложен, и ей пришлось убивать время в аэропорту Амстердама Схипхол — царстве шикарных магазинов. Она решила набрать столько «подарков» близким и друзьям, сколько сможет унести: дизайнерские шарфы и галстуки, дорогой шоколад, роскошные духи и косметику. Вместо опасений Кейтлин испытывала странное умиротворение. Откуда-то пришло убеждение, что красть эти вещи можно, поскольку это подарки, которые она иначе не могла бы себе позволить. С тех пор магазины аэропортов стали ее излюбленными целями, где она регулярно затаривалась журналами, беспошлинной косметикой, одеждой, сувенирами — «в большом количестве» — и до того наловчилась, что играючи пристраивала трофеи в объемистую дорожную сумку, ридикюль и карманы. «С возрастом у меня отпала необходимость в этом, — признается Кейтлин, ставшая успешным риелтором в богатом районе, — но я продолжала красть. Я знала, где в магазине охрана, где стоят видеокамеры, и чувствовала, что вижу и слышу больше, чем обычный человек». Она уходила с уловом сотни раз. Отдавала вещи на благотворительность и дарила родне, набивала комоды, шкафы и гардеробы.
После тридцати кражи Кейтлин участились, и она «тащила все, что только попадало под руку». Однако всему на свете приходит конец, и Кейтлин, разменявшую пятый десяток, арестовывали трижды за три с половиной года. В первый раз — за кражу витаминов и средство от простуды стоимостью в $11,30 для больной подруги. После первых двух арестов она пыталась покончить с этим, но «это был ад», вспоминает она: «Я была совершенно раздавлена. Сказала мужу, что просто должна что-нибудь украсть. "Почему ты не можешь остановиться?!" — закричал он».
«Но я не могла».
Адвокат добился, чтобы ее судили всего лишь за деяние, не представляющее общественной опасности в силу малозначительности, и Кейтлин, признав себя виновной, вышла на свободу, приговоренная к двумстам часам общественных работ (в донорском центре Красного Креста). Она была напугана до смерти. Однако ей повезло, и ее случай — наглядное свидетельство того, что различение между импульсивностью, поведенческой аддикцией и поведенческой компульсией — не просто упражнение в классификации психологических проблем, а важнейший первый шаг к эффективному лечению. Слово «повезло» кажется не слишком уместным применительно к судьбе Кейтлин, но это справедливо в том смысле, что ее кражи были следствием не расстройства контроля над импульсами — как клептомания, от которой не существует проверенного, надежного средства, — а истинной компульсией, движимой тревогой. Поэтому Шульман начал с того, что спросил ее, как спрашивает всех компульсивных воров, почему, на ее взгляд, она так себя ведет. «Я стремлюсь помочь клиентам осознать, что порождает их компульсию, — объяснил он. — Стремление компенсировать утрату или чувство покинутости? Исправить то, что им кажется ошибкой или несправедливостью? Я стараюсь дать им понимание причин их поведения. Часто они отвечают, что представления не имеют, но если разберутся в себе, то их шансы измениться вырастут». Он побудил Кейтлин проанализировать тревогу, толкавшую ее на кражи, и спросил, есть ли иной способ от нее избавиться. «Я всегда задаю вопрос "почему" — почему, почему? — вы чувствуете необходимость так поступать, — сказал Шульман. — Я не согласен с принципом "Анонимных алкоголиков", будто причина не важна, и все, что нужно, — "просто остановиться". Чаще всего понимание полезно и необходимо».
Это когнитивная составляющая когнитивно-поведенческой терапии, которую применяет Шульман, — помочь больной вспомнить, что отец никогда не позволял ей покупать новую одежду: «Это проливает свет на то, что вами движет, на ваши предупредительные сигналы». В случае Кейтлин, когда кто-либо говорил ей, что она не может или не должна что-то делать, это пробуждало озлобляющие воспоминания о лишениях, которые она перенесла в детстве и до сих пор пытается компенсировать.
Хотя Кейтлин к моменту нашей встречи не крала больше года, она до сих пор мечтает об этом изумительном способе борьбы с тревогой. «Я вспоминаю кражи, как вспоминают ушедшего возлюбленного, — призналась она. — Это ностальгические мысли. Думаю, годы, когда я крала, были лучшими в моей жизни».
Библиомания
Удивительная форма приобретательства распространилась в Европе примерно 250 лет назад, когда определенную социальную группу охватила страсть покупать книги, владеть и хвастаться ими, хранить и демонстрировать (но необязательно читать!), причем распространилась настолько, что удостоилась собственного названия — библиомания. Как жертвы, так и свидетели этой страсти усматривали в ней оттенок помешательства, предвосхищая психиатрическую классификацию многих форм компульсивного поведения как душевных расстройств. В одном из нескольких тысяч писем сыну Филипу английский государственный деятель, мастер эпистолярного жанра лорд Честерфилд (1694–1773), узнавший, что у того появился интерес к печатным редкостям, призывал молодого человека «опасаться библиомании».
Лорд Честерфилд оказался провидцем. В 1809 г. Джон Ферриар, врач Манчестерской психиатрической лечебницы и поэт, воскликнул в одном из стихотворений: «Какие безумные мечты, какие терзания владеют несчастным, заболевшим книгами!» Эта «тираническая страсть» впрягает человека в «ярмо тревоги». Стихотворение представляет собой поэтическое послание другу Ричарду Геберу (1773–1833), и небезосновательно. Гебер прославился тем, что заполнил восемь своих домов в четырех странах печатной продукцией в количестве почти 150 000 экземпляров томов в твердых переплетах плюс тысячи брошюр — всего (по прикидкам его современника, парижского книготорговца) до 300 000 изданий.
Наивысшим расцветом библиомании можно считать 1809 г., когда английский библиограф и министр Томас Фрогнал Дибдин (1776–1847) издал книгу «Библиомания» с подзаголовком «О книжном помешательстве, с некоторыми сведениями об истории, симптомах и лечении этого смертельно опасного заболевания» (The Bibliomania. Book-Madness; containing some accounts of the History, Symptoms, and Cure of This Fatal Disease), в которой описал «страсть коллекционирования книг» специфическим медицинским языком. Собираемые безумцами коллекции, предупреждал английский писатель, отец будущего премьер-министра Исаак Дизраэли (1766–1848), являются «домами скорби для человеческого ума». Библиомания «никогда не достигала такого неистовства, как сегодня», отметил Дизраэли в книге «Литературные курьезы» (Curiosities of Literature), когда иные самые уважаемые мужи охвачены компульсивной потребностью покупать и выставлять в своих роскошных домах первые издания, пергаменты, издания ограниченных тиражей и крупного формата, а также с неразрезанными страницами, с шелковыми дублюрами, золотыми обрезами, переплетами из окрашенной кожи или в этрусском стиле и другие символы образованности, вкуса и богатства.
Безумная страсть немногих библиоманов викторианской эпохи так и осталась необъясненной. Счастливым (для нас) исключением является сэр Томас Филипс (1792–1872) — незаконнорожденный сын богатого текстильного фабриканта и служанки. «Заболев» библиоманией в раннем детстве, он уже к шести годам приобрел сто с лишним книг. «Все его карманные деньги тратились на книги, — сообщается в британском Национальном биографическом словаре за 1896 г. — Главным делом его жизни [ставшим возможным благодаря огромному наследству, хотя он вечно рисковал его растратить. — Авт.] стало коллекционирование редких манускриптов независимо от времени, страны, языка и содержания». Филипс называл свою компульсию «старой доброй манией покупки книг» и объезжал Европу в поисках собраний: «хроник, монастырских архивов, расходных книг королей, королев и знати», покупая то коллекцию из 1300 итальянских манускриптов, то 900 томов бумаг, связанных с Французской революцией, то 500 «восточных свитков» и иллюминированных рукописей, создававшихся для царей, пап и членов семейства Медичи. На момент смерти Филипса его коллекция насчитывала, по оценкам ученых, около 60 000 манускриптов, а также тысячи книг в твердых переплетах, документов на право собственности, юридических бумаг, вавилонских цилиндрических печатей, географических карт, генеалогий, писем и рисунков — в два раза больше, чем в библиотеке Кембриджского университета. Конечно, это была капля в море по сравнению с его целью, сформулированной в письме за три года до смерти: «По одному экземпляру каждой книги, имеющейся в мире!» Однако для перевозки этой «капли» из его имения Миддлхилл в Уорчестере в Тирлстэйн-хаус в Челтенхеме потребовалась целая армия: 230 лошадей, 160 грузчиков и 103 подводы, писал психоаналитик и историк искусства Вернер Мюнстербергер (1913–2011) в книге «Коллекционирование: необузданная страсть. Психологический аспект» (Collecting, An Unruly Passion: Psychological Perspectives), изданной в 1994 г.
В конце жизни Филипса посетил представитель Британского музея сэр Фредерик Мэдден. Он оказался в доме, помещения которого были заставлены большими ящиками с рукописями, книгами, документами и другими плодами долгих лет собирательства, где «каждую комнату во множестве заполняют бумаги, манускрипты, тома, хартии, свертки и тому подобное» — валяются «под ногами, громоздятся на столах, кроватях, стульях, на лестнице и прочем, и так в каждой комнате — штабели огромных ящиков до потолка». Посылая президенту Гарвардского университета Джареду Спарксу приглашение посетить Тирлстэйн-хаус, Филипс предупреждал, что «гостиная — единственная жилая комната, да еще три спальни для нас и наших друзей». Другому знакомому он писал, что «обедать негде, кроме как в комнате экономки!»
Как Филипс до этого дошел? Сам он писал около 1837 г. в предисловии к каталогу своей библиотеки, что его «подстрекнуло» к коллекционированию «чтение всевозможных описаний уничтожения ценных манускриптов». Его «главная страсть» — собирание крупнейшей в Англии, а возможно, и в мире частной коллекции литературных трудов, — была порождена «лицезрением безостановочного истребления» книг старьевщиками, для которых тексты как таковые не имели ни малейшего значения, важны были только инкрустации переплетов из золота и других драгоценных материалов.
Компульсия Филипса собирать другие произведения, такие как имущественные документы и хартии, также питалась гнетущей тревогой. Она проистекала, писал он, из его отчаяния при виде уничтожения документов «в лавках изготовителей клея и портных», которые извлекали из бумаги целлюлозное волокно. Судя по всему, Филипс был убежден, что, если бы не метался, как сумасшедший, по Европе, скупая все что можно, литературный мир постигла бы катастрофа, сравнимая с гибелью Александрийской библиотеки. Он называл свои манускрипты «безотказным утешением в любом несчастье». Трудно представить более откровенное признание, что книги помогали ему справляться с тревогой.
Третьей побудительной причиной компульсивного коллекционирования стало незаконное происхождение Филипса — чувство оторванности от своей среды могли компенсировать только книги. Неуверенность по поводу своей идентичности, отсутствие корней — удел многих незаконнорожденных — вылились в поглощенность вопросами происхождения и рода. Поэтому он собирал правоустанавливающие документы, церковные книги и надписи на надгробиях. «Его деятельность, по сути, была продуктом тревоги из-за собственного сомнительного прошлого», — утверждал Мюнстербергер.
Столетие спустя, рассмотрев случай Филипса с точки зрения психоаналитика, Мюнстербергер диагностировал у него «определенную навязчивость, порожденную, судя по всему, компульсивной поглощенностью предметом и, как все компульсивные действия, оформленную иррациональными импульсами». (Характеристика «иррациональный» представляется слишком безжалостной. Я бы выразилась мягче: Филипса душил вечный страх, что книга или документ будут утрачены либо уничтожены, если он их не купит.) Коллекции, подобные собранию Филипса, «служат мощным средством контроля тревоги или неуверенности, — писал Мюнстербергер. — Коллекционирование никоим образом не сводится к банальному получению удовольствия,.. [являясь] способом справиться с угрозой постоянно возвращающейся тревоги».
Мюнстербергер был не единственным, заметившим, что в основе поведения по крайней мере некоторых собирателей книг лежит тревога. Компульсивное приобретение книг «облегчает тревогу», писал в 1966 г. в Psychoanaalytic Quarterly Норман Вайнер. Однако, как и в случае большинства компульсивных действий, это временное облегчение: библиоман вынужден «пускаться в очередную погоню за выдающейся книгой, как только тревога возвращается». Страх Филипса, что без его вмешательства уникальные произведения будут утрачены для мира, очевидно, не излечили ни первая купленная книга, ни 150 000 последующих.
«Диванный психоанализ» — дело сомнительное, особенно если пациент сто лет как мертв, но подобраться ближе к изучению компульсивного приобретения книг невозможно. Это явление «по большей части, игнорировалось психоаналитиками», писал Вайнер. В последующие полвека почти ничего не изменилось. DSM никогда не считал библиоманию официально признанным заболеванием и не относил ее к проявлениям, скажем, обсессивно-компульсивного расстройства. Одна из отличительных характеристик ОКР — эгодистонность компульсии. Напротив, библиоман считает свою страсть гармоничнейшим проявлением своих самых сокровенных устремлений.
Несмотря на эту гармонию, Филипс с годами стал одержим мыслями о дальнейшей судьбе коллекции и безуспешно пытался убедить Британскую национальную библиотеку ее выкупить. Оскорбленный очевидным равнодушием мира к делу его жизни, он указал в завещании, что книги навсегда должны остаться в Тирлстэйн-хаусе, запретив продавать или дарить хотя бы один том. Канцлерский суд вынес вердикт, что исполнение последней воли Филипса невозможно, главным образом, потому что его денежное наследство не позволяло содержать коллекцию, и она рассеялась по национальным библиотекам, частным архивам и новым собраниям, таким как коллекция Дж. Пола Гетти и Генри Хантингтона. Потребовалось почти пятьдесят лет, чтобы распродать основную массу наследия Филипса, писал Николас Басбейнс в своей книге «Тихое безумие: библиофилы, библиоманы и вечная страсть к книгам» (A Gentle Madness: Bibliophiles, Bibliomanes, and the Eternal Passion for Books, 1995). В 1929 году 30 000 манускриптов, документов и томов все еще оставались в Тирлстэйн-хаусе, упакованные в ящики и коробки. Они распродавались, поштучно и крупными партиями, еще и в 1990-х гг.
То, что стало бременем для Филипса и его наследников, как и для следующих поколений библиоманов, обернулось благом для человечества. Многие сокровища были спасены от пропажи и уничтожения благодаря компульсивности и тревоге собирателей. И это не единственное свидетельство того, что компульсивное поведение может приносить добрые плоды.
Глава 10 Обреченные творить добро
Комедийная актриса Джоан Риверс скончалась летом 2014 г. Через несколько дней после ее смерти Стив Олсен, владелец манхэттенского кафе West Bank, где она выступала накануне диагностической процедуры, приведшей к остановке дыхания, говорил с репортером нью-йоркской газеты Daily News о невероятной энергии Риверс. Незадолго до этой беседы он спросил актрису, что заставляет ее в восемьдесят один год так много работать: частые выступления в качестве стендап-комика, реалити и ток-шоу, онлайновые программы, всевозможные «красные дорожки». «Она ответила, что это поддерживает в ней жизнь», — вспоминал Олсен. Как минимум две телесети включили в посмертные ретроспективы жизни и карьеры Риверс фрагмент одного и того же интервью, в ходе которого ее в сотый раз спросили, почему она никогда не переставала работать. Риверс достала старомодный, на пружинке, ежедневник, перелистала его на месяц вперед, где квадратики всех тридцати дней были пусты, и сказала с жаром — вот он, ее самый большой страх: что никто не пригласит ее выступать, поклонники ее забудут, и она умрет как профессионал, хотя еще способна дышать и мыслить. Поэтому она работала с компульсивностью новичка, штурмующего сцену.
Компульсивная потребность сделать что-то хорошее — пусть хотя бы заставить рассмеяться пару десятков поднабравшихся посетителей прокуренного клуба на Таймс-сквер — имеет не меньше источников, чем река в пору таяния снегов. Ее может питать счастье видеть плоды своего труда, как у молодого учителя, ученики которого стали первыми жителями африканской деревни, научившимися читать. Это может быть гордость композитора при виде восторженной публики на премьере оперы, торжество победителя, обошедшего всех соперников в спортивной, деловой или научной сфере. Если стремление творить добро выражается в волонтерстве или в выборе профессии, продиктованном желанием помогать другим, им может двигать чувство единения, принадлежности к кругу единомышленников, а также удовлетворение от того, что в вас видят «хорошего человека». «Думаю, продолжительность волонтерской деятельности напрямую зависит от того, видит ли ее участник существенные результаты своих усилий», — сказала Кэрол Сэнсон, заведующая кафедрой психологии Университета Юты, обучавшая участников общественных организаций в помощь больным СПИДом и проблемным школам. Наиболее самоотверженными благодетелями, примеры которых приводит Ларисса Макфаркуар в книге 2016 г. «Тонущие незнакомцы» (Strangers Drowning), владеет настолько мощное чувство долга (нередко религиозной природы), что они готовы рисковать жизнью, собственной и своих детей, чтобы помочь даже незнакомым людям, — например, усыновить двадцать детей или основать колонию для прокаженных в джунглях, кишащих пантерами.
Однако в некоторых случаях благие устремления диктуются не положительными эмоциями, а отрицательными. Проанализировав в 1984 г. поведение и мотивы людей, склонных к выдающимся проявлениям альтруизма, психолог Нэнси Маквильямс сообщила в журнале Psychoanalytic Psychology, что «компульсивность» многих из них проистекает из «идентификации с жертвой». Компульсивными благодетелями движет не чувство долга и не психологическое удовлетворение от благого поступка, а реактивная сила тревоги. Физически ощутимое беспокойство, такое сильное, что от него перехватывает дыхание и сжимается все тело, овладевающее ими при одной мысли о том, чтобы не волонтерствовать (созидать, совершенствоваться, жертвовать больному свою почку) — словом, не творить добро, — принуждает таких людей к поступкам, прямо или косвенно идущим во благо всем. Дело лишь в том, что стимулом для них является не возможность служить добру, а необходимость справляться с тревогой. Если попутно они вызывают улыбки на лицах зрителей, значит, тем из нас, кому их компульсия идет на пользу, повезло.
Именно поэтому я включила компульсию актрисы Джоан Риверс в эту главу, а не в ту, где шла речь о трудоголиках с обсессивно-компульсивным расстройством личности. Движимая ОКРЛ потребность работать порождается страхом, что никто не сделает работу так хорошо, как вы, и убежденностью, что малейшая слабина или снижение планки приведет к недопустимым ошибкам и сбоям в мире, и без того несовершенном, с хаосом которого вы ведете непримиримую борьбу (вспомните упрямое нежелание Лайзы Джейн форматировать жесткий диск забарахлившего компьютера). Случай Риверс является примером иной компульсии, уходящей корнями в тревогу экзистенциального характера. Нечто подобное люди испытывают при осознании собственной смертности, существовании в мире страдания и зла. Некоторые из них заявляют: «Ну уж нет, я этого не допущу!»
Щедрость, альтруизм, благотворительность и другие способы помочь ближним и дальним не редкость, что признают даже циники. Тем более странно, что эти социальные явления так редко привлекают внимание ученых. Научных работ, призванных ответить на вопрос, что толкает некоторых людей на необыкновенную щедрость, жертвенность или иные формы общественного служения, крайне мало. Важным исключением является исследование одного из самых поразительных проявлений альтруизма — пожертвования собственной почки незнакомцу.
Отдать часть самого себя
Одно дело — зарегистрироваться в списке посмертных доноров органов, как 45% американцев, или сдавать кровь, как 5% людей, отвечающих необходимым критериям. Совсем другое — подарить свою почку, тем более постороннему человеку в порядке так называемого неадресного пожертвования. В США насчитывается едва ли две тысячи таких «альтруистических» случаев пересадки почки. У каждого здорового человека есть одна «запасная» почка, тем не менее такое донорство — пример выдающегося бескорыстия. Доноры не получают платы (оплачиваются только медицинские процедуры), перед операцией проходят обширное медицинское и психологическое тестирование, нередко оказываются вынуждены ехать на операцию в другой штат, выдерживают боль и тяготы послеоперационного восстановительного периода в течение многих недель и в награду за самопожертвование зачастую получают скептическое и даже враждебное отношение близких и друзей (от «Как тебе пришло в голову рисковать собой, а значит, и семьей ради незнакомца?» до «Думаешь, если у тебя теперь нет почки, ты лучше всех?»)
Этот феномен удивлял и ученых. Основы основ эволюционной биологии заключаются в том, что человек совершает альтруистические поступки, как ни странно, из эгоистических побуждений: чтобы приобрести заслугу, которую впоследствии можно будет «обменять» на равноценное благодеяние, помочь родичу — носителю собственных генов, завоевать репутацию, а вместе с ней и преимущества в естественном отборе. По сути, альтруизм является псевдоальтруизмом, утверждала наука начиная с Фрейда и до конца XX в. Готовность отдать почку незнакомцу считалась настолько психологически несообразной, что в Великобритании до 2006 г. не была узаконена, а в США до начала нашего тысячелетия рассматривалась как признак психопатологии.
Авторы новейших исследований не столь категоричны. В 2014 г. психологи из Джорджтаунского университета под руководством Абигейл Марш предложили девятнадцати донорам, отдавшим почку посторонним людям, а также двадцати участникам контрольной группы пройти мозговое картирование. Была проведена как МРТ структур головного мозга, так и функциональная МРТ, фиксирующая активность мозга при выполнении определенной задачи — в данном случае при рассматривании 80 изображений лиц с испуганным, злым и нейтральным выражением, по пару секунд на картинку. О результатах ученые сообщили в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences. Томография мозговых структур показала, что правая миндалина, отвечающая за чувство страха, у доноров примерно на 8% крупнее, чем у обычных людей из контрольной группы. Судя по данным функциональной МРТ, эта структура заметно сильнее активизировалась у доноров при виде испуганных лиц, что свидетельствует об их большей восприимчивости к проявлениям этой эмоции. Результаты исследования согласуются с ранее полученными данными, на основании которых была выдвинута теория, что биологическим фундаментом альтруистического поведения является «чуткость» головного мозга человека к страданиям других, и что печать страха на чужом лице является для альтруиста мощным стимулом сострадания. Люди, чрезвычайно восприимчивые к подобным внешним проявлениям, «могут иметь необычайно сильную склонность к альтруистическому отклику», заключает Марш: «Я предполагаю, миндалина распознает, что некто испытывает страх или угнетение, и передает информацию дальше. Крайне альтруистичные люди чрезвычайно чувствительны к страху и угнетенности других. Когда они видят проявления этих чувств у кого-либо, то испытывают их и сами». На животном, эмоциональном уровне они понимают, что значит умирать от страха.
Эта фраза приковала мое внимание. Выдающийся альтруист является воплощением расхожей фразы «Я чувствую твою боль». Он реагирует на чужой ужас и страдание так остро, что испытывает их сам, благодаря двойной роли миндалины, распознающей болезненные переживания других людей и вызывающей те же чувства у своего обладателя. Марш выяснила еще один факт. «Я всегда спрашиваю доноров о причине их поступка, — рассказала она. — Многие отвечают, что это было моментальное решение и что до этого они не знали о возможности отдать почку при жизни, а когда услышали о ней, их озарило: "Здорово, значит, я могу это сделать!" Это было мгновенное понимание: "Я должен помочь". Следовательно, это скорее эмоциональное, чем рациональное решение». Об этом говорят и результаты функциональной томографии. Доноры не взвешивают риски и преимущества жертвования почки и не приходят к беспристрастному умозаключению. Они испытывают стресс, нечто вроде сильной тревоги, избавить от которой их может только исключительный поступок.
Исследование Марш побудило меня связаться с несколькими донорами почки в надежде понять, что ими двигало. Харви Майсел, основавший общественную организацию «Сеть прижизненных доноров почки» (Living Kidney Donor Network) в 2006 г., после того как ему самому была пересажена почка его жены, ответил, что, судя по его опыту, людей толкает на донорство вера («Не забывайте также благотворения и общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу», Евр. 13:16.) Но что, если побудительным мотивом для некоторых доноров является невыносимость мысли, что кто-то страдает и может умереть из-за отсутствия того, что он в состоянии дать? При такой мотивации тревожной природы акт донорства следовало бы расценивать как компульсивный, предпринимаемый ради того, чтобы избежать состояния, близкого удушающей панике.
Эми Донахью, стендап-комику из Феникса, было немного за сорок, когда женщина, которую она читала в Twitter, обратилась с отчаянной мольбой: ее мать нуждалась в пересадке почки и стояла в списке ожидания. Не согласится ли кто-нибудь стать прижизненным донором? Лишь отбив ответ: «Конечно, почему бы нет?» — Эми решила немного порыться в интернете, чтобы понять, на что она идет.
Мгновенное решение, принятое сердцем, а не головой, характерно для работы мозга, наблюдающейся на функциональных МРТ доноров почки и свидетельствующей, что ими движет острая восприимчивость к чужому страданию. «Откуда она берется?» — спросила я Эми. Она задумалась, пытаясь разобраться в себе самой, и признала, что друзья и родственники часто отмечают ее необыкновенную сострадательность. Скажем, когда мать выгнала из дома отца-алкоголика, восьмилетней Эми пришлось взять на себя заботы о младшей сестре. Ей навсегда запомнились бесконечные ужины, собственноручно приготовленные в долговарке. И тут ее прорвало. «Что за чертовщина случилась с человечеством? — вскричала Эми. — Когда мы разучились помогать друг другу? Люди даже кровь не хотят сдавать. Сколько в нас лицемерия! Когда я вижу, как много людей нуждаются в почке, то клокочу от возмущения!» Возможно, решение Эми отдать почку по просьбе в Twitter было продиктовано ее инстинктивной сострадательностью, но осуществить свое решение ее заставило более агрессивное чувство: зрелая, принципиальная решимость не быть одной из миллионов эгоистичных, самодовольных людей, которые ее приводили ее в ярость. Немного успокоившись, Эми добавила, что я должна еще кое-что знать о ее поступке. «Мне это дало больше, чем ей, — сказала она, имея в виду женщину-реципиента. — У меня нет детей». Бездетность заставила ее искать другой способ оставить на земле свой след, водрузить свой флаг, свидетельствующий, что и она жила на свете.
Я не хочу рассматривать любое явление через призму тревожности, уподобляясь герою афоризма Марка Твена, который, имея на руках лишь молоток, во всем видит гвозди. Однако, слушая Эми, я ощущала тревогу в основе ее стремления оставить что-то после себя, сделать что-то значительное. Этого хочет большинство людей, но лишь у некоторых эта потребность сопровождается глубинной тревогой. Тревога Эми не была патологической, но оказалась достаточно сильной, чтобы подвигнуть ее на благородный поступок.
Кара Езавич, успешный творческий работник в рекламной сфере, получившая множество наград и живущая в пригороде Чикаго, стала донором почки в 2010 г. в возрасте пятидесяти четырех лет. Она собрала всю информацию о выживаемости и здоровье прижизненных доноров и была абсолютно уверена в безопасности операции, однако дождалась, когда вырастут двое ее сыновей, — просто на всякий случай. Всякому интересующемуся она охотно объяснит, что «прижизненное донорство — единственный способ сократить список ожидания и спасти жизни». (Она стала участницей сложной цепочки, позволившей пересадить пожертвованные почки восьми пациентам.)
Поначалу Кара говорила только о деле: забрасывала меня статистикой (ожидание почки нередко растягивается на пять лет, в списке стоят десятки тысяч нуждающихся в пересадке, и пять тысяч больных каждый год умирают), сетовала, что слишком мало центров диализа и программ трансплантации информируют пациентов о существовании прижизненного донорства. На вопрос о причинах, заставивших стать донором ее саму, дала ожидаемый ответ: «Чтобы помочь кому-нибудь. Я хотела сделать что-то важное и знала, что способна изменить чью-то жизнь. Хотела, чтобы у кого-то появилась возможность жить, быть рядом с близкими, чтобы какой-то человек получил второй шанс». Однако этого хотят многие люди, не совершающие подобного поступка. Что заставляет доноров переступить грань, у которой останавливаются другие? Кара, принимавшая участие в исследовании Абигейл Марш с использованием МРТ, вспомнила фразу, которую часто повторял ее отец: «Почему ты так вовлекаешься в чужие проблемы, Кара?» Медленно, размышляя вслух, она проговорила: «Верно, я улавливаю эмоции других людей. Не могу смотреть, как кто-то страдает. Знаете фразу "чувствовать чужую боль как свою"? Думаю, это про меня».
Тревожные альтруисты
Тревожность, заставлявшая Джоан Риверс работать без устали, толкнула Кару и Эми на высшее проявление альтруизма. Тревога как питательная среда для побуждения творить добро у людей определенного психологического типа недавно привлекла внимание ученых. Их работы опираются на теорию привязанности, предложенную британским психиатром Джоном Боулби в середине XX в., в которой объясняются первопричины, почему люди чувствуют себя несчастными, испытывают тревогу, злость, демонстрируют отклоняющееся поведение. Согласно этой теории, дети на первом году жизни обретают чувство эмоциональной защищенности, усваивая, что взрослые, которые о них заботятся, являются надежным источником безопасности и комфорта. Во всяком случае, так происходит в норме. Дети, которым не повезло в жизни, запоминают, что не могут положиться на людей, обязанных защищать и опекать их (скажем, родителей): то они обеспечивают комфорт, то не обеспечивают. Безопасная привязанность — это внутреннее убеждение, что ты заслуживаешь любви, и что близкие тебя не бросят, особенно в тяжелые времена.
Боулби пытался объяснить поведение детей самого раннего возраста, особенно возникновение у младенца зависимости от матери как источника комфорта и безопасности. Однако по мере расширения теории привязанности ее создатель и его последователи обнаружили, что младенческое чувство проявляется и в подростковом возрасте. Дети, испытывающие «безопасную привязанность» к близким — уверенность, что кто-нибудь всегда будет рядом и поможет, — растут хорошо адаптированными, не боящимися близости и взаимозависимости, способными формировать тесные отношения. Они считают проблемы решаемыми и верят, что любые препятствия можно преодолеть. Если же безопасная привязанность отсутствует, подобное доверие к людям и миру у растущего ребенка не формируется. Рядом с людьми он чувствует не безопасность и защищенность, а дискомфорт и одиночество, и приходит к выводу, что не может рассчитывать даже на самых близких. Вследствие этого может развиться так называемый тревожный стиль привязанности. Такой ребенок отчаянно пытается сблизиться с людьми, добиться их защиты, заслужить их любовь и поддержку. Став взрослым, он сохраняет эту жажду близости и испытывает ужасную тревогу при мысли, что партнера не будет рядом в трудную минуту, что его оставят один на один с проблемами или вообще бросят. Обычно такой человек сомневается в собственных способностях и силах справиться с трудностями или болью.
Теория привязанности связана со склонностью творить добро — скажем, становиться донором почки — следующим образом. Неуверенные люди в целом менее щедры и альтруистичны, чем имеющие чувство защищенности, замечает психолог Омри Гиллат из Канзасского университета, изучающий связь между привязанностью и альтруизмом: «Ощущение безопасности — ваш душевный НЗ. Если его совсем мало, вам приходится направлять весь этот ресурс на себя, чтобы справляться с возникающими угрозами. При большем ощущении защищенности появляется своего рода избыток, которым можно поделиться. Ваши эмоциональные потребности, по большей части, удовлетворены, что позволяет вам перенести внимание и эмоциональные ресурсы на других». Это мнение перекликается с замеченной Марш корреляцией между психологическим благополучием и готовностью к прижизненному донорству. Человеку, практически не имеющему собственных неудовлетворенных эмоциональных нужд, есть чем поделиться с окружающими. Для тех, кто не вылезает из трясины эмоционального неблагополучия, это непозволительная роскошь.
Однако у этого правила есть любопытное исключение. Для тревожного стиля привязанности характерна острая психологическая реакция на проявления чужого страдания. Ее носители могут испытывать неодолимую тягу помогать другим, совершая альтруистические поступки или иными способами проявляя благородство, «поскольку их переполняют эмоции из-за страданий других людей», по словам Гиллата. «Это может случиться и со мной», — думают они, и эта мысль вызывает огромную тревогу, от которой есть лишь одно средство — немедленно сделать что угодно, лишь бы уменьшить страдание. «Когда эмоционально незащищенные люди с высокой тревожностью становятся волонтерами, их уровень тревоги снижается, — сказал Гиллат. — Они фактически обретают чувство безопасности».
Много лет назад я прошла недельный семинар в Дармсале, во время которого нейроученые рассказали далай-ламе об изучении способности человеческого мозга перестраивать собственную структуру и функции под влиянием опыта и умственной тренировки. Один из буддийских ученых, монах французского происхождения Матье Рикар, по этому поводу заметил: «Это работает, потому что вы очень хотите помочь, а еще потому, что настолько переживаете при виде страданий, что действуете, лишь бы меньше страдать самому». Таким образом, некоторые люди чувствуют необходимость помогать другим, потому что испытывают слишком сильное давление из-за существования в мире больших и малых бед. Зачастую тревожные люди становятся волонтерами именно по этой причине.
Эти выводы согласуются с данными исследований с участием прижизненных доноров почки, эмпатия которых, оказалось, проистекает из острой восприимчивости к страданиям других. В других случаях облегчить тревогу удается менее сильными средствами.
• • •
Когда в США начался массовый перевод стационарных больных на амбулаторное лечение, Кен Дадек пошел работать в дом-интернат за минимальную зарплату. «В те времена многие болезни, как мы сейчас знаем, попросту неверно воспринимались, — объяснил он. — Одного человека поместили в лечебницу из-за заболевания, которое теперь называется биполярным расстройством. Он рассказал, что играл на трубе в биг-бэнде, и меня мучила мысль, как могло случиться, что он здесь оказался! Он был достойным и интересным человеком, но болезнь мешала ему жить нормально. Я видел, что в обществе есть целая группа людей, с которыми ужасно обращаются, в том числе и те, кто лечит психические заболевания. Тогда массово применялись аминазин и другие мощные седативные нейролептики. Больным шизофренией и биполярным расстройством их буквально горстями скармливали. Люди от них превращались в пускающих слюни сомнамбул и двигались еле-еле».
Какая удручающая растрата человеческих сил и ресурсов, и сколь многим ее можно поставить в вину! «Психиатрия, психология, социальная работа — эти сферы деятельности должны бы ответить за провал, растянувшийся на десятилетия», — сказал Дадек по поводу дурного обращения с психически больными людьми в период, считавшийся временем научного взлета. Вчерашние студенты начинали с самых тяжелых больных, с годами переходя к более простым, не столь хлопотным случаям. Таким образом, наградой за профессиональный опыт становилась возможность не работать с пациентами, наиболее нуждающимися в помощи. «У меня в голове не укладывалось, что можно так плохо обращаться с душевнобольными, прежде всего, что так могут себя вести специалисты по душевным болезням», — вспоминал Дадек.
В 1944 г. шестеро бывших пациентов психиатрической больницы и двое добровольцев создали группы «Мы не одни» («We Are Not Alone») с целью преодолеть социальную изоляцию пациентов с тяжелыми психическими расстройствами: шизофренией, биполярным расстройством, депрессией. В 1948 г. они купили таунхаус в одном из районов Манхэттена — Адской кухне, где в те времена бушевали кровавые бандитские разборки. Так возник Fountain House, где предлагаются образовательные программы — прежде всего, молодым людям, с которыми в университете случился психотический эпизод, — а также профессиональное обучение. Дадек стал президентом Fountain House в 1992 г. «Это роковые заболевания, поскольку они становятся вашим новым "Я". И вот вы уже не человек с шизофренией, а шизофреник, — заметил он. — Ваша личность подменяется диагнозом, ваше человеческое начало никого не интересует. С самых первых дней своей деятельности я умел видеть в диагнозе человека. Я никогда не мог удержаться от того, чтобы сделать шаг навстречу и обнаружить человека, а не его болезнь». Несправедливости, свидетелем которых он стал на заре своего пути, заставили его посвятить этой деятельности всю жизнь.
Семидесятичасовая рабочая неделя и полуночные звонки в этой жизни — норма. Выдерживать такой режим помогает еще одно обстоятельство. Дадек вырос в сплоченной католической общине под Бостоном в семье ветерана Второй мировой войны, страдавшего от посттравматического синдрома и вынужденного, несмотря на IQ в 160 баллов, довольствоваться работой молочника и сторожа. В психически больных клиентах Fountain House Дадек видит своего отца, за их обкорнанными судьбами — огромный нераскрытый потенциал. Есть и еще один стимул. Его брат, двумя годами младше, умер в четырехлетнем возрасте. «Это движет мной, а как именно, я и сам не вполне понимаю, — сказал Дадек. — У меня такое чувство, что я живу за нас двоих. Думаю, это один из источников моей компульсивной приверженности делу».
Обреченные творить
В психологии есть направление научной мысли, согласно которому любое сознательное действие предпринимается человеком с единственной целью — перехитрить смерть. Действия могут быть любыми — от рождения детей, которые дадут жизнь своим детям и так далее, передавая наши гены по бесконечной цепочке поколений, до создания творческого наследия, способного пережить бренное тело. Последний мотив слышится в высказываниях художников, на протяжении столетий пытающихся объяснить, почему они творят. Джефф Кунс (род. 1955) в интервью 1986 г. говорил об «ответственности, проистекающей из убеждения, что искусство способно каким-то образом повлиять на человечество и сделать мир лучше». Виллем де Кунинг (1904–1997) выразил эту идею афористически лаконично: «Я не пишу, чтобы жить, я живу, чтобы писать».
В большинстве произведений искусства компульсия неочевидна для неспециалиста, но в некоторых столь же заметна, что и краска на холсте. В «Истории обсессий» (Obsession: A History) Леннард Дейвис описывает трагическую судьбу художника-неоконцептуалиста Марка Ломбарди, знаковыми работами которого стали рисунки — точнее, схемы — сетей отношений. Он «компульсивно создавал комбинации кругов и соединительных дуг», изображающие движение денежных потоков в мире, между политиками, компаниями и индивидами, например «Билл Клинтон, Lippo Group и Джексон Стивенс из Литтл-Рока в Арканзасе» (это название одного из рисунков[57]). Однако в этом не было и тени авторского вымысла. Ломбарди тщательно изучал каждую связь и сделку. Согласно каталогу «Марк Ломбарди: глобальные сети» (Mark Lombardi: Global Networks), в его архиве скопилось более 14 000 карточек размером три на пять дюймов с заметками о денежных потоках, связанных со скандалом «Иран-контрас» в годы президентства Рональда Рейгана, «Отчетом комиссии Тауэра» и другими конспирологическими «хитами» 1980-х гг. Друзья Ломбарди рассказывали о его «поглощенности» и «исступленности» в работе, а один из них даже предположил у него «какую-то разновидность мании» из-за привычки «работать без сна много дней подряд». Он вырезал статьи из газет и политических еженедельников и отслеживал реакцию правительства на скандалы, часто выпрашивая нужные ему номера у букинистов. В 2000 г. Ломбарди повесился.
«Некоторых художников и других творческих людей отличает неуспокоенность», — поведала мне Марси Сигал. Она начала исследовать феномен творчества в 1977 г. в Международном центре изучения креативности при Университете штата Буффало, в дальнейшем став консультантом, помогающим корпорациям и другим организациям раскрыть творческий потенциал своих сотрудников. По инициативе Сигал родилась Всемирная неделя креативности и инноваций, которая впервые прошла в Канаде в 2001 г. и распространилась по всему миру. Как многие другие специалисты, занятые в расширяющейся области знания — «исследованиях креативности», — Сигал убеждена, что любой человек способен к творчеству. Во всяком случае, к «творчеству с маленькой буквы»: не каждому дано открыть принцип неопределенности или написать «Гернику», но каждый в состоянии придумать, чем открыть заклинивший замок двери общественной уборной, или найти замену шоколадной крошке, обнаружив во время готовки, что она закончилась.
Основу работы Сигал составило изучение темпераментов, обусловливающих креативность, — она выделила четыре типа — и специфической «неуспокоенности», всякий раз побуждающей человека к творчеству. Неуспокоенность людей художественного / импровизационного темперамента, утверждает она, порождается ощущением, что они «по горло сыты» привычным образом действия или несовершенным инструментом. «Они начинают искать иные пути, — пояснила Сигал. — Это проявление энергии внутренней тревоги. Они испытывают раздражение в существующих обстоятельствах и пускают это некомфортное ощущение в дело. Оно заставляет их творить». Физик Артур Шавлов (1921–1999), разделивший с Николасом Бломбергеном Нобелевскую премию 1981 г. за вклад в изобретение лазера, сказал об этом так: «Самыми успешными учеными часто становятся не самые талантливые, а побуждаемые любопытством. Им непременно нужно найти ответ». (Лучше было бы сказать «понуждаемые», а не «побуждаемые», однако следует учесть, что Шавлов занимался физикой, а не психологией.)
«Катализаторы / идеалисты», по классификации Сигал, испытывают тревогу из-за состояния мира. «Они считают его неприемлемым, — пояснила она, — и не ведают покоя, пока ситуация не изменится». Представителей третьей группы, стимул которых к творчеству проистекает из удовольствия от мастерства и достижений, «выводят из себя некомпетентность и глупость». Плачевное положение дел или ощущение, что сами они мало чего добились, «толкает их к действию». Наконец, носители четвертого типа креативного темперамента, которых Сигал называет «стражами / стабилизаторами», чувствуют беспокойство, когда не все идет гладко. Видя, что их организация, семья или общество в целом движутся к краху, они считают необходимым вмешаться и предотвратить катастрофу. «Следствием неуспокоенности у людей всех четырех типов может стать творчество в любой сфере» — от искусства до науки и бизнеса.
Тереза Амабиле, профессор Гарвардской школы бизнеса, изучающая креативность с 1980-х гг., разработала так называемую компонентную теорию творчества. Согласно этой модели, для творчества необходимо обладание определенными навыками в избранной сфере, а также то, что она называет «внутренней мотивацией к решению задачи» — а мы «компульсией, питаемой тревогой». В статье 2012 г. Амабиле говорит о «страсти: мотивации браться за дело или решать проблему, поскольку это представляет интерес, затягивает, позволяет испытать себя или приносит удовлетворение». Замените «мотивацию» на «компульсию», и вы получите стимул к творчеству. Не каждый творческий человек испытывает столь сильную потребность творить, но она должна присутствовать хотя бы в какой-то мере, чтобы выдерживать давление инерции и скепсиса, противостоящих новаторским идеям. Например, в 1995 г. физик Джо Джейкобсон из криптолаборатории Массачусетского технологического института MIT Media Lab, отдыхая на пляже, обнаружил, что ему больше нечего почитать. Вспышка раздражения — в терминологии Сигал, чувство «с меня хватит» и «все должно быть иначе», — заставила его остаток дня посвятить мозговому штурму, результатом которого стала идея электронных чернил. Эта технология легла в основу Sony eReader и Amazon Kindle.
Роза
В 1958 г. художница Джей Дефео (1929–1989), тогда двадцатидевятилетняя, начала работу над произведением, которое впоследствии стало «Розой». Полотно размером примерно 2,4 × 3,3 м, толщиной около 27,5 см и весом более 900 кг создавалось в течение восьми лет. Новая Пенелопа эры битников трудилась над ним бесконечно, соскребая слои краски, чтобы положить на их место новые (местами красочный слой достигает 20 см). Хотя Дефео создала тысячи работ, именно эта «стала главной в ее творчестве и сделала ей имя… никогда, по-видимому, не позволяя обрести душевное равновесие», написала Марла Пратер, куратор Музея Уитни (где с 1995 г. хранится полотно), в предисловии к вышедшей в 2003 г. книге «Джей Дефео и "Роза"» (Jay DeFeo and The Rose).
Художница была бессильна противиться зову картины, писала в эссе 2003 г. романистка, в прошлом журналистка Марта Шеррилл: «Процесс ее ["Розы"] могучего разрастания поглощал ее. Казалось, творение обладает необъяснимым магнетизмом, притягивая к себе все и вся — людей, живопись, хвою новогодней ели, стоявшей в студии Дефео, и саму художницу — и не желая отпускать… Ходила шутка, что картина будет закончена лишь со смертью автора, и обе они, Дефео и "Роза", обрастали мифом — что же это такое: религия, связь, компульсия…» В одном из писем 1959 г. Дефео поведала о страданиях, причиняемых компульсивной потребностью трудиться над полотном, о том, что она «хочет борьбы, какой бы болезненной она подчас ни была», поскольку ее отсутствие было бы несравненно худшим бедствием. «Роза» стала ее Белым китом, ее чудовищем Франкенштейна.
В 1965 г. «Роза» была перевезена в Художественный музей Пасадены (чтобы вытащить картину из квартиры Дефео на верхнем этаже дома на Филмор-стрит в Сан-Франциско, пришлось снять большой кусок штукатурки и лепнины), но и после этого художницу подмывало вносить изменения. Она испытывала «одержимость», сказал тогдашний куратор Джеймс Деметрион, и проработала над живописью еще три месяца, прежде чем согласилась представить полотно публике.
В картине угадывается одновременно нечто от классицизма, рококо и барокко. Ее безбрежную, как морская гладь, поверхность покрывают «иссеченные и расчлененные» красочные слои почти скульптурного объема, изображающие звездообразную структуру (это может быть что угодно: вулкан, чрево, философский камень, наконец, цветок) с расходящимися во все стороны лучами или, напротив, устремляющимися к центру из отдаленных пределов Вселенной, словно Дефео изобразила гипнотическую, всевластную, ошеломляющую, магическую силу притяжения, предопределившую ее почти рабское служение. Это картина, разверзающаяся перед «жертвой урагана, влекомого к глазу бури», говорит Дейвис. Томас Ховинг включил «Розу» в книгу «Величайшие произведения искусства Западной цивилизации» (Greatest Works of Art of Western Civilization), изданную в 1997 г. Когда в Музее Уитни картину решили выставить на временной экспозиции, восемь сотрудников трудились почти целый день, чтобы извлечь ее из защитного стального кожуха и доставить из запасников, задействовав огромный подъемник, грузовик, автопогрузчик и множество тележек.
Компания у Дефео и Ломбарди достойная. В течение 444 дней 1888–1889 гг. Винсент ван Гог создал во французском Арле около двухсот живописных полотен, в том числе такие знаменитые, как «Подсолнухи» и «Рыбацкие лодки в Сен-Мари», а также более ста рисунков и акварелей — в среднем новое произведение появлялось каждые 36 часов. Как сказал невролог из Гарварда Шахрам Кхошбин в интервью Los Angeles Times в 1985 г., «когда смотришь на эти работы, зная, что каждая создавалась за день, то понимаешь, какая невероятная компульсия должна владеть человеком, чтобы так трудиться».
Искусство слова не менее, чем изобразительное искусство, вызывает компульсию созидать. Четыре величайших европейских романиста XIX в. — Диккенс, Бальзак, Троллоп и Золя — были и самыми плодовитыми, и это еще слабо сказано. Количество их журналистских статей и литературных сочинений, критики и писем ошеломляет, а их профессиональные привычки компульсивны настолько, что можно говорить о мономании: от письменного стола их не могло оторвать практически ничего, кроме необходимости есть и спать. Сравните полное собрание сочинений Диккенса или Бальзака с собранием Шекспира, и великий автор XVI в. предстанет едва ли не любителем, балующимся сочинительством по выходным. Если литераторов прошлого заставляло браться за перо лишь вдохновение (или кредиторы), то писательство нового времени сродни марафону. Троллоп написал 47 романов и еще 16 книг[58]. Бальзак создал свыше трех тысяч персонажей и стал автором сотен пьес, рассказов и романов, проводя за столом от пятнадцати до восемнадцати часов в день.
Над камином в доме Золя висел плакат с латинским изречением Nulla dies sine linea — «Ни дня без строчки». Так он и поступал, написав 37 романов, еще 10 книг и бесчисленное множество критических и газетных статей и писем. Благодаря тому, что он был освидетельствован врачебной комиссией в составе пятнадцати человек, до нас дошли сведения, что этот писательский марафон питался тревогой, вследствие чего может расцениваться как компульсивный. Расспросив Золя о его писательских привычках и душевном состоянии, врачи пришли к выводу, что он питает к «порядку» страсть, «подчас достигающую болезненной степени, поскольку она причиняет ощутимое страдание при нарушении порядка», сообщил Артур Макдональд в 1898 г. в эссе «Эмиль Золя: очерк его личности, с иллюстрациями» (Emile Zola: A Study of his Personality, with Illustrations). Во времена Золя понятия «обсессивно-компульсивное расстройство» не существовало. Представляется, что «страдание при нарушении порядка» заставляло Золя бороться с хаосом, структурируя непокорный мир посредством литературного вымысла — поскольку писатель волен распоряжаться своими персонажами и их миром на свое усмотрение, — а также через литературную критику и журналистику, в которых силы анализа и репортажа противодействуют хаосу. Движущей эмоцией Золя был страх, утверждал Макдональд, и он «совершал определенные поступки из страха», что может случиться, «если этого не делать»: «Умонастроением, заставлявшим Золя работать, было не удовольствие, а необходимость служить возложенной на себя миссии».
Страсть Золя к порядку и тревога, поглощавшая его при мысли о последствиях отказа от писательского труда, оказались лишь первыми проявлениями его страданий, как выяснили врачи. Он был также подвержен «мании сомнения» — форме ОКР, проявлявшейся в страхе утратить способность писать. В качестве защитной реакции он фактически писал не переставая, как продолжает шагать канатоходец, сознающий, что остановка означает смерть. Консилиум выявил у Золя и другие проявления ОКР, в том числе компульсивную потребность считать. «На улице он пересчитывает газовые рожки, двери и особенно упряжных лошадей, — писал Макдональд. — Дома считал ступени лестницы и предметы на бюро». Макдональд задавался вопросом, в какой степени Золя был обязан «интеллектуальными возможностями» и достижениями своей писательской компульсии и другим странностям. «Патологические проявления являются столь частыми спутниками великого таланта и гения, — заключил он, — что это… позволяет предположить наличие причинно-следственной связи».
Яснее всех романистов XIX в. видел ядовитый источник своего творчества Ф. Достоевский. Задаваясь риторическим вопросом о цели писательского труда (в «Записках из подполья»), он отвечает устами лирического героя: «Может быть, я от записывания действительно получу облегчение»[59]. И, говоря о воспоминании, которое «припомнилось… ясно еще на днях» и с тех пор «давит», так что «надобно от него отвязаться», добавляет: «Я почему-то верю, что если я его запишу, то оно и отвяжется». Записать, по его внутреннему убеждению, — это единственный способ освободиться.
Сегодня у Достоевского, как и у Золя, вероятно, диагностировали бы гиперграфию — компульсивную, или непреодолимую потребность писать. Типичным симптомом является количество написанного, но наиболее интересна в гиперграфии сама властная потребность писать, столь же мощная и порождающая такую же тревогу, что и компульсивная тяга больных ОКР наводить чистоту, проверять, все ли в порядке, считать или выравнивать предметы.
«Неизлечимый писательский зуд»
В 1998 г. Элис Флаерти, невролог Гарвардской медицинской школы, родила недоношенных двойняшек, которые умерли вскоре после появления на свет. Она провалилась в черную бездну отчаяния, из которой, казалось, не будет выхода. Но прошло чуть более недели, и Элис охватило совершенно иное чувство — неодолимая потребность писать, выразить на письме каждую свою мысль, излить на бумагу переполняющий ее поток переживаний. Она и прежде много писала, ведя во время ординатуры такие подробные записи, что из них получился учебник неврологии. Однако после смерти сыновей «казалось, кто-то нажал на рычаг», сказала она в интервью Psychology Today в 2007 г.: «Все представлялось настолько важным, что я должна была все это записать и сохранить».
Неспособная противиться желанию писать, она делала заметки на собственном предплечье, стоя в дорожных пробках. Царапала на стикерах мысли, с которыми просыпалась среди ночи. Четыре месяца она ничего больше не могла делать. Более того, неодолимая компульсия записывать все размышления и переживания вернулась спустя год, когда у нее родились две девочки, также недоношенные, но на сей раз выжившие. Одним из результатов стала вышедшая в 2004 г. книга «Полуночная болезнь» (The Midnight Disease), посвященная как способности, так и неспособности писать (нейробиологии креативности и причинам писательского блока) с кратким обзором известной ей на личном опыте гиперграфии — неодолимой компульсии писать, причем много и подробно, как Достоевский. «Что-то давило меня изнутри, требуя выхода, как будто сама я пыталась от себя освободиться, — поведала Флаерти читателям. — Слова неслись из меня, будто крысы с тонущего корабля… не успевающие выбраться, как бы ни старались».
Поэтесса Тина Келли описывает физически ощутимые дискомфорт и беспокойство, одолевающие ее, если она слишком долго не творит. «Когда я переживаю любую жизненную драму, то первым моим побуждением становится рассказать о ней в дневнике, просто чтобы освободиться, а затем описать снова, уже в стихотворении, чтобы освободить от нее весь свой мир, — объяснила она. — Я всегда чувствовала целительное свойство сочинительства». В начале каждого дня она «обязана» записать, что произошло накануне, и, если сопротивляться этой компульсивной потребности, игнорировать ее — хотя бы медлить с откликом из-за множества других дел «или потому, что жизнь — это безумие», — тревога становится гнетущей. Келли издала два сборника поэзии и, поскольку стихами сыт не будешь, много лет проработала репортером в New York Times. Террористическая атака 11 сентября 2001 г. застала ее в штате газеты, выпустившей с 15 сентября 2001 г. по 10 сентября 2002 г. более 2500 «портретов жертв» — литературных образов-набросков многих из тех, кто погиб в тот день. Келли написала 121 портрет, и ею также двигала неодолимая потребность навеки сохранить образы погибших людей в одном-двух выразительных штрихах: вот пожарный, носивший единственные в его части форменные ботинки 48 размера, а вот финансовый работник, в детстве догадавшийся нагрузить самодвижущуюся газонокосилку шлакобетонным блоком, чтобы она стригла газон без его участия. «Было бы несправедливо не сделать [их портреты]», — сказала Келли. Ее компульсию можно усмирить, только сдавшись ей, поэтому она пишет, пишет и пишет.
Компульсивная потребность писать, вероятно, существует с тех давних пор, когда первый вавилонский писец коснулся стилосом глиняной таблички. В V в. до н.э. Гиппократ назвал ее «священной болезнью». Описание «неизлечимой болезни писательства» оставил римский поэт начала II в. Ювенал. Проявление этой склонности у Золя заинтересовало его современников-ученых, однако следующие поколения исследователей практически не уделяли ей внимания.
Ситуация начала меняться в 1970-х гг. В новаторской статье неврологов из Бостона Стивена Ваксмана и Нормана Гешвинда была прослежена связь гиперграфии у семи больных эпилепсией с «коротким замыканием» в височной доле головного мозга. Электрическая активность в этой области мозга не только провоцировала у пациентов судорожные припадки, но и заставляла их писать. Одна больная, которой на момент исследования было 24 года, с пятнадцатилетнего возраста «ежедневно по несколько часов вела записи» и «постоянно имела при себе несколько блокнотов», сообщили врачи в журнале Neurology в 1974 г. Сама она объяснила это стремлением «знать, чем занята», поэтому она фиксировала все, «что делала в предшествующие часы», включая описание приступов и галлюцинаций. Кроме того, она составляла обширные списки, в том числе треков в своей фонотеке, песен, которые ее отец играл на губной гармошке, мебели в своем жилище, а также всего, что ей нравилось и не нравилось. Она вспомнила, что, «по крайней мере, несколько сот раз записала слова песни, которую выучила в семнадцать лет,.. на всем, что было под рукой (обрывки бумаги, салфетки)». Кроме того, по ее словам, «иногда она испытывала потребность многократно записывать одно и то же слово и однократно или несколько раз переписывать этикетки купленных товаров».
Другой больной эпилепсией компульсивно печатал ежедневные отчеты о своих переживаниях, хотя, как это обычно бывает при гиперграфии, плоды его труда не имели литературных достоинств. «Прошлым вечером было прохладно, поэтому я открыл окно и выключил кондиционер. Спал я очень плохо. Просыпался примерно каждые два часа. Сегодня я повесил три картины на винты, которые вкрутил в стену. Я при этом так устал, что мне пришлось лечь. Я проспал два часа». Этот фрагмент буквально кричит о стремлении зафиксировать каждый миг, чтобы он не канул в черную бездну забвения, и быть понятым возможным читателем — включая самого себя спустя какое-то время. Частое использование круглых скобок призвано гарантировать точную передачу смысла: «По выходным (суб. и воскр.) я не хожу гулять». «Значительная часть проанализированных нами письменных материалов имеет компульсивный характер», — заключили Ваксман и Гешвинд с характерной для научных статей сдержанностью формулировки.
Неврологи проследили корни гиперграфии вплоть до источника эпилептических припадков пациентов — височных долей головного мозга. Они располагаются сразу за ушами, что закономерно для структур, обрабатывающих поступающую слуховую информацию, в том числе в так называемой области Вернике, отвечающей за восприятие речи. Они также имеют развитые связи с лимбической системой, которая порождает и перерабатывает эмоции. Гешвинд считал одной из причин гиперграфии своих пациентов углубленный эмоциональный отклик, вследствие которого они чувствовали больше и острее, чем люди, чья лимбическая система не подвергалась регулярному воздействию электрических бурь в височных долях. «Представляется, — писал Гешвинд, — что отклонения в поведении [включая компульсивное писательство] являются результатом периодических пиков активности в височных долях, приводящих к изменению восприимчивости лимбической системы». Говоря земным языком, на пике эмоций — крайне заостренных вследствие повышенной активности лимбической системы, провоцируемой «коротким замыканием» в височных долях, — человек вынужден заносить слова на бумагу (или экран), поскольку это кажется единственным способом облегчить страдания из-за безответной любви или трагической утраты, отверженности, войны или несправедливости. «Поскольку все события приобретают особую значимость, — заключил Гешвинд, — пациенты часто спасаются тем, что фиксируют их на письме, чрезвычайно многословно и крайне эмоциональным языком». Иногда в ход идут одновременно слова и рисунки. Ван Гог за 444 дня не только создал 300 художественных произведений, но и написал больше 200 писем, минимум на шесть страниц каждое, в которых описывал события каждого дня. У него также была эпилепсия.
Если компульсивная потребность писать не дополняется талантом масштаба Достоевского, получается бостонский отшельник Артур Крю Инман (1895–1963). Отпрыск разбогатевшего на хлопке и тканях семейства из Атланты, он перенес нервный срыв после двух лет обучения в Хаверфордском колледже и бросил учебу. Живя на деньги семьи, он в конце концов осел в Бостоне и принялся вести дневник, составивший в итоге 155 рукописных томов, содержащих свыше 17 млн слов. («Дневник Инмана: публичная и приватная исповедь» в виде двухтомника на 1661 страницу был издан Harvard University Press в 1985 г. и с достойной восхищения осторожностью аннотирован как «один из величайших литературных курьезов нашей эпохи».) Он включал не только историю самого Инмана, его страны и города, где он обрел приют, вкупе с каждой мыслью автора о политике, революции, кошмарных снах и компульсиях, но и истории молодых женщин, которых он нанимал в качестве «рассказчиц» — они часами сидели в полутемной комнате и делились с ним подробностями своих биографий.
Либби Смит, редактор «Дневника Инмана», потративший несколько лет на то, чтобы прочесть оригинал, помог Инману заполнить анкету, призванную выявить его личностные и поведенческие особенности. Он получил высокие баллы по параметрам «компульсивное внимание к деталям», которое проявилось в стремлении составлять списки и придерживаться строгого расписания, а также «углубленность всех эмоций», «идеи величия» и «ощущение особой судьбы». В совокупности они отражали (или порождали) разъедающую душу тревогу, успокоить которую можно было, лишь изливая на бумагу каждую мысль, каждое наблюдение, чувство и переживание. Сам Инман сказал о себе следующее: «Я живу в ящике [фотографического аппарата], в котором сломался затвор, не работает светофильтр и стоит слишком чувствительная пленка и все, что есть красивого или приятного, неизбежно фиксируется болезненно или искаженно… Элементарнейшие проявления сущего, солнечный свет и звук, неровные поверхности, умеренные дистанции преодолевают мои неэффективные барьеры и врываются в самые сокровенные уголки моей разрушенной крепости, и нет ни святилища, ни цитадели, где бы я мог укрыться от своей чувствительности, ни наяву, ни во сне».
Глава 11 Компульсивный мозг
Сорокашестилетний житель Южной Кореи всегда отличался прекрасным здоровьем. Катастрофа разразилась неожиданно: разорвалась аневризма сосуда, соединяющего две жизненно важные артерии головного мозга. Как правило, больные после этого лишаются периферического зрения и навсегда остаются частично слепыми, однако в данном случае последствия оказались неожиданными.
Разрыв аневризмы привел к обширному повреждению левой стороны орбитофронтальной коры головного мозга пациента — зоны, расположенной непосредственно за глазами (откуда другое ее название — глазнично-лобная кора), которая ведает такими высшими когнитивными функциями, как планирование и суждение, — а также левого хвостатого ядра, находящегося непосредственно под корой. Длительное время считалось, что функции этой структуры, похожей на запятую с поджатым хвостиком, ограничиваются контролем произвольных движений. Оказалось, однако, что она участвует и в когнитивной деятельности — планирует действия, которые приведут к поставленной цели, и указывает орбитофронтальной коре, сколько внимания уделить поступающей от органов чувств информации. В силу последнего обстоятельства нарушения деятельности хвостатого ядра могут привести к переоценке значимости информации и, вследствие этого, к обсессивно-компульсивному расстройству, как будет показано далее.
В начале 1997 г. этот пациент перенес нейрохирургическое вмешательство, в ходе которого были произведены реконструкция поврежденного сосуда и удаление скопившейся в головном мозге цереброспинальной жидкости. В течение двух месяцев он практически полностью поправился, если не считать одного удивительного изменения в поведении. В парке, куда он впервые после разрыва аневризмы выбрался на прогулку, его внимание приковал какой-то маленький предмет на земле. Оказалось, это пулька от игрушечного пистолета. Он поднял пульку. Затем еще одну. И когда бы ни шел в парк — фактически всякий раз, выходя из дома, — испытывал неодолимую потребность искать эти пульки. Никакие другие предметы — монеты, клочки бумаги, какие-либо ценные вещи — его не интересовали, только эти маленькие, величиной с ластик на торце карандаша, кругляши, в поисках которых он часами, не поднимая глаз, бродил по дорожкам парка и улицам даже в самую скверную погоду. За два года, предшествовавших обращению в медицинский центр Samsung в Сеуле, он насобирал больше 5000 пулек. Он хранил их в бутылках, писали невролог Дук На с коллегами в журнале Neurology в 2001 г., и никогда не испытывал побуждения достать их и как-то использовать или начать коллекционировать что-нибудь другое.
Повреждение орбитофронтальной коры у других пациентов провоцировало иные формы компульсивного собирательства. У сорокадевятилетнего француза, проходящего в 1995 г. лечение опухоли головного мозга в парижской больнице «Сальпетриер», КТ-обследование выявило две большие пустоты в лобной доле. В течение последующих двух лет у больного развилась склонность собирать бытовую технику. В отчете группы неврологов больницы под руководством Эммануэль Воль в Neurology в 2002 г. сообщалось, что он бродил по родному городу в поисках телефонов, посудомоечных машин, телевизоров, пылесосов, холодильников и видеомагнитофонов (напомню, дело происходило в 1990-х гг.). Действовал пациент методично и эффективно, выходя на поиски дважды в месяц с неотвратимостью судьбы. Первые тридцать пять телевизоров он поставил в гостиную, а когда туда ничего больше нельзя было пристроить, заполнил своими мусорными сокровищами сначала комнату дочери, затем коридоры, ванную, три подвальные кладовые и, наконец, вентиляционные шахты. Помимо компульсивной потребности собирать бытовую технику, никаких когнитивных нарушений он не демонстрировал, не считая того, что никакое другое занятие не вызывало у него интереса.
• • •
Эти двое больных, кореец и француз, оказались жертвами экспериментов природы, обернувшихся серьезными нарушениями в головном мозге, которые привели к причудливым компульсиям. Напрашивается вывод, что причиной компульсий является повреждение фронтальных зон мозга и / или хвостатого ядра. Но не все так просто.
Нейроученые не уверены, что причиной компульсивного поведения являются мозговые нарушения. Все, что они знают наверняка, — компульсия может проникнуть в разум самыми разными способами. Исследования свидетельствуют о многообразии путей, приводящих мозг в тревожное, компульсивное состояние одержимости действием. В качестве примера можно привести широкий спектр психологических причин патологического накопительства, в том числе глубокую эмоциональную привязанность к объективно не имеющим ценности вещам и несовершенный процесс принятия решений, вследствие чего страдающий данным расстройством не способен понять, от какого предмета следует избавиться, а какой оставить. Поскольку любая психическая деятельность, в том числе чувства и мысли, отражает активность мозга, каждая психологическая черта должна иметь нейробиологическую основу.
Основа эта, однако, является чертовски неуловимой. Долгие годы психиатры безуспешно бьются над поиском объективных диагностических критериев сотен болезней, признаваемых этой областью медицины. В их арсенале отсутствуют объективные данные, сравнимые с результатами измерения артериального давления или хотя бы мозгового картирования. Психиатры и нейробиологи не жалеют сил, чтобы решить эту проблему, укладывая едва ли не каждого несчастного душевнобольного на стол МР-томографа, чтобы измерить его мозговую активность и найти корень зла, но эти усилия почти всегда оказываются безрезультатными. Эта ситуация настолько беспокоила психиатра Томаса Инсела, на тот момент директора Национального института психического здоровья, что в 2013 г. он отверг «Диагностическое руководство» по психиатрии из-за «недостоверности» и неспособности обосновать диагнозы объективными лабораторными тестами. «Пациенты с психическими расстройствами заслуживают лучшего», — написал он в институтском блоге.
Нейронная сеть, отвечающая за ОКР
Психиатры полагают, а Бог располагает. В поиске мозгового субстрата обсессивно-компульсивного расстройства был достигнут такой прогресс, что это заболевание стало примером превращения психиатрического диагноза в неврологический. Первые шаги к открытию были совершены в конце 1980-х гг., когда психиатры и нейроученые Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе опубликовали в газете объявление с предложением людям, страдающим компульсиями, принять участие в мозговом картировании. Они получили сотни откликов и после стандартной психологической оценки провели сканирование мозга двух десятков добровольцев с использованием самой передовой на тот момент технологии — позитронно-эмиссионной томографии (ПЭТ). В результате открылась устойчивая картина повышенной активности в трех зонах мозга: орбитофронтальной коре, в соседствующей с ней передней части поясной извилины и в полосатом теле, располагающемся в глубинной области мозга прямо перед ушами.
У орбитофронтальной коры множество функций. Она оценивает сложные решения, особенно сопряженные с риском, а также отвечает за навязчивые размышления (руминации) и беспокойство. Для ОКР особенно важна ее функция по выявлению ошибок: она сравнивает реальные события с ожидаемыми, отмечая, к примеру, отсутствие вознаграждения, на которое мозг привык рассчитывать. Нейроны орбитофронтальной коры активируются, когда что-то идет не так, действительность расходится с ожиданиями или ощущается некое упущение — например, слегка перекосилась висящая на стене картина, книги лежат неровной стопкой, консервы не рассортированы по наименованиям, в общем, наблюдается любое из бесчисленных несовершенств, ввергающих в панику человека с ОКР. В результате возникает назойливое, неотступное, глубинное чувство непорядка. Повышенная активность в орбитофронтальной коре при ОКР является вероятной причиной болезненной восприимчивости к ошибкам, которые большинство из нас не замечают.
Передняя часть поясной извилины выявляет нарушения несколько иначе. Она активируется, когда вы совершаете ошибку или делаете выбор, который осознанно или подсознательно считаете неправильным, — например, если в популярном психологическом тесте Струпа на исключение нерелевантной информации вы называете цвет шрифта, которым набрано слово, обозначающее какой-то другой цвет (скажем, слово «зеленый» набрано красным шрифтом). Эта область мозга реагирует на ошибки, совершенные вами, а не на отклонения от правильного порядка в окружающем мире.
Полосатое тело получает сигналы от одних зон мозга и передает их в другие, настолько многочисленные, что его можно сравнить с телефонным коммутатором 1940-х гг., сплошь покрытым проводами, — только в n раз более сложным. Оно участвует в произвольных движениях, обучении, запоминании и целенаправленном поведении, но с точки зрения изучения ОКР особенно важен один из компонентов этой зоны мозга — так называемое хвостатое ядро, протянувшее ингибиторные аксоны к большому количеству других мозговых структур. Это один из «утихомиривающих» центров мозга. (Напомню, что именно хвостатое ядро было повреждено у пациента, у которого развилась страсть к собиранию пулек от игрушечного пистолета). Чем активнее хвостатое ядро, тем больше импульсов проходит через эти аксоны и тем настойчивее «звучит» призыв успокоиться. При аномально повышенной активности этой области сообщение из рекомендации «Успокойся» превращается в приказ «Заткнись!». Одна из структур, которая при этом оказывается практически дезактивированной, сама отвечает за блокирование активности третьей структуры, следующей за ней по линии передачи сигнала. Если отказывает глушитель, звук выстрела раздается в полную силу. Аналогично, если ингибирующая структура блокируется вследствие гиперактивности хвостатого ядра, ничто не ограничивает активности в следующей структуре, «коммутационной станции», которая называется таламусом. Результатом становится повышенная таламическая активность. Таламус играет роль зажигания для передней поясной коры и соседствующей с ней орбитофронтальной коры, соответственно, обе эти структуры также перевозбуждаются. Именно это и показала нейровизуализация больных ОКР. Как вы помните, гиперактивность орбитофронтальной и передней поясной коры головного мозга предопределяет болезненную восприимчивость к ошибкам.
В совокупности орбитофронтальная и передняя поясная кора и полосатое тело — или, в соответствии с общепринятым сокращением, кортикально-стриарная сеть — также называются «сетью беспокойства» или «сетью ОКР». «Именно эта нейронная сеть предупреждает вас, что вот-вот случится нечто плохое (скажем, вы подхватите заразу, на вас будут кишеть микробы), и требует как-то защититься, — поясняет Санджая Саксена из Университета Калифорнии в Сан-Диего. — Характер нервной активности у пациентов с ОКР отличается высоким единообразием. Наблюдается повышенная активность орбитофронтальной коры, хвостатого ядра, таламуса и полосатого тела. По мере улучшения состояния активность всех этих зон снижается».
Сбой в работе мозга, порождающий ОКР, обращает на себя внимание по ряду причин, и не только потому, что был описан первым. Главное, он связан с паттернами активности, а не с «химическим дисбалансом», как было вбито в общественное сознание усилиями авторов рекламы лекарственных препаратов, адресованной конечному потребителю. Эта книга не о том, какие катастрофические последствия имело это представление, приведшее к привычке прописывать лекарства, предположительно корректирующие этот дисбаланс, но с крайне скромным или вовсе отсутствующим терапевтическим эффектом, и превратившее большинство психиатров в банальных диагностов и распространителей медикаментов, даже не пытающихся проработать проблемы пациентов в ходе психотерапии. В целях данного изложения достаточно сказать, что это фундаментальная ошибка: отклонения от нормальной схемы нейронных связей головного мозга, а не нейрохимический дисбаланс, лежат в основе большинства психических расстройств. Обсессивно-компульсивное расстройство оказалось первым, относительно которого это было доказано.
Сеть беспокойства имеется и в здоровом мозге. «Всем знакомо чувство, которое испытываешь, когда сходишь с тротуара, чтобы перейти улицу, и вдруг мимо проносится машина, которую не заметил, — говорит Джефф Шимански из фонда IOCD. — При этом срабатывает та самая цепь, которая убеждает людей с ОКР в каком-то опасном отклонении от верного порядка». У мозга некоторых людей от природы низкая сопротивляемость этому ощущению (то есть их сеть ОКР активируется в ответ на более слабую провокацию, чем в норме), а у других этот порог снижается постепенно. «Соответственно, вы принимаете защитные меры, уходите от опасности, делаете все что угодно, лишь бы избавиться от угрозы или ощущения угрозы», — продолжает Шимански. Вследствие этого усиливается чувство, что вы были в опасности, под тревогу подводится основание, а мозг получает сигнал, что угроза, вероятно, была реальной. Сеть ОКР становится еще активнее и кричит «Опасно!» при малейшей провокации. Мозг, кроме того, усваивает, что можно освободиться от тревоги, прислушавшись к этому предупреждению и совершив компульсивное действие. Словом, все по учению Павлова (о котором еще пойдет речь).
Выявление сети ОКР стало большим шагом к пониманию мозговых коррелятов этого расстройства. Однако ее избыточная активность не всегда настолько очевидна, чтобы служить основанием для постановки диагноза: нейровизуализация не может однозначно выявить ОКР. Характерная активность сети тревоги бросается в глаза ученым при анализе сотен сканов головного мозга. Сравнив среднюю активность мозга ста здоровых людей и ста людей с ОКР, вы сразу заметите красноречивое отличие. Но мозг конкретного больного ОКР может демонстрировать, а может и не демонстрировать эту характерную картину, объясняет психиатр из Йеля Марк Потенца: «Мы еще не достигли того уровня, когда можно ставить психиатрический диагноз по результатам нейровизуализации». Аналогично, если сравнить средний рост ста мужчин со средним ростом ста женщин, первая величина окажется больше второй. Но отдельная женщина может быть выше среднего мужчины, а отдельный мужчина — ниже средней женщины.
Если в мозге наблюдается какая-либо аномалия или отклонение от нормы, возникает вопрос об их причинах. Возможны лишь два варианта: врожденное нарушение вследствие воздействия управляющих развитием мозга генов, унаследованных от родителей или поврежденных во внутриутробном периоде, либо приобретенное — возникшее уже после рождения вследствие перенесенного опыта. Компульсии могут развиваться обоими путями.
Исследования с участием членов семьи показали, что ОКР в пять-семь раз чаще встречается у ближайших родственников больных, чем у людей, не имеющих случаев ОКР среди родни. Это свидетельствует о наличии генетической компоненты: если близкий родственник страдает психическим расстройством, вы имеете «бо́льшую вероятность» также им заболеть. Однако «с большей вероятностью» не означает «неизбежно». «Гена ОКР» не существует, в отличие, например, от генов болезни Тея — Сакса или серповидноклеточной анемии, гарантирующих развитие заболевания у каждого, кто их унаследует. В развитии сложных психиатрических состояний участвует многоженство генов. К примеру, в 2012 году ученые из Клинической больницы штата Массачусетс провели первый полногеномный поиск ассоциаций ОКР, охвативший 1456 больных обсессивно-компульсивным расстройством, более 5500 здоровых, составивших контрольную группу, и 400 троек из пациента с ОКР и обоих его родителей. Ученые проанализировали около 480 000 генетических вариантов и нашли два совпадения, о которых сообщили в Molecular Psychiatry. Одно расположено в области гена BTBD3, судя по всему, участвующего в формировании нейронных сетей головного мозга (он направляет передающие отростки одного нейрона к принимающим отросткам другого). Второе — в гене DLGAP1, участвующем в упорядочивании образования синапсов. У мышей, имеющих аналог этого человеческого гена, его удаление вызывало симптомы, сходные с ОКР. Следовательно, ген DLGAP1 должен иметься и нормально функционировать, чтобы мозг мог развиваться как положено, в случае же отсутствия или повреждения этого гена каким-то образом формируется нейронная сеть, ведущая к ОКР.
В 2014 г. картину дополнило открытие еще одного связанного с ОКР гена, когда исследователи из Университета им. Джонса Хопкинса изучили геномы более чем 1400 больных ОКР и их тысячи с лишним близких родственников. Оказалось, что вариации ДНК в области гена, белка тирозина-фосфокиназы (PTPRD), чаще обнаруживаются у людей, имеющих ОКР, и их родственников, сообщили ученые в Molecular Psychiatry. Было доказано, что у лабораторных животных ген PTPRD регулирует ряд клеточных процессов, в том числе рост и специализацию. В частности, он способствует росту дендритов и аксонов, передающих сигналы на нейроны и от них. Любой сбой в этом процессе может стать причиной аномалий в формировании нейронных сетей, ведущих к появлению сети ОКР. Эти генетические исследования способствовали пониманию ОКР, но не стали исчерпывающим ответом: у многих больных отсутствуют аберрантные гены, тогда как у многих людей с аберрантными генами нет обсессивно-компульсивного расстройства. Гены лишь увеличивают риск развития ОКР.
Средовые факторы, способствующие появлению компульсивности у детей, еще более туманны. Существует предположение, что компульсивность развивается вследствие ощущения, что мир непредсказуем и опасен, и только компульсивное поведение позволяет его контролировать (хотя это всего лишь иллюзия). Некоторые психологи утверждают, что чрезмерная озабоченность родителей микробами может повлиять на детей, но с той же вероятностью дети могут отвечать на данный посыл упорным противодействием, залезая в любую грязь, какую сумеют найти. Все остальное лишь догадки.
Мозг при патологическом накопительстве
Патологическое накопительство в DSM-5 было выведено из группы форм ОКР и получило статус самостоятельного заболевания, в том числе из-за разницы паттернов активности мозга при этих двух видах психического расстройства. У больных накопительством в чистом виде не наблюдаются красноречивые проявления гиперактивности кортикально-стриарной «сети беспокойства», как у больных ОКР. Неврология подтверждает данные психологии: накопители не склонны зацикливаться на тягостных мыслях, не страдают от навязчивого ощущения, что упущено нечто важное. В общем и целом они чувствуют себя благополучно, если не посягать на их мусорный мир.
Первые свидетельства мозговых коррелятов патологического накопительства были получены благодаря Финеасу Гейджу, ставшему знаменитым на весь мир из-за своего мозга. Если вы о нем уже знаете, все равно не пропускайте следующий абзац — эта часть истории рассказывается редко.
Гейдж был бригадиром группы рабочих, выравнивающих балластную подушку под полотно железной дороги под Кавендишем в Вермонте в 1848 г. Произошел взрыв, и шпалоподбойка — железный штырь длиной 110 см — вонзилась ему в череп под левой скуловой костью, прошла через мозг, пронзила лобные доли и, выйдя через макушку, упала в 27 метрах от него. Поразительно, что Гейдж, хотя и ошеломленный, сумел дойти до повозки, на которой его отвезли в общежитие для рабочих, где местный врач обработал его раны и удалил осколки черепных костей. Поправившись после острой травмы, Гейдж, прежде уравновешенный и деликатный человек, начал проявлять склонность к беспричинным вспышкам ярости и сквернословию, «непреодолимому упрямству» и «своенравию», писал доктор Дж. М. Харлоу в 1868 г., и стал «нетерпимым к рекомендациям ограничительного характера, когда они шли вразрез с его желаниями».
Поколения нейроученых пересказывают историю Финеаса Гейджа, поскольку природа поставила на нем суровый эксперимент, позволивший соотнести повреждение определенной области мозга с конкретным эмоциональным и психологическим результатом. Префронтальная зона, разрушенная железным штырем, является локусом эмоционального контроля, рассудка, планирования и тому подобных высших когнитивных функций. Однако ученые, исследующие патологическое накопительство, обращают внимание на менее известное следствие той производственной травмы: у Финеаса Гейджа, как отмечал Харлоу, развилось «огромное пристрастие» к сувенирам.
Это недостаточное основание для того, чтобы связать повреждение лобной доли головного мозга с патологическим накопительством, но проведенное в 2005 г. исследование с участием 86 пациентов с мозговыми травмами доказало, что случай Финеаса не был исключительным. До повреждения у респондентов в анамнезе не было психических расстройств или необычного поведения, связанного с коллекционированием, не говоря уже о патологическом накопительстве. Однако, проведя более детальное обследование, нейроученые установили, что у 13 из них «наблюдалась аномальная склонность к собирательству, характеризующаяся накоплением большого количества ненужных вещей с негативными последствиями для их жизни», как сообщили в журнале Brain Антонио Дамасио, на тот момент сотрудник Айовского университета, и его коллеги. Пациенты накапливали газеты, журналы, рекламные письма, каталоги, бытовые приборы и их детали, продукты питания, одежду, сломанную мебель и ее части, телевизоры, металлолом, детали автомобилей, мешки для продуктов, пищевые контейнеры, пустые бутылки и картонные коробки. «Во всех случаях аномалия собирательского поведения была резко выраженной и устойчивой, несмотря на попытки этому препятствовать», — писали ученые.
У всех накопителей имелись повреждения лобных долей, аналогичные тем, что были у корейца, искавшего игрушечные пульки, и француза, собиравшего бытовую технику. Неудивительно, что у большинства из них страдали функции, контролируемые лобными долями. Память и навыки организации у них были ниже средних. Это подтверждает наблюдение Рэнди Фроста, что несовершенство исполнительной функции — например, неспособность решить, как хотя бы взяться за разгребание куч мусора, — является причиной многих случаев патологического накопительства.
Пациенты, обследованные Дамасио, имели также повреждения передней части поясной извилины — структуры, сигнализирующей больным ОКР о том, что что-то не в порядке. Однако у накопителей эта область мозга была поразительно неактивной. Она со всей очевидностью не воспринимала никакого непорядка, хотя вокруг громоздились кучи хлама, разделенные «козьими тропками». Напротив, подкорковые структуры, которые в экспериментах на животных заставляли лабораторных крыс присваивать и охранять предметы, были целы. Вследствие этого группа ученых из Айовы предположила, что у пациентов с травмами мозга развилось патологическое накопительство, поскольку префронтальные области, обычно держащие в узде это стремление, были выведены из игры. В результате «стимул накапливать продукты питания и другие предметы действовал без обычных приобретенных когнитивных ограничений», что привело к «расторможенному влечению к накопительству, практически не встречающему препятствий».
Верно сказано! Одна респондентка, шестидесятидевятилетняя домохозяйка с поврежденными лобными долями, заполнила гараж на две машины неисправными бытовыми приборами, сломанными украшениями для лужайки, мебелью, товарами для домашних животных и одеждой, которые натаскала с окрестных свалок. Ни один предмет она не пыталась использовать или починить. «Ее стенные шкафы и гардеробы ломились от вещей, — писали ученые, — и еще больше одежды было свалено по всему дому». Двадцатисемилетний пациент, лобные доли которого оказались повреждены вследствие нейрохирургической операции по реконструкции сосуда после разрыва аневризмы, начал собирать инструменты, проволоку и металлолом, тоже принося их с помоек и забивая подвал и гараж. Сварщик с той же травмированной областью мозга повел себя примерно так же, как корейский собиратель пулек, только его интересовали зерна, оставшиеся в полях возле дома после уборки урожая (дело, как вы помните, происходило в Айове). «Он занимался собирательством практически ежедневно, — писали ученые, — накопил огромные груды и пополнял их, хотя зерно гнило и привлекало грызунов… Кроме того, он начал приносить в дом найденный металлолом и сломанные детали автомобилей и бытовых приборов».
Исследование ученых из Айовы выявило структурные аномалии в мозге людей, у которых внезапно развилась патологическая тяга к накопительству. Чтобы узнать, какая умственная активность сопровождает принятие решения по самому проблемному для этих больных вопросу (сохранить вещь или выбросить?), следовало изучить функциональные нарушения.
Соответствующее исследование было проведено несколько лет спустя доктором Саксеной, который рассказал о полученных результатах в 2007 г. на научной конференции Американского колледжа нейропсихофармакологии. Саксена обнаружил, что передняя поясная кора у пациентов с накопительством функционально себя не проявляет. Он провел нейровизуализацию двадцати компульсивных накопителей и восемнадцати здоровых людей из контрольной группы. Компульсивные больные патологическим накопительством отличались значительно меньшей активностью передней поясной коры. Чем тяжелее было накопительство, тем слабее — активность этой области, обнаружил Саксена, пояснивший: «Судя по всему, в обычных обстоятельствах, например глядя на состояние своего дома, они не понимают, что что-то не в порядке».
Но являлась ли эта сниженная активность причиной накопительства? Чтобы выяснить это, психолог Дэвид Толин из психиатрической больницы Institute for Living в Хартфорде (Коннектикут) поставил оригинальный эксперимент. Он с коллегами попросил 43 компульсивных накопителя, 31 пациента с ОКР и 33 здоровых человека прийти в лабораторию с несколькими принадлежащими им вещами, такими как рекламные проспекты или старые газеты. Во время МРТ-обследования добровольцам демонстрировали на видеоэкране эти предметы по одному вперемешку с газетами, принадлежащими ученым, причем всякий раз изображению предшествовало появление на экране надписи «ваше» или «наше», и участникам эксперимента не приходилось тратить время на то, чтобы узнать свои вещи. (Толин ставил эксперимент и с другими объектами, например пустыми контейнерами для пищевых продуктов и игрушками.) Всякий раз ученый спрашивал испытуемого, должен ли его ассистент выбросить эту вещь. Это было настоящее решение в реальном времени, а не лабораторная игра: в случае положительного ответа предмет рвался на мелкие клочки на глазах у участника. На принятие решения отводилось шесть секунд.
Естественно, накопители одобрили уничтожение значительно меньшего числа принадлежащих им бумаг, чем больные ОКР и здоровые добровольцы, отчиталась команда Толина в 2012 г. в JAMA Psychiatry. Они же испытывали значительно бо́льшую тревогу, нерешительность и угнетенность при принятии решения. А чем сильнее были их тревога, стресс и ощущение «неправильности происходящего», тем меньше своих вещей они разрешали порвать.
По большей части, паттерны активности мозга накопителя и здорового человека совпадают. Имеется лишь два ярких исключения. Функциональная МРТ выявила специфическую активность, по всей видимости, предопределявшую стрессовое состояние, в которое ввергала больных необходимость принятия решения: разрешить или запретить рвать свои бумаги. Когда больные выносили вердикт в отношении чужих бумаг, активность передней части поясной извилины их мозга — области, поврежденной или недоразвитой у многих лиц с патологическим накопительством, по данным Дамасио и Саксены, — оставалась относительно низкой.
Когда же участники исследования Толина видели собственную вещь, активность передней поясной коры и островка Рейля намного превышала как собственный базовый уровень, так и активность здорового мозга, причем более тяжелым случаям заболевания соответствовали бо́льшие скачки этого параметра. Аналогичная зависимость наблюдалась и с субъективной оценкой самими больными своей нерешительности («Как поступить? Я знаю, что нужно разрешить порвать этот старый конверт, но…») и ощущения «непорядка» происходящего.
Казалось бы, выявленное повышение активности передней поясной коры противоречит данным Саксены и Дамасио об аномально низкой активности этой области мозга накопителей. Следует, однако, учесть, что эти наблюдения были получены при нейтральном состоянии мозга больных, когда им не приходилось ни о чем думать. В исследовании Толина мозг пациентов был вынужден принимать решение уровня «быть или не быть» — не обернется ли вселенской катастрофой согласие на уничтожение дорогого сердцу рекламного проспекта. В подобных обстоятельствах их передняя поясная кора вела себя как подросток, проспавший весь день и, проснувшись за полчаса до важного экзамена, развивший бешеную активность в попытке наверстать упущенное. Эта область их мозга словно говорила: «Мое дело оценить, нет ли в происходящем чего-то неправильного, а происходит вот что: ты хочешь узнать, можно ли порвать эту старую бумажку. Проклятье, да здесь все неправильно!» Страдающие патологическим накопительством испытывали тревогу и боялись принять решение, которое сделает их несчастными. Поэтому передняя поясная кора «кричала» изо всех сил: «Ошибка! Ошибка!»
Что касается Рейлева островка, или островковой доли, спрятавшейся глубоко в складках коры, то ее функция долгое время оставалась загадкой из-за противоречивых результатов исследований. Наконец, ответ был получен Дамасио: островок обрабатывает и интерпретирует телесные ощущения, например ускорение сердечного ритма и потоотделение, и соотносит их с эмоциями — в данном случае с тревогой. Кроме того, эта область оценивает эмоциональную окраску стимулов, отслеживает ошибки и взвешивает риски. Можно сказать, что островковая доля принимает информацию о вашем физическом состоянии в его связи с эмоциональным опытом, выясняет, какая эмоция (страх, эйфория, тревога и т.д.) ввела тело в данное состояние, и передает вывод зонам мозга, осуществляющим высшую когнитивную деятельность, вследствие чего вы осознаете: «Как колотится сердце, похоже, я нервничаю». Вероятно, именно это и происходит, когда больных патологическим накопительством заставляют вынести вердикт об окончательном и бесповоротном уничтожении бумаги, которую они долго хранили. Их первой реакцией становится тревога, налагающая отпечаток на физическое состояние, скажем, в виде учащенного пульса. Островковая доля получает этот сигнал и обращает его в вывод, что эмоциональной основой происходящего является тревога.
Вместе передняя часть поясной коры и островковая доля составляют «ядро "сети выделения главного"», по словам Толина и его коллег. Низкая активность этой сети оборачивается «слабой мотивацией и недостаточной способностью к осмыслению, которые часто наблюдаются у больных патологическим накопительством». Неспособные отличить значимое и ценное от пустого и бесполезного, они хранят и ценят и то и другое. Если же заставить такого больного вынести вердикт относительно накопленного, эти области мозга взрываются активностью, вызывая чувство неправильности происходящего и страха принять неверное решение. Отсюда решение сохранять, сберегать и накапливать.
В основе патологического накопительства лежит деятельность, по крайней мере, еще одной области мозга. В 2008 г. ученые Королевского колледжа Лондона опубликовали в Molecular Psychiatry результаты МРТ-исследования с участием 29 больных обсессивно-компульсивным расстройством (симптомы тринадцати из них включали патологическое накопительство, шестнадцати — не включали) и 21 здорового человека. Добровольцам показывали изображения трех типов: типичные объекты накопления (старые газеты и журналы, пустые пищевые контейнеры, одежду и игрушки), сцены и образы, оцененные здоровыми участниками как крайне отталкивающие и вызывающие тревогу (изувеченные тела, пауки, тараканы, человеческие экскременты), и нейтральные или скорее позитивные изображения (предметы мебели, природу, домашних животных).
При рассматривании объектов накопления, которые они, согласно инструкции, должны были представлять своими, накопители демонстрировали бо́льшую степень активности (чем в контрольной группе) зоны прямо за лобной костью. Эта структура называется вентромедиальной префронтальной корой головного мозга. Результаты удивили ученых, поскольку данная структура имеет две основные функции — играет важнейшую роль в принятии решений и подавляет эмоциональную реакцию на негативные образы, мысли и переживания. В отношении второй функции ее можно сравнить с матерью, уговаривающей расстроенного ребенка: «Ну-ну, ничего страшного!» — или, применительно к накопителю, взирающему на мусор: «Не обращай внимания на жирные остатки, приставшие к коробке из-под пиццы, ее можно отчистить и хранить в ней старые газеты!» В качестве органа, ответственного за принятие решений, вентромедиальная префронтальная кора особенно важна в ситуациях с неопределенным, неясным или рискованным исходом. Казалось, у накопителей эта область мозга лихорадочно пыталась решить, стоит ли расстраиваться из-за возможности уничтожения накапливаемого барахла, даже принадлежащего неизвестно кому, и в то же время старалась справиться с тревогой, вызванной необходимостью представлять, что изображенные предметы являются их собственностью и им велено выбросить эти вещи.
Я была бы рада описать аналогичные исследования по нейровизуализации мозга шопоголиков, компульсивных спортсменов, игроманов и интернет-пользователей. К сожалению, в немногочисленных экспериментах участвовало слишком мало добровольцев, не была доказана их воспроизводимость или же у них был крайне спорный дизайн, что обесценивает их результаты. Например, в 2011 г. в Journal of Consumer Policy группа немецких ученых под руководством Герхарда Рааба из Университета прикладных наук в Людвигсхафене опубликовала исследование с участием 23 компульсивных покупателей. Мозговое картирование делалось при демонстрации товаров, цен и в момент решения, покупать или не покупать данную вещь. Изображение товара вызывало у шопоголиков бо́льшую (в сравнении с контрольной группой) активность прилежащего ядра — центрального звена дофаминовой нейронной цепи. При виде цены шопоголики проявляли относительно низкую активность островковой доли (осмысляющей эмоциональные причины изменения физического состояния, например учащения сердцебиения) и передней поясной коры (структуры, выявляющей ошибки, гиперактивной при ОКР). Казалось бы, рисуется стройная картина: компульсивные покупатели приходят в нездоровое возбуждение при мысли о покупке очередной белиберды, невзирая на цену, — вероятно, из-за недоразвития нейронной сети, определяющей ценность объекта. Если бы не одно но: когда добровольцы решали, покупать или не покупать, передняя поясная кора становилась более активной. Опять-таки, возникает соблазн объяснить это тем, что функция выявления ошибок у компульсивных покупателей наконец-то включилась в работу. Однако данные о сниженной активности передней поясной коры в момент принятия решения о покупке могут иметь иное, столь же убедительное, объяснение — неспособность понять, что вот-вот совершишь ошибку. Без априорной гипотезы, определяющей поведение нейронных сетей, нейровизуализация превращается в аналог рыбной ловли: никогда не знаешь, что подцепит крючок — ценного марлина или старый башмак.
В 2013 г. в Canadian Journal of Psychiatry Марк Потенца и Роберт Лиман из Йеля представили обзор нейробиологических исследований поведенческих аддикций и компульсивного поведения. Текст пестрел предупреждениями о «противоречивых результатах» и дипломатическими оговорками в духе «возможно, эти расхождения отчасти объясняются методологией». Единственное, что можно с уверенностью утверждать о компульсивном поведении, — оно связано с дисфункцией дофаминовой системы вознаграждения. К счастью, в этой области наука стоит на прочном фундаменте, заложенном много десятилетий назад.
Странности пациентов с болезнью Паркинсона
Изучение нейробиологических основ компульсии во многом опирается на теорию классического обусловливания, разработанную русским физиологом Иваном Петровичем Павловым (1849–1936). Изучая пищеварительную систему в экспериментах с собаками, он заметил, что слюноотделение, как при кормлении, наблюдается у подопытных животных и при виде лаборанта. Поскольку при каждом кормлении ассистент ученого приходил в привычном лабораторном халате, Павлов предположил, что собаки реагируют на эту одежду. В серии экспериментов он установил существование условно-рефлекторного раздражителя и реакции на него. Самым знаменитым стал эксперимент, в котором Павлов звонил в звонок во время кормления собак. Собаки научились связывать звонок, еще один условный раздражитель, с пищей, и после нескольких повторений достаточно было звука звонка при полном отсутствии пищи, чтобы началось слюноотделение.
Люди, страдающие компульсиями, ведут себя как собаки Павлова. Компульсия побуждает их избавиться от болезненной эмоции — тревоги, совершив поступок, который успешно решает эту задачу. Страх пропустить важное сообщение снимается постоянным заглядыванием в смартфон. Избавление от тревоги оказывается неразрывно связанным с определенным поведением — вырабатывается условный рефлекс. Именно так Шимански объяснял причины, по которым больные ОКР уступают диктату компульсии: тревога слабеет, и мозг это запоминает.
Однако сопутствующие компульсивному поведению депрессию и тревожность невозможно объяснить исключительно обусловливанием по Павлову. Во всяком случае, об этом свидетельствуют наблюдения за пациентами с болезнью Паркинсона.
По причинам, известным только божеству эволюции, нейромедиатор дофамин играет в мозге множество ролей, от водителя автобуса до подпольного химика, варящего амфетамин. В так называемой черной субстанции — структуре в основании головного мозга — дофамин принимает сигналы, позволяющие нам совершать плавные и контролируемые движения. Следствием гибели нейронов-производителей дофамина становится тремор ладоней, рук, ног, челюсти и лицевых мышц, нарушение равновесия и координации — симптомы болезни Паркинсона. Также дофамин обеспечивает нам кайф во время оргазмических переживаний, поскольку действует не только в черном веществе, но и в системе вознаграждения, центральным элементом которой является прилежащее ядро (дисфункциональное при ОКР). Эти сети сравнивают реальную эмоциональную отдачу от вашего опыта с ожидаемой. Если реальность отвечает ожиданиям или превосходит их, опыт оценивается как положительный и происходит подкрепление.
Можете представить себе последствия перекрещивания этих двух отдельных систем — движения и вознаграждения? Фармацевты не смогли.
Десятилетиями врачи лечили болезнь Паркинсона леводопой — веществом-предшественником дофамина. Если в изобилии снабжать мозг этим веществом, полагали они, это вызовет увеличение количества дофамина, подобно тому как ускорение подачи муки и сахара в пекарню оборачивается увеличением выпуска пирожных. В 1990-х гг. был открыт новый класс лекарственных средств — агонисты дофамина. Как и леводопа, они являются лекарствами сугубо заместительной терапии, но оказываемое ими действие перенесено дальше по цепочке, в дофаминовые рецепторы. Если воспользоваться той же аналогией, это все равно что сыпать сахар и муку прямо в рот покупателям, не дожидаясь, пока ингредиенты превратятся в пирожные.
Встреча агониста дофамина с дофаминовым рецептором производит ошеломляющий эффект. Представьте, что к динамику вместо маленького радиоприемника 1970-х гг. подключили мощный концертный усилитель, и привычное тихое мурлыканье сменил рев первых тактов «Smoke on the Water» Deep Purple. Нечто подобное происходит, когда к рецептору вдруг присоединяется совершенно другая молекула, вызывая перевозбуждение всей цепи. «Агонисты дофамина воздействуют на рецепторы как супердофамин, — объяснил мне психиатр Майкл Боствик из Клиники Майо в Рочестере (Миннесота). — Они их стимулируют».
Теперь это очевидно. Но в сентябре 2000 г. группа неврологов и психиатров мадридского Hospital Universitario Doce de Octubre сообщила, что десять их пациентов с болезнью Паркинсона, принимавших леводопу, внезапно стали игроманами, отдававшими предпочтение игровым автоматам. «Возможно, это было связано с дофаминергической терапией», — предположили доктор Хосе Антонио Молина и его коллеги в журнале Movement Disorders. До этой публикации какие-либо данные о вероятной связи между внезапным развитием игромании и лечением дофаминовыми препаратами «в явном виде не сообщались».
Тем не менее определенные свидетельства поступали и раньше. В 1989 г. ученые под руководством невролога Райана Уитти обнаружили, что у тринадцати пациентов с болезнью Паркинсона вскоре после начала приема леводопы возникла гиперсексуальность. Но сообщение об этом открытии было опубликовано в низкорейтинговом журнале Clinical Neuropharmacology и прошло незамеченным. В 1999 г. с интервалом в две недели невролог Марк Стэйси, на тот момент директор Центра изучения болезни Паркинсона им. Мухаммеда Али в Фениксе, узнал, что двое его пациентов сразу после увеличения дозировки препарата отправились в казино и спустили по $60 000 каждый. Он рассказал об этом факте в докладе на конференции по двигательным нарушениям, опубликовав научную статью только в 2003 г.
К тому времени новое поколение агонистов дофамина применялось почти десять лет, и может показаться странным, что связь компульсивного поведения с этими лекарствами ускользала от внимания ученых вплоть до 2000 г. «Дело в том, что никому не приходило в голову этим интересоваться, — объясняет невролог Эрика Драйвер-Данкли. — Когда приходит пациент, вы расспрашиваете его о двигательных нарушениях. С чего бы вдруг задавать человеку с болезнью Паркинсона вопрос, не возникло ли у него внезапной неодолимой тяги играть или смотреть порно?»
После публикации отчета испанских исследователей неврологи стали задавать этот вопрос новым больным и повторно анализировать старые случаи. В Центре им. Мухаммеда Али Драйвер-Данкли и Стэйси начали поиск в базе данных пациентов за период с 1 мая 1999 г. до 30 апреля 2000 г. Оказалось, что из 1281 пациента, принимавшего агонисты дофамина, девять сообщили о неожиданно вспыхнувшей страсти к игре. Ученые написали об этом в журнале Neurology в 2003 г.
Столь малый процент никоим образом не свидетельствовал об эпидемии, но следовало учесть ретроспективный характер данных, подчиняющихся выведенной Эрикой Драйвер-Данкли формуле «не спросил — не узнал». Действительно, у неврологов было не больше причин задавать больным вопрос, не появилось ли у них непреодолимой склонности играть в казино, чем у офтальмологов — интересоваться натоптышами на стопах своих пациентов. Когда же она стала этим интересоваться, рассказывает Драйвер-Данкли, «некоторые пациенты признавались, что им пришлось развестить, потому что они стали встречаться с проститутками или проиграли все свои деньги. Это было само по себе необычно и вдвойне странно для людей с болезнью Паркинсона, которые, как правило, ведут себя примерно». Это высоконравственные, избегающие риска люди, мозг которых из-за истощения запасов дофамина недополучает сигналы, вызывающие гедонистический подъем. «После пары случаев я подумала, что это может быть важно, — говорит исследовательница. — Речь шла не о том, чтобы проиграть чуть больше денег, чем обычно. Нет, пациент признавался, что спустил все пенсионные накопления. Одним на это хватало недели, другие еженедельно ходили в казино в течение месяца — с тем же результатом. Игроманией и гиперсексуальностью дело не ограничивалось. Мы наблюдали людей, у которых развивалась компульсивная тяга выдергивать волосы или наводить чистоту в доме».
Чтобы преодолеть ограничения ретроспективного анализа, специалисты клиники Майо Джеймс Бауэр и Дж. Эрик Альског с 2002 по 2004 г. выясняли у своих пациентов с болезнью Паркинсона, не появилось ли у них необычных привычек на фоне приема агонистов дофамина. Одиннадцать человек сообщили о компульсивной потребности играть, обычно развивавшейся в течение трех месяцев после начала терапии, сообщили ученые в 2005 г. в Archives of Neurology. Большинство принимали прамипексол (торговое наименование «Мирапекс»), который связывается с дофаминовыми рецепторами, особенно многочисленными в прилежащем ядре головного мозга — центре удовольствия. «Статья доказывала, что это не случайно, и нам следует обратить внимание на этот вопрос», — сказал Боствик.
Одним из этих одиннадцати пациентов был сорокачетырехлетний женатый священник, имевший обыкновение проигрывать долларов двадцать, раз в четыре или пять лет заглядывая в местное казино. На агонистах дофамина «он начал играть почти каждый день и за несколько месяцев втайне от жены потратил около $2500. Он неохотно признался в этом своему врачу-неврологу», — писали исследователи. Шестидесятитрехлетний больной, начавший посещать казино два или три раза в неделю вместо одного раза в три месяца, как до приема противопаркинсонических средств, рассказал о «громадной компульсии» играть вопреки «здравому смыслу, призывавшему остановиться». Программист сорока одного года, никогда прежде не игравший, после начала лекарственной терапии был «порабощен» потребностью играть онлайн и за несколько месяцев потерял $5000. «Кроме азартных игр он компульсивно покупал вещи, которые не были ему нужны или желанны», — писали о несчастном ученые.
В 2006 г. невролог из Медицинской школы Альперта (Брауновский университет) Джозеф Фридман описал в бюллетене для внутреннего пользования Клинической больницы штата Массачусетс более редкую компульсию у пациента, получающего дофаминовую терапию при болезни Паркинсона. Это был бухгалтер, который «снова и снова перепроверял цифры». «Другая больная не могла перестать подстригать живую изгородь даже зимой, третья с одержимостью пропалывала сорняки, а еще одна утратила способность делать покупки в продуктовом магазине, поскольку, начав читать этикетки на упаковках, не могла остановиться», — писал врач. Во всех случаях компульсия исчезала после отмены лечения агонистами дофамина.
Компульсивное поведение развивается у меньшинства больных, получающих дофаминзаместительную терапию при болезни Паркинсона. Научная сотрудница клиники Майо Анхар Хассан с коллегами изучила истории болезни 321 пациента с 2007 до 2009 г. — к этому времени специалисты по двигательным нарушениям прекрасно знали, что лекарства могут вызывать компульсию, и не забывали задавать больным соответствующие вопросы — и обнаружила, что навязчивое поведение внезапно развилось на фоне лекарственной терапии у 69 пациентов, или у 22%. Среди больных, получавших повышенную дозу лекарств, компульсивность наблюдалась чаще — в одном случае из трех, сообщила группа ученых в Parkinsonism and Related Disorders в 2011 г. По данным Хассан, 25 человек стали игроманами, у 24 развилось компульсивное сексуальное поведение, 18 превратились в шопоголиков, 6 — в компульсивных интернет-пользователей, у 8 появились «компульсивные хобби».
Например, шестидесятитрехлетняя женщина начала тратить от 300 до 400 долларов в неделю на покупку цветов и по двенадцать часов в день составляла из них букеты, причем раньше она не выказывала интереса к этому занятию. Пятидесятисемилетний мужчина стал бодрствовать допоздна, компульсивно изготавливая мебель и керамику. Мужчина пятидесяти одного года также полночи проводил за работой, меняя проводку или перекрашивая стены в доме, а пятидесятипятилетний пациент компульсивно чистил ванну. Мужчины тяготели к традиционно «мужским» предметам, как, например, больной пятидесяти шести лет, начавший ежедневно покупать в Wallmart новые часы, или шестидесятитрехлетний пациент, кинувшийся коллекционировать «Ламборгини» и «Бентли» (именно так, во множестве). «Наблюдалось и компульсивное поедание мороженого», — отметили ученые. Новообретенные компульсии женщин также были почти до смешного стереотипными. Одна пятидесятитрехлетняя пациентка стала компульсивно приобретать драгоценности, другая, семидесяти двух лет, — покупать кухонные принадлежности с такой страстью, словно решила посрамить Марту Стюарт.
Ученые не знают, почему одни люди с болезнью Паркинсона на заместительной дофаминовой терапии начинают компульсивно играть, а другие компульсивно садовничать. Несколько лучше они представляют причины предрасположенности таких больных к компульсиям дофаминовой природы. Особенно высок риск их развития у мужчин и у лиц молодого возраста, которых болезнь поразила относительно рано, а также людей импульсивных и страдающих болезнью Паркинсона двадцать лет или больше. Но само наличие связи уже не подвергается сомнению. Опубликованный в 2014 г. в JAMA Internal Medicine анализ базы данных Управления по контролю пищевых продуктов и лекарственных средств о нежелательных реакциях на препараты свидетельствует: о компульсивном поведении на фоне дофаминзаместительной терапии сообщается в 278 раз чаще, чем при приеме любых других препаратов. «Вероятность наличия причинно-следственной связи высока», — заключил Джошуа Ганье из Гарвардской медицинской школы.
«Сеть ожидания»
Если бы питаемая дофамином система вознаграждения и удовольствия была столь просто устроена, как считалось первоначально, я не включила бы в книгу случаи пациентов с болезнью Паркинсона. Их поведение описывалось бы как аддикция, движимая стремлением к гедонистическому подъему, который можно получить от азартной игры, а не как компульсия, за которой стоит отчаянная нужда избежать или уменьшить тревогу. Оказалось, однако, что сеть удовольствия — неправильное название.
В 1954 г. в Университете Макгилла в Монреале Питер Милнер и Джеймс Олдс ставили эксперимент, предполагавший вживление электрода в головной мозг крысы. Их мишенью была ретикулярная формация, управляющая циклами сна и бодрствования. Но электрод не попал в цель и оказался прямо над гипоталамусом, являющимся частью центра эмоций лимбической системы. Таким образом, именно эта зона получала стимуляцию, предназначавшуюся ретикулярной формации. Как только крысы в ходе эксперимента нажимали на рычаг, их лимбическая система получала электрический разряд через вживленный электрод. Нравилось ли это подопытным? Если у крысы была возможность нажать на рычаг по пути к кормушке, она совершенно теряла интерес к пище и давила на рычаг, стимулируя свой мозг «часто и регулярно в течение продолжительного времени, стоило ей это разрешить», писали ученые в 1954 г. в (ныне закрытом) Journal of Comparative and Physiological Psychology. «Эта система невероятно мощно управляет поведением животных и, вероятно, превосходит любую другую систему вознаграждения, ранее используемую в опытах над животными».
Группа из Макгилла наблюдала тот же эффект при вживлении электродов в расположенное рядом прилежащее ядро, писал Олдс в статье «Центры удовольствия в головном мозге», опубликованной в 1956 г. в журнале Scientific American. Хотя крыс, не евших целый день, пытались приманить вкусным угощением, они неизменно предпочитали пище возможность электрической стимуляции лимбической системы. Они готовы были ублажать себя до полусмерти, вместо того чтобы оторваться от рычага (на который нажимали до двух тысяч раз в час) и подойти к миске. В дальнейшем, имея выбор между нажатием рычага для стимуляции «центра удовольствия» (пока воспользуемся терминологией Олдса от 1956 г.) или для подогрева жестянки, в которой вмерзло мясо, крысы предпочитали первый вариант. В 1970-х гг. ученые установили, что нейроны зон мозга, которые Олдс называл центрами удовольствия, функционируют преимущественно на дофамине. Дофамин был удостоен звания мозгового «препарата удовольствия», а концепция «сети удовольствия» стала догмой.
Реальная картина оказалась более сложной. Вернемся к крысам из экспериментов в Макгилле, поведение которых интерпретировалось как стремление к удовольствию. Однако крысы, как и люди, совершают повторяющиеся действия по многим причинам. Что, если крысы, неспособные рассказать о своих чувствах, не испытывали удовольствия всякий раз, нажимая на рычаг, но чувствовали тревогу, не делая этого?
В 2010 г., оценивая десятилетия исследований, прошедших с экспериментов в Макгилле, оксфордский психиатр Мортен Крингельбах и психолог из Мичиганского университета Кент Берридж написали в журнале Discovery Medicine, что «электроды удовольствия, возможно, не заслуживали такого наименования». Хотя исследования «показали, что некоторые пациенты нажимают на рычаг компульсивно, их субъективные описания не позволяли однозначно утверждать, что электроды действительно вызывали чувство настоящего удовольствия». Электрическая стимуляция прилежащего ядра вызывала умеренно приятное чувство, но оно почти никогда не достигало интенсивности, о которой, казалось бы, свидетельствовало поведение крыс. Это натолкнуло ученых на мысль, что стимуляция дофаминовой сети вообще не доставляет большого удовольствия, но служит источником компульсивного стремления к такой стимуляции. На первый план выступила разница между «нравится» и «хочется»: можно хотеть что-то сделать и даже нуждаться в этом, но не получать от этого действия никакой радости. Это подтвердит любой больной обсессивно-компульсивным расстройством.
Дофаминовая сеть оказалась не столько центром удовольствия, сколько машиной для предсказаний. Она прогнозирует отдачу от определенного действия, а затем сравнивает ожидания с реальностью. Если реальность недотягивает до прогноза, вы чувствуете некую неполноту, неудовлетворенность — поведенческий эквивалент тревоги, которую испытывали бы, не услышав после тройного «соль» в начале Пятой симфонии Бетховена напрашивающегося разрешения в «ми-бемоль» (я приводила этот пример в главе 4). В такой ситуации прилежащее ядро порождает желание сделать еще одну попытку и добиться соответствия реальности накрученным дофаминовой дозой ожиданиям — сыграть еще одну игру в покер, съесть еще одно пирожное, снова скупить полмагазина. Компульсию порождает необходимость «дотянуть» реальность до прогноза, завершить погоню за наградой, удовлетворить ожидания. Но если и когда это случается, результатом становится не счастье, как принято считать, а в лучшем случае облегчение, ощущение, что все наконец-то в порядке. Звучит долгожданное «ми-бемоль».
Эксперимент с обезьянами показал, что происходит при этом в мозге. Чтобы убедиться, что вентральная область покрышки у животных функционирует так же, как у человека, ученые давали обезьянам каплю сладкого сиропа, который им очень нравился, и записывали их мозговую активность с помощью электродов. Как и предполагалось, сеть вознаграждения / удовольствия активизировалась, наблюдался выброс дофамина, вентральная область покрышки, судя по всему, действительно отмечала приятный, вознаграждающий опыт и «работала» на дофамине, как и у человека. Затем обезьян научили смотреть на экран и ожидать появления зеленой вспышки, через пару секунд после которой возле их рта появлялась из трубочки капля сиропа. После красной вспышки ничего не происходило. Итак, зеленый свет = вознаграждение, красный свет = разочарование.
Когда обезьяны установили связь между цветом и наградой, приобретя условный рефлекс по Павлову, их вентральная область покрышки стала активизироваться и купаться в дофамине, стоило им увидеть зеленый свет. Они уже не ждали появления сиропа: сознание того, что награда близка, очевидно, было столь же приятным, что и сама награда. Вероятно, завсегдатаи кофеен «Старбакс» испытывают нечто подобное при виде бело-зеленой русалки: чувство удовольствия охватывает их еще до первого глотка ванильного маккиато. У обезьян не наблюдалось второго пика мозговой активности при получении сиропа. Это доказывает, что активность сети «вознаграждения», питаемой дофамином, вызывается ожиданием награды, а не удовлетворением от ее получения. Если бы активность дофаминовой сети отмечала удовольствие, она бы возрастала, когда обезьяна действительно получала сироп. Но этого не происходило.
Дофаминовый пик, предшествующий вознаграждению, аналогичен вашим переживаниям в секунды между теми моментами, когда на экране игрового автомата начинают сменять друг друга лимоны, апельсины и надпись «Джекпот!», и их остановкой. Получение награды и одно лишь ее предвкушение — будь то получение новых способностей в видеоигре, выигрыш в автомате или любой другой результат, — активизируют вентральную область покрышки, кладезь дофамина. Стоит распробовать уготованное вам удовольствие, и нейронная сеть ожидания вознаграждения зажигается, как экран выигрыша на игровом автомате. Вы испытываете стремление продолжать прежнее действие. Кстати, промахи активизируют эту область мозга так же, как и победы. Если ваша злая птица пролетает мимо зеленой свиньи, а в электронной почте вместо долгожданного приглашения открывается какая-то чепуха, дофаминовая сеть зажигается почти столь же сильно, что и при выигрыше. Разочарования обрушивают уровень дофамина, заставляя чувствовать тревогу, недовольство, неудовлетворенность и стремление получить обещанную свинью или ожидаемое письмо. Активность дофаминовой сети связана не столько с удовольствием, сколько с ожиданием удовольствия, и, не получая его, мы испытываем потребность его добиваться — отчаянно и компульсивно.
• • •
Дофаминовые нейроны откликаются на разницу между предсказанием или ожиданием вознаграждения и его получением, утверждал в статье, опубликованной в 1998 г. в Journal of Neurophysiology, швейцарский нейробиолог Вольфрам Шульц, тогда сотрудник Фрибурского университета. Он видел три варианта развития событий.
1. Если вознаграждение оказывается неожиданным, дофаминовая сеть активизируется, нейроны начинают выдавать потенциалы действия. Реальность превосходит ожидания, и дофаминовые нейроны «сходят с ума» («Коктейли с текилой на пикнике церковной общины? Вот это да!»). Вы испытываете эйфорию — именно поэтому Джейми Мадиган называл эффект получения неожиданного приза в Diablo 3 дофаминовым приходом. Получить на день рождения Porsche вместо предполагаемого очередного галстука намного круче, чем заранее знать, что Carrera входит в список подарков.
2. Если вознаграждение получено, как и ожидалось, дофаминовая сеть активируется, но не столь сильно.
3. Если ожидаемое вознаграждение отсутствует, активность дофаминовых нейронов пропадает втуне. Это происходило в мозге пациентов с болезнью Паркинсона: лекарства стимулировали их дофаминовые нейроны, но ничто в реальности не соответствовало повышенным ожиданиям награды. Поэтому они кидались за острыми ощущениями в казино или брались за (видимо, крайне азартное с личной точки зрения) изготовление керамики. Повышенная активность дофаминовой сети вследствие искусственной стимуляции медикаментами оборачивалась компульсивным стремлением к более частому и крупному вознаграждению, которое в реальности никогда не могло сравниться с ожиданиями, создаваемыми мозгом.
Мы не рабы дофамина, так что это еще не финал. Орбитофронтальная область коры и другие префронтальные зоны могут блокировать нервную активность, толкающую нас на подобные поступки. Чем выше активность стриарных зон, где протекают основные механизмы, связанные с действием дофамина, тем выше вероятность того, что активность префронтальных областей пропадет впустую. Наоборот, чем слабее активность префронтальных зон, тем меньшей активности дофаминовой цепи достаточно для запуска компульсивного поведения. Кто станет победителем, зависит от того, сумеем ли мы подавить компульсию или будем вынуждены ей уступить.
Заключение
Надеюсь, главное, что вы вынесли из этой книги, — это осознание, что между психическим расстройством и нормальностью нет четкой границы. Многие психиатры на основании этого факта утверждают, что критерии нормы занижены, и немало людей, которые должны были бы получить психиатрический диагноз, этого избегают. Исследования, повышающие оценочные показатели распространенности депрессии, посттравматического стресса или синдрома дефицита внимания с гиперактивностью, стремятся не только нагнать страха и выбить больше денег на исследование конкретных заболеваний, но и подспудно внедряют в коллективный разум подозрение, что и другие психические болезни диагностируются не в полном объеме. СМИ подхватывают эту мысль, продуцируют списки «тревожных признаков», позволяющих заподозрить ту или иную душевную болезнь, — и вот психически больных среди нас все больше. Скоро рост числа больных поставит под вопрос само понятие психической нормы.
Эту мысль снова и снова пытаются донести эксперты, противостоящие тенденции к расширению психиатрических диагнозов. Я написала книгу не для того, чтобы присоединить к ним свой голос[60]. Тот факт, что тревожность стала самым распространенным психическим расстройством, представляется поучительным тем из нас, кто не придерживается убеждения, что все вокруг хотя бы немного да больны. Что самое важное, он проливает свет на кажущуюся загадочность компульсивного поведения, за вычетом разве что самых тяжелых форм ОКР и патологического накопительства. Стоит осознать, что именно тревога — перефразируя слова историка медицины Роя Портера, ставшие эпиграфом к введению, — является безумием, которого заслуживает наш век, и все странности и неувязки получают свое объяснение. Компульсивное поведение, на которое толкает нас тревога, принимает самые разные формы, от наведения порядка в ящиках кухонного стола до самых нелепых требований или покупки ненужных вещей, от сохранения каждой мелочи, каждого засохшего цветка из погребального венка до неспособности расстаться со смартфоном из страха пропустить что-то важное, — и все эти усилия направлены на то, чтобы контролировать тревогу. Самое печальное открытие, сделанное мною в процессе подготовки материала и работы над этой книгой, заключается в том, что очень многие поступки мы совершаем не потому, что они приносят нам радость, а исключительно в надежде умерить тревогу. Утешением для меня послужило понимание, что способность компульсивного поведения унимать наши большие и малые тревоги — это один из величайших даров нашего мозга.
Благодарности
Я бесконечно признательна людям, названным и неназванным, которые согласились рассказать мне о своих компульсиях. Они пошли на это в надежде, что другие люди поймут, что ими движет, и почему призыв «просто перестать это делать» не только бесполезен, но и бессердечен. Если мне не удалось этому способствовать, это всецело моя вина. Также я выражаю огромную благодарность психологам, психиатрам, неврологам и нейроученым, терпеливо объяснявшим мне суть своих экспериментов и не выставлявшим меня за дверь своих кабинетов, когда я в сотый раз спрашивала, что отличает компульсивное поведение от зависимого или импульсивного. Наконец, я хотела бы поблагодарить всех, кто помогал мне как в самом начале, так и в самом конце работы над этой книгой. Спасибо Дугласу Мэйну, который помог подобрать достаточно научного материала, чтобы я была уверена, что пишу книгу именно о компульсиях, — с его помощью я смогла подготовить заявку, ставшую основой этой книги. Спасибо и моему редактору Карин Маркус за то, что книга, которую вы прочли, оказалась намного лучше рукописи, представленной мною в издательство.
Примечания
1
От лат. compello — «принуждаю». — Прим. пер.
(обратно)2
Все люди, описанные в этой книге, реальны и не являются собирательными или вымышленными образами. Те из них, кто назван по имени и фамилии, выведены под своими подлинными именами. Если опрошенный желал сохранить анонимность, я указывала только имя (реальное или псевдоним). — Прим. авт.
(обратно)3
«Бег на самоуничтожение: дневник излечившейся от анорексии» (Running on Empty: A Diary of Anorexia and Recovery). — Прим. пер.
(обратно)4
Вскоре после этого разговора, в 2013 г., Ханселл внезапно скончался в возрасте 57 лет.
(обратно)5
Перетренированность, как ее ни называй, значительно менее распространена, чем может показаться при взгляде на переполненные спортзалы. Даже среди физически активных людей, из числа которых обычно набираются респонденты для исследований, чрезмерно тренируются около 3%.
(обратно)6
Мягкие формы компульсии типичны для обсессивно-компульсивного расстройства личности, которое само по себе зачастую развивается вследствие перфекционизма. Я расскажу об этом в главе 2.
(обратно)7
Примерно 2–4% людей с обсессивно-компульсивным расстройством не осознают нелогичности или иррациональности своих мыслей. Вследствие этого они терпят компульсию из убеждения, что провоцирующая ее мысль истинна. В таких случаях эгодистонность отсутствует.
(обратно)8
Психиатр Йэн Осборн описал компульсии Хьюза в книге 1998 г. «Мучительные мысли и тайные ритуалы» (Tormenting Thoughts and Secret Rituals).
(обратно)9
Возможно, и дольше, в зависимости от того, верите ли вы, что ФБР вышло на нужного человека. Подозреваемый покончил с собой, прежде чем его вина была доказана.
(обратно)10
Семь престижных женских колледжей США. — Прим. пер.
(обратно)11
Тем более, что гены легкой невротической настороженности, по-видимому, являются адаптивными, поскольку заставляют мозг обращать внимание на потенциальные угрозы.
(обратно)12
Это и дало название больнице: селитра (фр. salpétre), или нитрат калия — основной ингредиент при производстве пороха.
(обратно)13
Малиновский Б. Избранное: Аргонавты западной части Тихого океана. — М.: Росспэн, 2004.
(обратно)14
Суеверия — это верования, обычно в сверхъестественное, являющиеся движущей силой ритуалов. Ритуалы — практические меры и действия. Однако ритуалы могут порождаться не только суевериями.
(обратно)15
Букв. «Усыпанный драгоценностями» — головоломка жанра «три-в-ряд». — Прим. пер.
(обратно)16
Гейман Н. Дым и зеркала. — СПб.: АСТ, Астрель-СПб., 2005.
(обратно)17
Dumbo — аббрев. Down Under the Manhattan Bridge Overpass (букв. «Проезд под манхэттенским мостом»). — Прим. пер.
(обратно)18
Букв. «Слова с друзьями» — интерактивный скрэббл. — Прим. пер.
(обратно)19
«Дора спасает хрустальное королевство» — головоломка для детей от трех лет. — Прим. пер.
(обратно)20
Букв. «Подземелья и подземелья» — игра-платформер для взрослых. — Прим. пер.
(обратно)21
«Лего-динозавры» — приключенческая бродилка. — Прим. пер.
(обратно)22
Игра-платформер о приключении бандикута по имени Крэш, созданная компанией Naughty Dog эксклюзивно для PlayStation. — Прим. пер.
(обратно)23
Букв. «Свободная ячейка» — виртуальный карточный пасьянс. — Прим. пер.
(обратно)24
Букв. «Мир военного ремесла». — Прим. пер.
(обратно)25
Компьютерная игра компании Bungie Studios в жанре шутера от первого лица на сюжет межзвездной войны людей будущего против вторжения альянса планетных рас. — Прим. пер.
(обратно)26
Градостроительный симулятор компании Zynga, самое популярное приложение соцсети Facebook. — Прим. пер.
(обратно)27
Зона Златовласки — в астрономии зона обитаемости, или зона жизни. Условная область в космосе, определенная из расчета, что условия на поверхности находящихся в ней планет будут близки к условиям на Земле и будут обеспечивать существование воды в жидкой фазе. Название «зона Златовласки» отсылает к сказке, которая у нас называется «Три медведя»: в ней Златовласка выбирает промежуточные предметы, и так же планета должна находиться не слишком далеко от звезды и не слишком близко к ней. — Прим. ред.
(обратно)28
Как обычно, авторы опроса не потрудились провести различие между «затягивающим» и «навязчивым», но поскольку читатели называли игры, от которых не могут оторваться, этот список позволяет составить достаточно точное представление и о том, в какие игры люди играют особенно компульсивно.
(обратно)29
Оригинальный пост Голдберга можно прочесть по адресу -heidelberg.de/Netzdienste/anleitung/wwwtips/8/addict.html.
(обратно)30
Пер. А. Штейнберга.
(обратно)31
В формулировке преп. Альбана Батлера из его книги 1815 г. «Жизнеописания святых отцов, мучеников и других главных святых».
(обратно)32
Цит. по изданию Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, 1994.
(обратно)33
Berrios G. E., Porter R. A History of Clinical Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders. — London: Athlone, 1995.
(обратно)34
Джеймс У. Многообразие религиозного опыта. — М.: Наука, 1993.
(обратно)35
Цитата приводится в книге «История безумия безумных людей» (A Mad People's History of Madness), ред. Дейл Питерсон, 1982.
(обратно)36
Цит. по: Алигьери Данте. Божественная комедия / Пер. М. Лозинского. — М.–Л.: Государственное издательство художественной литературы, 1950.
(обратно)37
Босуэлл Дж. Жизнь Сэмюэля Джонсона. — М.: Текст, 2003.
(обратно)38
На английский язык не переводился.
(обратно)39
Флем Л. Повседневная жизнь Фрейда и его пациентов. — М.: Молодая гвардия, 2003.
(обратно)40
Здесь и далее цит. по: Гоголь Н. Полное собрание сочинений в 14 т. — М.: Издательство АН СССР, 1937–1952. — Т. 6.
(обратно)41
Здесь и далее цит. по: Диккенс Ч. Холодный дом. — М.: Государственное издательство художественной литературы, 1960.
(обратно)42
Цит. по: Дойл А. Конан. Записки о Шерлоке Холмсе. — М.: Государственное издательство детской литературы, 1956.
(обратно)43
Фромм Э. Человек для себя. — М.: Астрель, 2012.
(обратно)44
Другими являются рецептивная, или получающая, носитель которой пассивно ждет «всего хорошего» извне, эксплуататорская, или берущая, суть которой очевидна из названия, рыночная, или обменивающая, — человек воспринимает самого себя как товар, который стоит столько, за сколько его удается продать.
(обратно)45
Здесь и далее цит. по указанному изданию.
(обратно)46
Hoarders (с 2009 г.), A&E.
(обратно)47
Hoarding: Buried Alive (2010–2014), TLC.
(обратно)48
Заметка в New York Times вышла в преддверии назначенного на 19 февраля 2016 г. аукциона, где была выставлена на продажу коллекция Дершовица.
(обратно)49
Исследователи часто используют лиц из списков ожидающих в качестве контрольной группы, поскольку считается, что люди, стремящиеся попасть на семинар «Погребенные в сокровищах», имеют такие же, как у его участников, мотивацию, тяжесть состояния и другие характеристики.
(обратно)50
Персонаж поэмы С. Колриджа «Сказание о старом мореходе», являющейся первой литературной обработкой легенды о Летучем голландце.
(обратно)51
Североамериканское соглашение о свободной торговле. — Прим. пер.
(обратно)52
Квартал в северном Манхэттене. — Прим. пер.
(обратно)53
Стивенсон Эдлай II (1890–1965) — американский политический деятель, кандидат в президенты США. — Прим. пер.
(обратно)54
Цит. по: Уильямс Т. Кошка на раскаленной крыше. — М.: Искусство, 1979.
(обратно)55
Фактически, избавляясь от старых вещей, они освобождают место для новых.
(обратно)56
Мы не учитываем патологическую тягу к азартным играм, алкогольную и наркотическую зависимости, поскольку они являются аддикциями, в некоторых случаях сопряженными с расстройством контроля импульсов.
(обратно)57
Перечислены участники скандала вокруг девелоперской компании Whitewater, в которую была вовлечена семья Клинтон во время первого срока президентства Билла Клинтона.
(обратно)58
Его мать Франсис Троллоп в возрасте от 50 до 76 лет написала 114 романов, так что компульсивное сочинительство, возможно, передалось ему по наследству.
(обратно)59
Здесь и далее цит. по: Достоевский Ф. Двойник. Повести и рассказы. — М.: Эксмо, 2014.
(обратно)60
Лучше всего борьба с ползучей экспансией психиатрических диагнозов описана в изданной в 2015 г. книге психиатра Аллена Фрэнсиса «Как сохранить понятие нормы: инсайдерский бунт против вышедшей из-под контроля психиатрической диагностики, DSM-5, "большой фармы" и патологизации повседневности» (Saving Normal: An Insider's Revolt Against Out-of-Control Psychiatric Diagnosis, DSM-5, Big Pharma, and the Medicalization of Ordinary Life). Подзаголовок говорит сам за себя, и мне остается лишь добавить, что Фрэнсис возглавлял разработку DSM-IV и считал своим моральным долгом загладить свою невольную вину.
(обратно)





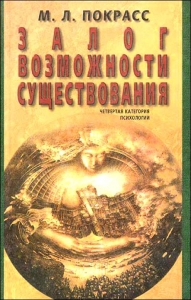
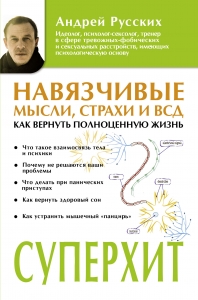



Комментарии к книге «Не могу остановиться. Откуда берутся навязчивые состояния и как от них избавиться», Шэрон Бегли
Всего 0 комментариев