Александр Романович Лурия МАЛЕНЬКАЯ КНИЖКА О БОЛЬШОЙ ПАМЯТИ (Ум мнемониста)
...Настало время, — морж сказал, —
О многом рассказать...
Что в озере кипит вода,
Что может бык летать...
Л. Кэррол. Сквозь поверхность зеркала...Вместе с маленькой Алисой мы пройдем сквозь холодную гладь зеркала и окажемся в стране чудес, где все так знакомо и близко и вместе с тем так странно и необычно...
ОТ АВТОРА
Это лето я провел вдали от города. Через раскрытые окна доносился шум деревьев и запах трав; на столе лежали старые пожелтевшие записи, и я писал книжку о странном человеке — неудавшемся музыканте и журналисте, который стал мнемонистом, встречался со многими большими людьми, и так и остался до конца своей жизни каким-то неустроенным человеком, ожидающим, что вот-вот с ним случится что-то хорошее. Он многому научил меня и моих друзей, и будет справедливо, если эта книжка будет посвящена его памяти.
Лето 1965 г.
Ал. Лурия
Замысел
Эта маленькая книжка о большой памяти имеет длинную историю.
В течение почти тридцати лет автор мог систематически наблюдать человека, чья выдающаяся память относилась к числу самых сильных, описанных в литературе.
За это время был собран большой материал, позволяющий не только изучить основные формы и приемы этой памяти, которая практически не имела границ. Проведенные наблюдения позволили, вместе с тем, автору описать основные особенности личности этого замечательного человека.
В отличие от других психологов, занимавшихся исследованием выдающейся памяти, автор не ограничивался измерением ее объема и прочности или описанием тех приемов, которыми его испытуемый пользовался для запоминания и воспроизведения материала. Гораздо больше его интересовали другие вопросы. Как сказывается выдающаяся память на всех основных сторонах личности человека — на его мышлении, воображении и поведении? Как может измениться внутренний мир человека, его общение с другими, его жизненный путь — если одна сторона его психической жизни — память получает необычайное развитие и начинает вызывать изменение всех других сторон его психической деятельности?
Такой подход к изучению психических явлений редко встречается в психологической науке, которая чаще всего занимается особенностями ощущения и восприятия, внимания и памяти, мышления и эмоций, — и лишь редко рассматривает вопрос о том, как вся структура психической жизни личности зависит от одной из этих сторон психической деятельности.
Такой подход имеет, однако, свою историю. Он принят в клинике, где вдумчивый врач никогда не ограничивает своих интересов изучаемым симптомом, но всегда пытается попять, как нарушение одного частного процесса сказывается на протекании всех других процессов организма, и как изменения этих процессов, в конечном счете имеющие один корень, приводят к изменению деятельности всего организма, к возникновению целостной картины болезни, того, что в медицине принято называть синдромом.
Изучение синдрома включает в свой состав как беседу с испытуемым, так и серию специальных экспериментальных приемов — иногда психологических, иногда физиологических. Оно должно не ограничиваться только клиникой болезненных состояний. С равным правом можно изучать, как необычно развитая сторона психической деятельности вызывает причинно связанные с нею изменения всей структуры психической жизни, всей личности. В этих случаях мы тоже будем иметь дело с «синдромами», в основе которых лежит один фактор, только это будут не клинические, а психологические синдромы. О возникновении одного из таких синдромов — синдрома выдающейся памяти — и будет рассказано в этой книжке. Автор надеется, что психологи, прочитавшие ее, попытаются открыть и описать другие психологические синдромы и изучат особенности личности, возникающие при необычном развитии чувствительности или воображения, наблюдательности или отвлеченного мышления, волевого усилия и следования одной идее. Это было бы началом конкретной психологии, которая не теряла бы своей научности.
Тот факт, что такой тип исследования начинается с анализа выдающейся памяти и ее роли в формировании психической жизни личности, имеет свои преимущества.
В последние годы учение о памяти, которое долгие годы было в состоянии застоя, вновь стало предметом оживленных исканий и бурного роста. Это связано с развитием новой отрасли — техники быстродействующих счетно-решающих устройств и новым разделом науки — бионики, которая заставляет внимательно присматриваться ко всем проявлениям того, как действует ваша память и какие приемы кладутся в основу «записи» воспринимаемого материала и «считывания» хранимых в опыте следов. Это связано вместе с тем с успехами современного учения о мозге, его строении, его физиологии и биохимии.
Всех этих областей мы не будем касаться в этой книжке, как не будем касаться и всей богатой литературы вопроса. Эта книжка посвящена одному человеку, который обладает исключительной по развитию наглядной чувственной памятью; ее сверхразвитие приводит к удивительным особенностям его личности. Автор будет стремиться как можно полнее описать наблюдавшиеся им в течение длительного срока особенности этого человека и не будет выходить в ней за пределы того, что дали ему наблюдения над этим выдающимся «экспериментом природы».
Начало
Начало этой истории относится еще к двадцатым годам этого века.
В лабораторию автора — тогда еще молодого психолога — пришел человек и попросил проверить его память.
Человек — будем его называть Ш. — был репортером одной из газет, и редактор отдела этой газеты был инициатором его прихода в лабораторию.
Как всегда, по утрам редактор отдела раздавал своим сотрудникам поручения; он перечислял им список мест, куда они должны были пойти, и называл, что именно они должны были узнать в каждом месте. Ш. был среди сотрудников, получивших поручения. Список адресов и поручений был достаточно длинным, и редактор с удивлением отметил, что Ш. не записал ни одного из поручений на бумаге. Редактор был готов сделать выговор невнимательному подчиненному, но Ш. по его просьбе в точности повторил все, что ему было задано. Редактор попытался ближе разобраться, в чем дело и стал задавать Ш. вопросы о его памяти, но тот высказал лишь недоумение: разве то, что он запомнил все, что ему было сказано, так необычно? Разве другие люди не делают то же самое? Тот факт, что он обладает какими-то особенностями памяти, отличающими его от других людей, оставался для него незамеченным.
Редактор направил его в психологическую лабораторию для исследования памяти, — и вот он сидел передо мною.
Ему было в то время немногим меньше тридцати. Его отец был владельцем книжного магазина, мать, хотя и не получила образования, но была начитанной и культурной женщиной. У него много братьев и сестер, — все обычные, уравновешенные, иногда одаренные люди; никаких случаев душевных заболеваний в семье не было. Сам Ш. вырос в небольшом местечке, учился в начальной школе; затем у него обнаружились способности к музыке, он поступил в музыкальное училище, хотел стать скрипачом, но после болезни уха слух его снизился, и он увидел, что вряд ли сможет с успехом готовиться к карьере музыканта. Некоторое время он искал, чем бы ему заняться — и случай привел его в газету, где он стал работать репортером. У него не было ясной жизненной линии, планы его были достаточно неопределенными. Он производил впечатление несколько замедленного — иногда даже робкого человека, который был озадачен полученным поручением. Как уже сказано, он не видел в себе никаких особенностей и не представлял, что его память чем-либо отличается от памяти окружающих. Он с некоторой растерянностью передал мне просьбу редактора и с любопытством ожидал, что может дать исследование, если оно будет проведено. Так началось наше знакомство, которое продолжалось почти тридцать лет, заполненных опытами, беседами и перепиской.
Я приступил к исследованию Ш. с обычным для психолога любопытством, но без большой надежды, что опыты дадут что-нибудь примечательное.
Однако уже первые пробы изменили мое отношение и вызвали состояние смущения и озадаченности, на этот раз не у испытуемого, а у экспериментатора.
Я предложил Ш. ряд слов, затем чисел, затем букв, которые либо медленно прочитывал, либо предъявлял в написанном виде. Он внимательно выслушивал ряд или прочитывал его, — и затем в точном порядке повторял предложенный материал.
Я увеличил число предъявляемых ему элементов, давал 30, 50, 70 слов или чисел, — это не вызывало никаких затруднений. Ш. не нужно было никакого заучивания, и если я предъявлял ему ряд слов или чисел, медленно и раздельно читая их, он внимательно вслушивался, иногда обращался с просьбой остановиться или сказать слово яснее, иногда сомневаясь, правильно ли он услышал слово, переспрашивал его. Обычно во время опыта он закрывал глаза или смотрел в одну точку. Когда опыт был закончен, он просил сделать паузу, мысленно проверял удержанное, а затем плавно, без задержки воспроизводил весь прочитанный ряд.
Опыт показал, что с такой же легкостью он мог воспроизводить длинный ряд и в обратном порядке — от конца к началу; он мог легко сказать, какое слово следует за каким, и какое слово было в ряду перед названным. В последних случаях он делал паузу, как бы пытаясь найти нужное слово, и затем — легко отвечал на вопрос, обычно не делая ошибок.
Ему было безразлично, предъявлялись ли ему осмысленные слова или бессмысленные слоги, числа или звуки, давались ли они в устной или в письменной форме; ему нужно было лишь, чтобы один элемент предлагаемого ряда был отделен от другого паузой в 2—3 секунды, и последующее воспроизведение ряда не вызывало у него никаких затруднений.
Вскоре экспериментатор начал испытывать чувство, переходящее в растерянность. Увеличение ряда не приводило Ш. ни к какому заметному возрастанию трудностей, и приходилось признать, что объем его памяти не имеет ясных границ. Экспериментатор оказался бессильным в, казалось бы, самой простой для психолога задаче — измерении объема памяти. Я назначил Ш. вторую, затем третью встречу. За ними последовал еще целый ряд встреч. Некоторые встречи были отделены днями и неделями, некоторые — годами.
Эти встречи еще более осложнили положение экспериментатора.
Оказалось, что память Ш. не имеет ясных границ не только в своем объеме, но и в прочности удержания следов. Опыты показали, что он с успехом — и без заметного труда — может воспроизводить любой длинный ряд слов, данных ему неделю, месяц, год, много лет назад. Некоторые из таких опытов, неизменно кончавшихся успехом, были проведены спустя 15—16 лет (!) после первичного запоминания ряда, и без всякого предупреждения.
В подобных случаях Ш. садился, закрывал глаза, делал паузу, а затем говорил: «да—да... это было у вас на той квартире... вы сидели за столом, а я на качалке... вы были в сером костюме и смотрели на меня так... вот... я вижу, что вы мне говорили...» — и дальше следовало безошибочное воспроизведение прочитанного ряда.
Если принять во внимание, что Ш., который к этому времени стал известным мнемонистом и должен был запоминать многие сотни и тысячи рядов, — этот факт становится еще более удивительным.
Все это заставило меня изменить задачу и заняться попытками не столько измерить его память, сколько попытками дать ее качественный анализ, описать ее психологическую структуру.
В дальнейшем к этому присоединилась и другая задача, о которой было сказано выше — внимательно изучить особенности психических процессов этого выдающегося мнемониста.
Этим двум задачам и было посвящено дальнейшее исследование, результаты которого сейчас — спустя много лет — я попытаюсь изложить систематически.
Его память
Изучение памяти Ш. началось в середине двадцатых годов, когда он был сотрудником газеты. Оно продолжалось много лет, когда он, перебрав несколько профессий, стал мнемонистом, выступавшим со сцены.
За это время процессы запоминания Ш., сохраняя свою исходную структуру, обогатились новыми приемами и стали психологически иными.
Мы рассмотрим особенности его запоминания на последовательных этапах.
Исходные факты
В течение всего нашего исследования запоминание Ш. носило непосредственный характер, и его механизмы сводились к тому, что он либо продолжал видеть предъявляемые ему ряды слов или цифр или превращал диктуемые ему слова или цифры в зрительные образы. Наиболее простое строение имело запоминание таблицы цифр, писанных мелом на доске.
Ш. внимательно вглядывался в написанное, закрывал глаза, на мгновение снова открывал их, отворачивался в сторону, и по сигналу воспроизводил написанный ряд, заполняя пустые клетки соседней таблицы или быстро называл подряд данные числа. Ему не стоило никакого труда заполнять пустые клетки нарисованной таблицы цифрами, которые указывали ему вразбивку, или называть предъявленный ряд цифр в обратном порядке. Он легко мог назвать цифры, входящие в ту или другую вертикаль, «прочитывать» их по диагонали, или, наконец, составлять из единичных цифр одно многозначное число.
Для запечатления таблицы в 20 цифр ему было достаточно 35—40 секунд, в течение которых он несколько раз всматривался в таблицу; таблица в 50 цифр занимала у него несколько больше времени, но он легко запечатлевал ее за 2,5—3 минуты, в течение которых он несколько раз фиксировал таблицу взором, а затем — с закрытыми глазами — проверял себя.
Вот типичный пример одного из многих десятков проводившихся с ним опытов (опыт 10/V 1939 г.).
Таблицу, написанную на листе бумаги (табл. 1), он с перерывами и мысленной проверкой рассматривал в течение 3 минут.
Таблица 1
Воспроизведение этой таблицы (последовательное называние всех чисел подряд) заняло у него 40 секунд; цифры произносились им ритмически, и в произнесении их почти не было пауз. Воспроизведение цифр третьей вертикали давалось медленнее и потребовало 1 минуту 20 секунд. Цифры второй вертикали он назвал за 25 секунд: воспроизведение всех цифр в обратном порядке-потребовало 30 секунд; называние цифр по диагонали (четырьмя идущими зигзагом линиями) — 35 секунд; воспроизведение цифр по рамке таблицы — 50 секунд. Превращение всех пятидесяти цифр в одно многозначное число и прочтение этого 50-значного числа заняло у Ш. 1 минуту 30 секунд.
Как было уже сказано, проверка «считывания» этого ряда, проведенная через несколько месяцев, показала, что Ш. воспроизводит «запечатленную» таблицу с той же полнотой и приблизительно в те же сроки, которые ему были нужны при первичном воспроизведении. Различие заключалось лишь в том, что ему требовалось больше времени для того, чтобы «оживить» всю ситуацию, в которой проводился опыт, — «увидеть» комнату, в которой мы сидели, «услышать» мой голос, «воспроизвести» себя, смотрящего на доску. На самый процесс «считывания» добавочного времени почти не уходило.
Аналогичные данные получались при предъявлении ему таблицы, составленной из букв, четко написанных на доске или на листе бумаги.
На «запечатление» и «считывание» бессмысленных рядов букв (на табл. 2 приведен опыт, проведенный с Ш. в присутствии акад. Л. А. Орбели) — ушло приблизительно такое же время, как и на «запечатление» и «считывание» таблицы цифр. Воспроизведение материала Ш. осуществлял с такой же легкостью, и как объем, так и прочность запечатлеваемого материала, по-видимому, не имела никаких отчетливых границ.
Таблица 2
Как же протекал у Ш. процесс «запечатления» и последующего «считывания» предложенной таблицы?
Мы не имели другого способа ответить на этот вопрос, кроме прямого опроса нашего испытуемого.
С первого взгляда результаты, которые получились при опросе Ш., казались очень простыми.
Ш. заявлял, что он продолжает видеть запечатлеваемую таблицу, написанную на доске или на листке бумаги, и он должен лишь «считывать» ее, перечисляя последовательно входящие в ее состав цифры или буквы.
Поэтому для него в целом остается безразличным, «считывает» ли он эту таблицу с начала или с конца, перечисляет элементы вертикали или диагонали, или читает цифры, расположенные по «рамке» таблицы. Превращение отдельных цифр в одно многозначное число оказывается для него не труднее, чем это было бы для каждого из нас, если бы ему предложили проделать эту операцию с цифрами таблицы, которую можно было длительно разглядывать.
«Запечатленные» цифры Ш. продолжал видеть на той же черной доске, как они были показаны, — или же на листе белой бумаги; цифры сохраняли ту же конфигурацию, которой они были написаны, и если одна из цифр была написана нечетко, Ш. мог неверно «считать» ее, например, принять 3 за 8 или 4 за 9. Однако уже при этом счете обращают на себя внимание некоторые особенности, показывающие, что процесс запоминания носит вовсе не такой простой характер.
Синестезии
Все началось с маленького — и, казалось бы, — несущественного наблюдения.
Ш. неоднократно замечал, что, если исследующий произносит какие-нибудь слова, например, говорит «да» или «нет», подтверждая правильность воспроизводимого материала или указывая на ошибки, — на таблице появляется пятно, расплывающееся и заслоняющее цифры, — и он оказывается принужден внутренне «менять» таблицу. То же самое бывает, когда в аудитории возникает шум. Этот шум сразу превращается в «клубы пара» или «брызги», — и «считывать» таблицу становится труднее.
Эти данные заставляют думать, что процесс удержания материала не исчерпывается простым сохранением непосредственных зрительных следов и что в него вмешиваются дополнительные элементы, говорящие о высоком развитии у Ш. синестезии.
Если верить воспоминаниям Ш. о его раннем детстве, — а к ним нам еще придется возвращаться особо — такие синестезии можно было проследить у него еще в очень раннем возрасте.
«Когда — около 2-х или 3-х лет, — говорил Ш., — меня начали учить словам молитвы на древнееврейском языке, я не понимал их, и эти слова откладывались у меня в виде клубов пара и брызг... Еще и теперь я вижу, когда мне говорят какие-нибудь звуки...».
Явление синестезии возникало у Ш. каждый раз, когда ему давались какие-либо тоны. Такие же (синестезические), но еще более сложные явления возникали у него при восприятии голоса, а затем и звуков речи.
Вот протокол опытов, проведенных над Ш. в лаборатории физиологии слуха Института неврологии Академии медицинских наук.
Ему дается тон высотой в 30 гц с силой звука в 100 дб. Он заявляет, что сначала он видел полосу шириной в 12—15 см цвета старого серебра; постепенно полоса сужается и как бы удаляется от него, а затем превращается в какой-то предмет, блестящий как сталь. Постепенно тон принимает характер вечернего света, звук продолжает рябить серебряным блеском.
Ему дается тон 50 гц и 100 дб. Ш. видит коричневую полосу на темном фоне с красными языками; на вкус этот звук похож на кисло-сладкий борщ, вкусовое ощущение захватывает весь язык.
Ему дается тон в 100 гц и 86 дб. Ш. видит широкую полосу, середина которой имеет красно-оранжевый цвет, постепенно переходящий по краям в розовый.
Ему дается тон в 250 гц и 64 дб. Ш. видит бархатный шнурок, ворсинки которого торчат во все стороны. Шнурок окрашен в нежно-приятно розово-оранжевый цвет.
Ему дается тон в 500 гц и 100 дб. Он видит прямую молнию, раскалывающую небо на две части. При снижении силы звука до 74 дб — он видит густо оранжевый цвет, будто игла вонзается в спину, постепенно игла уменьшается.
Ему дается тон в 2000 гц и 113 дб. Ш. говорит: «Что-то вроде фейерверка, окрашенного в розово-красный цвет.., полоска шершавая, неприятная.., неприятный вкус, вроде пряного рассола ... Можно поранить руку».
Ему дается тон в 3000 гц и 128 дб. Он видит метелку огненного цвета. Стержень метелки рассыпается на огненные точки...
Опыты повторялись в течение нескольких дней, и одни и те же раздражители неизменно вызывали одинаковые переживания.
Значит, Ш. действительно относился к той замечательной группе людей, в которую, между прочим, входил и композитор Скрябин, и у которого в особенно яркой форме сохранилась комплексная «синестезическая» чувствительность: каждый звук непосредственно рождал переживания света и цвета и, как мы еще увидим ниже, — вкуса и прикосновения...
Синестезические переживания Ш. проявлялись и тогда, когда он вслушивался в чей-нибудь голос.
«Какой у вас желтый и рассыпчатый голос», — сказал он как-то раз беседовавшему с ним Л. С. Выготскому. «А вот есть люди, которые разговаривают как-то многоголосо, которые отдают целой композицией, букетом.., — говорил он позднее, — такой голос был у покойного С. М. Эйзенштейна, как будто какое-то пламя с жилками надвигалось на меня ... Я начинаю интересоваться этим голосом — и уже не могу понять, что он говорит...». «...А вот бывает голос непостоянный, я часто могу по телефону не узнавать голос — и это не только если плохая слышимость, а просто у человека в течение одного дня 20—30 раз меняется голос ... Другие этого не замечают, а я улавливаю».
«От цветного слуха я не могу избавиться и по сей день... Вначале встает цвет голоса, а потом он удаляется — ведь он мешает ... Вот как-то сказал слово — я его вижу, а если вдруг посторонний голос — появляются пятна, вкрадываются слоги, — и я уже не могу разобрать...».
«Линия», «пятна» и «брызги» вызывались не только тоном, шумом и голосом. Каждый звук речи сразу же вызывал у Ш. яркий зрительный образ, каждый звук имел свою зрительную форму, свой цвет, свои отличия на вкус. Гласные были для него простыми фигурами, согласные — брызгами, чем-то твердым, рассыпчатым и всегда сохранявшим свою форму.
«А» — это что белое, длинное, — говорил Ш., — «и» — оно уходит вперед, его нельзя нарисовать, а «й» — острее. «Ю» — это острое, оно острее, чем «е», а «я» — это большое, можно по нему прокатиться... «О» — это из груди исходит, широкое, а сам звук идет вниз.., «эй» — уходит куда-то в сторону, и я чувствую вкус от каждого звука. И если я вижу линии, то они тоже звучат — вот это что-то между э—ы—й; это гласный звук ... и вроде «р», не чистое «р» .., но ведь здесь неизвестно, снизу это идет или сверху, если сверху — это звук, а если снизу — это уже не звук, а какой-то деревянный крючок для коромысла; что-то темное, а если это сделать медленнее — это другое... Вот, если бы вы сделали это было бы «е» ...».
Аналогично переживал Ш. цифры.
«Для меня 2, 4, 6, 5 — не просто цифры. Они имеют форму ... 1 — это острое число, независимо от его графического изображения, это что-то законченное, твердое. 2 — более плоское, четырехугольное, беловатое, бывает чуть серое... 3 — отрезок заостренный и вращается. 4 — опять квадратное, тупое, похожее на 2, но более значительное, толстое... 5 — полная законченность в виде конуса, башни, фундаментальное. 6 — это первая за «о», беловатая. 8 — невинное, голубовато-молочное, похожее на известь» и т. д.
Значит, у Ш. не было той четкой грани, которая у каждого из нас отделяет зрение от слуха, слух — от осязания или вкуса. Те остатки «синестезий», которые у многих из обычных людей сохраняются лишь в рудиментарной форме (кто не знает, что низкие и высокие звуки окрашены по-разному, что есть «теплые» и «холодные» тона, что «пятница» и «понедельник» имеют какую-то различную окраску), — оставались у Ш. основным признаком его психической жизни. Они возникли очень рано и сохранялись у него до самого последнего времени; они, как мы увидим ниже, накладывали свой отпечаток на его восприятие, понимание, мышление, они входили существенным компонентом в его память.
Запоминание «по линиям» и «по брызгам» вступало в силу в тех случаях, когда Ш. предъявлялись отдельные звуки, бессмысленные слоги и незнакомые слова. В этих случаях Ш. указывал, что звуки, голоса или слова вызывали у него какие-то зрительные впечатления — «клубы дыма», «брызги», «плавные или изломанные линии»; иногда они вызывали ощущения вкуса на языке, иногда ощущение чего-то мягкого или колючего, гладкого или шершавого.
Эти синестезические компоненты каждого зрительного и особенно слухового раздражения были в ранний период развития Ш. очень существенной чертой его запоминания, и лишь позднее — с развитием смысловой и образной памяти — отступали на задний план, продолжая, однако, сохраняться в любом запоминании.
Значение этих синестезий для процесса запоминания объективно состояло в том, что синестезические компоненты создавали как бы фон каждого запоминания, неся дополнительно «избыточную» информацию и обеспечивая точность запоминания: если почему-либо (это мы еще увидим ниже) Ш. воспроизводил слово неточно — дополнительные синестезические ощущения, не совпадавшие с исходным словом, давали ему почувствовать, что в его воспроизведении «что-то не так» и заставляли его исправлять допущенную неточность.
«...Я узнаю не только по образам, а всегда по всему комплексу чувств, которые этот образ вызывает. Их трудно выразить — это не зрение, не слух... Это какие-то общие чувства... Я обычно чувствую и вкус, и вес слова — и мне уже делать нечего — оно само вспоминается.., а описать трудно. Я чувствую в руке — скользнет что-то маслянистое — из массы мельчайших точек, но очень легковесных — это легкое щекотание в левой руке, — и мне уже больше ничего не нужно...». (Опыт 22/V 1939 г.)
Синестезические ощущения, выступавшие открыто при запоминании голоса, отдельных звуков или звуковых комплексов, теряли свое ведущее значение и оттеснялись на второй план при запоминании слов.
Остановимся на этом подробнее.
Слова и образы
Известно, что психологически слова имеют двойной характер. С одной стороны — это условные комплексы звуков, которые могут иметь различную сложность; эту сторону слов изучает фонетика. С другой стороны — они обозначают известные предметы, качества или действия, иначе говоря — имеют свое значение. Эту сторону слов изучает семантика и близкие к ней отрасли языкознания (лексика, морфология). В обычном бодрствующем сознании звуковые характеристики слова оттесняются на задний план, и хотя слово «скрипка» отличается от слова «скрепка» лишь незначительными отклонениями одного из звуков, — человек, находящийся в бодрствующем состоянии, может совершенно не замечать этой звуковой близости и видит за каждым из этих слов совершенно различные вещи[1].
Такое преобладающее значение смысловой стороны слова сохранялось и у Ш.; каждое слово вызывало у него наглядный образ, и отличия Ш. от обычных людей заключались лишь в том, что эти образы были несравненно более яркими и стойкими, а также и в том, что к ним неизменно присоединялись те синестезические компоненты (ощущения цветных пятен, «брызг» и «линий»), которые отражали звуковую структуру слова и голос произносившего.
Естественно поэтому, что зрительный характер запоминания, который мы уже видели выше, сохранял свое ведущее значение и при запоминании слов.
Когда Ш. слышал или прочитывал какое-нибудь слово — оно тотчас же превращалось у него в наглядный образ соответствующего предмета. Этот образ был очень ярким и стойко сохранялся в его памяти; когда Ш. отвлекался в сторону — этот образ исчезал; когда он возвращался к исходной ситуации — этот образ появлялся снова:
«Когда я услышу слово «зеленый», появляется зеленый горшок с цветами; «красный» — появляется человек в красной рубашке, который подходит к нему. «Синий» — и из окна кто-то помахивает синим флажком... Даже цифры напоминают мне образы... Вот «1» — это гордый стройный человек; «2» — женщина веселая; «3» — угрюмый человек, не знаю почему... «6» — человек, у которого распухла нога; «7» — человек с усами; «8» — очень полная женщина, мешок на мешке.., а вот «87» — я вижу полную женщину и человека, который крутит усы».
Легко видеть, что в образах, которые возникают от слов и цифр, совмещаются наглядные представления и те переживания, которые характерны для синестезии Ш. Если Ш. слышал понятное слово — эти образы заслоняли синестезические переживания; если слово было непонятным и не вызывало никакого образа — Ш. запоминал его «по линиям»: звуки снова превращались в цветовые пятна, линии, брызги — и он запечатлевал этот зрительный эквивалент, на этот раз относящийся к звуковой стороне слова.
Когда Ш. прочитывал длинный ряд слов — каждое из этих слов вызывало наглядный образ: но слов было много — и Ш. должен был «расставлять» эти образы в целый ряд. Чаще всего — и это сохранялось у Ш. на всю жизнь — он «расставлял» эти образы по какой-нибудь дороге. Иногда это была улица его родного города, двор его дома, ярко запечатлевшийся у него еще с детских лет. Иногда это была одна из московских улиц. Часто он шел по этой улице — нередко это была улица Горького в Москве, начиная с площади Маяковского, медленно продвигаясь вниз и «расставляя» образы у домов, ворот и окон магазинов, и иногда незаметно для себя оказывался вновь в родном Торжке и кончал свой путь ... у дома его детства ... Легко видеть, что фон, который он избирал для своих «внутренних прогулок», был близок к плану сновидения и отличался от него только тем, что он легко исчезал при всяком отвлечении внимания и столь же легко появлялся снова, когда перед Ш. возникала задача вспомнить «записанный» ряд.
Эта техника превращения предъявленного ряда слов в наглядный ряд образов делала понятным, почему Ш. с такой легкостью мог воспроизводить длинный ряд в прямом или обратном порядке, быстро называть слово, которое предшествовало данному или следовало за ним: для этого ему нужно было только начать свою прогулку с начала или с конца улицы или найти образ названного предмета — и затем «посмотреть» на то, что стоит с обеих сторон от него. Отличия от обычной образной памяти заключались лишь в том, что образы Ш. были исключительно яркими и прочными, что он мог «отворачиваться» от них, а затем — «поворачиваясь» к ним — видеть их снова[2].
Такая техника непосредственной образной памяти делала понятным и то, что Ш. всегда просил, чтобы слова произносились четко и раздельно и чтобы они не давались слишком быстро. Превращение слов в образы и расстановка этих образов требовала некоторого — пусть небольшого — времени, и когда слова давались ему слишком быстро или читались непрерывным рядом, без паузы, вызываемые ими образы сливались, и все превращалось в хаос или шум, в котором Ш. не мог разобраться.
Удивительная яркость и прочность образов, способность сохранять их долгие годы и снова вызывать их по своему усмотрению давала Ш. возможность запоминать практически неограниченное число слов и сохранять их на неопределенное время. Однако такой способ «записи» следов приводил и к некоторым затруднениям.
Убедившись в том, что объем памяти Ш. практически безграничен, что ему не нужно «заучивать», а достаточно только «запечатлевать» образы, что он может вызывать эти образы через очень длительные сроки (мы дадим ниже примеры того, как предложенный ряд точно воспроизводился Ш. через 10 и даже через 16 лет), — мы, естественно, потеряли всякий интерес к попытке «измерить» его память; мы обратились к обратному вопросу: может ли он забывать, и попытались тщательно фиксировать случаи, когда Ш. упускал то или иное слово из воспроизводимого им ряда.
Такие случаи встречались, и, что особенно интересно, встречались нередко.
Чем же объяснить «забывание» у человека со столь мощной памятью? Чем объяснить, далее, что у Ш. могли встречаться случаи пропуска запоминаемых элементов и почти не встречались случаи неточного воспроизведения (например, замены нужного слова синонимом или близким по ассоциации словом)?
Исследование сразу же давало ответ на оба вопроса. Ш. не «забывал» данных ему слов; он «пропускал» их при «считывании», и эти пропуски всегда просто объяснялись.
Достаточно было Ш. «поставить» данный образ в такое положение, чтобы его было трудно «разглядеть», например, «поместить» его в плохо освещенное место или сделать так, чтобы образ сливался с фоном и становился трудно различимым, — как при «считывании» расставленных им образов этот образ пропускался, и Ш. «проходил» мимо этого образа, «не заметив» его.
Пропуски, которые мы нередко замечали у Ш. (особенно в первый период наблюдений, когда техника запоминания была у него еще недостаточно развита) — показывали, что они были не дефектами памяти, а дефектами восприятия, иначе говоря, они объяснялись не хорошо известными в психологии нейродинамическими особенностями сохранения следов (ретро- и проактивным торможением, угасанием следов и т. д.), а столь же хорошо известными особенностями зрительного восприятия (четкостью, контрастом, выделением фигуры из фона, освещенностью и т. д.).
Ключ к его ошибкам лежал, таким образом, в психологии восприятия, а не в психологии памяти.
Иллюстрируем это выдержками из многочисленных протоколов.
Воспроизводя длинный ряд слов, Ш. пропустил слово «карандаш». В другом ряде было пропущено слово «яйцо». В третьем — «знамя», в четвертом — «дирижабль». Наконец, в одном ряду Ш. пропустил непонятное для него слово «путамен».
Вот как он объяснял свои ошибки.
«Я поставил «карандаш» около ограды — вы знаете эту ограду на улице, — и вот карандаш слился с этой оградой, и я прошел мимо него... То же было и со словом «яйцо». Оно было поставлено на фоне белой стены и слилось с ней. Как я мог разглядеть белое яйцо на фоне белой стены?... Вот и «дирижабль», он серый и слился с серой мостовой... И «знамя» — красное знамя, а вы знаете, ведь здание Моссовета красное, я поставил его около стены и прошел мимо него... А вот «путамен» — я не знаю, что это такое... Оно такое темное слово — я не разглядел его.., а фонарь был далеко...
А вот еще иногда я поставлю слово в темное место и снова плохо: «вот слово «ящик» — оно оказалось в нише ворот, а там было темно, и трудно разглядеть его... А иногда — если какой-нибудь шум или посторонний голос — появляются пятна, и все заслоняют.., или вкрадываются слоги, которых не было.., и я могу сказать, что они были ... Вот это мешает запомнить...».
Таким образом, «дефекты памяти» были у Ш. «дефектами восприятия» или «дефектами внимания», а анализ этих дефектов, не снижая оценку мощности его памяти, позволил лишь ближе подойти к характеристике способов запоминания у этого удивительного человека.
Ближайшее рассмотрение позволило получить ответ и на второй вопрос — почему у Ш. не было искажений памяти?
Этот факт легко объясняется наличием синестезических компонентов в «записи» и «считывании» следов запоминаемого материала.
Мы уже говорили, что Ш. не только перешифровывает данные ему слова в наглядные образы. Каждое предъявленное слово оставляет и «избыточную информацию» в виде тех синестезических (зрительных, вкусовых, тактильных) ощущений, которые возникают от звуков сказанного слова или от образов написанных букв. Естественно, что если бы Ш. ошибочно «считал» использованный им образ, — «избыточная информация» от предложенного слова не совпадала бы с признаками воспроизведенного синонима или ассоциативно близкого слова: что-то оставалось бы несогласованным, а Ш. легко мог констатировать допущенную им ошибку.
Я вспоминаю, как однажды мы с Ш. шли обратно из института, в котором мы проводили опыты вместе с Л. А. Орбели. «Вы не забудете, как пройти в институт?» — спросил я Ш., забыв, с кем я имею дело.
«Нет, что вы, — ответил он, — разве можно забыть? Ведь вот этот забор — он такой соленый на вкус и такой шершавый, и у него такой острый и пронзительный звук...».
Естественно, что совмещение большого числа признаков, которые благодаря синестезии давала комплексная избыточная информация от каждого впечатления, служило гарантией точного воспоминания и делало всякое отклонение от наглядного материала очень мало вероятным.
Трудности
При всех преимуществах непосредственного образного запоминания оно вызвало у Ш. естественные трудности. Эти трудности становились тем более выраженными, чем больше Ш. был принужден заниматься запоминанием большого и непрерывно меняющегося материала, — а это стало возникать все чаще тогда, когда он, оставив свою первоначальную работу, стал профессиональным мнемонистом.
Первую из этих трудностей мы уже описали. Теперь Ш. — профессиональный мнемонист — уже не мог мириться с тем, что отдельные образы могли сливаться с фоном или плохо «считываться» из-за того, что их было трудно разглядеть из-за «недостаточного освещения».
Теперь он не мог мириться и с тем, что посторонние шумы приводили к тому, что «пятна», «брызги» или «клубы пара» заслоняли расставленные им образы и делали их «трудно различимыми».
«Ведь каждый шум мне мешает ... Он превращается в линии и пугает меня... Вот было слово «omnia», а в него впутался шум, и я записываю слово «omnion» ... И вот стоит мне сказать какое-нибудь слово, и сразу появляются перед глазами какие-то линии.., я их щупаю руками... Они как-то изнашиваются от прикосновения руки... появляется дым, туман... И чем больше говорят, тем мне труднее... И вот уже от значения слов ничего не остается...».
Слова, даваемые ему для запоминания, часто оказывались настолько далекими по смыслу, что могли нарушить тот порядок, который он избирал для «расстановки» образов.
«Я только что начал идти от площади Маяковского — и тут мне говорят «Кремль» — и я должен сразу оказаться в Кремле. Ну хорошо, я переброшу веревку прямо в Кремль.., а потом — «стихи», и я снова на площади Пушкина... А если скажут «индеец» — я должен оказаться в Америке... Ну, я переброшу веревку через океан... Но это так утомительно путешествовать...».
Еще более осложняло дело то, что часто присутствующие начинали давать ему длинные, нарочно запутанные или бессмысленные слова. Это естественно толкает на то, чтобы запоминать «по линиям» — по зрительным образам тех изгибов, оттенков, брызг, в которые превращаются звуки голоса, — а это так трудно...».
Наглядно-образная память Ш. оказывается недостаточно экономной, и Ш. должен сделать шаг для того, чтобы приспособить ее к новым условиям.
Начинается второй этап — этап работы над упрощением форм запоминания, этап разработки новых способов, которые дали бы возможность обогатить запоминание, сделать его независимым от случайностей, дать гарантии быстрого и точного воспроизведения любого материала и в любых условиях.
Эйдотехника
Первое, над чем Ш. должен был начать работать — это освобождение образов от тех случайных влияний, которые могли затруднить их «считывание».
Эта задача оказалась очень простой.
«Я знаю, что мне нужно остерегаться, чтобы не пропустить предмет, — и я делаю его большим. Вот я говорил вам — слово «яйцо». Его легко было не заметить.., и я делаю его большим... и прислоняю к стене дома, и лучше освещаю его фонарем... И теперь я уже не ставлю вещей в темном проходе... Пусть там будет свет, и мне легче их увидеть».
Увеличение размеров образов, их выгодное освещение, правильная расстановка, — все это было первым шагом той «эйдотехники», которой характеризовался второй этап развития памяти Ш. Другим приемом было сокращение и символизация образов, к которой Ш. не прибегал в раннем периоде формирования его памяти, и который стал одним из основных приемов в период его работы профессионального мнемониста.
«Раньше, чтобы запомнить, я должен был представить себе всю сцену. Теперь мне достаточно взять какую-нибудь условную деталь. Если мне дали слово «всадник», мне достаточно поставить ногу со шпорой. Если бы раньше вы мне сказали слово «ресторан», я видел бы вход в ресторан, людей, которые сидят, румынский оркестр, он настраивает инструменты, и многое еще ... Теперь, когда вы скажете «ресторан», я вижу только нечто вроде магазина, вход в дом, что-то белеет, — я запоминаю «ресторан». Поэтому теперь и образы становятся другими. Раньше образы появлялись более четко и реально... Теперешние образы не появляются так четко и ясно, как в прежние годы... Я стараюсь выделить то, что нужно».
Сокращение образов, абстракция от деталей, их обобщение — вот та линия, по которой начинает идти «эйдотехника» Ш.
Аналогичную работу Ш. проделывал для того, чтобы освободиться от слишком большой связанности наглядными образами.
«Раньше, чтобы запомнить «Америка», я должен был протянуть длинную веревку через океан — от улицы Горького в Америку, — чтобы не потерять дорогу. Теперь мне это не нужно. Вот мне говорят «слон» и я вижу зоопарк; говорят «Америка» — и я ставлю здесь дядю Сэма; «Бисмарк» — и он около памятника Бисмарка; мне говорят «трансцендентный» — и я вижу моего учителя Щербину, он стоит и смотрит на памятник... Теперь мне уже не нужно делать все эти сложные вещи, перемещаться в разные страны».
Прием сокращения и символизации образов привел Ш. к третьему приему, который постепенно приобрел для него центральное значение.
Получая на сеансах своих выступлений тысячи слов, часто нарочито сложных и бессмысленных, Ш. оказался принужден превращать эти ничего не значащие для него слова в осмысленные образы. Самым коротким путем для этого было разложение длинного и не имеющего смысла слова или бессмысленной для него фразы на ее составные элементы с попыткой осмыслить выделенный слог, использовав близкую к нему ассоциацию. В таком разложении бессмысленных элементов на «осмысленные» части с дальнейшим автоматическим превращением этих частей в наглядные образы Ш., которому пришлось ежедневно по нескольку часов практиковаться, приобрел поистине виртуозные навыки. В основе этой работы, которая выполнялась им с удивительной быстротой и легкостью, лежала «семантизация» звуковых образов; дополнительным приемом оставалось использование синестезических комплексов, которые и тут продолжали «страховать» запоминание.
Мне говорят: «Ibi bene ubi patria». Я не знаю, что это такое... Но вдруг передо мной возникает Беня (bene) и pater (отец).., и я просто запоминаю: они где-то в маленьком домике в лесу и ... ссорятся...».
Мы ограничимся несколькими примерами, иллюстрирующими ту виртуозность, с которой Ш. пользовался приемами семантизации и эйдотехники. Из многих сотен протоколов, которыми мы располагаем, возьмем только три, из которых один покажет технику запоминания слов незнакомого языка, второй — технику запоминания бессмысленной формулы, и третий — технику запечатления наиболее трудного, по словам самого Ш., ряда бессмысленных слогов. Все эти примеры интересны и тем, что пишущему эти строки пришлось проверить их воспроизведение через много лет (конечно, без всякого предупреждения, что проверка будет касаться именно этих примеров).
(1) В декабре 1937 года Ш. была прочитана первая строфа из «Божественной комедии».
Nel mezzo del camin di nostra vita
Mi rilrovai par una selva oscura,
Che la diritta via era smarita,
Ahi quanto a dir qual era e cosa dura.
Как всегда, Ш. просил произносить слова предлагаемого ряда раздельно, делая между каждым из них небольшие паузы, которые были достаточны, чтобы превратить бессмысленные для него звукосочетания в осмысленные образы.
Естественно, что он воспроизвел несколько данных ему строф «Божественной комедии» без всяких ошибок, с теми же ударениями, с какими они были произнесены.. Естественно было и то, что это воспроизведение было дано им при проверке, которая была неожиданно проведена... через 15 лет!
Вот те пути, которые использовал Ш. для запоминания:
«Nel — я платил членские взносы и там в коридоре была балерина Нельская; меццо (mezzo) — я скрипач; я поставил рядом с нею скрипача, который играет на скрипке; рядом — папиросы «Дели» — это del; рядом тут же я ставлю камин (camin), di — это рука показывает дверь; nos — это нос, человек попал носом в дверь и прищемил его; tra — он поднимает ногу через порог, там лежит ребенок — это vita, витализм; mi — я поставил еврея, который говорит «ми» — здесь ни при чем»; ritrovai — реторта, трубочка прозрачная, она пропадает, — и еврейка бежит кричит «вай» — это vai ... Она бежит, и вот на углу Лубянки — на извозчике едет per — отец. На углу Сухаревки стоит милиционер, он вытянут, стоит как единица (una). Рядом с ним я ставлю трибуну, и на ней танцует Сельва (selva); но чтобы она не была Сильва — над ней ломаются подмостки — это звук «э». Из трибуны торчит ось — она торчит по направлению к курице (oscura). Che — это может быть китаец—Че-чен (Che — было неправильно произнесено как «че»). Рядом я ставлю жену — она парижанка, la ritta — это моя ассистентка Маргарита; via — она говорит «via» — «ваша» и протянула руку; мало ли какие события бывают в жизни человека, выпил бутылку шампанского — уже «эра», и я вижу трамвай, рядом с вожатым — бутылка шампанского. В трамвае сидит еврей в талесе и читает «Шма Исроэл» — вот sma и его дочка Рита (rita), Ahi — это, по-еврейски, «ага!»; я поставил здесь же в сквере человека, он чихнул «апчхи!» ,и мелькают еврейские буквы «а» и «h». Quanta — здесь я вместо «квинты» взял рояль: «а» — для меня белый звук — я взял рояль с белыми клавишами ... Здесь я перенесся в Торжок, в мою комнату с роялем ... Я увидел, стоит мой тесть и говорит: «dir» — «тебя»; «а» — я просто поставил на стол... «а» — белый звук — и вот он пропал на фоне скатерти, и я его не вспомнил. Qual era — появился человек на коне в испанском плаще (кавалер), но я взял иначе: чтоб не нужно было лишнего, я сделал из ног моего тестя ручей (qual) и в нем шампанское (era). «E» это я вижу из Гоголя: «Кто сказал «э»?» — Бобчинский и Добчинский?.. их прислуга видит козу (cosa) и говорит ей: «Куда ты лезешь, дура?» (dura)...».
Мы могли бы продолжить записи из нашего протокола, но способы запоминания достаточно ясны и из этого отрывка. Казалось бы, хаотическое нагромождение образов лишь усложняет задачу запоминания четырех строчек поэмы; но поэма дана на незнакомом языке, и тот факт, что Ш., затративший на выслушивание строфы и композицию образов не более нескольких минут, мог безошибочно воспроизвести данный текст и повторить его ... через 15 лет, «считывая» значения с использованных образов, показывает, какое значение получили для него описанные приемы.
(2) В конце 1934 года Ш. была дана искусственная (и ничего не означающая) формула:
Ш. внимательно смотрит на таблицу с формулой, несколько раз поднимает ее к глазам, опускает ее и сидит с закрытыми глазами, затем возвращает таблицу, делает паузу, внутренне «просматривая» запомненное, и через 7 минут в точности воспроизводит «формулу».
Вот его отчет, показывающий, какие приемы были им использованы для запоминания:
«Нейман» (N) вышел и ткнул палкой ( . ). Он посмотрел на высокое дерево, которое напоминало корень (√) и подумал, что не удивительно, что дерево высохло и обнажились корни: ведь оно стояло еще тогда, когда я строил вот эти два дома (d2) и опять ткнул палкой ( . ). Он говорит: дома старые, придется на них поставить крест (X), это даст большое умножение капитала, 85 тысяч капитала он вложил в это (85). Крыша отделяет его ( — ), а внизу стоит человек и играет на терменвоксе (vx). Он стоит около почты, а на углу — большой камень ( . ), чтобы подводы не задевали дома. Тут же сквер, там большое дерево (√), на нем три галки (3√). Здесь я просто поставил 276, а «в квадрате» — поставил квадратный ящик из под папирос (2). На нем написано «86»... Эта цифра была написана с другой стороны ящика, она не была видна оттуда, где я стоял, я не подошел близко — и потому пропустил ее, когда припоминал ... X — неизвестный человек подошел к забору в черном манто, забор ( — ), а дальше женская гимназия, он хотел пробиться на свидание с гимназисткой n — изящная молодая, в сером костюме; он разговаривает, он пытается переломить жердочки забора одной ногой и другой (2), а она — гимназистка — некрасивая, фи! (V)... Здесь я переношусь в Режицу... Там в школе большая доска ... Шнур летит — и я ставлю точку ( . ). На доске написано 264, дальше я там же пишу n2b. Я в школе. Моя жена положила линейку, и тут сижу я, Соломон Вениаминович (SV), а у моего товарища написано 1624/322 Я посмотрел на него, что он пишет, а сзади сидели две гимназистки (2) поглядели и крикнули, чтобы он не заметил «сс! ... тише!» (S)».
И эта формула была безошибочно воспроизведена Ш. непосредственно, и такое же точное воспроизведение было получено через 15 лет (в 1949 г.), когда, также без всякого предупреждения, Ш. было предложено вспомнить ее.
(3) И июня 1936 года Ш. давал сеанс запоминания в одном из санаториев. Как он после рассказывал, ему была предложена самая трудная задача из всех, с которыми он сталкивался; однако он с успехом справился и с ней, и через 4 года снова воспроизвел этот сеанс.
Ш. было предложено запомнить длинный ряд, который состоял из бессмысленного чередования одних и тех же слогов.
1. МАВАНАСАНАВА
2. НАСАНАМАВА
3. CAНAMABAНA
4. ВАСАНАВАНАМА
5. НАВАНАВАСАМА
6. НАМАСАВАНА
7. САМАСАВАНА
8. НАСАМАВАМАНА и т. д.
Ш. воспроизвел этот ряд.
Через 4 года он по моей просьбе восстановил путь, который привел его к запоминанию. Вот его отчет.
«Осенью 1936 года у меня был сеанс, который я считал самым трудным из тех, которые я до тех пор давал перед зрителями. Тогда вы приклеили запись к листу бумаги и предложили мне описать сеанс. По независящим от меня обстоятельствам я лишь теперь, спустя свыше 4 лет, собрался, наконец, это сделать. Несмотря на то, что с тех пор прошло несколько лет, у меня все всплыло перед глазами с такой точностью, как будто сеанс имеет не четырехлетнюю, а четырехмесячную давность.
Во время сеансов ассистент зачитывал мне слова, расчленяя их на отдельные слоги: ма — ва — на — са — на — ва и т. д. Услыхав первое слово, я тут же оказался на дороге в лесу около местечка Мальта, где я в детстве жил на даче. Слева от меня на уровне глаз вспыхнула тончайшая серо-желтая линия (все согласные буквы построены на звуке «а»). На линии начали быстро появляться разноцветные, разного веса и плотности комки, брызги, пятна, лучи и прочее, изображающие буквы М, В, Н, С и т. д.
Произнесено второе слово.
Я сразу увидел те же согласные буквы, что и в первом слове, но расположенные в другом порядке. Повернул по дороге влево и продолжал горизонтальную линию.
Третье слово. Черт возьми! Опять то же самое, лишь порядок другой. Спрашиваю ассистента: «Много еще таких слов?». Ответ: «Почти все такие!». Я в затруднении. Многократная повторяемость 4-х согласных опирающихся на однообразную, примитивную по форме гласную А, колеблет мою обычную уверенность. Если для каждого слова менять тропинку в лесу, хорошо прощупать, обнюхать, просмотреть и вообще прочувствовать каждое пятно, — это поможет, но потребует добавочных секунд, — а на сцене каждая секунда дорога. Вижу чью-то улыбку. Улыбка превращается в острый шпиль; чувствую сильный укол, прямо в сердце. Решаю перейти на «мнемотехнику».
Улыбнувшись, прошу ассистента зачитать мне снова первые три слова целиком, не расчленяя их на слоги. Однообразная гласная А создает определенный ритм и ударения. У него получается; мава—наса—нава. Здесь запоминание пошло без пауз и в надлежащем сценическом темпе. Слушаю и вижу: мава наса нава:
1. МАВАНАСАНАВА. Моя квартирная хозяйка (МАВА), у которой я жил в Варшаве на Слизкой улице, высунулась в окно, выходящее во двор; левой рукой она указывает внутрь комнаты (НАСА), правой делает отрицательный жест (НАВА) еврею-старьевщику, стоявшему во дворе с мешком на правом плече, дескать, ничего для продажи нет. «Муви» — по-польски значит «говорить». «Наса» — условно по-русски «наша», я запомнил, что заменил «ш» на «с»; кроме того, когда хозяйка произнесла «наса» — передо мной блеснул оранжевый луч, характерный для звука «с». «Нава» — по-латышски означает «нет». Различные гласные не имели значения — ведь я знал, что между всеми согласными есть только «а».
2. НАСАНАМАВА. Старьевщик уже на улице, у ворот дома. Он в недоумении разводит руками, вспоминая слова хозяйки, что «нашим (наса) продать нечего», и указывает на стоящую рядом женщину с высоким бюстом — кормилицу («НАМА» — кормилица по-еврейски «а’ н’ам»). Прохожий возмущается и говорит: «вай» (ва): непохвально, мол, для старого еврея поглядывать на кормилицу.
3. САНАМАВАНА. Начало Слизкой улицы. Я — у Сухаревой башни со стороны Первой Мещанской (почему-то в сеансах запоминания я часто оказываюсь на этом углу). У ворот башни стоят сани (САНА), на них сидит моя квартирная хозяйка (Мава) и держит в руках длинную белую доску (НА), которую сквозь ворота башни кидает, но — куда? Длинная доска — трафаретный образ «НА»: «НАД» — та же доска, но выше человеческого роста, выше одноэтажных деревянных домов.
4. ВАСАНАВАНАМА. Ага! Вот на углу Колхозной площади и Сретенки — универмаг, у которого сидят сторожихи, моя знакомая белолицая молочница Василиса (Васа). Левой рукой она делает отрицательный жест, означающий, что магазин закрыт (НАВА). Этот жест относится к уже знакомой нам кормилице (НАМА), оказавшейся тут: она хотела войти в магазин.
5. НАВАНАВАСАМА. Эге, опять НАВА. Мгновенно у Сретенских ворот появляется огромная прозрачная человеческая голова, качающаяся, как маятник поперек улицы (трафаретный образ для запоминания «нет»). Вторая такая же голова качается ниже у Кузнецкого моста. На самой середине площади Дзержинского вырастает внушительная фигура — памятник русской купчихи (САМА — ведь в произведениях русских писателей так называли хозяйку).
6. НАМАСАМАВАНА. Снова ставить кормилицу и купчиху опасно. Спускаюсь к Театральному проезду. В сквере у Большого театра сидит библейская «Ноэми» (НАМА); она встает, в ее руках появляется большой белый самовар (САМА); она несет его к ванне (ВАНА), стоящей на тротуаре около «Восток-кино», ванна из жести, внутри белая, снаружи зеленоватая.
7. САМАСАВАНА. Какая простота! От ванны отходит крупная фигура купчихи (САМА), на которую накинут белый саван (САВАНА). Я уже стою около ванны; вижу ее спину. Она направляется к зданию, где Исторический музей. Что мне там предстоит? Сейчас увидим.
8. НАСАМАВАМАНА. Пустяки! Приходится больше комбинировать, чем запоминать. НАСА — неудачный воздушный образ. Прихвачу из соседней части слова. Интересно, что получится? «Н’шама» — по-древнееврейски «душа» (НАСАМА); душа в детстве представлялась мне в виде легких и печени, которые я часто видел на столе в кухне. Вот — у подъезда музея стоит стол, на котором лежит «душа» — легкие и печень, а дальше — тарелка с манной кашей. Восточный человек стоит у середины стола и кричит душе: «Вай-вай! (ВА) Опротивела манная каша!» (МАНА).
9. САНАМАВАНАМА. Наивная провокация! Сразу узнаю картину у Сухаревой башни (третье слово) с прибавлением частицы «ма» в конце. На участке между Историческим музеем и оградой Александровского сада устанавливаю в точности ту же картину, и на доску сажаю женщину с грудным ребенком — маму — (МА).
10. ВАНАСАНАВАНА. Хоть до утра продолжайте в том же духе! В Александровском саду, на центральной дорожке стоят две белые (в отличие от № 6) фарфоровые ванны (ВАНА — ВАНА). А между ними стоит санитарка в белом халате (САНА), вот и все!».
Вряд ли следует продолжать протокол. Однообразное чередование слогов заменяется красочными наглядными образами, и «считывание» этих образов не представляет никаких трудностей.
Через 8 лет (6 апреля 1944 года) мне пришлось — также без предупреждения предложить Ш. воспроизвести в памяти этот опыт, и он сделал это без всякого труда и без единой ошибки.
Чтение только что приведенных протоколов может создать естественное впечатление об огромной — хотя и очень своеобразной — логической работе, которую Ш. проводит над запоминаемым материалом.
Нет ничего более далекого от истины, чем такое впечатление. Вся большая и виртуозная работа, многочисленные примеры которой мы только что привели, носит у Ш. характер работы над образом или, как мы это обозначили в заголовке раздела — своеобразной эйдотехники, очень далекой от логических способов переработки получаемой информации. Именно поэтому Ш., исключительно сильный в разложении предложенного материала на осмысленные образы и в подборе этих образов, — оказывается совсем слабым в логической организации запоминаемого материала, и приемы его «эйдотехники» оказываются не имеющими ничего общего с логической «мнемотехникой», развитие и психологическое строение которой было предметом такого большого числа психологических исследований[3]. Этот факт можно легко показать на той удивительной диссоциации огромной образной памяти и полном игнорировании возможных приемов логического запоминания, которую можно было легко показать у Ш.
Мы приведем лишь два примера опытов, посвященных этой задаче.
В самом начале работы с Ш. — в конце 20-х годов — Л. С. Выготский предложил ему запомнить ряд слов, в число которых входило несколько названий птиц. Через несколько лет — в 1930 г. — А. Н. Леонтьев, изучавший тогда память Ш., предложил ему ряд слов, в число которых было включено несколько названий жидкостей.
После того как эти опыты были проведены, Ш. было предложено отдельно перечислить названия птиц в первом и названия жидкостей во втором опыте.
В то время Ш. еще запоминал преимущественно «по линиям» — и задача избирательно выделять слова одной категории оказалась совершенно недоступной ему: самый факт, что в число предъявленных ему слов входят сходные слова, оставался незамеченным, и стал осознаваться им только после того, как он «считал» все слова и сопоставил их между собой.
Аналогичный случай имел место через несколько лет на одном из сеансов, который Ш. проводил в Саратове.
В таблице запоминаемых цифр ему был дан следующий ряд (см. табл. 3). Ш. с напряжением продолжал запоминать этот ряд цифр, применяя обычные для него способы зрительного запоминания, не заметив простого логического порядка, в котором были расположены цифры (табл. 3).
Таблица 3
«Если бы мне даже дали просто алфавит, я бы не заметил этого и стал бы честно заучивать, — говорил после Ш. — Может быть, я и узнал бы это при воспроизведении по звукам своего голоса, но, когда мне дали этот ряд, я совсем не заметил этого...».
Нужны ли лучшие доказательства того, насколько запоминание Ш. оставалось далеко от того логического запоминания, которое свойственно каждому развитому сознанию!
Мы сказали об удивительной памяти Ш. почти все, что мы узнали из наших опытов и бесед. Она стала для нас такой ясной, — и осталась такой непонятной.
Мы узнали многое о ее сложном строении, о том, что она складывалась как прочное удержание сложных синестезических впечатлений, что она носила яркий образный характер, что к ней прибавилась виртуозная «эйдотехника», которая превращала каждый услышанный комплекс звуков в наглядный образ, не лишая его вместе с тем старых синестезических компонентов.
Мы узнали, что для самого простого и легкого, по словам Ш., запоминания цифр — ему было достаточно простой и непосредственной зрительной памяти, что запоминание слов заменяло эту память памятью образов, что переход к запоминанию бессмысленных звуков или звукосочетаний заставлял его обращаться к самому примитивному приему синестезического запоминания «кодирования в образах», которой он овладел в своей работе профессионального мнемониста.
И все же как мало мы знаем об этой удивительной памяти! Как можем мы объяснить ту прочность, с которой образы сохраняются у Ш. многими годами, если не десятками лет? Какое объяснение мы можем дать тому, что сотни и тысячи рядов, которые он запоминал, не тормозят друг друга и что Ш. практически мог избирательно вернуться к любому из них через 10, 12, 17 лет? Откуда взялась эта нестираемая стойкость следов?
Мы уже говорили, что известные нам законы памяти неприменимы к памяти Ш.
Следы одного раздражения не тормозят у него следов другого раздражения; они не обнаруживают признаков угасания и не теряют своей избирательности; у Ш. нельзя проследить ни границ его памяти по объему и длительности, ни динамики исчезновения следов с течением времени; у него нельзя выявить ни того «фактора края», благодаря которому каждый из нас запоминает первые и последние элементы ряда лучше, чем расположенные в его середине; у него нельзя увидеть и явления реминисценции, в силу которого кратковременный отдых приводит к всплыванию, казалось бы, угасших следов.
Его запоминание, как мы уже говорили, подчиняется скорее законам восприятия и внимания, чем законам памяти: он не воспроизводит слово, если плохо «видит» его или если «отвлекается» от него; припоминание зависит у него от освещенности и размера образа, от его расположения, от того, не затемнился ли образ «пятном», возникшим от постороннего голоса.
И все-таки — эта память — не та «эйдетическая» память, которая детально была изучена наукой 3—4 десятилетия тому назад.
У Ш. вовсе нет той замены отрицательного последовательного образа положительным, которое является одной из отличительных особенностей «эйдетизма», его образы обнаруживают неизмеримо большую подвижность, легко становясь естественным орудием его намерения. К его памяти примешивается решающее влияние синестезий, делающих его запоминание столь сложным и столь отличным от простой «эйдетической» памяти.
И вместе с тем, память Ш., несмотря на развитую им сложнейшую «эйдотехнику», остается разительным примером непосредственной памяти. Даже придавая сложные условные значения тем образам, которые он использует, он продолжает видеть эти образы, переживает их синестезические компоненты; он не должен логически воспроизводить использованные им связи — они сразу же появляются перед ним, как только он восстанавливает ту ситуацию, в которой протекало его запоминание.
Его исключительная память, бесспорно, остается его природной и индивидуальной особенностью[4] и все технические приемы, которые он применяет, лишь надстраиваются над этой памятью, а не «симулируют» ее иными, не свойственными ей приемами.
До сих пор мы описывали выдающиеся особенности, которые проявлял Ш. в запоминании отдельных элементов — цифр, звуков и слов.
Сохраняются ли эти особенности при переходе к запоминанию более сложного материала — наглядных ситуаций, текстов, лиц?
Сам Ш. неоднократно жаловался на ... плохую память на лица.
«Они такие непостоянные, — говорил он, — они зависят от настроения человека, от момента встречи, они все время изменяются, путаются по окраске, и поэтому их так трудно запомнить».
В этом случае синестезические переживания, которые в описанных раньше опытах гарантировали нужную точность припоминания удержанного материала, здесь превращаются в свою противоположность и начинают препятствовать удержанию в памяти. Та работа по выделению существенных, опорных пунктов узнавания, которую проделывает каждый из нас при запоминании лиц (процесса, который еще очень плохо изучен психологией[5]), по-видимому, выпадает у Ш., и восприятие лиц сближается у него с восприятием постоянно меняющихся изменений света и тени, которые мы наблюдаем, когда сидим у окна и смотрим на колышущиеся волны реки. А кто может «запомнить» колышущиеся волны?...
Не менее удивительным может показаться и тот факт, что запоминание целых отрывков оказывается у Ш. совсем не таким блестящим.
Мы уже говорили, что при первом знакомстве с Ш. он производил впечатление несколько несобранного и замедленного человека. Это проявлялось особенно отчетливо, когда ему читался рассказ, который он должен был запомнить.
Если рассказ читался быстро — на лице Ш. появлялось выражение озадаченности, которое сменялось выражением растерянности.
«Нет, это слишком много ... Каждое слово вызывает образы, и они находят друг на друга, и получается хаос... Я ничего не могу разобрать.., а тут еще ваш голос... и еще пятна... И все смешивается».
Поэтому Ш. старался читать медленнее, расставляя образы по своим местам, — и как мы увидим ниже — проводя работу, гораздо более трудную и утомительную, чем та, которую проводим мы: ведь у нас каждое слово прочитанного текста не вызывает наглядных образов и выделение наиболее существенных смысловых пунктов, несущих максимальную информацию, протекает гораздо проще и непосредственнее, чем это имела место у Ш. с его образной и синестезической памятью.
«В прошлом году, — читаем мы в одном из протоколов бесед с Ш. (14 сентября 1936 года), — мне прочитали задачу: «Торговец продал столько-то метров ткани...». Как только произнесли «торговец» и «продал», я вижу магазин и вижу торговца по пояс за прилавком... Он торгует мануфактурой.., и я вижу покупателя, стоящего ко мне спиной... Я стою у входной двери, покупатель передвигается немножко влево.., и я вижу мануфактуру, вижу какую-то конторскую книжку и все подробности, которые не имеют к задаче никакого отношения.., и у меня не удерживается суть... Вот еще пример. В прошлом году я был председателем профорганизации, и мне приходилось разбирать конфликты... Мне рассказывают о выступлениях в Ташкенте, в цирке, потом в Москве, и вот я должен переезжать из Ташкента в Москву... Я вижу все подробности, а ведь все это я должен откинуть, все это лишнее, это, в сущности, не имеет никакого значения, где они договорились, в Ташкенте или где-нибудь еще... Важно, какие были условия... И вот мне приходится надвигать большое полотно, которое заслонило бы все лишнее, чтобы я ничего лишнего не видел...».
Можно ли хорошо запомнить и воспроизвести прочитанный отрывок, если его составные части обрастают таким количеством образов, легко уводящих в сторону от основного содержания отрывка?..
Искусство забывать
Мы подошли вплотную к последнему вопросу, который нам нужно осветить, характеризуя память Ш. Этот вопрос сам по себе парадоксален, а ответ на него остается неясным. И все-таки мы должны обратиться к нему.
Многие из нас думают: как найти пути для того, чтобы лучше запомнить. Никто не работает над вопросом: как лучше забыть? С Ш. происходит обратное. Как научиться забывать? — вот в чем вопрос, который беспокоит его больше всего.
Уже в сказанном только что о трудностях понимания и запоминания текста мы впервые столкнулись с этим вопросом. В тексте много деталей; каждая рождает новые образы, образы уводят в сторону, а дальнейшие слова вызывают новые образы — получается хаос. Как избавиться от него и не видеть всего, что так осложняет простое понимание текста? Не видеть, остановить появление образов — так сформулировал Ш. возникшую перед ним задачу.
Но работа профессионального мнемониста поставила его и перед второй задачей: как научиться забывать, как стирать образы, которые уже стали ненужными?
Первая задача решается относительно просто. В работе над техникой образа Ш. все больше и больше переходит к сокращенным образам, и лишние детали оттесняются.
«Вот вчера я слушал по радио о прилете Леваневского. Раньше я бы видел все — и аэродром, и толпу, и загородку... Теперь уж этого нет. Я не вижу аэродрома, и мне безразлично, приехал ли он в Тушино или Москву, я вижу только небольшую площадку на Ленинградском шоссе, где мне удобнее его принять... Я заинтересован, чтобы не пропустить ни одного слова из того, что он говорит, а где это происходит — это безразлично. Если бы это происходило два года назад, я бы страдал, что не вижу аэродрома, не вижу всех подробностей. А сейчас мне нравится, что я вижу только самую суть, обстановка не важна, появляется только то, что мне нужно, а все побочные обстоятельства не появляются, и это для меня большая экономия».
Работа над выделением существенного, управление вниманием, обобщение сюжета — все это принесло плоды, и если раньше Ш. должен был «прикрывать часть того, что он видел, непрозрачным полотном», — то теперь выделение наиболее информативных звеньев и выработка сокращенных способов кодирования сделали свое дело.
Труднее оказалось справиться со второй задачей.
Ш. часто выступает в один вечер с несколькими сеансами, и иногда эти сеансы происходят в одном и том же зале, а таблицы с цифрами пишутся на одной и той же доске.
«Я боюсь, чтобы не спутались отдельные сеансы. Поэтому я мысленно стираю доску и как бы покрываю ее пленкой, которая совершенно непрозрачна и непроницаема. Эту пленку я как бы отнимаю от доски и слышу ее хруст. Когда кончается сеанс, я смываю все, что было написано, отхожу от доски и мысленно снимаю пленку... Я разговариваю, а в это время мои руки как бы комкают эту пленку. И все-таки, как только я подхожу к доске, эти цифры могут снова появиться. Малейшее похожее сочетание, — и я сам не замечаю, как продолжаю читать ту же таблицу».
На первых порах попытки создать «технику забывания», которые применил Ш., были очень простые: нельзя ли проделать акт забывания во внешнем действии — записать то, что надо забыть? Другим это может показаться странным — для Ш. это было естественно.
«Для того, чтобы запомнить, люди записывают... Мне это было смешно, и я решил все это по-своему: раз он записал, то ему нет необходимости помнить, а если бы у него не было карандаша в руках, и он не мог записать, он бы запомнил! Значит, если я запишу, я буду знать, что нет необходимости помнить ... И я начал применять это в маленьких вещах: в телефонах, в фамилиях, в каких-нибудь поручениях. Но у меня ничего не получалось, я мысленно видел свою запись... Я старался записывать на бумажках одинакового типа и одинаковым карандашом, — и все равно ничего не получалось...».
Тогда Ш. пошел дальше: он начал выбрасывать, а потом даже сжигать бумажки, на которых было написано то, что он должен был забыть. Впервые мы встречаемся здесь с тем, к чему мы еще много раз будем возвращаться в дальнейшем: яркое образное воображение Ш. не отделено резко от реальности, и то, что ему нужно сделать внутри своего сознания, он пытается делать с внешними предметами.
Однако «магия сжигания» не помогла, и когда один раз, бросив бумажку с записанными на ней цифрами в горящую печку, он увидел, что на обуглившейся пленке остались их следы — он был в отчаянии: значит и огонь не может стереть следы того, что подлежало уничтожению!
Проблема забывания, не разрешенная наивной техникой сжигания записей, стала одной из самых мучительных проблем Ш. И тут пришло решение, суть которого осталась непонятной в равной степени и самому Ш., и тем, кто изучал этого человека.
«Однажды — это было 23 апреля — я выступал 3 раза за вечер. Я физически устал и стал думать, как мне провести четвертое выступление. Сейчас вспыхнут таблицы трех первых... Это был для меня ужасный вопрос... Сейчас я посмотрю, вспыхнет ли у меня первая таблица или нет... Я боюсь как бы этого не случилось. Я хочу — я не хочу... И я начинаю думать: доска ведь уже не появляется, — и это понятно почему: ведь я же не хочу! Ага!.. «Следовательно, если я не хочу, значит она не появляется... Значит нужно было просто это осознать!».
Удивительно, — но этот прием дал свой эффект. Возможно, что здесь сыграла свою роль фиксация на отсутствие образа, возможно, что это было отвлечение от образа, его торможение, дополненное самовнушением — нужно ли гадать о том, что остается нам неясным? ... Но результат оставался налицо.
«Я сразу почувствовал себя свободно. Сознание того, что я гарантирован от ошибок, дает мне больше уверенности. Я разговариваю свободнее, я могу позволить себе роскошь делать паузы, я знаю, что если я не хочу — образ не появится, — и я чувствую себя отлично...».
Вот и все, что мы можем сказать об удивительной памяти Ш., о роли синестезий, о технике образов и о «летотехнике», механизмы которой до сих пор остаются для нас неясными...
Теперь пришло время приняться за другую часть нашего рассказа — и мы обращаемся к ней.
Мы рассказали о том, как Ш. воспринимает и запоминает то, что до него доходит, как удивительно точна его память и как необычайно долго держатся вызываемые у него образы; мы видели их странное строение и ту работу, которую он должен над ними производить.
Теперь нам предстоит сделать экскурсию в его мир — его мышление, его личность.
Остается ли все, что было сказано, безразличным для его восприятий, для мира, в котором он живет? Мыслит ли он так же, как мыслим мы? И не возникают ли в нем самом, в его поведении, в его личности черты, необычные для любого другого человека?
Мы начинаем рассказ об удивительных вещах, и еще много раз будем испытывать то чувство, которое переживала маленькая Алиса, которая прошла сквозь гладь зеркала и оказалась в таинственной стране чудес...
Его мир
Человек живет в мире вещей и людей. Он видит предметы, слышит звуки. Он воспринимает слова...
Происходит ли все это у Ш. так, как у обычного человека? Или его мир совсем иной, чем наш?
Вещи и люди
Необычная память Ш. создает одно преимущество, в ней сохраняются воспоминания о тех далеких, ранних периодах его жизни, которые или не запечатлелись у каждого из нас, или вытеснились огромным числом последующих впечатлений, или же не оседали на том этапе, когда еще не была сформирована речь — основное орудие нашей памяти.
Чем мы располагаем из воспоминаний раннего детства? Несколькими неясными, тусклыми образами... Какой-то картинкой, приклеенной к крышке сундука... ступеньками лестницы, на которой когда-то сидел ребенок ... ощущением шерстяного шарфа, которым его закутывали...
Мир ранних воспоминаний Ш. несравненно богаче нашего, и это неудивительно. Его память не превратилась в тот аппарат словесной переработки информации, которым она давно стала у нас; она сохранила те черты непосредственного всплывания образов, которые были свойственны раннему периоду формирования сознания. Мы можем в большей или меньшей степени верить тому, что он рассказывает, делая иногда попытки не только верить, но и проверить услышанное. Мы должны с обостренным вниманием прислушиваться к тем картинам, которые возникают перед нами, и с особенным любопытством относиться, если не к фактам, в которых мы всегда можем сомневаться, то к тому стилю передачи, столь типичному для Ш., который мы сейчас наблюдаем.
«... Мне было еще очень немного.., может быть, еще не было и года ... Ярче всего всплывает в памяти обстановка ... Я не помню обстановки всей комнаты, а помню только обстановку того угла, где находилась кровать моей матери и «качелька». «Качелька» — это такая кроватка с барьерами по обеим сторонам, а внизу такие закругленные досочки, и она покачивается... Помню, что обои были коричневые, постель белая ... Вот мать берет меня к себе и кладет обратно .., я чувствую движение... Я ощущаю чувство тепла « неприятное чувство холода. Очень ярко вспоминается мне свет. Днем это «так».., а потом — «так». Это сумерки, а потом желтый свет лампы ... становится «так».
До сих пор все это не выходит за пределы тех образов, которые легко могут всплывать у каждого — у одного ярче, у другого — более расплывчато.
Но вот в рассказ вступают другие ноты. Четкие образы отходят на задний план — возникают те неясные синестезические ощущения, при которых нет границ восприятиям и чувствам, где образы внешнего мира замещаются диффузными переживаниями, где вес становится зыбким, неясным, где ощущения трудно выразить словами.
«Мать я воспринимал так: до того, как я ее начал узнавать — «это хорошо». Нет формы, нет лица, есть что-то, что нагибается и от чего будет хорошо... Это приятно ... Я видел мать так, как если бы вы смотрели через камеру фотографического аппарата ... Сначала вы ничего не различаете — только круглое облачко — пятно.., потом появляется лицо.., потом черты лица приобретают резкость. Мать берет меня ... Я не замечаю рук матери, было ощущение, что после появления пятна что-то такое произойдет со мной. Меня берут на руки... Вот я замечаю руки... Появилось чувство приятного и неприятного ... Очевидно, когда подтирали — это делали грубовато, было неприятно ... или когда брали из кроватки ... В особенности по вечерам ... Я лежу — это «так» ... Сейчас будет «так» ... Я пугаюсь, я плачу, от плача начинаю еще больше плакать... Уже потом я стал понимать, что после «так» наступает шум.., а потом тишина. Сейчас я почувствовал маятник...».
«Мать я вижу ярко и ясно, — это облачко, потом приятное, потом лицо, потом движение... Отца я узнавал по голосу... Мать меня укачивала с одной стороны кровати, а отец, укачивая, заслонял свет с другой стороны. Наверно, он подходил ко мне — мне темно, потому что он подходил со стороны света...».
«... Вот это, наверное, была прививка оспы... Я помню массу тумана, цветов, знаю, что это был шум.., наверное, разговор или что-то в этом роде... Но боли я не чувствую... Я вижу себя в кровати матери сначала головой к степе, потом головой к двери. Шум своего голоса я узнаю, я знаю, что после этого будет шум, наверное, мой плач... Со мной возятся — после этого шум, туманность, после этого должно быть «то-то» и «то-то»...».
«... Для меня это не было впечатлением мокрой кроватки. Я не знал, хорошо это или плохо... Помню, как становится мокро в кроватке. Сначала ощущение приятное, теплоты, потом наступает чувство холода... Что-то неприятное, жжет, и я начинаю плакать... Меня не наказывали... Я помню один момент: я спал с матерью, но я уже умел слезать с кровати... Помню — мне мать показывала пятно в кровати ... Я слышу ее голос... Сам я, наверное, умел только лепетать...».
«... А вот еще ... что-то неприятное — холодно ... — ощущение пятна — такое, как когда сажают на горшочек около двери и печки... Я плачу, мне кажется, что когда меня сажают на горшочек насильно, у меня пропадает желание им пользоваться. Я его боялся ... Он внутри белый, снаружи зеленоватый, в середине его на эмалевой облицовке большое черное пятно ... Я думал, что это пятно как таракан на стене. Я думал, что это «а жук». (Опыт 16/IX 1934 г.)
Трудно сказать, возвращает ли этот рассказ к переживаниям раннего детства или он отражает тот тип переживаний, который и сейчас свойствен Ш., сидящему передо мной. Возможен и тот и другой ответ, и было бы бесплодным ломать голову, и раздумывая об этом.
Одно несомненно: такой диффузный синестезический тип переживаний, который, как это считают неврологи, у каждого взрослого человека характерен только для наиболее примитивных «протопатических» форм чувствительности — сохраняется у Ш. и дальше и относится едва ли не ко всем формам его ощущений. Вот почему трудно найти границу, которая отделяет у него одни ощущения от других, ощущения — от переживаний.
«...Мне было лет 10—11 и я укачивал сестру... Мае было много детей, я был второй — и я укачивал маленьких... Я пропел уже все песни, петь нужно сильно, нужен туман для сна. Но почему она долго не может заснуть? ... Я закрываю глаза и пробую почувствовать, почему она не засыпает. Наконец, догадываюсь... Может быть, это тоже «а жук»? ... Я снял полотенце и завязал ей глаза ... Она уснула». (Опыт 16/Х 1934 г.)
Едва ли не все, что нас особенно интересует, есть в этом отрывке... И синестезическое «петь нужно сильно, нужен туман для сна», и детские диффузные переживания страхов, и попытки проникнуть в переживания другого, закрыв глаза и представляя причины, которые другого тревожат (к этому мы еще вернемся дальше)... И все это — если верить Ш. — у мальчика 10—11 лет.
Нет, не только у мальчика... Все это осталось и сейчас, в сознании взрослого Ш. — и сколько мы можем найти синесгезических ощущений и диффузных переживаний, если разберемся в том, что так часто встречается в его восприятии и что характерно.для его сознания.
Вот только несколько примеров.
«Вот раздался звонок.., прокатился кругляшок перед глазами — пальцы ощутили что-то такое неровное, как веревка, а затем — вкус соленой воды... и что-то белое...».
Здесь все: звонок вызывает непосредственный зрительный образ. Он имеет тактильные свойства, белый цвет, он соленый на вкус. Эти синестезии сохраняются во всех ощущениях, во всех переживаниях внешнего мира.
«... Я сижу в ресторане — и музыка... Вы знаете, для чего музыка? При ней все изменяет свой вкус... И если подобрать ее как нужно, все становится вкусным... Наверное, те, кто работает в ресторанах, хорошо знают это...».
И еще:
«... Я всегда испытываю такие ощущения... Сесть на трамвай? Я испытываю на зубах его лязг... Вот я подошел купить мороженое, чтобы сидеть, есть и не слышать этого лязга. Я подошел к мороженщице, спросил, что у нее есть.
«Пломбир!» Она ответила таким голосом, что целый ворох углей, черного шлака выскочил у нее изо рта, — и я уже не мог купить мороженое, потому что она так ответила... И нот еще: когда я ем, я плохо воспринимаю, когда читаю, вкус пищи глушит смысл...». (Опыт 22/V 1939 г.)
«... Я выбираю блюда по звуку. Смешно сказать, что майонез — очень вкусно, но «з» портит вкус.., «з» — несимпатичный звук...». «Я долго не мог есть рябчиков — ведь «рябчик» это что-то прыгающее... И если плохо написано в меню, я уже не могу есть.., блюдо кажется мне такое замызганное...».
«Вот что со мною было... Я прихожу в столовую... Мне говорят: хотите коржиков, а дают булочки... Нет, это не коржики... «Коржики» — «р» и «ж» — они такие твердые, хрустящие, колючие...».
Весь его мир не такой, как у нас. Здесь нет границ цветов и звуков, ощущений на вкус и на ощупь... Гладкие холодные звуки и шершавые цвета , соленые краски и яркие светлые и колючие запахи... и все это переплетается, смешивается и уже их трудно отделить друг от друга...
Но мы уже подошли к другой теме и сейчас займемся ею. Как сказываются синестезии Ш. на восприятии речи? Что значат для Ш. слова? Не примешиваются ли и к ним те же синестезические переживания, которые делали шумы «клубами пара» и изменяли вкус пищи, если название блюда было произнесено «неприятным» и «колючим» голосом. Как строится у Ш. значение слов?
Слова
Значение слов ... Впрочем, это для нас не совсем новая проблема, — мы уже встречались с нею две страницы назад... «А жук». Как воспринимал Ш. это слово, которое в его первоначальном применении означало «таракан», а потом получило столь широкий перенос?
«... «А жук» — это выщербленный кусочек на горшочке... Это кусочки черного хлеба... Вечером с появлением света появляется и «а жук»... Не все освещено, свет лампы падает только на маленькую площадку, кругом темно — это «а жук» ... Бородавки — это тоже «а жук»... Вот меня ставят перед зеркалом.., вот шум.., это смеются... Вот мои глаза в зеркале, темные — это тоже «а жук»... Вот я лежу в кроватке.., а затем крик, шум, угрозы... Что-то варят в эмалированном чайнике.., это бабушка, она варит кофе. Она опускает что-то красное и вынимает ... «а жук!». Уголь — это тоже «а жук»... Вот зажигают свечи по субботам... свеча в подсвечнике горит, оставшийся стеарин не растапливается, фитиль мигает, делается черным... Мне страшно, я плакал — это тоже «а жук»... И когда неаккуратно наливали чай, туда попадали чаинки.., вот они на блюдце.., это — «а жук»...». (Опыт 16/IX 1934 г.)
Как все это хорошо знакомо психологам! Штумпф, наблюдавший своего маленького сына, у которого «ква» была и утка и орел на монете и самая монета... Или так хорошо известное «кх», которым маленький ребенок обозначает и кошку, и ее мех, и острый камень, который его оцарапал.
Нет, в рассказах Ш. есть что-то настоящее, возвращающее нас к далеким годам раннего детства.
Широкий перенос значения детских слов нам хорошо известен[6], однако, у Ш. и в эти хорошо знакомые мотивы уже очень скоро начинают вплетаться новые ноты.
«... Вот «мама» или «мамэ», как говорили в детстве. Это — светлый туман... «Мама» и все женщины — это что-то светлое... и молоко в стакане, и белый молочник, белая чашка — это всё, как белое облако...». А вот слово «гис»[7] — оно появилось позднее, оно обозначает рукав, что-то тягучее, длинное, струя, когда наливают чай... В начищенном самоваре отражение лица — это тоже «гис». Оно блестит как звук «с», а лицо — продолговатое, как струя воды, как медленно опускающаяся ко мне рука с рукавом, когда мне наливают чай...».
Здесь перед нами не простое широкое распространение значения слова.
Слово имеет смысл, оно обозначает какой-то признак — и этот признак широко распространяется на другие вещи, слово начинает обозначать все вещи, у которых налицо такой признак; это нам хорошо знакомо. Но слово выражается комплексом звуков, оно произносится тем или иным голосом, — и звук и голос тоже имеют свой цвет и вкус — они вызывают «клубы пара», «брызги» и «пятна», одни из звуков гладкие и белые, другие — оранжевые, острые, как стрелы, — и значения слов начинают отражать те звуки, которые включает названное слово. Это уже другой вид переноса словесных значений, — перенос по синестезически-переживаемым звуковым особенностям слова.
Мы отвлекаемся от звучания слова, оно оттесняется основным его условным значением, — разве мы испытываем какое-либо ощущение гармонии или противоречия, называя одно дерево «сосна», другое — «ель», а третье — «береза»?
Переживания Ш. были совершенно другими. Он остро чувствовал, что есть слова, которые точно соответствуют своему содержанию, есть такие, которые нужно подправить, а есть такие, содержание которых явно не свойственно им, которые безусловно продукт недоразумения.
«... Я был болен скарлатиной.., пришел из хедера, голова болит... Мать говорит: «у него «а хиц» (жар)». Вот это верно! «Хиц» — это что-то вроде молнии, яркое.., из моей головы выходит такое острое, оранжевое... это верно!»
«...А вот «хольц» — дрова — это совсем не вяжется. «Хольц» — это с ярким оттенком, с лучом... А тут — полено!... Нет, это не так... это недоразумение!..
И еще «свинья»! Ну, разве это может быть? «Свинья» — это что-то тонкое, элегантное... Вот то ли дело «хавронья» или «а хазер» (евр. свинья). Это действительно она «хх...»: жирная, с толстым брюхом, с жесткой шерстью, на ней засохшая грязь... — «а хазер»...!».
«Вот мне пять лет... меня привели в хедер.., но раньше ребе... был у нас на квартире. Когда мне сказали: «Ты будешь ходить в школу к Камеражу», — я догадался, что это относится к этому человеку с очень темной бородой, в длинном сюртуке и в котелке. Ясно, что это был «Камераж»! Только к нему не шло слово «ребе». Ребе — это что-то белое, а он темный».
«... А вот еще «Навуходоносор» (евр. Набухаднейцер)... Нет, это ошибка... Он был такой злой.., льва может растерзать. Наверное, он «Набухадрейцер» — вот тогда подходит! «Шпиц» — это верно, он должен быть сухощавый и колкий... и «дог». Это тоже понятно.., он большой, он и должен быть таким...».
«.. И «самовар!». Ну, конечно, он сплошной блеск.., но не от самовара, а от буквы «с». А вот немцы говорят «Teemaschine». Это не так... Тее — это что-то падающее вниз, это сюда... Ой! ... Я этого боялся, это на пол... Ну, почему это самовар?!...». (Опыт 16/IX и 16/Х 1934 г.).
Содержание слова должно соответствовать его звучанию, если этого нет — Ш. мог прийти в растерянность.
«... Наш домашний врач был д-р Тигер... «Me darf ruf’n dem Tigern...». Я думал, что должна прийти такая высокая палка, она втыкается вниз («с», «р»).., а кто же он? Мне ответили: «А доктор!» ... А я увидел «доктор» — это что-то вроде круглой коврижки с кистями, что-то свисающее вниз, и я поместил это на палке... А когда вошел такой высокий дядя, румяный ... Я осмотрел его ... Нет, это не тот...». (Опыт 31/III 1938 г.)
А вот такое же несоответствие, но гораздо позднее.
«... Я был в школе... Там читали, как Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна ели коржики с салом... «Коржик»... Я понимал, что это кушанье, но «коржик» — это должен быть продолговатой формы калачик, обязательно — с канавкой, обязательно сухарный. А когда в 1931 году я был в Баку в кафе, — смотрю и вижу: «коржики с салом». Если «коржики», они должны обязательно выглядеть так, а не иначе. А мне подают кофе и две лепешки. Я говорю: «Я просил коржики!» А подавальщица говорит: «Я и дала вам коржики с салом!» А это явно не то, они совсем не совпадают...».
«Значение слова должно полностью соответствовать его звучанию. «Mutter» (мать) — почему-то темный, коричневый мешок, повешенный в вертикальном положении, со складками ... Когда его впервые произнесли, я его так и увидал... Гласный звук — основа, а согласный создает общий фон слова, я вижу изгиб... но здесь «т» и «р» доминируют.., a «Milch» — это такая ниточка с мешочком.., «Löffel» — что-то плетеное, как хала.., а «хала» — это твердое слово, его надо обламывать.., а «maim» (вода) — это облако.., а «м...» — и оно куда-то уходит».
Ш. испытывал много затруднений, пытаясь приспособить содержание слова к его звучанию, и эта детская синестезия слова оставалась еще долгое время.
«Слово по своему звучанию имеет один вид и цвет, а значение имеет другой вид и вес, звучит иначе... Все это нужно примерить, чтобы я мог применить слово ко времени и к месту — с одной стороны это усложнение, а с другой — способ запоминания. Если я в этот момент подумаю, что у меня эта странная особенность и что к окружающему надо приноравливаться — получается одно, а если я не подумаю, то могу произвести впечатление недалекого, бестолкового человека...». (Опыт 16/Х 1934 г.)
Синестезическое восприятие слова, в котором звучание так же определяет смысл, как и значение, имеет и другую сторону. Если одни слова воспринимаются как не соответствующие смыслу, приводящие в тупик, затрудняющие восприятие, то звучание других слов начинает придавать слову выразительность. Переживание слов Ш. становится меркой их выразительности — недаром с таким вниманием беседовал с ним С. М. Эйзенштейн, сделавший психологию выразительности центральным делом своей жизни.
«... Вот в бакалейную лавку забрался мальчик и вынул из кассы полтинник. Я еще не знал, что такое полтинник — это какой-то продолговатый предмет, спокойный, темный — ведь «п и «т» — темные звуки. Хозяин дал ему «а пац» (евр. пощечина) ... Я понимаю, что «а пац» — нехорошее слово.., а тут еще «а фраск» (другой вариант «пощечины») — это когда гулко, а вот «хляск» (третий вариант того же слова) — это когда хрустнуло...».
Едва ли не самым показательным для восприятия выразительности звучания был опыт, когда Ш. должен был определить различие в вариантах одного и того же имени. Маша — Маня — Маруся — Мэри — в чем различие этих имен?
«... Даже сейчас, когда я взрослый человек, я воспринимаю их по-разному. Мария — Маша — Мэри — нет, это не одно и то же. «Маня» к ней идет, но «Маруся» и «Мэри» — нет. Я только очень поздно усвоил, что так можно называть одну и ту же женщину. Да и сейчас я с этим не могу примириться... «Мария» — это солидная женщина, с бледным цветом лица, блондинка, с легким румянцем, спокойные движения, глаза недобрые. «Марья» — такого же вида, только полная, щеки красные, большая грудь... «Маша» — помоложе, в розовом платье, рыхлая женщина... «Маня» — это молодая женщина, стройная, может быть, и брюнетка, резкие черты лица, ни нос, ни щеки не блестят. Не могу понять, как это может быть «тетя Маня»...
«Почему же она молодая?» — спрашиваю я Ш. — «Звук «н» — носовой звук ... Ну, я не знаю.., но она молодая.., а «Муся» — это другое ... Бросается в глаза пышная прическа, тоже невысокого роста, в ней есть какая-то закругленность, наверное, это звук «у»... «Мэри» — очень сухое имя...
Что-то темное в сумерках сидит у окна... И вот, когда мне говорят: «ты видел Машу», — я не сразу понимаю, что это может быть Маша ... Маша — Маня — Маруся — это не одно и то же... Иногда мне очень трудно привыкнуть, что человек носит такое имя, а иногда — ну, конечно, это, конечно, Маша...».
Все знают, как чутко относятся поэты к выразительности звучания. Я помню, как С. М. Эйзенштейн, отбирая студентов для режиссерского факультета кино-института, предлагал им описать, как они видят «Марию» — «Мэри» — «Марусю»... И он никогда не ошибался, выбрав тех, которые хорошо чувствовали выразительность слов.
Ш. обладал этим качеством в высокой степени, выразительность звучаний безошибочно воспринималась им, отражая какие-то общие выразительные свойства звуков.
Естественно, что слова, которые для нашего сознания являются синонимами, для Ш. имеют свое различное значение.
«... Вор и жулик... Вор — это очень бледный парень, бедно одет, карман отодран, со впалыми щеками, замучен, без шапки, волосы как солома... Это все «о» — «продолговатое «о»... «Во-ор» — это такое серое.., а тут еще евреи не выговаривают «р» — и получается «вох» — совсем серое. ...А «жулик» — это другое... Это парень с раздутыми щеками, они лоснятся, глаза сальные, над глазом шрам... Когда раньше я был маленьким, я произносил «а зулик» — он был маленький, плотный, сжатый... «зз» — это муха поет, мне казалось, что она на окне, эта муха, а потом я уже слышал правильно — «жулик» — и он вырос.
...А «ганеф» (евр. вор) — это в полутемной комнате когда вечер — когда еще не зажгли огонь — и слышен шорох и он берет кусок хлеба с полки... Это я слышал маленьким — хлеб с полки — а где? ...значит у нас в кладовке.
«Вора» я мог бы пожалеть, а «ганефа» — никогда! «Зулика» можно пощадить, а «жулика» — этого толстомордого?!.. У них — это зависит от того, как он одет, а у меня — как я вижу его, от лица».
«...А вот еще «хворать» и «болеть» — это разное. «Болеть» — это легкая вещь, а «хворать» — это тяжело. «Хвороба» — это серое слово, оно падает, закрывает человека... «Он тяжело болен» — это можно: «болезнь» — это туман, который может выходить из человека и окружает его... А если «хворать» — то он лежит где-то внизу, «хворать» — это хуже... «Он прихварывает» — он ходит и прихрамывает.., но это не связано с общностью звучания, это совсем разные вещи...» (опыт 31/III 1938 г.).
Но здесь мы уже переступаем границы простой «физиономики слов» — и входим в другую область — ею нам еще придется заняться...
Его ум
Мы рассмотрели память Ш. и проделали беглую экскурсию в его мир. Она показала нам, что этот мир во многом иной, чем наш. Мы видели, что это мир ярких и сложных образов, трудно выразимых в словах переживаний, в которых одно ощущение незаметно переходит в другое. Мы видели, как построены воспринимаемые им слова и какую работу он должен проделывать, чтобы выделить их подлинное значение.
Как же построен его ум? Что характерно для его познавательных процессов? Как протекает у него усвоение знаний и сложная интеллектуальная деятельность? Чем отличается его мышление от нашего?
Здесь мы снова вступаем в мир противоречий, в котором преимущества наглядного, образного мышления переплетаются с его недостатками и где богатство так причудливо сочетается с бедностью.
Попытаемся описать силу и слабость этого ума; мы найдем в этом много поучительного.
Сила
Сам Ш. характеризует свое мышление как «умо-зрительное». Нет, ничего общего с отвлеченными и умозрительными рассуждениями философов-рационалистов это не имеет... Это ум, который работает с помощью зрения, умо-зрительно...
То, о чем другие думают, что они смутно представляют, Ш. видит. Перед ним возникают ясные образы, ощутимость которых граничит с реальностью, и все его мышление — это дальнейшие операции с этими образами.
Естественно, что такое наглядное видение создает ряд преимуществ (к ряду очень существенных недостатков мы еще вернемся ниже). Оно позволяет Ш. полнее ориентироваться в повествовании, не пропускать пи одной детали, а иногда — замечать те противоречия, которых не заметил и сам автор.
«...Вот пример того, как я часто замечаю противоречия. Вы все читали рассказ Чехова «Злоумышленник». А есть там какой-нибудь неправильный момент? ...Вот слушайте: следователь говорит крестьянину: «Ага, а ты что, не знаешь разве, что гайками привинчивают рельсы к шпалам?» Это правильно? Нет? А у Чехова так написано. Я ведь вижу это, и вижу, что это не так! Я еще раз перечитываю: нет, гайка для этого не подходит...».
«...А кто читал «Хамелеон»? «Очумелов вышел в новой шинели...». Когда он вышел и увидел такую сцепу, он говорит: «Ну-ка, околоточный, сними с меня пальто...». Я думаю, что я ошибся, смотрю начало — да, там была шинель... Ошибся Чехов, а не я...». ...И еще пример. Возьмите «Толстый и тонкий». Гимназисты раньше носили форму, а там говорится: «вначале он как-то несмело носил шапку», а дальше «услышав, что он генерал — он поправил фуражку». Таких моментов много можно найти и у Чехова, и у Шолохова. Ведь они не видели, а я вижу...». (Опыт 15/III 1951 г.).
Наглядный характер восприятия текста создает условия, которых не было у автора «Злоумышленника» или «Тихого Дона». Они излагали мысль и развертывали сюжет. Ш. видит и не может не констатировать противоречий, если они встречаются в тексте. В нем не надо развивать наблюдательность — она составляет неотъемлемое свойство его ума.
Наглядное «видение» обеспечило Ш. не только «наблюдательность». Оно помогло ему с завидной легкостью решать практические задачи, которые требуют от каждого из нас длительных рассуждений и которые он решал легко — «умо-зрительно».
На извилистом жизненном пути ему пришлось одно время заниматься ... рационализацией работы на предприятиях, — и как легко давались ему нужные находки!
«Все мои изобретения делаются очень просто... Мне вовсе не приходится ломать голову — я просто вижу перед собой, что нужно сделать... Вот я прихожу на швейную фабрику и вижу, что на дворе грузят тюки: тюки лежат, обвязанные кромкой. И вот я внутренне вижу рабочего, который обвязывает эти тюки: он поворачивает их несколько раз, кромка рвется, я слышу хруст, как она лопается... Я иду дальше — и мне вспоминается резина для записной книжки. Она была бы здесь годна... Но нужно большую резину... И вот я увеличиваю ее — и вижу резиновую камеру от автомобиля. Если ее разрезать, будет то, что надо! Я вижу это — и вот я предлагаю это сделать».
«...И еще... Вы помните, когда были карточки с талонами, там были клетки с цифрами: рубли, копейки... Как сделать так, чтобы их легче было отрезать, чтобы не пришлось долго рассчитывать, как вырезать нужный талон, не обходя слишком много других? Я вижу человека.., вот он около кассы.., он хитрый, он хочет сделать так, чтобы незаметно вырезать талон... Он режет.., а я слежу... Нет не так! Лучше так! И я нахожу как лучше! То, что другие могут сделать только с расчетами и на бумаге, я могу делать умо-зрительно!..». (Опыт 6/Х 1937 г.).
Пусть многие из этих предложений не слишком практичны: где найдешь столько автомобильных камер, чтобы разрезать их на резиновые кольца и ввести новый метод упаковки?... Ш. никогда не отличался практичностью (и мы еще увидим — почему); но «то, что другие решают с расчетами и на бумаге — он решал умо-зрительно», — и в этом было его большое преимущество. Оно особенно проявлялось в тех задачах, которые трудны для нас именно потому, что словесный «расчет» заслоняет от нас наглядное «видение».
«Вы помните шуточную задачу: «Стояли на полке два тома по 400 страниц. Книжный червь прогрыз книги от 1-й страницы первого тома — до последней страницы второго. Сколько страниц он прогрыз?»
«Вы, наверное, скажете 800—400 страниц первого и 400 страниц второго? А я сразу вижу: пет, он прогрыз только два переплета! Ведь я вижу: вот они стоят, два тома, слева первый, рядом второй. Вот червь начинает с первой страницы и идет вправо. Там только переплет первого тома и переплет второго, и вот он уже у последней страницы второго тома.., а ведь он ничего кроме двух переплетов не прогрыз...».
Еще ярче выступают механизмы наглядного мышления при решении тех задач, в которых исходные отвлеченные понятия вступают в особенно отчетливый конфликт со зрительными представлениями; Ш. свободен от-этого конфликта, — и то, что с трудом представляется нами, легко усматривается им.
«...Вот там, на М. Бронной, у нас там была маленькая комната, мы встретились с математиком Г. Он мне рассказывал, как он решает задачи, и предложил мне решить такую — он сидел на стуле, а я стоял. «Представьте себе, — говорит он, — что перед вами лежит яблоко, и это яблоко надо обтянуть веревкой или ремешком; получится круг с определенной длиной окружности. Теперь я к этой длине окружности прибавлю 1 метр и теперь эта новая длина окружности будет яблоко плюс 1 метр. Охватите снова яблоко; ясно, что между яблоком н веревкой останется больше пространства». Когда он мне говорил это, я тут же вижу яблоко, я наклоняюсь, обтягиваю его веревкой... Он говорит «ремнем» — и я тут же вижу ремень. Когда он заговорил о метре — я вижу кусок ремня, нет, он целый, и вот я сделал из него круг, а в середине положил яблоко. Теперь он говорит: «Представим себе земной шар». Вначале я увидел большой земной шар, его тоже охватывает ремень — и горы, и возвышенности... «Теперь также прибавим к ремню 1 метр. Должно получиться какое-то расстояние. Какое расстояние получится?» Вначале у меня появляется представление об огромном земном шаре. Я его охватил — нет, это слишком близко... Я его удаляю... Я его превращаю в глобус, но без подставки... Это тоже не годится. Он сходен с яблоком... Тогда помещение, где мы были, пропало, и я увидел огромный шар далеко — в нескольких километрах. Ремень я заменяю стальным обручем — задача трудная — охватить его надо точно. Потом я прибавляю метр и вижу, как отскакивает пространство. Какое пространство? Мне нужно сообразить, понять, чтобы превратить его в размеры, которые приняты у людей... Я у дверей вижу ящик, я превращаю его в форму шара, ящик обтягиваю ремнем... Теперь я прибавляю метр точно по углам... Затем я беру точный размер, разрезаю его на 4 части, каждая часть 25 см — для каждого ремешка получается излишек — длина каждой стороны ящика и 1/4 часть. ...Ну вот, безразлично, какой бы величины ящик не был: если каждая сторона 100 км, я прибавляю 25 см... Какая ни будет длина каждой стороны ящика — все равно прибавится 25 см... Получается 4 стороны — и каждая сторона имеет прибавку в 25 см... Я отодвигаю ремень вдоль стороны — и получается с каждой стороны по 12,5 см, ремень везде отстает от ящика на 12,5 см. Пусть ящик огромный, каждая сторона имеет миллион см — все равно, если прибавить 1 метр — каждая сторона имеет 25 см... Теперь ящик превращается в нормальный. Мне нужно только снять углы и превратить его в круглую форму... И получилось опять то же самое... Вот как я решал эту задачу». (Опыт 12/III 1937 г.).
Читатель простит автора за слишком длинную выдержку; у автора есть одно оправдание: выдержка показывает, какие «умо-зрительные» методы применяет Ш., и как эти методы приводят его к решению задачи совсем иными путями, чем те, которые применяет человек, оперирующий «расчетами и карандашом».
Мы провели с Ш. много часов над анализом того, какие преимущества давал «умо-зрительный» метод для решения арифметических задач, — и мой испытуемый многому научил меня, анализируя ту роль, которую для решения задач играют наглядные образы.
Нет сомнения, «расчеты с карандашом и бумагой» или с умственными схемами не могут не оставаться основным приемом решения задач, но как часто задачи, в которых эти расчеты, не опирающиеся на наглядные образы, могут уводить в сторону от правильного решения или заменять простой способ решения сложным и неэкономным.
Кто не знает, какой трудной может оказаться, казалось бы, простая задача: «Кирпич весит 1 кг и еще столько, сколько весит полкирпича. Сколько весит кирпич?» ...С какой легкостью люди, сосредоточившиеся только на числах, дают неверный ответ — 1,5 кг! Такие соскальзывания на формальные ответы были чужды Ш., нет, даже просто невозможны для него. Его «умо-зрительная» форма решения, которая заставляла его всегда иметь дело с предметами и всегда связывать числа с наглядными вещами, не допускала формальных решений, и задачи, вызывавшие состояние конфликта у других, протекали у него без вызванных таким конфликтом затруднений.
Вот только несколько иллюстраций этого положения.
«...Мне предлагают задачу: «Книга в переплете стоит 1 р. 50 к. Книга дороже переплета на 1 руб. Сколько стоит книга и сколько переплет?» Я решил это совсем просто. У меня лежит книга в красном переплете, книга стоит дороже переплета на 1 руб. Я вырываю часть книги и думаю, что она стоит 1 руб... Остается часть книги, которая равна стоимости переплета — 50 коп. Потом я присоединяю эту часть книги — получается 1 рубль 25 коп.
И еще: мой товарищ, инженер, дал мне задачу: «Отцу и сыну вместе 47 лет; сколько лет им было 3 года назад?». Я вижу отца, он держит за руку сына, им 47 лет. С ними идет еще один сын и еще один отец. Я откидываю каждому по 3 года... Я представляю себе, что это нужно взять вдвойне. Я умножаю на 2, получается 6, и я вычитаю «6». (Опыт 12/III 1937 г.).
Наглядные образы вещей уводят от ошибок формального решения задачи, и у Ш. не появляется искушение заменить подлинное решение задачи операцией формального числового отсчета.
Сделаем еще один шаг и посмотрим, как «умо-зрительно» решаются задачи, которые мы обычно решаем сложным отсчетом.
Задача: «Блокнот в 4 раза дороже карандаша. Карандаш дешевле блокнота на 30 коп. Сколько стоит блокнот и карандаш в отдельности?»
Ш. решает эту задачу. На столе появляется блокнот, рядом с ним 4 карандаша (рис. 1а).
Рис. 1
«Карандаш дешевле блокнота на 30 коп... Три карандаша отодвигаются вправо (рис. 1б) как лишние и уступают место их денежному эквиваленту. Вслед за этими образами появляется изображение двух чисел 10 и 40... Вот и ответ на вопрос, сколько стоит блокнот и карандаш в отдельности» (из записей Ш.).
Нетрудно видеть, как быстро и легко выполняется «умо-зрительное» решение задачи там, где решение ее вербально-логическим путем должно вызывать дополнительные отвлеченные расчеты.
Еще отчетливее выступают приемы «умо-зрительного» решения задач в более сложных примерах. Остановимся на двух из них.
Ш. дается задача: «Мудрец и путешественник сидели на лужайке. У путешественника было 2 хлебца, у мудреца — 3. К ним подошел прохожий, они предложили ему покушать и поделили поровну хлеб на 3 части. После еды прохожий, поблагодарив за угощение, дал им 10 яиц. Как мудрец и путешественник поделили между собою полученные 10 яиц?».
«...У меня возникают образы: двое (А и В) сидят на лужайке. К ним присоединяется прохожий (С). Вся группа располагается треугольником. Между ними появляются хлебцы. Люди исчезают и заменяются буквами А, В, С, а неправильной формы хлебцы — продолговатыми дощечками. Дощечки, принадлежащие А — серого цвета, принадлежащие В — белые (рис. 2а). Двумя горизонтальными линиями разрезаю дощечки на три равные группы кубиков. Получается следующая картина (рис. 2б):
Рис. 2а
Рис. 2б
За 5 съеденных кубиков С дал 10 яиц. У А — 6 кубиков, из которых он сам съел первый вертикальный ряд и 2 кубика из второго ряда, В — со своей стороны, — с такой же конфигурацией съел столько же. Рисунок 3 явно показывает количество кубиков, доставшихся С от А и от В.
Рис. 3
Может быть еще и другое — логическое решение.
Для удобства расчета заменяю слово «яйца» словом «рубли». Часть хлеба, съеденная прохожим, оценена в 10 рублей. Все трое съели поровну, следовательно, все количество хлеба, съеденного всей группой, стоит 30 рублей (10 x 3 = 30), а один хлебец стоит 6 рублей (30 : 5 = 6). Два хлебца, принадлежавшие путешественнику стоят 12 руб. (2 x 6 = 12). Путешественник сам съел количество хлеба стоимостью 10 руб, значит, прохожему он смог выделить хлеба лишь на 2 рубля (12 — 10 = 2). У мудреца было 3 хлебца, стоимость которых 18 рублей, из них он выдал прохожему хлеба на 8 рублей... Образное решение протекает быстро, почти непроизвольно. Абстрактно-вербальный способ решения, наоборот, нуждается в строгом анализе, последовательных суждениях и некоторой интуиции. Результат получается одинаковый...» (из записей Ш.).
Вот еще один пример подобного решения задачи.
Ш. дается задача: «Муж и жена собирают грибы. Муж говорит жене: «Дай мне из твоих 7 грибов и у меня будет в 2 раза больше, чем у тебя!» «Жена отвечает: «Нет, дай мне ты 7 грибов — и у нас будет поровну». Сколько грибов у каждого?» «Я увидел тропинку в лесу... мужа высокого роста в очках. Он держит на локте белую плетеную корзину с грибами. Он устал... ага! я решил, что у него много грибов. А она стоит ко мне спиной — ведь он первый начал разговаривать, а не его собеседница... Я вижу себя, вижу их... вот этот «Я», стоящий у опушки, определяет, а «Я» фактический, живой человек — слежу за тем, как он определяет.
Первое определение: я не знаю, много ли у него грибов, но думаю, что будет много — ведь он говорит — «в 2 раза больше». Я еще не знаю, в каком положении это все. Но когда он говорит свою реплику — ага! Тут для меня становится ясным; когда он сказал «дай мне 7 грибов» — я вижу кучку, которую он кладет в корзинку. Когда же она сказала свое — он вынимает из своей корзинки, и я вижу, что в обеих корзинках одинаковый уровень.
Самая кучка «7» имеет характерные черты для «семи». Этот человек отошел, я слежу за ним... сразу появляется число 14... Я уже определил, что «он» правильно считал 14: ведь мы оба делаем разные работы: я работаю цифрами, а «он» превращает все в вес, в вид, в представления.
Но ведь нужно не только, чтобы у мужа отнялось 7 грибов (вот. выскочило дно и выпала кучка из 7 грибов); нужно, чтобы они. попали в корзину к жене, без этого у него больше на 7. Значит, всего у него больше на 14, на две кучки. Я заглядываю в ее корзину — и уровень соответственно уменьшается, а когда прибавляется 2 кучки — он увеличивается.
Вот здесь и приобретает ценность первая часть, которая раньше не имела значения: «Дай мне 7 грибов — и тогда у меня будет в два раза больше, чем у тебя». У них все возвращается в прежнее состояние, у него два комка так и остаются приготовленными, — но если она вынимает один комок — то у него еще не будет в два раза больше: ведь еще недостаточно, если у нее из корзины выскочил один комок, нужно чтобы этот же комок поступил к нему в корзину. Значит, нужно, чтобы убавился один комок, чтобы у него стало на 21 больше, — и прибавился к нему — значит, на 28 больше. Когда у него стало на 28 больше, тогда у него стало в 2 раза больше! Я уже вижу у него дно корзинки, у него стало 8 комков, а у нее 4...
Теперь я начинаю проверять — ведь надо все это перевести на общечеловеческий язык...
Все это исчезает, они отходят, — и вот выступают два столба черного цвета, и кончаются туманом (ведь я не знаю, у кого сколько...).
Рис. 4
Но после рассуждения, когда я выясняю, что у него больше — край первого столба становится выше: у него больше! Здесь я рассуждаю уже двояко: цифрами и диаграммой: теперь я начинаю уравнивать, от одного столба я отрезаю 7, и когда отваливается этот кусок, он все-таки остается выше; они сравниваются только тогда, когда я переношу его на первую сторону. Видно, что это 14! Я возвращаю их снова в первоначальное положение; следующий верхний кусок — это 14! Но она ему говорит: «Дай ты мне 7 грибов и я буду в два раза выше тебя!». Теперь я отрезаю справа еще 7 — и у него стало выше на 21. Но нужно еще прибавить к нему — значит, у него выше на 28... Теперь я вижу, что ее нижний кусок равен его верхнему куску — значит, всего 56! Теперь я убавляю: получается: 56 — 7 = 49; 28 + 7 = 35». (Опыт 18/I 1947 г.).
Мы нарочно привели это длинное рассуждение. Оно вводит нас во внутренний мир Ш. и показывает те наглядные «умо-зрительные» пути, которыми течет его решение. Можно ли сомневаться в том, что эти пути иные, чем пути расчета «с карандашом и бумагой», и что мы вошли в своеобразный мир этого «умо-зрительного» мышления?[8]
Слабость
Мы поднимались к вершинам мышления Ш., теперь мы должны спуститься к его низинам. Здесь наш путь будет труднее, и мы должны будем совершать его по зыбкой почве, где с каждым шагом ноги могут уйти в трясину...
Мы видели, какую мощную опору представляет собой образное мышление, позволяющее проделывать в уме все манипуляции, которые каждый из нас может проделывать с вещами. Однако — не таит ли образное, и еще больше — синестезическое мышление и опасностей? Не создает ли оно препятствий для правильного выполнения основных познавательных операций? Обратимся к этому.
Ш. читает отрывок из текста. Каждое слово рождает у него образ. «Другие думают — а я ведь вижу!... Начинается фраза — проявляются образы. Дальше — новые образы. И еще, и еще...».
Мы говорили уже о том, что если отрывок читается быстро — один образ набегает на другой, образы толпятся, сгружаются, то как разобраться в этом хаосе образов?!...
А если отрывок читается медленно? И тут свои трудности.
«...Мне дают фразу. «Н. стоял, прислонившись спиной к дереву...». Я вижу человека, одетого в темно-синий костюм, молодого, худощавого. Н. ведь такое изящное имя... Он стоит у большой липы и кругом трава, лес... «Н. внимательно рассматривает витрину магазина». Вот тебе и на! Значит, это не лес и не сад, значит, он стоит на улице, — и все надо с самого начала передавать!...».
Усвоение смысла отрывка, получение информации, которое у нас всегда представляет собою процесс выделения существенного и отвлечения от несущественного и протекает свернуто — начинает представлять здесь мучительный процесс борьбы со всплывающими образами. Значит, образы могут быть не помощью, а препятствием в познании — они уводят в сторону, мешают выделить существенное, они толпятся, обрастают новыми образами, — а потом оказывается, что эти образы идут не туда, куда ведет текст, — и все надо переделывать снова. Какую же сизифову работу начинает представлять собой чтение, казалось бы, простого отрывка, даже простой фразы... И никогда не остается уверенности, что эти яркие чувственные образы помогут разобраться в смысле, — может быть, они отведут от него?
На этом, однако, не кончаются все трудности, — скорее здесь только их начало.
«...Особенно трудно бывает, когда в тексте есть какие-нибудь детали, которые уже были в другом тексте. Тогда я начинаю в одном месте, а кончаю совсем в другом, и все смешивается. Вот я читаю «Старосветские помещики». «Афанасий Иванович вышел на крыльцо...». Ну, конечно, такое высокое крыльцо и такие скрипучие скамейки... Но ведь это крыльцо уже было! Это крыльцо Коробочки, когда к ней приезжал Чичиков!... И вот Афанасий Иванович может у меня встретиться с Чичиковым и с Коробочкой!...».
«... Или еще: теперь о Чичикове. «Чичиков приехал в гостиницу». Я вижу — это одноэтажный дом; когда входишь — передняя, внизу большая зала, тут у двери окно, справа — стол, посреди — огромная русская печь... Но ведь это я видел!.. В этом же доме живет толстый Иван Никифорович, а тонкий Иван Иванович он тут же, в палисаднике, около него бегает грязная Гапка, и вот уже я оказываюсь совсем с другими людьми. Вы понимаете, какая для меня работа, чтобы разобраться!...».
Какие же опасности таят в себе тексты, где какая-нибудь деталь рождает образ, который уже встречался в других отрывках!... А ведь Ш. ничего не забывает, раз возникшие образы прочны, они не угасают... Как легко оказывается войти на крыльцо дома Афанасия Ивановича — и оказаться у Коробочки!..
Однако опасностей, которые таят в себе всплывание ярких образов, еще больше.
Ведь у Ш. есть особенно яркие и стойкие образы, образы повторившиеся тысячи и тысячи раз, образы, которые очень быстро начинают доминировать над остальными, и бесконтрольно всплывают, как только будет затронуто какое-нибудь общее звено с ними. Это — образы детства, образы маленького домика в Р., образ двора Хаима Петуха, где под навесом стоят лошади и где пахнет овсом и навозом.
Вот почему, начиная читать текст или начиная те «прогулки по улице», которые рождаются с его запоминанием, Ш. вдруг констатирует, что он начал свою прогулку у площади Маяковского, — а заканчивает неизменно у дома Хаима Петуха или на площади в Режице.
«Вот я начинаю в Варшаве, а оказываюсь у себя в Торжке в доме Альтермана... Я читаю библию... Вот момент, когда король Саул является к одной ведьме. Когда я начал читать это место, то передо мной появилась та ведьма, которая описывается в «Ночи под Рождество», и когда я стал читать дальше, то появился тот домик, где происходит действие, которое я видел, когда мне было 7 лет: бараночная, подвальное помещение рядом с ним.., а ведь я начал читать библию...». (Опыт 14/IX 4936 г.).
«...Ведь все, что я вижу, когда читаю, не реально, не соответствует содержанию того, что я читаю... Когда описывается какой-нибудь дворец, то центральные залы этого дворца почему-то всегда оказываются в той квартире, в которой я жил ребенком... Вот, когда я читал «Трильби» и когда надо было взять комнату под крышей, она обязательно оказывались там же у соседа, в том же доме. Я заметил, что это не подходит, но все равно по инерции образы приводили меня туда... И вот я должен задерживаться, делать над собой усилие, искусственно перестраивать образы, которые я вижу... Здесь происходит огромный конфликт, который затрудняет мое чтение, замедляет его, и я отвлекаюсь от существенного. Пусть новая обстановка, но когда описывается, что герой выходил по лестнице, оказывается, что это лестница того дома, где я жил когда-то,.. Я следую за ним, я отвлекаюсь от чтения, и вот — я не могу читать, не могу заниматься, — это отнимает у меня массу времени...». (Опыт 12/III 1935 г.).
Как легко познавательные процессы могут изменить свое нормальное течение, с какой легкостью цепь, в которой мысль ведет образы, замещается другой, в которой всплывающие образы начинают вести мысль...
Трудности яркого образного мышления не кончаются, однако, на этом. Впереди подстерегают еще более опасные рифы, на этот раз рождаемые самой природой языка.
Синонимы ... омонимы ... метафоры... Мы знаем, какое место они занимают в языке и как легко обычный ум справляется с этими трудностями... Ведь мы можем совсем не замечать, когда одна и та же вещь называется разными словами — мы даже находим известную прелесть в том, что дитя может быть названо ребенком, врач — доктором или медиком, переполох — суматохой, а врун — лгуном. Разве для нас представляет какую-нибудь трудность, когда один раз мы читаем, что у ворот дома остановился экипаж, а в другой раз с той же легкостью слышим, что «экипаж корабля доблестно проявил себя в десятибальном шторме?» Разве «опуститься по лестнице» затрудняет нас в понимании разговора, где про кого-то говорят, что он морально «опустился»? И, наконец, разве мешает нам то, что «ручка» может одновременно быть и ручкой ребенка, и ручкой двери, и ручкой, которой мы пишем, и бог знает чем еще...?
Обычное применение слов, при котором отвлечение и обобщение играют ведущую роль — часто даже не замечает этих трудностей или проходит мимо них без всякой задержки; некоторые лингвисты думают даже, что весь язык состоит из одних сплошных метафор и метонимий[9]. Разве это мешает нашему мышлению?
Совершенно иное мы наблюдаем в образном и синестезическом мышлении Ш.
Мы уже видели, какие трудности возникали у него, когда звучание слова не соответствовало его смыслу, и когда одна и та же вещь называлась разными словами. Разве он мог согласиться с тем, что реальная «свинья» не имела ни одного признака грациозности, которую несли в себе звуки слова, или что «коржик» вовсе не обязательно был продолговатый и с бороздками? Разве мог он принять, что слова «свинья» и «хавронья» — такие различные — могут означать одно и то же животное?[10]
«...Вот, например, «экипаж». Это обязательно карета. Ну, разве я могу сразу понять, что бывает морской экипаж... Надо проделать большую работу, чтобы избавиться от деталей и чтобы понять это... Для этого мне нужно представить, что в карете есть не только кучер„ но и лакей, что карета обслуживается целым персоналом — и вот только так я и понимаю это».
«...А «взвешивать слова»... Разве можно их взвешивать? Взвешивать — я вижу большие весы, как были; в Р., в нашей лавочке, вот на чашку кладут хлеб, а на другой гиря, вот стрелка идет в сторону, вот она останавливается посередине... А тут — «взвешивать слова!»... «...Один раз жена Л. С. Выготского сказала мне: «Вам нельзя на минутку подкинуть Асю?» — и я уже вижу, как она крадется у забора, как она что-то осторожно подкидывает.., это ребенок. Ну, разве можно так говорить?...».
«...И еще — «колоть дрова»: колоть — ведь это иголкой! А тут дрова... И «ветер гнал тучи».., гнал — это пастух с кнутом, и стадо, и пыль на дороге... И «рубка капитана»... И вот еще: мать говорит ребенку: «Так тебе и следует».., а «следует» — это за кем-то следует... Я же все это вижу...».
Значит, далеко не всегда образное мышление помогает понять смысл языка.
Особенные трудности он испытывает в поэзии... Вряд ли что-нибудь было труднее для ILL, чем читать, стихи и видеть за ними смысл...
Многие считают, что поэзия требует своего наглядного мышления. Вряд ли с этим можно согласиться, если вдуматься в это глубже. Поэзия рождает не представления, а смыслы; за образами в ней кроется внутреннее значение, подтекст; нужно абстрагироваться от наглядного образа, чтобы понять ее переносное значение, иначе она не была бы поэзией.., И что было бы, если бы мы вжились в образ Суламифи, наглядно представляя те метафоры, с помощью которых описывает ее «Песнь Песней»?...
Читая стихи, Ш. сталкивался с непреодолимыми препятствиями; каждое выражение рождало образ, один образ сталкивался с другим, — как можно было пробиться через этот хаос образов? Ограничимся лишь несколькими примерами.
Старик стоял в купели виноградной,
Ногами бил, держась за столб рукой.
Но в нем работник яростный и жадный
Благоговел пред ягодной рекой...
Гремел закат обычный, исполинский,
Качались травы, ветер мел шалаш.
Старик шагнул за край колоды низкой,
Вошел босой в шалашный ералаш....
(Н. Тихонов. Из грузинских стихов).Как воспринимает Ш. эти строфы?
«Я видел ясно старика, немножко выше среднего роста, похож на Л. Толстого, обмотки на ногах. Он где-то вроде сада ...купель — это куст винограда. Вначале появился отполированный стол коричневого цвета... Я вижу старика en face.., он, как будто, ругает слугу за что-то... Дальше вдруг появилась река из вина, она темная, — «вино» такое темное слово. Река, которая появилась — это в Режице, это место называлось «Басшевес Барг»... Раньше — разрушенный замок на этой горе, за ним появилось какое-то зарево, по-видимому, это восходящее солнце... Правее, где стоял лесопильный завод, появилась высокая трава, она начала нагибаться... Я даже не знаю, что это обозначает. Травинки — все отдельно, крупная трава, осока... Я остался на берегу, а это все вдали... Предметы увеличиваются... Промчалась, пронеслась, как зефир, прозрачная фигура старика; я вижу сквозь нее траву, и мне кажется, что слева появилась хижина с натянутой крышей... Обстановка комнаты мне знакома — это, наверное, у нас дома.., нет. я не понимаю...
Впечатление осталось как от какого-то случайно услышанного разговора — отрывки образов без всякого смысла. Вначале казалось, что этот старик рассердился на слугу, он толкает ногой слугу, что он богатый, он был в чунях, слуга не протестует против оскорблений, он любит вино... Появилась река.., а потом я бросил следить... Какой-то кошмар...». (Опыт 12/III 1935 г.).
Через 3 дня стихотворение читается медленно, по отдельным строфам.
(I) «Ага.., теперь я видел другое: он сам был работник, в нем алчность, он благоговел перед ягодной рекой. Я услышал «в нем» ...ах, вот, значит, это батрак? ...Значит, у него какие-то ужасные переживания».
(Экспериментатор объясняет: он давит виноград!) «Ах, вот! А у меня с детства другое представление: кругом бревна, мне рассказывал ребе — «dreshen die Weintrubn» — я тогда глядел в окно — и все происходило в этом проходе. Когда я должен понять новый образ, мне надо преодолеть старый».
(II) «Шел на ералаш» ...путаница ...Как же так? Из шалаша шел пар... Что же это? «Гремел» — пропустил: ...потому что капли дождя бьют о траву...
Он вошел в шалаш — а внутри комната... Это — комната, которую я видел при чтении Зощенко — как кто-то во время страды сделал предложение женщине... «Она сидит и чешет ногу» — и вот шалаш — и это комната...
«Гремел закат» — это не может быть... Закат солнца... закат — это что-то идиллическое...
«Качались травы» — это неверно. Маленькие травы не качаются, качается дерево... Я вот ,и видел осоку. Но если закат идиллический, откуда же «качаются травы»?
«Ветер мёл шалаш», но как может быть ветер при таком закате?.. Мёл, мёл.. — это передвигал шалаш? Шалаш был передвинут? Ах, внутри мёл.., нет, этого быть не может, я ведь еще нахожусь снаружи... Только, когда «вошел босой», тогда открывается дверь внутрь шалаша...
...Я большой консерватор в словах... Я раньше думал, что «профилактические меры» могут быть только в медицине, а «интервал» только в музыке... Я думал, как это люди так ловко применяют слова в других областях? Это трюк, софистика... Нет, мне надо быстрее прочесть, чтобы понять, чтобы не рождались образы, а то я каждое слово вижу...». (Опыт 15/III 1938 г.).
И еще из другого стихотворения:
Усмехнулся черемухе, всхлипнул, смочил
Лак экипажей, деревьев трепет....
(Б. Пастернак).«Усмехнулся черемухе» — я увидел молодого человека.., потом я узнал, что это на Мотинской улице Режице... Он ей улыбнулся.., но тут же «всхлипнул».., значит, уже появились слезы, орошают ее.., значит, здесь уже горе... Я вспомнил, как одна женщина пришла в крематорий я часами сидела и смотрела на портрет... Но вот «лак экипажей» — это уже приезжает барыня — она приезжала в карете с мельницы Южатова, и я смотрю, что она делает? Она выглянула. В чем тут дело? Почему «он» печален? ...И «деревьев трепет...». «Трепет деревьев» — мне легко, я вижу трепет, — и потом деревья, а если обратно — «деревьев трепет» — я вижу дерево, и его надо еще раскачать, и у меня большая работа». (Тот же опыт.)
Нужно ли удивляться тому, что восприятие, при котором каждое слово рождает образ — может так и не дойти до подлинного понимания поэтического смысла?!
Ш. любил делить поэтов на «сложных» и «простых». К «простым» он относил и Пушкина, но даже стихи Пушкина рождали у него заметные трудности.
Вот анализ того, как Ш. воспринял одно из его стихотворений; он прислал мне эту выписку с письмом, и я текстуально воспроизвожу его анализ.
К Огаревой, которой митрополит прислал плодов из своего саду
Митрополит, хвастун бесстыдный.
Тебе прислав своих плодов,
Хотел уверить нас, как видно,
Что сам он бог своих садов
Возможно все тебе — Харита
Улыбкой дряхлость победит,
С ума сведет митрополита
И пыл желаний в нем родит.
И он, твой встретив взор волшебный,
Забудет о своем кресте
И нежно станет петь молебны
Твоей небесной красоте.
(А. Пушкин)«Сознаюсь, чрезвычайно трудно быть и экспериментатором и объектом. Но я попытался все это сделать добросовестно, и беспристрастно. Сразу же по прочтении я записал свои комментарии, стараясь сделать это быстро, чтобы не вкрадывались посторонние подробности.
«Прочитал без затруднений. Легко. Незаметно для себя увлекся содержанием (значит, стиль не мешал развертыванию картины). В зале родительской квартиры, в доме Равдина, на высоком стуле сидит красавица Огарева. Левая часть ее лица освещена. За ее спиной — наши стенные часы. На ее коленях корзина с фруктами, из которой она извлекает письмо; тут же читает «хотел уверить нас». Кто это «нас» — пока не знаю. «Уверяет» — ясно, но каким путем? ...Ясно — посредством письма... Из затемненной части комнаты начинает всплывать прозрачная фигура бога садов — седого старика с вьющейся бородой. Ищу теперь оправдания этому образу. Догадался! Ведь речь идет о митрополите. Читаю второй стих и вижу, кто это «нас». Молодой Пушкин с двумя товарищами стоят на улице у открытого окна и злорадно хохочут. Пушкин указывает рукой на окно, сыплются остроты. Мне некогда прислушаться, так как я уже приступил к чтению третьего стиха. Дряхлый «бог садов» «сгустился» (он ведь был прозрачным), он одет в черную рясу, он стоит и, как бы молясь, смотрит на Огареву, а ее рука с письмом беспомощно опустилась. Большой золотой крест на его груди медленно тает, он поднимает голову, тусклыми, но почему-то слегка блестящими глазами (ага! ведь теперь он весь хорошо освещен) смотрит на нее. Хриплым низким голосам он запел романс в стиле церковных песен. Огарева смотрит на него удивленно, растерянно. Потолок комнаты, оклеенный глянцевой бумагой, превратился в молочного цвета облака, на фоне которых сначала вырисовываться красивое лицо женщины со светлыми распущенными волосами. Лицо этой женщины мне хорошо знакомо с детских лет, когда я учился в хедере. Она тогда являлась «гласом божьим», выглядывавшим из облаков, участвовала в предсказании пророков; по древнееврейски она называлась «Бас-Койл» — дочь голоса (божия)...». (Из письма Ш. 15 ноября 1937 г.).
Вот что рождает у Ш. «простое» стихотворение, и если всплывающие образы не мешают здесь усвоению смысла, то вряд ли они достаточно помогают ему...
До сих пор мы были заняты повествовательной речью, образом, поэтическим языком.
А как протекает у Ш. понимание объяснительного, научного, отвлеченного текста? К чему приводит здесь образное, синестезическое мышление?
От поэзии Тихонова и Пастернака мы переходим к научным трактатам. Начнем с простого.
«Работа нормально началась». Что сложного может быть в этой фразе? Ну, конечно же, Ш. понимает ее значение без труда. Без труда? Нет, совсем не так... С большим, иногда даже с очень большим трудом...
«...Я читаю: работа нормально началась... Работа — я вижу... идет работа.., завод.., а вот «нормально» — это большая румяная женщина. Нормальная женщина... и «началась»... Кто началась? ...Как же это... Индустрия.., завод... и нормальная женщина., и как же это все совместить?.. Сколько мне нужно отбросить для того, чтобы простой смысл стал ясен...».
Это нам уже знакомо: образы рождаются каждым словом, они уводят в сторону, заслоняют смысл.
Но в таких простых фразах это еще не так трудно. Гораздо хуже бывает в тех случаях, когда текст выражает сложные отношения, формулирует правила, объясняет причинную связь.
Я читаю Ш. простое правило — каждый школьник воспринимает его без труда.
«Если над сосудом находится углекислый газ, то, чем выше будет его давление, тем больше его растворится в воде». Казалось бы, какие подводные камни в этом отвлеченном, но совсем несложном тексте?
«Когда вы мне дали эту фразу, я сразу же увидел... Вот сосуд.., вот тут расположено это «над»... Я вижу линию (а), над линией я вижу облачко, оно идет вверх... это газ (б), вот я читаю дальше... Чем выше его давление.., газ поднимается.., а потом здесь что-то плотное...
Это «его давление» (в). Но оно выше.., давление поднимается вверх... «тем больше его растворится в воде».., вода стала тяжелая (г).., а газ? А «выше давление» — оно все ушло вверх... Ну, как, если «выше давление» — как же он может растворяться в воде?».
Совсем нелегко дается ему даже, казалось бы, простой смысл этого закона. То, что у каждого из нас остается на периферии сознания, игнорируется, оттесняется общим смыслом фразы, — здесь приобретает самостоятельность, рождает свои образы, — и общий смысл рассыпается.
Во всех этих примерах мы имели дело с речью, которая свидетельствовала о вещах и событиях; она была в большей или меньшей мере конкретна, то, что говорилось, можно было представить.
А что же с тем, чего представить нельзя? Что же с отвлеченными понятиями, которые обозначают сложные отношения, абстрактными понятиями, которые человечество вырабатывало тысячелетиями? Они существуют, мы усваиваем их, — но видеть их нельзя... А ведь «я понимаю только то, что я вижу». Сколько раз Ш. говорил нам об этом...
И тут начинается новый круг трудностей, новая волна мучений, новый ряд попыток совместить несовместимое.
«Бесконечность» — это всегда так было.., а что было до этого? А после — что будет?... Нет, этого увидеть нельзя...
«Чтобы глубоко понять смысл, надо увидеть его... Ну вот слово «ничто». Я прочел «ничто»... Очень глубоко... Я представил себе, что лучше назвать ничем что-то... Я вижу «ничто» — это что-то... Для меня, чтобы понять глубокий смысл, я в этот момент должен увидеть... Я обращаюсь к жене и спрашиваю: что такое «ничто»? — Это нет ничего... А у меня по-другому... Я видел это «ничто», я чувствовал, что она не то думает... Вот наша логика.., она вырабатывалась на основании длительного опыта... Я вижу, как вырабатывалась эта логика... Значит, надо ссылаться на наши ощущения... Если появляется «ничто», значит есть что-то... Вот здесь-то и трудности... Когда говорят, что вода бесцветна — я вспоминаю, как отец должен был спилить дерево на Безымянной речке, потому что это мешает течению... Я начинаю думать, что такое Безымянная речка... Значит, она не имеет имени... Какие лишние образы возникают у меня из-за одного слова. А что-то»... «Что-то — это для меня как бы облачко пара, сгущенное, определенного цвета, похожее на цвет дыма. Когда говорят «ничто» — это более жидкое облачко, но совершенно прозрачное, и когда я хочу из этого «ничто» уловить частицы — получаются мельчайшие частицы этого «ничто». (Опыт 12/XII 1935 г.).
Как странны, — и вместе с тем — как знакомы эти переживания! Они неизбежны у каждого подростка, который привык мыслить наглядными образами, но который вступает в мир отвлеченных понятий и должен усвоить их. Что такое «ничто», когда всегда что-то есть... Что такое «вечность» и что было до нее? А что будет после?... И «бесконечность». А что же после бесконечности?... Эти понятия есть, им учат в школе, а как представить их? И если их нельзя представить, что же это такое?
Проклятые вопросы, которые вытекают из несовместимости наглядных представлений и отвлеченных понятий, обступают подростка, озадачивают его, рождают потребность биться над тем, чтобы понять то, что так противоречиво. Однако у подростка они быстро отступают. Конкретное мышление сменяется отвлеченным, роль наглядных образов отходит На задний план и замещается ролью условных словесных значений, мышление становится вербально-логическим, наглядные представления остаются где-то на периферии, лучше не трогать их, когда дело заходит об отвлеченных понятиях.
У Ш. этот процесс не может пройти так быстро, оставляя за собой лишь память о былых мучениях. Он не может понять, если он не видит, и он пытается видеть «ничто», найти образ «бесконечности»... Мучительные попытки остаются, и на всю жизнь он сохраняет интеллектуальные конфликты подростка, оказываясь так и не в состоянии переступить через «проклятый» порог.
Но образы, которые вызывают эти понятия, ничем не помогают: ну что же из того, что когда кто-нибудь говорит «вечность» — всплывает какой-то древний старик, наверное, бог, о котором ему читали в библии? И вместо образов снова возникают «клубы пара», «брызги», «линии»... Что они представляют? Содержание отвлеченных понятий, которое Ш. пытается «увидеть» в наглядных формах? Или это знакомые нам образы звуков произносимого слова, которые возникают тогда, когда значение слова остается неизвестным? Трудно сказать, помогут ли они усвоить понятие, но они возникают, толпятся, заполняют сознание Ш...
«...Ну — все это ясно... Но как представить «взаимное проникновение противоположностей»?.. Я вижу два темных облака пара... Это темное «противоположное»... Вот они надвигаются друг на друга, проникают друг в друга... А вот «отрицание отрицания»... Нет, я никак не могу представить это... Я долго бился над этим, но по совести — так и не понял...».
«...Я читал газеты, некоторые вещи до меня доходили — вот все, что из экономической жизни — я в этом прекрасно разбирался, а некоторые не доходили сразу, а доходили долго спустя... Почему? Ответ ясен: этого я не увидел! Ведь то, чего я не вижу — это до меня не доходит... Вот и когда я слушаю музыкальные вещи, я чувствую вкус их, а то, что не попало на язык, — то не понять... Значит, не только отвлеченное, а даже музыка, ее тоже нужно почувствовать на вкус... Вот даже номер телефона, я могу повторить его, но если он не по.чал на язык, я его не знаю, я должен опять услышать, я должен пропустить через все органы чувств — тогда я слышу... Каково же мое положение с отвлеченными понятиями? ...Вот, когда я слышу «боль», я вижу ленточки — кругляши, туман. Вот такой туман и есть отвлеченность...».
Ш. пытается облечь всё в образы, если их нет — в «облачка пара», в «линии», и сколько сил тратится на то, чтобы пробиться сквозь эти образы... А тут еще одно препятствие: чем больше он думает, тем более настойчиво всплывают его самые прочные образы — образы далекого детства, Режицы, дома, где его — ребенка — учили библии, где он впервые пытался осмыслить то, что с таким трудом входит в сознание.
«Относительно искусства известно, что определенные периоды его расцвета не находятся ни в каком соответствии с общим развитием общества, а, следовательно, также и развитием материальной основы последнего, составляющей как бы скелет его организации».
«...Начато хорошо... Я увидел почему-то древность, где жил Аристотель, Сократ. — Ну, это был просто дом Хаима Петуха — там меня учили древности. Когда присмотрелся — на руинах.., там была крепость Миккавеев... Мы ведь заговорили об искусстве... Я всегда вижу Нерона.., так же, как и сенат Калигулы я вижу в нашей зеленой синагоге — ведь это там происходил Синедрион.., а от всей этой фразы у меня ничего не осталось...».
«Тогда общественная жизнь.., общественное настроение... не отражалось на искусстве... Социально-классовые отношения общества не находили отражения в искусстве», а «скелет» — это, должно быть, каркас чего-то...
Вот, когда я читаю второй раз — теперь понятно! Теперь даже и «скелет» является второстепенным... «Поскольку не считаются с материальной основой общества» — это для меня отвлеченное, — это тучка, облачко»...
Ну, конечно, Ш. усваивал основное, с чем ему приходилось сталкиваться. Ну, конечно, он общался с людьми, слушал курсы, сдавал экзамены, но какой тернистый путь ему приходилось проделывать, когда из зыбких долин он пытался-пробраться к вершинам и когда каждый шаг рождал у него эти лишние, но так неизбежно всплывающие образы и ощущения...
Нет, наглядно-образное, синестезическое мышление этого человека имело не только вершины, но и низины, с ним была связана не только сила, но и слабость, — и какие усилия он должен был делать, чтобы преодолеть эту слабость...
Его «воля»
Мы посвятили ряд страниц силе и слабости ума Ш. Займемся сейчас силой и слабостью его воображения.
Объективные факты
Кто не помнит простого опыта — опыта нашего детства — опыта, показывающего силу воображения?
Ваша рука вытянута. Пальцы крепко держат нитку, к которой привязан грузик. Вот вы начинаете ярко представлять себе, что рука совершает круговое движение. И грузик начинает сначала медленно, потом все более и более уверенно описывать контуры круга...
Воображение привело к движению, и психология, хорошо знающая механизмы «идео-моторного акта», уже давно указывала, что едва ли не все, заключенное в таинственном «чтении мыслей», является на самом деле чтением движений, которые воображение вызывает у наблюдаемого лица. И сколько еще фактов, говорящих, с какой легкостью сильное воображение, вызывавшее в средние века «стигмы» у истерических женщин, может вызвать изменения соматических процессов, накопилось в современной «психо-соматике» и медицине... И сколько еще неизведанного раскрывают нам факты, описанные у индийских йогов!...
Как же все это отражается у Ш., у которого сила воображения так резко превышает все, что нам известно?
Можем ли мы удивляться тому, что исключительное по своей яркости воображение Ш. неизбежно будет вызывать движения и что управление процессами своего тела через посредство этого воображения будет у него намного превышать то, что известно из наблюдения над обычными людьми?...
«...Когда я чего-нибудь хочу, что-нибудь представляю, мне не надо делать усилия, это делается само собою...».
Однако исследователь не поверит ему на слово; он должен проверить реальные возможности управления своим телом и границы этого управления.
Ш. не только говорил, что он может произвольно регулировать работу своего сердца и температуру своего тела. Он действительно мог это делать — и притом в очень значительных пределах.
Вот его спокойный обычный пульс: 70—72 удара в минуту. Но вот небольшая пауза — и пульс начинает становиться чаще, ускоряется, — и вот уже он достигает 80—96 — ...100 ударов в минуту. А потом мы видим обратное: он снова замедляется, — вот частота достигает прежних пределов, вот пульс становится реже — 64—66 ударов в минуту.
Как это делается?
«Что же в этом удивительного? Я просто вижу, что я бегу за поездом, поезд отошел только что, он удаляется от меня.., а мне надо его догнать, вскочить на подножку последнего вагона... Ну, что же тут удивляться, что сердце начинает работать так часто?.. А потом я ложусь спать.., я неподвижно лежу в кровати.., вот я начинаю засыпать.., дыхание становится ровным, сердце начинает биться медленно, равномерно...».
И еще один опыт:
«...вы хотите, чтобы температура правой руки поднялась, а левой понизилась? Давайте начнем...».
У нас кожный термометр... мы проверяем температуру обеих рук, она одинакова. Ждем минуту, две... «Теперь начинайте!». Мы снова прикладываем термометр к коже правой руки. Ее температура стала на два градуса выше... А левая? Еще пауза... «Теперь готово»... Температура левой руки понизилась на полтора градуса.
Что это такое? Как можно по заданию произвольно управлять температурой своего тела?
«...Нет, в этом тоже нет ничего удивительного! Вот я вижу, что прикладываю правую руку к горячей печке... Ой, как ей становится горячо... Ну, конечно же, температура ее стала выше! А в левой руке я держу кусок льда... Я вижу этот кусок, вот он у меня в левой руке, я сжимаю ее... Ну, конечно, она становится холоднее...».
А, может быть, таким путем можно бороться с болью?! Ш. много раз рассказывал, как он перестал испытывать острую боль и какими путями ему удалось достигнуть этого.
«Вот я иду к зубному врачу... Вы знаете, как это приятно сидеть в кресле и чтобы у тебя сверлили зуб? Раньше я очень боялся этого. А теперь оказалось все так просто... Вот у меня болят зубы... Сначала это красная, оранжевая ниточка... Она меня беспокоит... Я знаю, что если это оставить так, то ниточка расширится, превратится в плотную массу... Я сокращаю ниточку, все меньше, меньше.., вот уже одна точка — и боль исчезает. А потом я стал делать это иначе... Вот я сижу на кресле... Нет, это не я, это кто-то другой, это «он» сидит на кресле. А я, Ш., стою рядом и наблюдаю, как «ему» сверлят зуб... Ну, и пусть «ему» будет больно... Ведь это не мне больно, а «ему»... И я не чувствую боли...». (Опыт 30/1 1935 г.).
Признаемся, мы не провели этого опыта под объективным контролем, но мы — при участии наших товарищей — могли констатировать, как у Ш. меняются процессы темновой адаптации, когда он видит себя в темной или светлой комнате, как у него появляется улитковозрачковый рефлекс, когда он представляет резкий звук, и как в электроэнцефалограмме возникает отчетливая депрессия альфа-ритма, когда Ш. представляет, что яркий свет 500-ваттной лампы бьет ему в глаза![11]
Физиологические исследования (в свое время они были проведены в физиологической лаборатории клиники неврологии ВИЭМа С. А. Харитоновым и его сотрудниками) дали лишь некоторые — очень немногочисленные — указания на возможные механизмы этих явлений.
У него не было никаких заметных изменений в порогах тактильных ощущений, но прикосновения воспринимаются им в виде наглядных (синестезических) образов. Пороги его обонятельной и вкусовой чувствительности понижены. Значительно изменены и пороги зрительной адаптации; ему нужно больше времени, чтобы приспособиться к темноте. Раздражение кожи волосками Фрея не дало значительных изменений порогов, но вместо точечного ощущения прикосновения он испытывал ощущение волны, распространяющейся и захватывающей значительные участки кожи; кожная чувствительность проявляет признаки повышенной инерции, а некоторые особенности переживания прикосновений указывают и на преобладание протопатической чувствительности. Пороги его оптической хронаксии не выходят за пределы обычных, но субъективные ощущения, возникающие при электрических раздражениях кожи, необычно резкие, причем усиление интенсивности раздражения обычно не приводит к соответствующему сдвигу ощущений; раз изменившись, порог инертно остается таким же в течение длительного времени, и особенности проявляются не столько в порогах, сколько в динамике вызванного возбуждения.
Все это может указывать на то, что если пороги ощущений не выходят за пределы нормы, то качество и динамика ощущений представляет заметное своеобразие, и исследующий может говорить даже о некотором понижении возбудимости корковых и повышении возбудимости подкорковых систем. Если прибавить к этому заметное понижение адаптационных и усиление следовых процессов, то физиологическая характеристика ощущений и вегетатики Ш., полученная в этих очерках, будет исчерпана.
Конечно, мы вправе ожидать большего от объективного исследования его вегетативных, сенсорных и электрофизиологических явлений. Конечно, эти факты дают лишь относительно незначительные (и скорее косвенные) данные для более близкого понимания тех замечательных явлений, которые мы описывали. Но не всегда опыт объективного анализа изучаемых фактов удовлетворяет желания исследователя.
Вернемся, однако, к психологии интересующих нас явлений и попытаемся прибавить несколько любопытных штрихов к тому, что мы уже описали.
... И немного о магии
До сих пор мы рассказывали о фактах, которые видели глазами объективного наблюдателя.
А как выглядят эти факты, если на них посмотреть глазами самого Ш.?
Для того, чтобы подойти к этому, нам нужно сделать обходный путь и остановиться на некоторых вещах, которые мы не затрагивали раньше.
Каждое воображение имеет границы, отделяющие его от реальности.
У нас — людей с ограниченным воображением — эти границы четкие. У Ш., воображение которого рождает образы, приобретающие порой чувственность реального, эти границы стираются.
«...Вот так было, когда я был маленький. Я учился в хедере. Вот уже утро — мне нужно вставать... Я гляжу на часы.... Нет, еще есть время.., можно полежать... И я все время продолжаю видеть стрелки часов... Они показывают половину восьмого... Значит, еще рано. И вдруг мать: как, ты еще не ушел, ведь уже скоро девять... Ну, как же я мог это знать? Ведь я видел, большая стрелка смотрит вниз — на часах половина восьмого...».
Яркое воображение мальчика стирает границы между реальным и воображаемым, и эти стертые границы делают его поведение таким необычным. Но если стираются границы между реальным и воображаемым, то почему же не могут стереться — пусть ослабиться — границы между образом «себя» и образом «другого»?
Это началось еще с ранних школьных лет. Кто не знает магии младшего школьника? Ну, разве трудно сделать, чтобы учитель тебя не вызвал? Для этого нужно только прочно держаться за парту и думать, чтобы взгляд учителя прошел мимо... Ну, конечно, это не всегда действует... А все-таки, может быть, это поможет? Все это было и у Ш. в ранние школьные годы. Но у других это проходит и остается лишь в воспоминаниях детских лет, как что-то среднее между детской игрой и милой наивной магией школьника... У Ш. это осталось надолго, и он даже сам не знает, верит ли он этому или нет.
«...У нас был классный наставник Фридрих Адамович... Мы напроказничали... Кто это сделал? Фридрих Адамович входит в класс... Вот он меня поймает... А я, насколько у меня хватило сил, направил на него взгляд... Нет, он ничего не сделает... Я вижу, что он отворачивается.., проходит в сторону... Нет, он меня так и не вызвал...».
И еще много раз он наблюдал их на себе — что-то среднее между игрой воображения и действиями всерьез.
«...У меня нет большой разницы между тем, что я представляю и что есть в действительности... И часто, если я себе так представляю, так и случается!... Вот я поспорил с товарищем, что кассирша в магазине даст мне лишнюю сдачу. Вот я представил себе четко, — и она мне действительно дала сдачу не с 10, а с 20 рублей... Ну, конечно, я знаю, что это случай, совпадение, — но в глубине души я все-таки думаю, что это потому, что я так вижу... А если что-нибудь не удается, — мне кажется, что это за счет того, что я или устал, или отвлекся, или что у того, другого человека, воля направлена в другую сторону...».
«Иногда мне даже кажется, что я могу лечить себя, если я ясно представляю... И даже могу лечить других... Я знаю, что если я заболеваю — я представляю, что болезнь уходит... Вот ее нет.., и я здоров, я не разболелся...
Я уезжаю в Самару... Миша (сын) испортил себе желудок... Был врач — и не мог определить, что у него... А это просто... Я накормил его салом... Я вижу у него в желудке кусочки сала.... Я хочу, чтобы он переварил сало, я ему помогаю... Я представляю, я вижу, как сало растворяется. Миша выздоравливает... Ну, конечно, я знаю, что это не так.., но ведь я все это вижу...».
И сколько таких крупиц наивной магии, где воображение переходит в уверенность и где рассуждение, казалось бы, отметает-все, но оставляет какие-то зернышки сознания, когда где-то, в каких-то уголках сознания остается чувство «а ведь все-таки, может быть, это так?» ...Сколько таких причудливых закоулков сознания, где воображение незаметно сливается с реальностью, осталось у этого человека...
Его личность
Нам осталось перейти к последнему разделу нашего рассказа — самому неизведанному, но едва ли не самому интересному.
О выдающихся мнемонистах написано ряд работ. Психологам известны имена Иноди и Диаманди, некоторые знают замечательного японского мнемониста Ишихара. Но психологи, которые писали о них, останавливались только на их памяти.
Кем был Иноди и как складывалась жизнь Диаманди? Какие черты отличали личность Ишихара и как складывалась его жизнь?
Основные представления классической психологии резко разрывали учение об отдельных психических функциях и учение о личности: для них как бы подразумевалось, что особенности личности мало зависят от строения психических функций и что человек, проявляющий удивительные особенности памяти в лаборатории, может ничем не отличаться от других людей в быту.
Верно ли это?
Верно ли, что необычайное развитие образной памяти и синестезических переживаний ничем не скажется в формировании личности их носителей, что человек, который все «видит» и который ничего не может глубоко понять, если не «пропустит» впечатления через все органы чувств, который должен «почувствовать номер телефона на конце своего языка», — что этот человек развивается, как все другие? Верно ли, что он так же, как другиё, ходил в школу, имел товарищей, начинал профессиональную жизнь, что его мир был таким же, как мир других людей, и его биография складывалась так же, как биографии всех его соседей? Такое предположение кажется нам с самого начала маловероятным.
Человек, в сознании которого звук сливался с цветом и вкусам, у которого каждое мимолетное впечатление рождало яркий и неугасающий образ, для которого слова имели такое непохожее на наши слова значение, — такой человек не мог складываться, как другие люди, иметь такой же внутренний мир, такую же биографию.
Человек, который все «видел» — и синестезически переживал — не мог так же, как мы, ощущать вещи, видеть других и переживать самого себя.
Как же формировалась личность Ш.? Как складывалась его биография?
Начнем историю развития его личности издалека.
Он маленький. Он только что начал ходить в школу.
«...Вот утро... Мне надо итти в школу... Уже скоро восемь часов... Надо встать, одеться, надеть пальто и шапку, галоши,.. Я не могу остаться в кровати.., и вот я начинаю злиться... Я ведь вижу, как я должен итти в школу.., но почему «он» не идет в школу?... Вот «он» поднимается, одевается.., вот «он» берет пальто, шапку, надевает галоши.., вот «он» уже пошел в школу... Ну, теперь все в порядке... Я остаюсь дома, а сон» пойдет. Вдруг входит отец: «Так поздно, а ты еще не ушел в школу?!...». (Опыт 20/Х 1934 г.).
Мальчик — фантазер, но его фантазия воплощается в слишком яркие образы, и эти образы создают у него другой, столь же яркий мир, в который он переносится, реальность которого он переживает. И мечтатель теряет границы того, что есть, и того, что он «видит»...
«...Это оставалось у меня долго, да, может быть, остается и сейчас... Я смотрю на часы и потом долго продолжаю их видеть... Стрелки стоят на том же месте, и я не замечаю, что времени стало уже больше... Вот поэтому я часто и опаздываю...».
Ну, как тут приспособиться к быстро меняющимся впечатлениям, когда вызываемые впечатлениями образы так ярки и так легко заслоняют реальный мир?
«...Меня всегда называли «Kalter Nefesch» (евр. холодная душа) — ведь вот, например, пожар, а я еще не понимаю — «что это — пожар?»... Я ведь должен раньше увидеть то, что сказано... А в эту секунду — пока я не вижу — я принимаю все хладнокровно...».
Мы хорошо знаем творческое воображение, из которого рождается действие, четко согласованное с внешним миром. Все великие изобретатели шли от такого воображения. Но мы знаем и другое воображение, деятельность которого не направлена на внешний мир, которое рождается из желания и замещает действие, делает его ненужным. Сколько бездейственных мечтателей живут в мире такого воображения, превращая свою жизнь в «сновидение наяву», заполняя всю жизнь тем, что англичане называют «day dreaming»»...
Можно ли удивляться, что Ш. с его диффузными синестезическими переживаниями и яркими чувственными образами стал таким мечтателем?
Но это не те мечты, которые приводят к деятельности. Они замещают деятельность, опираясь на переживания самого себя, превратившиеся в образы. Мы видели это уже в том, что приводили несколькими абзацами выше.
«...Мне нужно в школу... И вот я вижу себя... «Он» идет в школу». Я сержусь на «него» — почему «он» так медленно собирается?!».
«Мне 8 лет. Мы перебираемся на другую квартиру. Мне не хочется ехать... Брат берет меня за руку, ведет к извозчику... Я вижу извозчика, он жует морковку... Но мне не хочется ехать, и я остаюсь дома. Я вижу как «он» стоит у окна в старой комнате и никуда не едет». (Опыт 20/Х 1934 г.).
И такое разделение — «Я», который приказывает, и «он», который выполняет, и которого «Я» видит, — остается у Ш. на всю жизнь. «Он» идет, куда нужно, «он» запоминает, а «Я» только указывает, направляет, контролирует... И если бы не знать тех психологических механизмов яркого наглядного «видения», на которых мы так подробно останавливались на протяжении всего нашего рассказа, как легко была бы смешать все это с тем «расщеплением личности», которым так много занимаются психиаторы и, с которым «остранение» своей личности у Ш. имеет очень мало общего!
Возможность «видеть» и «остранять» себя, превращая свои переживания и действия в образ того, что «он» переживает и делает по «моему» приказу, — все это может иногда сильно помогать произвольной регуляции поведения, — мы уже видели это, когда речь шла об управлении вегетативными процессами или об устранении боли путем отнесения этой боли к другому человеку.
Но как часто такое «остранение» может препятствовать полноценному управлению поведением!
«...Вот я сижу у вас, я задумываюсь... Вы гостеприимный хозяин, вы спрашиваете: «Как вы расцениваете эти папиросы?...». «Ничего себе, средние...». Я бы так никогда не ответил, а «он» может так ответить. Это нетактично, но объяснить такую оплошность «ему» я не могу. «Я» отвлекся, и «он» говорит не так, как надо». (Опыт 20/Х 1934 г.).
В этих случаях небольшое отвлечение приводит к тому, что «он», которого так ярко «видит» Ш., выпадает из-под контроля и начинает действовать автоматически.
И как много случаев, когда всплывающие образы мешают вести нужную линию разговора, отвлекаясь в сторону. Тогда его обступают детали, побочные воспоминания, разговор становится многословным с бесконечными уходами в сторону, и ему приходится напрягать усилия, чтобы вновь возвращаться к избранной теме.
Ш. знал, что он многословен, что ему надо всегда быть начеку, чтобы сохранить тему разговора, и что это далеко не всегда удается ему. И я, его наблюдатель, и стенографистки, которые записывали наши беседы, знали это еще лучше. И каких трудов стоило автору выделять нужное из бесконечно разветвлявшейся и уходящей в сторону беседы с этим человеком.
«...Все это приводит к неумению держаться в рамках темы. Это не болтливость. Вы меня спрашиваете о лошади, но ее цвет и «вкус» — все это создает массу впечатлений... И если «Я» не возьму это в руки, то ничего не получится. Ведь «он» не чувствует, что вышел из темы, ведь это тот же вкус, тот же двор, я же из него не вышел... Только недавно я научился следить и держаться темы...». (Опыт 25/V 1939 г.).
Но как много случаев, когда яркие образы приходят в конфликт с действительностью и начинают мешать нужному осуществлению хорошо подготовленного действия!
«...У меня было судебное дело... Очень простое судебное дело, ну, конечно, я должен его выиграть... Вот я готовлюсь к выступлениям на суде... И я нее вижу — ведь иначе же я не могу!... Вот большой зал суда.., стоят ряды стульев. С правой стороны — стол суда... Я стою с левой стороны и произношу речь... Все удовлетворены моими доказательствами, я, конечно, выиграю! А когда я вошел в зал суда, все оказалось по-другому... И судья сидел не справа, а слева, и я должен был выступать совсем с другой стороны, не так, как я видел... И я растерялся... Я ничего не мог сказать, как нужно... Ну и, конечно, я проиграл...».
Как часто яркие образы, которые Ш. видел, не совпадали с действительностью и как часто он, привыкший опираться на эти образы, оказывался беспомощным в реальной обстановке.
Случай на суде — исключительный по ясности; но такими случаями заполнена вся жизнь Ш., и именно поэтому — как он часто жаловался — его считали за медленного, нерасторопного и немного растерянного человека.
Но реальность воображения и зыбкость реального сказывались на формировании личности Ш. гораздо глубже.
Он всегда ждал чего-то и больше мечтал и «видел», чем действовал. У него все время оставалось переживание, что должно случиться что-то хорошее, что-то должно разрешить все вопросы, что жизнь его вдруг станет такой простой и ясной... И он «видел» это, и ждал... И все, что он делал, было «временным», что делается, пока ожидаемое само произойдет.
«...Я много читал — и всегда отождествлял себя с кем-нибудь из героев — ведь я их видел... Еще в 18 лет я не мог понять, как это один товарищ готовился стать бухгалтером, коммивояжером... Самое важное в жизни — не профессия, главное — это что-то приятное, большое, что со мною случится... Если бы в 18—20 лет я считал себя готовым для женитьбы, и графиня или принцесса предложила мне руку — и этого было бы мне мало... Быть может, я стану кем-нибудь еще большим?... Все же, чем я занимался, — и писал фельетоны, и выступал в кино — все это «еще не то», это временно.
Как-то раз я прочитал курс акций и показал, что запоминаю биржевые цены, и стал маклером; но это было «не то», я просто зарабатывал деньги... А настоящая жизнь — это другое. Все было в мечтах, а не в деле... Я же был обычно пассивен. Я не понимал, что идут годы — это все «пока что». И вот чувство: «мне только 25 лет», «только 30»... и все впереди. В 1917 году я с удовольствием уехал в провинцию, решив отдаться течению: был в пролеткульте, заведовал типографией, был репортером, жил какой-то особой жизнью. Так и сейчас — время идет — я мог бы многого добиться, но все время жду чего-то... Так я и остался..». (Опыт 25/11 1937 г.).
Так он и оставался неустроенным человеком, человеком, менявшим десятки профессий, из которых все были «временными».
Он выполнял поручения редактора, он поступал в музыкальную школу, он играл на эстраде, был рационализатором, затем мнемонистом, вспомнил, что он знает древнееврейский и арамейский язык, и стал лечить людей травами, пользуясь этими древними источниками...
У него была семья: хорошая жена, способный сын, но и это все он воспринимал сквозь дымку. И трудно было сказать, что было реальнее — мир воображения, в котором он жил, или мир реальности, в котором он оставался временным гостем...
Взгляд в будущее
Психология еще не стала подлинной наукой о живой человеческой личности.
Она еще не научилась описывать оклад личности так, чтобы каждая его черта находила свое место и чтобы законы формирования личности стали такими же четкими и прозрачными, как законы синтеза сложных химических тел.
Такая психология — дело будущего, и еще труднее сказать, сколько десятилетий отделяет нас от такого будущего...
На пути к этой научной психологии личности еще много извилистых дорог и крутых, труднодоступных тропинок.
Но нет сомнения, что тщательное исследование того, как складывается личность в условиях неравномерного развития ее отдельных сторон, и описание процесса, в результате которого формируется «синдром» личности, остается одним из важных путей на подступах к этой трудной проблеме.
И кто знает, может быть, и это описание человека, который все «видел», сыграет свою роль на этом трудном пути...
Примечания
1
Только в особых случаях патологии смысловое значение слов может оттесняться на задний план и уступать свое ведущее место звуковой стороне слова. См. A. R. Luriа, О. S. Vinogradova. Objective analysis ot semantic systems. «British Journal of Psychology», 1959, vol. 50.
(обратно)2
По такой технике «наглядного размещения» и «наглядного считывания» образов Ш. был очень близок к другому мнемонисту Ишихара, описанному в свое время в Японии. См. Tukasa Susukita. Untersuchungen eines au Serordentlichen Gedachtnisses in Japan. «Tohoku Psychological Folia», I. Sendai, 1933—1934, pp. 15—42, 111—134.
(обратно)3
См. А. Н. Леонтьев. Развитие памяти. М, Изд-во Акад. Комвоспитания им. Крупской, 1931; его же. Проблемы развития психики. М., Изд-во Акад. пед. наук, РСФСР, 1959; А. С. Смирнов. Психология запоминания. М, Изд-во Акад. пед. наук, РСФСР, 1948 и др.
(обратно)4
Есть данные, что памятью, близкой к описанной, отличались и родители Ш. Его отец — в прошлом владелец книжного магазина, — по словам сына, легко помнил место, на котором стояла любая книга, а мать могла цитировать длинные абзацы из Торы. По сообщению проф. П. Дале (1936 г.), наблюдавшего семью Ш., замечательная память была обнаружена у его племянника. Однако достаточно надежных данных, говорящих о генотипической природе памяти Ш., у нас нет.
(обратно)5
Стоит вспомнить тот факт, что изучение случаев патологического ослабления узнавания лиц — так называемые агнозии на лица или «прозопагнозия», большое число которых появилось за последнее время в неврологической печати, не дает еще никаких опор для понимания этого сложнейшего процесса.
(обратно)6
Ср. А. Р. Лурия и Ф. Я. Юдович. Речь и развитие психических процессов ребенка. М., Изд-во Акад. пед. наук РСФСР, 1956.
(обратно)7
«Гис — евр. «наливай».
(обратно)8
Мы не будем осложнять наш рассказ примерами, показывающими те преимущества, которые получает мышление, опирающееся на наглядные образы. В нашем распоряжении — большое количество примеров решения задач, которые описал сам Ш.
(обратно)9
Ср. R. Jakobson, М. Halle. Foundations of language Mouton. Hague, 1956.
(обратно)10
Существенные трудности в усвоении этих значений возникают лишь в особых случаях. Примером их может быть овладение языком у глухонемых детей, где усвоение обобщенного значения слов — один из самых серьезных камней преткновения. См. Р. М. Боскис. Особенности речевого развития у детей при нарушении звукового анализатора. «Изв. АМН РСФСР», 1953, № 48, и Н. Г. Морозова. Воспитание сознательного чтения у глухонемых школьников. М., Учпедгиз, 1953.
(обратно)11
Эти опыты проводились в свое время при участии С. А. Харитонова, Н. В. Раевой, С. Д. Ролле, А. И. Рудник. Мы с благодарностью вспоминаем их участие.
(обратно)



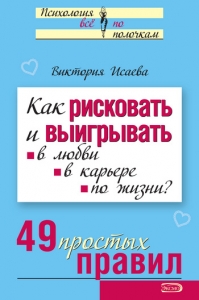


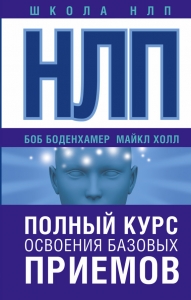



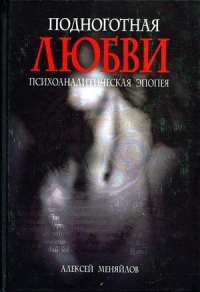
Комментарии к книге «Маленькая книжка о большой памяти», Александр Романович Лурия
Всего 0 комментариев