Свидетель защиты: Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний Элизабет Лофтус, Кэтрин Кетчем
Witness for the Defense: The Accused, the Eyewitness and the Expert Who Puts Memory on Trial Dr. Elizabeth Loftus, Katherine Ketcham
© Elizabeth Loftus and Katherine Ketcham, 1991
© Сатунин А. С., перевод на русский язык, 2017
© Издание на русском языке, оформление.
ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2018
КоЛибри®
Свидетель защиты: Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний / Элизабет Лофтус и Кэтрин Кетчем ; пер. с англ. А. С. Сатунина. - М. : КоЛибри, Азбука-Аттикус, 2018.
18+
ISBN 978-5-389-15283-0
* * *
Психолог Элизабет Лофтус смело выступила против преступных, корыстных интересов, продемонстрировав, как легко подделываются воспоминания и как эта фальшивка выдается жертве за абсолютную истину.
Ричард ДокинзОт авторов
В этой книге собраны наиболее выдающиеся примеры реальных дел, в которых доктор Элизабет Лофтус участвовала в качестве свидетеля-эксперта. Наша цель состоит в том, чтобы, используя эти примеры судебных трагедий, взятые из реальной жизни, познакомить читателей с важной информацией о человеческой психологии в целом и о человеческой памяти в частности.
Мы брали материал из протоколов судебных заседаний, полицейских отчетов, газетных статей и интервью со свидетелями, обвиняемыми, адвокатами и прокурорами, присяжными и членами семей наших героев. Некоторые эпизоды во многом воссозданы с тем, чтобы донести до читателя важные идеи или упростить сюжет, а протоколы судебных заседаний и показания свидетелей местами отредактированы, чтобы сделать материал более понятным и читабельным. Мы решили изменить имена и отличительные характеристики некоторых лиц, чтобы не создавать им проблем в частной жизни, и в этих случаях при первом упоминании человека его имя выделяется курсивом.
Чтобы рассказать вам эти истории, мы сами вынуждены были опираться на воспоминания участников этих драм, а также на наши собственные воспоминания об описываемых событиях. И хотя мы всячески старались исправить очевидно необъективные оценки и приводить лишь известные и бесспорные факты, в этих ретроспективных интерпретациях, конечно, в какой-то мере все равно будут присутствовать искаженные воспоминания.
Увы, из психологических исследований и из опыта написания этой книги мы слишком хорошо знаем, что «память» и «правда» — отнюдь не всегда синонимы.
Элизабет Лофтус Кэтрин Кетчем
Часть I. ИНФОРМАЦИЯ К РАЗМЫШЛЕНИЮ
1. Немного о психологических экспериментах
Не думаю, что на свете много людей, которые понимают, насколько важна невиновность для ни в чем не повинного человека.
Из кинофильма «Крик во тьме» (A Cry in the Dark)Я поднимаюсь по узкому проходу, все вокруг отделано деревом, и стук моих каблуков по блестящему полированному полу усиливает ощущение тишины в зале. Секретарь суда, старушка с идеальными кружками розовых румян на щеках, ждет меня. Я поднимаю руку и слушаю, как она произносит заученную фразу:
— Клянетесь ли вы говорить правду, всю правду и ничего кроме правды? И да поможет вам Бог.
Автоматически отвечаю «да». Секретарь отступает, и я делаю несколько шагов до деревянной конторки, всхожу за нее и сажусь лицом к залу суда. Теперь все глаза устремлены на меня.
Адвокат подходит к свидетельской трибуне и кивает мне головой. Он защищает 23-летнего мужчину, обвиняемого в том, что он проник в жилище в районе Ван-Найс, Калифорния, где живут наиболее обеспеченные представители среднего класса, и в том, что застрелил пожилого мужчину.
— Назовите, пожалуйста, ваше имя!
— Меня зовут Элизабет Лофтус.
Я знаю весь распорядок наизусть и по буквам произношу свою фамилию для судебного репортера: «Л-О-Ф-Т-У-С».
— Доктор Лофтус, — говорит адвокат, и его глубокий голос отдается по всему залу суда, как соло баритона в церковном хоре, — пожалуйста, назовите точно вашу профессию и род занятий.
— В настоящее время я профессор психологии в Вашингтонском университете в Сиэтле.
— Не могли бы вы рассказать нам немного о вашем образовании и опыте преподавательской работы?
Следующие десять минут я перечисляю свои профессиональные достижения: степень доктора философии в Стэнфорде, несколько почетных степеней, членство в различных профессиональных ассоциациях, почетные звания, награды и премии, опубликованные книги и статьи. Двенадцать членов жюри присяжных, по-видимому, слегка заскучали — «ладно, ладно, она эксперт, давайте продолжим!».
— Вы когда-нибудь раньше квалифицировались как свидетель-эксперт по опознанию подозреваемых очевидцами? — спрашивает меня адвокат.
— Да, часто, наверное, раз сто.
— В этом штате?
— Да, и во многих других тоже. В общей сложности в тридцати пяти штатах.
— Отлично, — говорит адвокат. Он возвращается к столу защиты и начинает перекладывать бумаги.
Я слышу шарканье ног по деревянным полам — кто-то скрещивает ноги, кто-то кашляет, прочищая горло… Через мгновение эти звуки начинают стихать.
— Доктор Лофтус, позвольте спросить вас, существуют ли общепринятые теории относительно того, как работает память?
— Согласно общепринятым в нашей области теориям, память работает не как видеомагнитофон. Мы не просто записываем событие, а потом воспроизводим его. Это намного более сложный процесс.
Я рассказываю об этапах запоминания, хранения и извлечения информации из памяти, со всеми подробностями, о которых я уже столько раз рассказывала раньше. Прокурор крутит в пальцах карандаш, смотрит на меня, и его хмурое лицо выражает очевидный скепсис. Он надеется найти какой-нибудь разрыв, маленькую дырочку в сплошной ткани моих показаний, которую он мог бы расширить — и начать рвать меня на части.
Почти два часа я рассказываю о том, как работает память и какие она дает сбои. В 11:00 судья объявляет перерыв на 15 минут. Я встаю, спускаюсь по ступенькам, пересекаю зал и выхожу в коридор попить воды и просто сменить обстановку. Когда я прохожу мимо стола защиты, подсудимый поднимает глаза и смотрит прямо на меня. Я вижу мелкие бисеринки пота у него над верхней губой и замечаю, что воротник накрахмаленной рубашки врезается в мягкую плоть его шеи. Он автомеханик, двадцать три года, женат, двое детей, учится в вечерней школе, чтобы получить среднее образование. Готовясь выступать в качестве свидетеля, я прочитала сотни страниц, среди которых нашла кое-какие сведения о личности ответчика. Но иногда лучше не знать слишком много.
Он смотрит на меня с такой надеждой, его страх настолько — почти физически — ощущается в неподвижном воздухе этого зала без окон и без всяких украшений, что меня поражает неуместность этой встречи лицом к лицу. Что я здесь делаю? Что делает психолог-исследователь в суде, представляя факты, взятые из бессчетных научных экспериментов, в надежде убедить людей, что в наших воспоминаниях реальность иногда искажается и что память выдает нам неточные образы прошлого?
Мучаясь этим вопросом, я иду дальше через зал суда, выхожу в коридор и вдруг в мыслях переношусь во времени назад — в 1969 год, к полированному деревянному столу в конференц-зале Вентура-холла в Стэнфордском университете.
Аспирант бубнит о «скоростях распада при восприятии изображений», а я пишу короткое письмо дяде Джо в Питсбург. К тому времени я уже наполовину написала свою докторскую диссертацию на тему «Анализ структурных переменных, затрудняющих решение проблем с компьютеризированным телетайпом»[1] и, говоря по правде, немного заскучала. Между тем в этот самый момент во всех школах в долине Санта-Клара двенадцати- и тринадцатилетние дети садились за компьютеры и пытались решать все более сложные задачи. Я собрала данные, свела ответы в таблицы и сделала предварительные выводы о том, как подростки решают задачи, какие им решать труднее и почему.
Безусловно, это была скучная работа. Теоретическая модель была создана несколько лет назад куратором моей диссертации, а я была лишь одним из аспирантов, каждый из которых был подключен к конкретному слоту, обсчитывавшему наши статистические анализы, и складывал свои результаты в общий котел. Мне казалось, что мой конкретный вклад в общую работу достаточно мал, что-то вроде нарезания морковки для супа. Слева и справа от меня мои коллеги столь же яростно и старательно резали кто лук, кто сельдерей, кто картофель, кто говядину и потом бросали их в ту же огромную кастрюлю. И я не могла не думать о том, что все, что я делаю, — это просто режу морковку.
Я заканчивала черновик диссертации и слушала пятинедельный курс социальной психологии, который был мне нужен, чтобы удовлетворить мои желания в отношении распределения, когда мой аккуратный, опрятный и даже слегка скучный мир вдруг провернулся вокруг своей оси. Однажды профессор Джон Фридман, смешной, но в высшей степени умный социальный психолог, обсуждал с нами тему изменения психологических установок, и по ходу лекции я задала ему вопрос о роли памяти в изменении установок.
После занятий Фридман остановил меня и сказал: «Значит, вы интересуетесь памятью? Вот и я тоже. Если вы согласитесь провести кое-какие исследования, я мог бы воспользоваться вашей помощью в работе над одним проектом». Проблема, которую мне предстояло исследовать, формулировалась следующим образом: как человек проникает в свои «подвалы»-хранилиш,а долгосрочной памяти и получает подходящие ответы на задаваемые ему или им самим вопросы? Мы знаем, что люди могут это делать, и более того, они делают это все время. Но как конкретно наш мозг упорядочивает, систематизирует, хранит и извлекает информацию из долговременной памяти?
После этого разговора моя жизнь изменилась. Мы с Фридманом разработали эксперимент, в ходе которого мы сообщали испытуемым два наводящих слова, а затем измеряли время поиска нужной информации в памяти и выдачи ответа. Я присвоила этому исследованию неофициальное название «Назовите животное на букву Z». Мы сообщали одной из групп испытуемых две ключевые связки: «Животное / буква Z», например, или «фрукт / маленький», а потом хронометрировали их ответы. Другой группе мы дали те же пары слов, но в другом порядке — «буква Z / животное», «маленький / фрукт» — и снова замеряли время получения ответа. Когда мы сравнили время реакции для обеих групп, мы обнаружили, что, если подсказка начиналась с объекта (животное, фрукт), реакция была примерно на 250 миллисекунд, то есть на четверть секунды, быстрее. Это позволило нам предположить, что человеческий мозг классифицирует информацию в первую очередь по объектам и категориям, таким как животные или фрукты, а не по атрибутам, таким как «маленький» или «слова, начинающиеся с буквы Z».
В последние полгода аспирантуры каждую свободную минуту я проводила в лаборатории Фридмана, разрабатывая процедуры экспериментов, занимаясь отбором и подготовкой испытуемых, сведением данных в таблицы и анализом результатов. Когда проект обрел форму и Фридман и его аспиранты поняли, что мы действительно на что-то наткнулись и открываем какие-то новые аспекты работы мозга, я впервые подумала о себе как о психологе-исследователе. О, как дивно звучали эти слова! — я смогла спланировать эксперимент, поставить его и довести его до конца. Я впервые почувствовала себя ученым и совершенно отчетливо поняла, что это именно то, чем я хочу заниматься в жизни.
В 1971 году в «Журнале вербального обучения и вербального поведения» (Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior) была опубликована статья «Извлечение слов из долговременной памяти». Год спустя мы с Фридманом опубликовали вторую статью о долговременной памяти, и на этот раз мое имя стояло первым, то есть я была основным автором. Исследование памяти стало моей специальностью и моей страстью. За несколько лет я написала десятки статей о том, как работает память и какие она дает сбои, но, в отличие от большинства других исследователей, изучающих память, я пыталась найти своим результатам приложение в реальном мире. В частности, я задавалась вопросом, в какой степени человеческая память подвержена суггестивным воздействиям. Насколько точно вспоминают факты люди, ставшие свидетелями серьезной автомобильной аварии? Когда сотрудник полиции допрашивает свидетеля, может ли процедура допроса изменить содержимое памяти свидетеля? Можно ли исказить воспоминания, добавив к ним дополнительную, ложную информацию? Мне мало было сотрясать воздух теоретическими положениями, мне нужны были какие-то более материальные результаты. Я хотела, чтобы в результате моей работы жизнь людей изменялась к лучшему.
В 1974 году я написала статью, после публикации которой моя жизнь радикально изменилась. Статья «Реконструкция памяти: невероятные свидетельства» (Reconstruction Memory: The Incredible Eyewitness) появилась в декабрьском выпуске Psychology Today за 1974 год. В конце этой статьи (в ней я описывала эксперименты, которые проводила в своей лаборатории и которые показали, как с помощью наводящих вопросов в память человека может вводиться новая информация, фактически изменяющая воспоминания о конкретном событии) я упомянула об одном деле в Сиэтле, в ходе которого я сотрудничала с адвокатурой. Молодая женщина и ее бойфренд вступили в яростный спор. Женщина побежала в спальню, схватила пистолет и шесть раз выстрелила в мужчину. Прокурор квалифицировал это как убийство первой степени[2], но ее адвокат утверждал, что это была самооборона. В ходе судебного разбирательства возник спор о времени, которое прошло между захватом оружия и первым выстрелом. Ответчица и ее сестра говорили, что между этими событиями прошло две секунды, но другой свидетель утверждал, что прошло пять минут. Точное значение времени, прошедшего между этими событиями, имело решающее значение для защиты, которая настаивала, что убийство произошло спонтанно, что ответчица выстрелила с испуга, не задумываясь. В конце концов присяжные поверили обвиняемой и оправдали ее.
Несколько дней после публикации в Psychology Today мой телефон просто разрывался от звонков. Адвокаты хотели узнать мое мнение о свидетельских показаниях против их клиентов — людей, которых обвиняли во всевозможных чудовищных преступлениях: вооруженных ограблениях, изнасилованиях и убийствах. Я предлагала услуги консультанта и присутствовала в судах в качестве свидетеля-эксперта по проблемам искажения памяти.
В конце декабря 1975 года, перед самым Рождеством, мне позвонил Джон О’Коннелл, адвокат из Юты. О’Коннелл представлял интересы студента-юриста из Сиэтла, обвинявшегося в похищении восемнадцатилетней девушки в Солт-Лейк-Сити. Жертва похищения опознала этого человека после просмотра сотен фотографий более чем через одиннадцать месяцев после инцидента. Оказалось, что полицейские протоколы были полны наводящих вопросов со стороны дознавателей и явных признаков колебаний и неопределенности со стороны потерпевшей.
Я решила взяться за это дело и 25 февраля 1976 года давала показания в Солт-Лейк-Сити. В конечном счете ответчика признали виновным в похищении человека и приговорили к пяти годам лишения свободы. Звали его Тед Банди.
Тед Банди был не последним виновным, в деле которого я участвовала. В 1982 году я согласилась дать показания по делу Анджело Буоно, который в итоге был признан виновным в сексуальных домогательствах и удушении девяти женщин в Лос-Анджелесе (люди называли Буоно и его двоюродного брата Кеннета Бьянки «хиллсайдскими душителями»).
В 1984 году я давала показания по делу Вилли Мака, который был осужден за убийство тринадцати человек в ходе резни в игровом клубе «Ва Ми» в Сиэтле. В этой бойне уцелел единственный человек — 61-летний Вай Чин. После того как я заявила в суде о возможности воздействия на память Вай Чина сильнейшей психологической травмы, связанной с этим массовым убийством, его кузен сказал газетному репортеру, что хотел бы плюнуть мне в лицо.
Еще одно непопулярное дело, по которому я с перерывами работала в течение многих лет, — это дело о детском саде Макмартинов. Раймонду Баки и его матери Пегги Макмартин Баки были предъявлены обвинения (по шестидесяти пяти пунктам) в растлении малолетних в их детском саду на Манхэттен-Бич, штат Калифорния. Дети рассказали, что Рэй Баки вставлял им в вагины и в анусы карандаши, столовые приборы и другие неуместные предметы, что он убил лошадь бейсбольной битой и что он водил их на экскурсии по кладбищам[3]. Просматривая объемистые стенограммы первого судебного процесса (а это были показания за 28 месяцев), я нашла несколько интересных высказываний о человеческой памяти. Так, 25 февраля 1988 года (с. 28 857 протоколов судебных заседаний) судья заявил:
Знание может быть осознаваемым и неосознаваемым. Иными словами, существует концепция, которая, думаю, достаточно точна, что вы никогда ничего не забываете, из вашей памяти не исчезает ничего из того, что вы когда-либо видели или слышали, но что ваша способность вызывать эту информацию на уровень вашего сознания весьма ограниченна.
Двадцать лет своей профессиональной деятельности я потратила на попытки развеять миф о том, что человеческая память безошибочна и надежно защищена от искажений, и поэтому согласилась выступить консультантом в деле Макмартинов. Одной девочке-свидетельнице было четыре года, когда имел место (предполагаемый) инцидент, семь лет, когда она впервые рассказала об этом социальному работнику, восемь лет, когда она рассказала свою историю перед присяжными, и десять лет, когда она давала показания в суде. Кто знает, что могло произойти с ее воспоминаниями за эти шесть лет? Этот вопрос кажется мне самым важным для присяжных, принимающих решение о виновности или невиновности подсудимого. Между тем очень мало кому удается беспристрастно оценить мои показания в таких сенсационных делах. Недавно я обедала с подругой, матерью детей дошкольного возраста, которая работает воспитателем в детском саду, и упомянула о своем участии в деле Макмартинов. Она повернулась и посмотрела на меня так, словно я была мухой, которая только что попала ей в суп. «Как ты могла?! — воскликнула она. — Неужели у тебя нет ни морали, ни совести?»
Несколько лет назад в коридоре у зала суда, где я (в качестве свидетеля со стороны защиты) давала показания по делу об изнасиловании, я столкнулась с прокурором. Он подошел ко мне и тоном человека, уверенного в своей правоте, сказал: «Ты просто сука!» Но адвокат быстро взял меня за руку и увел.
Судьи часто воспринимают меня как ненужную помеху и очень неохотно принимают во внимание мои показания. Они утверждают, что, выступая с такими показаниями, эксперт вторгается в зону компетенции присяжных или что я предлагаю присяжным практически общеизвестную информацию, на уровне здравого смысла.
Мои коллеги-психологи тоже ожесточенно спорят о целесообразности заслушивания показаний эксперта-психолога в суде. Мои оппоненты утверждают, что результаты моих исследований пока не нашли подтверждений в реальных жизненных ситуациях и что поэтому мои свидетельства преждевременны и чрезвычайно вредны.
Группы, защищающие права жертв, обвиняют меня в искажении истины и утверждении несправедливости путем подрыва доверия к свидетелям. Они утверждают, что я должна признать свою личную ответственность за то, что виновные выходят на свободу.
Недавно я как эксперт выступила с заявлением о сомнительном характере свидетельских показаний в одном деле об изнасиловании. После того как насильник был оправдан, я получила длинное гневное письмо от матери потерпевшей. Своими показаниями в пользу подсудимого, писала она, я свела на нет показания ее дочери и усугубила ее страдания. Принимая плату за свое выступление в качестве свидетеля, намекнула она, я становлюсь в один ряд с убийцами и насильниками всего мира и отворачиваюсь от невинных жертв.
Что я почувствовала, прочитав это письмо? Я почувствовала себя подлой, отвратительной и несчастной. Несколько дней я размышляла о том, почему я делаю то, что делаю, и не пришло ли время вернуться в свою лабораторию без единого окна и остаться там лет на десять или даже на двадцать. Но жизнь — странная штука. Через неделю после того, как я получила это горестное письмо матери потерпевшей, мне позвонил адвокат, с которым я работала над апелляцией по делу подростка, обвиненного в сексуальном насилии. «Я только что с заседания суда, — сказал он мне. — Мы пытаемся добиться прекращения дела, поскольку выяснилось, что обвинение скрыло еще одного свидетеля, женщину, на которую напал, по-видимому, тот же человек, что и на жертву, и которая настаивает на том, что мой клиент не мог быть человеком, напавшим на нее. Прокурор лгал нам, искажал доказательства и создавал нам все препятствия, какие только мог, пытаясь так или иначе засудить моего клиента. Невинный человек был обвинен, осужден и заточен в тюрьму, потому что система протухла. В этот момент, по правде говоря, мне было стыдно за то, что я юрист».
Уже не в первый раз адвокат говорил мне, что в попытках сформировать доказательную базу против обвиняемого полиция и прокуроры заходят слишком далеко. И причиной этого, в большинстве случаев, не является злой умысел или простая некомпетентность. Когда полиция и прокуратура скрывают свидетельские показания, искажают факты или давят на свидетелей, они делают это потому, что совершенно уверены в том, что они арестовали «того самого» человека и теперь обязаны сделать все для того, чтобы правосудие свершилось. Когда они говорят себе: «Мы закрыли того, кого нужно, нельзя допустить, чтобы он свободно разгуливал по улицам», они, возможно, даже не осознают, что сокрытие улик или легкое искажение фактов — это плохой, неправильный поступок. Но проблема не только в этом — они еще и дезинформируют свидетелей, так что те начинают игнорировать собственные сомнения и опасения и уверенно заявляют в суде, что они абсолютно убеждены в том, что подсудимый и есть настоящий преступник. Понятно, что в подобных условиях риск осуждения невинного человека заметно возрастает.
Как сказал еще в XVI веке Фрэнсис Бэкон, «ибо как только суд встает на сторону несправедливости, закон становится государственным преступником, а человек человеку волком». Я помню слова великого правоведа XIX века Уильяма Блэкстоуна, который утверждал, что лучше отпустить десять виноватых, чем осудить одного невиновного. И я помню простые и горестные слова Филиппа Карузо, ложно обвиненного в вооруженном ограблении в 1938 году: «Когда ты виновен и в тюрьме, все в порядке. Ты можешь спокойно спать ночью. Но я был невиновен, и непрерывно думал об этом, и не мог спать спокойно».
Наша система уголовного правосудия не вполне надежна, не имеет специальной защиты от неумелого обращения с ней и дает сбои чаще, чем может показаться со стороны. Например, она дала сбой в деле Изадора Циммермана. Тюремные служащие принесли ему последнюю трапезу, позволили выкурить сигарету, срезали ему волосы и даже сделали разрез в штанине для электродов, которые присоединяются к электрическому стулу. Потом они оставили его с семьей, чтобы они могли все вместе поплакать, помолиться и попытаться найти в себе силы достойно встретить последнее событие в его жизни. Но за несколько минут до назначенной казни ему объявили, что смертный приговор заменен на пожизненное заключение.
Циммермана обвинили, судили и признали виновным в убийстве полицейского в Нью-Йорке во время ограбления 10 апреля 1937 года. В тюрьме Циммермана избивали охранники, он потерял правый глаз в драке с другим заключенным и однажды даже пытался покончить с собой, разбив себе голову о стену своей камеры. Его мытарства продолжались четверть века, и все это время он настаивал, что он невиновен и находится в заключении по ложному обвинению окружного прокурора. После того как он отсидел в тюрьме более двадцати четырех лет, с помощью лабораторных методов, которые в те, прежние годы, когда его судили, еще не были доступны, удалось доказать, что Циммерман не мог совершить то преступление, в котором его обвинили.
В 1983 году, через сорок четыре года после того, как Циммерман должен был умереть на электрическом стуле, Претензионный суд штата Нью-Йорк присудил этому бывшему швейцару миллион долларов — одну из самых крупных в истории США компенсаций, полученных за противоправное лишение свободы. Но это, естественно, не могло утешить Циммермана. «Я не видел, как растет моя семья, мои племянники и племянницы, — сказал он репортеру, узнав о решении суда. — Я был лишен великой любви матери и отца. Я сам отчаянно хотел быть отцом — и не стал им. У меня нет никаких доходов. Я калека. Я совершенно опустошен. Весь этот кошмар останется со мной до конца моих дней. Никакая сумма не сможет компенсировать то, что я потерял и что никогда и ничем не удастся заменить».
Система правосудия дала сбой и в случае с Фрэнсисом Хемауэром, которого в 1971 году жертва изнасилования, имевшего место тремя годами раньше, опознала как человека, изнасиловавшего ее. После восьми лет тюремного заключения Хемауэр был освобожден, потому что анализы крови показали, что у настоящего преступника была кровь группы B, а у Хемауэра — группы А.
Система дала сбой и в деле Натаниэля Уокера, тридцатитрехлетнего фабричного рабочего, которого жертва изнасилования выбрала из представленной ей группы и который был заключен в тюрьму почти на десять лет — до тех пор, пока данные лабораторного анализа не показали, что он не мог совершить это преступление.
Были неправедно осуждены Рэндалл Адамс, Роберт Диллен, Ларри Смит, Фрэнк Маккенн, Ким Бок — этот список очень длинный, но вам эти имена все равно ничего не скажут, и они ничего для вас не значат. У нас избирательная и короткая память на невинных людей, чьи жизни были перечеркнуты указательными пальцами ошибшихся свидетелей. Мы воспринимаем такие случаи как отклонения, неизбежные потери. «Идеальных систем не существует, — говорят мне люди. — Ошибки время от времени случаются и будут случаться впредь». Я смотрю на них и молчу. Будь это твоя жизнь, хочу я спросить, едва сдерживая ярость, ты бы удовольствовался тем, что это назвали бы «просто ошибкой»?
И тут меня перебрасывают обратно в настоящее: судебный пристав распахивает двери в зал суда, и публика возвращается на свои места. Я следую за всеми, иду по проходу и, открыв невысокую дверцу, поднимаюсь по ступенькам в свой деревянный короб. Обращенная лицом к залу, услышав стук судейского молотка, я быстренько отбрасываю мои личные воспоминания и прибегаю к другим зонам хранения информации, в которых содержатся результаты моих тренингов и мои знания о памяти и восприятии информации. Прокурор стоит, просматривая вопросы, которые он намерен мне задать. Я выпрямляю спину и делаю глубокий вдох. Сейчас мне необходимо быть настороже и в полной готовности. Потому что от этого зависит будущее человека.
Я мельком еще раз смотрю на подсудимого, сидящего на своем месте за столом защиты. Так виновен он или нет? Когда-то один адвокат сказал мне, что он никогда не позволяет себе думать об этом, потому что это может повлиять на качество его работы, главная цель которой — защита интересов клиента. «Но почти все они виновны», — добавил он. Замечу, что этот адвокат представлял интересы несчастного Стива Тайтуса, ставшего жертвой ошибочного опознания. Я помню эпизод из фильма «Верящий в правду» (True Believer), в котором известный адвокат, роль которого исполняет Джеймс Вудс, беседует с идеалистически настроенным молодым юристом. «Итак, вы хотите быть адвокатом? — спрашивает он горестно-саркастическим тоном. — Тогда вам следует знать: все они виновны». Но, согласно голливудской традиции, циник сталкивается с человеком, которого посадили в тюрьму за преступления, которых он не совершал, и в дальнейшем, борясь за справедливость, этот адвокат вновь обнаруживает истинную страсть к своей профессии.
Я знаю, что на самом деле невиновный человек входит в зал суда и садится именно так, как сидит сейчас в зале суда этот подсудимый, беспомощный, безо всякой надежды, с расширенными глазами, и его страх переходит в панику. Ведь невиновный входит в зал суда без нимба над головой и без белого облака. Наоборот, на нем как бы проступает печать вины, он выглядит (и сам смотрит) как виновный, от него прямо-таки веет виной, и, когда свидетель указывает на стол защиты и говорит: «Это сделал он! Это он!» — вы как будто слышите стук другого молотка, уже не судейского, а того, которым забивают гвозди в крышку его гроба.
Опознание обвиняемого очевидцами — самое убийственное из всех доказательств, которые могут быть использованы против обвиняемого. Если свидетель-очевидец указывает пальцем на подсудимого и говорит: «Я видел, как он это делал!» — то что тут скажешь, дело совершенно ясное, как выразился один прокурор, «отлито из чугуна, стянуто латунью, скреплено медными заклепками и герметично». Как можно сомневаться в показаниях свидетелей преступления, когда они абсолютно убеждены в том, что говорят правду? Зачем им лгать-то, в конце концов?
Стоп! Давайте-ка повнимательнее присмотримся к слову ЛГАТЬ. Именно оно не позволяет нам правильно оценить ситуацию. Поймите: свидетели, указывающие пальцем на невинных обвиняемых, не лгут, они искренне верят в правдивость своих показаний! Для них лицо, которое они видят перед собой, — это лицо преступника. Но иногда при этом лицо невиновного превращается в лицо виновного. Это действительно пугающий момент, потому что мысль о том, что наши воспоминания можно изменить, причем изменить почти незаметно, но необратимо, и что нечто такое, о чем мы думаем, что знаем это наверняка, и во что мы верим всем своим сердцем, может оказаться неправдой, поистине ужасает.
2. Магия разума
Вы только подумайте — три фунта влажной паутины, состоящей из миллиардов крошечных информационных процессоров, объединенных в сети, движимых химией и электричеством и создающих всю эту магию разума.
Роджер Бингам, сценарист и продюсер фильма «Память: ткань разума» (Memory: Fabric of the Mind)Шел август 1979 года. Обвинения прокурора в адрес лысеющего остролицего 53-летнего священника Римско-католической церкви были, казалось, железно обоснованы: семь очевидцев под присягой показали, что отец Бернард Пагано был тем самым хорошо одетым человеком, который направлял на них маленький серебристый пистолет и вежливо требовал, чтобы они отдали ему все деньги из своих касс — то есть совершил серию вооруженных ограблений.
Сам же отец Пагано утверждал, что он стал жертвой ошибочной идентификации. Но всех членов жюри присяжных мучил один и тот же вопрос: «Ну как могут ошибаться сразу семь свидетелей?»
Но едва прокурор закончил изложение своих аргументов, как судья ошарашил весь зал, объявив, что в этих ограблениях признался другой мужчина. Некто Роберт Клаузер объяснил полицейским, что он не признавался раньше, потому что ему казалось, что отец Пагано будет оправдан. Клаузер действительно знал такие подробности этих преступлений, которые мог знать только сам грабитель (причем эти подробности никогда не раскрывались ни в суде, ни в СМИ). Клаузер был на четырнадцать лет моложе отца Пагано и имел безупречную шевелюру, однако при этом был поразительно похож на него.
23 августа 1982 года. В городе Гринвилл, штат Техас, арестован некий Ленелл Гетер по обвинению в ограблении ресторана KFC. Гетеру было двадцать пять лет, он учился в колледже и работал инженером-механиком в проектноконструкторской фирме в Гринвилле. Пять очевидцев уверенно опознали его, однако девять сотрудников Гетера утверждали, что он не мог быть грабителем, потому что весь день был на работе, а ограбление произошло в 15:20 в пригороде Далласа, в 80 км от места его работы. Директор этой инженерной фирмы объяснил, что Гетер, единственный афроамериканец в своей рабочей группе, «выделялся, как изюминка в тарелке с рисом», и, если бы он отсутствовал несколько часов посреди рабочего дня, они бы заметили это.
Суд по этому делу состоялся в октябре 1982-го. Пять свидетелей один за другим указали на Гетера в суде и уверенно опознали его как грабителя. Назначенный судом адвокат Гетера требовал исключить результаты опознания подсудимого свидетелями из перечня доказательств, потому что работники ресторана (все белые) первоначально описывали грабителя как человека ростом около 170 см, в то время как рост Ленелла Гетера превышает 180 см. Но судья отклонил это ходатайство.
Жюри присяжных, состоявшее только из белых, признало Гетера виновным, и он был приговорен к пожизненному заключению. Он провел в тюрьме шестнадцать месяцев, однако за это время его коллеги, стремясь добиться пересмотра его дела, призвали на помощь юристов из Национальной ассоциации содействия прогрессу цветного населения (NAACP). Впоследствии, в марте 1984 года, был арестован еще один подозреваемый, и теперь четверо из пяти очевидцев, которые раньше уверенно опознавали Гетера, вдруг передумали (но на этот раз подозреваемым стал тот человек, который действительно ограбил ресторан). И Ленелл Г етер вышел на свободу — отбыв шестнадцать месяцев в тюрьме за преступление, которого он не совершал!
Я познакомилась с отцом Пагано и Ленеллом Гетером в 1985 году, когда мы все вместе появились в бостонском телевизионном шоу, посвященном ошибочным идентификациям. Отец Пагано по-прежнему мучительно переживал то, что с ним случилось, потому что он так и не услышал извинений, которых, как ему казалось, он заслуживал как жертва ошибочного опознания. Кроме того, он глубоко погряз в долгах, потому что потратил на защиту более 70 000 долларов.
Ленелл Гетер, об ошибочной идентификации которого тоже рассказали в телевизионной программе «60 минут» (Sixty Minutes), сказал мне, что тогда в суде он испытал настоящее потрясение. «Меня ошибочно опознали пять человек! — сказал он. — Как такое могло случиться? Как могли так ошибиться сразу пять человек?»
* * *
Свидетельства очевидцев, которые априорно считаются достоверными, поскольку достоверной считается человеческая память, оказывают огромное влияние на исход судебного разбирательства. Никакие иные доказательства не имеют такого веса в суде, как показания реальных свидетелей, ну разве что за исключением еще дымящегося пистолета. Память свидетелей оказывается решающим фактором не только в уголовных, но и в гражданских делах — показания очевидцев играют решающую роль в определении виновника случившегося.
Признание таких свидетельств убедительными доказательствами неявно опирается на предположение о том, что человеческая память работает как высококачественный видеомагнитофон, записывающий и сохраняющий точную информацию о событиях. Люди прямо-таки неистово верят в то, что сохраняющиеся в памяти воспоминания, мысли и впечатления неизменны, не подвержены никаким воздействиям и никогда не стираются из нее. Зигмунд Фрейд полагал, что долгосрочные воспоминания хранятся глубоко в бессознательном уме, слишком глубоко, чтобы на них могли повлиять текущие события и переживания, и большинство людей до сих пор принимают эту концепцию памяти Фрейда на веру.
Как-то мы вместе с Джеффри Лофтусом, моим мужем и коллегой, профессором-психологом, провели опрос, в ходе которого предложили 169 респондентам из разных районов США высказать свое мнение относительно того, как работает память. При этом 75 из них имели формальное образование в области психологии, а остальные 94 не имели его. Эти 94 человека принадлежали к самым разным профессиям: среди них были юристы, секретари, таксисты, врачи, философы, пожарные дознаватели и даже 11-летний ребенок. Им задали такой вопрос: «Какое из приведенных ниже утверждений лучше отражает ваше представление о том, как работает человеческая память?»
1. Все, что мы узнаём, навсегда сохраняется в нашем мозге, хотя иногда некоторые детали оказываются недоступными. Однако с помощью гипноза и других специальных методов эти недоступные детали все-таки можно восстановить.
2. Некоторые детали, которые мы знали, могут навсегда стираться из памяти. Такие детали никогда не удастся восстановить ни с помощью гипноза, ни с помощью какой-либо другой специальной методики, потому что их просто больше нет в памяти.
84 % психологов и 69 % непсихологов выбрали первый ответ, то есть были уверены, что вся информация в долгосрочной памяти сохраняется, хотя иногда кое-что из нее невозможно извлечь. Чаще всего причиной выбора такого ответа был личный опыт, причем имелась в виду необходимость восстановления образа, который человек не вспоминал уже достаточно долгое время.
Следующая причина (на которую обычно ссылаются психологи) — это знакомство с работами Уайлдера Пенфилда, чьи исследования стимуляции мозга у больных эпилепсией использовались в качестве доказательств справедливости теории, утверждающей, что воспоминания стабильны и неизменны. Некоторые респонденты при обосновании своей веры в неизменность воспоминаний упоминали гипноз, психоанализ, пентотал[4] и иные факторы.
Но на самом деле человеческая память далека от совершенства и постоянства, а забывчивость — самое обычное явление в нашей жизни. Одна из наиболее очевидных причин забывания состоит в том, что собственно информация никогда не хранится в нашей памяти на самом видном месте; более того, в ней часто не находится места даже для самых обычных, ежедневно используемых предметов. Возьмем, например, монетку 1 цент. Обычно люди утверждают, что знают, как выглядит эта монетка, и нисколько не сомневаются в том, что узнают ее, если увидят. Однако в ходе эксперимента, проведенного в 1979 году, точное изображение настоящей одноцентовой монеты из пятнадцати предложенных вариантов выбрали менее половины респондентов[5]. А вы сможете найти ее точное изображение?
Еще один предмет, на который мы то и дело смотрим каждый день, — это телефон. Однако сможете ли вы вспомнить, какие буквы стоят над каждой цифрой на клавиатуре вашего телефона?
Но даже если мы будем внимательны и в нашей памяти зафиксируется достаточно точный отпечаток какого-либо объекта или переживания, он не останется в памяти неизменным. Первоначально запечатленное воспоминание начинает изменяться под влиянием других факторов. Со временем, при надлежащей мотивации или в результате вмешательства или ознакомления с новыми фактами, противоречащими прежней информации, отпечатки событий в памяти трансформируются или даже заменяются, зачастую без участия нашего сознания. И тогда мы можем «вспоминать» события, которых на самом деле не было.
Детский психолог Жан Пиаже в своей работе «Игры, сновидения и подражание в детском возрасте» (Plays, Dreams, and Imitation in Childhood) приводит собственную историю, демонстрирующую коварство памяти:
…одно из моих первых воспоминаний — будь оно правдой — относилось бы ко второму году моей жизни. Я по-прежнему могу очень четко увидеть эту сцену, в реальность которой я верил почти до пятнадцати лет. Я сижу в коляске, которую моя няня везет по Елисейским Полям, и вдруг какой-то мужчина пытается похитить меня. Меня удерживает ремешок, которым я пристегнут, в то время как няня храбро пытается встать между мной и злоумышленником. В борьбе она получает несколько царапин, и я до сих пор смутно вижу их на ее лице. Собирается толпа, подходит полицейский в короткой накидке и с белой дубинкой, и мужчина пускается наутек. Я до сих пор вижу всю эту сцену и даже могу сказать, возле какой станции метро она происходила. Но, когда мне было около пятнадцати лет, мои родители получили письмо от этой моей бывшей няни, в котором говорилось, что она вступает в Армию спасения и поэтому хочет сознаться во всех своих ошибках прошлого, и в частности вернуть часы, которые ей подарили в награду за ее поведение в той ситуации. Оказалось, что она выдумала всю эту историю, подделав царапины. Итак, я, конечно, слышал в детстве эту историю, в которую верили мои родители, и встроил ее в свое прошлое в виде визуального воспоминания.
Какая из монет «настоящая»? (Nickerson, Adams, 1979)
Одноцентовые монеты, нарисованные по памяти
Сможете вспомнить, какие буквы над какими цифрами находятся на клавиатуре вашего телефона?
Вот вам и визуальная память: спустя много лет Пиаже мог представить себе не только поддельные царапины на лице няни, но и несуществующую толпу, мифического полицейского в накидке и с дубинкой и удирающего похитителя!
Как же все-таки работает память и почему она часто подводит нас?
Ученые в целом согласны, что воспоминания формируются, когда нейроны связываются друг с другом, образуя новые связи, или цепи, и изменяя уже существующие связи между клетками, и в результате этого процесса воспоминание фиксируется. Долгосрочные воспоминания, которые запечатлели события и/или переживания, имевшие место всего несколько минут назад, и информацию, хранящуюся уже несколько десятилетий, содержатся в ментальных «выдвижных ящиках» где-то в нашем мозге. Но никто точно не знает, где именно, хотя подсчитано, что за всю жизнь долговременная память человека может накопить до одного квадриллиона (миллиона миллиардов) отдельных бит информации.
Эти «выдвижные ящики», хранящие наши воспоминания, очевидно, расположены чрезвычайно компактно и упакованы весьма плотно. Они также постоянно опорожняются, рассредоточиваются, а потом втискиваются обратно на место. Подобно любопытному и игривому ребенку, разыскивающему в выдвижных ящиках рубашку или штаны, нашему мозгу, кажется, очень нравится рыться в этих ящиках с воспоминаниями, разбрасывая факты куда попало, а потом запихивая все обратно как попало, не обращая внимания на порядок и важность. По мере добавления в долговременную память новых бит и фрагментов информации старые воспоминания удаляются, заменяются, комкаются и рассовываются по углам. Добавляются мелкие детали, удаляются сомнительные и посторонние элементы, и постепенно формируется последовательная и непротиворечивая конструкция из фактов, которая, вообще говоря, может мало напоминать исходное событие.
Воспоминания не просто угасают, как гласит старая поговорка; они также и развиваются. Да, первоначальный отпечаток реального события действительно стирается и размывается. Но всякий раз, когда нам нужно вызвать из памяти некое событие, нам приходится воссоздавать воспоминание, и при каждом таком воссоздании воспоминание может изменяться — под влиянием последующих событий, воспоминаний или предположений других людей, более глубокого осознания фактов или формирования нового контекста.
Истина и реальность, которые мы видим через фильтр наших воспоминаний, — это не объективные факты, а субъективные, интерпретативные реалии. Мы интерпретируем прошлое, корректируя самих себя, добавляя биты и целые фрагменты информации, удаляя ни с чем не стыкующиеся и тревожные воспоминания, подметая, стирая пыль, приводя все в порядок. Таким образом, наше представление о прошлом вбирает в себя живую, меняющуюся реальность. Оно не остается неподвижным и неизменным, как нечто высеченное на камне, — нет, это живая субстанция, которая меняет форму, расширяется, сжимается и снова расширяется, некая амебообразная сущность, способная заставлять нас смеяться, плакать или сжимать кулаки. И мощь ее такова, что она может заставить нас поверить в реальность того, чего на самом деле никогда не было.
Сознаем ли мы, что наши воспоминания о прошлом подвержены искажениям? В большинстве случаев — нет. С течением времени воспоминания постепенно изменяются, но мы убеждены, что действительно видели, слышали, говорили и делали то, что мы помним. Свои воспоминания — эту смесь фактов и вымысла — мы воспринимаем как полную и абсолютную правду. И все мы — невинные жертвы манипуляций нашего разума.
* * *
Перст, указующий на виновного, оказывает сильнейшее воздействие даже на самых информированных и умных присяжных. Несколько лет назад я провела эксперимент, участники которого выступали в качестве присяжных по уголовному делу. Сначала они выслушали описание ограбления с убийством, потом аргументы прокурора, потом аргументы защиты. В одной из версий эксперимента прокурор представил лишь косвенные доказательства, и на основании этих доказательств только 18 % присяжных признали подсудимого виновным. В другой версии прокурор представил дело почти так же, но с одним лишь отличием: были добавлены показания единственного очевидца — клерка, который опознал в подсудимом грабителя. И на этот раз подсудимого признали виновным 72 % присяжных.
Опасность свидетельских показаний очевидна: любой человек в нашем мире может быть осужден за преступление, которого не совершал, или лишен заслуженной награды исключительно на основании показаний свидетеля, который убедит присяжных в том, что его воспоминания адекватны тому, что он действительно видел. Почему свидетельства очевидцев столь весомы и убедительны? Потому что люди в целом и присяжные в частности полагают, что наши воспоминания представляют собой отображения фактов, записанные на вечный нестираемый носитель вроде компьютерного диска или видеоленты с последующей защитой от записи. Конечно, в большинстве случаев возможностей нашей памяти нам вполне достаточно. Вспомните, часто ли вам на самом деле требуется точное запоминание? Когда подруга рассказывает вам, как она провела отпуск, мы ведь не спрашиваем ее: «Ты уверена, что в твоем номере в отеле было два стула, а не три?» После просмотра фильма ваш спутник вряд ли пристает к вам с вопросами типа «А волосы у Джина Хэкмена волнистые или курчавые?» или: «У той женщины в баре помада была красная или розовая?» Но даже если подобные вопросы задаются, то ошибочные ответы на них не привлекают особого внимания и, может быть, даже не исправляются: действительно, так ли уж важно, было в отеле два стула или три или были волосы у актера волнистыми или курчавыми? В подобных случаях воспоминания считаются точными по умолчанию.
Но при расследовании преступления или несчастного случая точность памяти становится решающим фактором. Мелкие подробности становятся чрезвычайно важными. Были у нападавшего усы или он был чисто выбрит? Он был ростом около 170 или около 180 см? На светофоре в тот момент горел зеленый свет или красный? С какой скоростью «кадиллак» проехал на красный свет (или на желтый?), прежде чем врезался в «фольксваген»? Пересекла машина разделительную линию или оставалась на своей стороне? Решения по гражданским и уголовным делам часто опираются именно на такие мелкие и, казалось бы, тривиальные детали, но часто оказывается, что уточнить эти детали очень трудно.
В июле 1977 года Flying Magazine сообщил о катастрофе небольшого самолета, в результате которой погибли все восемь человек, которые были на борту, и один человек, находившийся на земле. Было опрошено шестьдесят свидетелей, в том числе два свидетеля, которые действительно видели самолет непосредственно перед ударом о землю и давали показания на слушаниях, посвященных расследованию этой катастрофы. По словам одного из этих очевидцев, самолет падал «вертикально, носом к земле, вертикально вниз». Этот свидетель, видимо, не знал, что на нескольких фотографиях было ясно видно, что самолет ударился о землю «плоско», под столь небольшим углом к ней, что проскользил по ней около 300 м.
Однако такие ошибки в деталях не являются признаком плохой памяти — чаще всего это как раз свойство нормально функционирующей человеческой памяти. Когда мы хотим что-нибудь вспомнить, мы не просто выдергиваем целиком всю нужную память из «хранилища воспоминаний». На самом деле память построена из хранимых и доступных битов информации, и мы бессознательно заполняем любые пробелы, внося соответствующие искажения. И когда все фрагменты соединяются в некое целое, имеющее смысл, они образуют то, что мы называем воспоминанием.
Существуют и другие факторы, влияющие на точность восприятия данного события и, следовательно, точность воспоминания о нем. Был ли данный инцидент сопряжен с насилием? Если да, то в какой степени? Случилось это в темное или в светлое время суток? Были ли у очевидца какие-либо предварительные ожидания или интересы? Иллюстрацией потенциальных проблем, связанных с искажением первоначального восприятия события, может служить трагический случай, имевший место в реальной жизни.
Двое мужчин лет примерно двадцати пяти охотились на медведей в сельской местности в штате Монтана. Они вышли из дома с утра, бродили весь день, были измучены, голодны и уже собирались идти домой. Пробираясь в быстро сгущавшихся сумерках по раскисшей лесной тропе, они говорили о медведях и думали о медведях. Вдруг на повороте тропы и совсем недалеко от нее, метрах примерно в двадцати пяти впереди, они заметили в лесу крупный объект, который двигался и издавал шум. Оба они подумали, что это медведь, подняли ружья и выстрелили. Увы, «медведь» оказался желтой палаткой, в которой мужчина и женщина занимались любовью. Одна из пуль попала в женщину и убила ее. Это дело разбирал суд присяжных, и у них возникли трудности с пониманием проблем восприятия, соответствующих данному событию; проще говоря, они просто не могли себе представить, как может человек смотреть на желтую палатку и видеть рычащего бурого медведя. Молодого человека, пуля которого убила женщину, признали виновным в убийстве по неосторожности, и два года спустя он покончил с собой.
Этот трагический случай прекрасно иллюстрирует важность факторов, которые психологи называют «событийными», то есть факторами, присущими данному конкретному событию и способными изменить его восприятие и исказить воспоминания о нем. Была темная ночь, а в темноте не различаются цвета и не видно почти никаких деталей. У обоих охотников были серьезные и обоснованные ожидания и сильная мотивация: они ожидали, что увидят медведя, они хотели увидеть медведя, они нервничали, были взволнованы и измотаны, поскольку провели в лесу целый день. Когда они увидели нечто большое, двигающееся и шумящее, они автоматически предположили, что это медведь, подняли ружья и выстрелили, чтобы убить его.
Событийные факторы действуют на стадии формирования первоначального отпечатка события в памяти, когда мы еще только воспринимаем данное событие и наш мозг мгновенно принимает решение: отказаться от той или иной поступившей в него информации или ввести ее в память. Однако когда воспоминание уже хранится в памяти, оно не просто лежит в мозге пассивно, ожидая, пока его извлекут и «вспомнят». На этапах хранения воспоминания и приобретения новой информации (время идет, воспоминание теряет четкость, и, что более важно, мы подвергаемся воздействию новой информации, которая просто добавляется в память или изменяет исходное воспоминание) может случиться многое.
Предположим, что совершено некое преступление, об этом уже известно полиции, полицейские прибывают на место происшествия и начинают задавать вопросы. «Что произошло? — спрашивают они свидетеля. — Как выглядел нападавший?» После того как свидетель рассказывает полицейским все, что ему удается вспомнить, его могут попросить приехать в полицейский участок, чтобы просмотреть соответствующую подборку фотографий. Теперь свидетель проводит тест на узнавание, в ходе которого ему показывают либо один объект (фотографию), либо совокупность объектов (линейку, то есть группу людей для опознания среди них преступника) и задают вопрос, видел ли он кого-либо из них раньше.
Следует иметь в виду, что большинство свидетелей считают, что они исполняют свой долг, они честно хотят помочь, и в случае насильственного преступления или нападения у них появляется дополнительный стимул помочь полиции поймать опасного преступника. Кроме того, результаты специальных исследований показывают, что свидетели считают, что полиция не будет проводить опознание, если у нее не будет «надежного» подозреваемого. Хотя свидетели, конечно, стараются идентифицировать истинного преступника, но, когда они не уверены или когда ни один человек в составе группы не соответствует в точности их воспоминаниям, они часто идентифицируют человека, который просто в максимальной мере соответствует их воспоминаниям о преступнике. И их выбор часто оказывается ошибочным.
Очевидно, что состав линейки для опознания (сколько в ней человек, как они выглядят, во что они одеты) имеет решающее значение. При этом линейка должна быть максимально свободна от любых суггестивных влияний, иначе она может исказить процесс идентификации преступника свидетелем, и вся процедура потеряет смысл и ценность.
Пример предвзятого подбора группы для опознания (E. F. Loftus. Eyewitness Testimony, 1979)
Как показывает наша несколько гротескная иллюстрация предвзятого подбора группы для опознания, если подозреваемый — крупный бородатый мужчина, то в эту группу нельзя включать ни ребенка, ни женщину в инвалидной коляске, ни слепого мужчину с тростью. Если в состав группы для опознания не войдут люди, более или менее напоминающие подозреваемого, свидетель может указать на подозреваемого просто по умолчанию, а не вследствие настоящего опознания.
Но в реальных уголовных делах группы лиц и подборки фотографий для опознания часто оказываются заметно «смещенными», очевидным образом наводящими свидетеля на определенный объект, и результаты таких опознаний следует считать ничтожными. Например, на одном опознании в Миннесоте группа состояла из одного чернокожего подозреваемого и пятерых белых мужчин; в другом случае подозреваемый был ростом более 190 см, а рост остальных членов группы не превышал 177 см; в третьем случае о преступнике было известно, что он подросток, и при этом 18-летний подозреваемый был включен в группу, все остальные члены которой были старше сорока лет. В деле, которым я занималась с 1986 по 1988 год, мужчину обвиняли в убийстве восьми человек на рыболовецком судне на Аляске. Свидетели представили полиции общее описание мужчины, которого они видели на месте убийства, причем отметили одну весьма конкретную деталь: мужчина, которого они видели, был в бейсбольной кепке. Но в подборке фотографий для опознания в бейсбольной кепке был только один человек — подозреваемый!
Но предположим, что линейка для опознания подобрана объективно и что все члены группы имеют примерно одинаковый рост и вес и примерно соответствуют общему описанию преступника. Свидетель смотрит на членов группы, напряженно размышляет, и вдруг полицейский говорит: «Посмотрите, пожалуйста, еще раз на человека под номером 4!» Или, может быть, полицейский сам пристально смотрит на человека № 4, пока свидетель пытается опознать виновного. Или, может быть, свидетель смотрит на № 4, но колеблется, и сотрудник полиции наклоняется вперед и говорит: «Что вы скажете об этом человеке?»
Свидетель ловит эти маленькие обрывки информации и может — бессознательно — использовать их для «восполнения» недостающих элементов в сохранившемся в памяти расплывчатом и нечетком образе человека, изображенного на фотографии. Изображение смещается, линии колеблются, и вдруг лицо под номером четыре сливается с расплывчатым образом преступника в памяти. «Лицо под номером четыре кажется мне знакомым», — говорит свидетель. И добавляет: «Да, я уверен, это номер четыре».
Особую опасность представляют случаи, когда свидетелю показывают для опознания только одного человека или фото одного человека. Осенью 1970 года некий Бобби Джо Листер, 21 года, спокойно болтал с друзьями на одной из улиц Бостона, как вдруг двое полицейских выскочили из своего патрульного автомобиля уже с пистолетами в руках и обвинили его в убийстве владельца магазина. Они надели на Бобби Джо наручники и отвезли его к Бостонской городской больнице, где к патрульной машине подвели жену убитого и попросили ее посмотреть в окно на подозреваемого. «Что вы можете сказать?» — спросил ее полицейский. Женщина затряслась и начала плакать. «Да, — сказала она, рыдая, — он похож на человека, который стрелял в моего мужа и убил его». Это было единственным доказательством против Листера, но тем не менее ему было предъявлено обвинение в убийстве, и 22 июня 1971 года он был осужден и приговорен к пожизненному заключению без права на досрочное освобождение.
Шесть лет спустя окружной суд в Бостоне назначил адвокатов Роберта и Кристофера Мьюзов (отца и сына) представлять интересы Бобби Джо Листера при рассмотрении его апелляции. После первой же беседы с Бобби Джо обоим Мьюзам пришло в голову, что этот уже осужденный преступник, похоже, существенно отличается от всех остальных, заявляющих о своей невиновности, тем, что он и в самом деле невиновен. Мьюзы работали на Листера более девяти лет и за все это время за свои услуги не взяли с него ни цента. Как-то один из друзей спросил Роберта Мьюза, какую долю своего имущества он готов поставить на то, что Листер невиновен. «Всё», — не раздумывая ответил он.
В ноябре 1986 года выяснилось, что пуля, изъятая из тела жертвы убийства, полностью соответствует пистолету, изъятому у одного из двух мужчин, арестованных в октябре 1970 года, через две недели после этого убийства, за ограбление магазина спиртных напитков. В декабре 1986 года Бобби Джо Листер наконец вышел на свободу после того, как, будучи невиновным, провел за решеткой почти шестнадцать лет.
Ошибочные идентификации случаются в реальной жизни, и иногда они имеют место в ходе стандартных полицейских процедур. Когда у полицейских появляется подозреваемый, они часто показывают свидетелю подборку фотографий, но линейку для опознания формируют обычно только в тех случаях, когда проводится формальное опознание. Почти всегда из всех лиц, фотографии которых предъявлялись свидетелю, в группу для личного опознания (линейку) включается только человек, выбранный свидетелем при опознании по фото, и почти всегда свидетель опознает того человека, которого он уже видел на фотографии. Это называется ошибочным опознанием под влиянием фотографий, и вероятность ошибочной идентификации в таких ситуациях резко возрастает.
Результаты исследования, проведенного в 1977 году в Университете штата Небраска, наглядно демонстрируют влияние предварительных просмотров фотоподборок на память свидетелей. «Свидетели» из числа студентов наблюдали за несколькими «преступниками», совершавшими правонарушение. Спустя час им показали фотографии нескольких человек, в том числе некоторых преступников, которых они видели. Через неделю были составлены линейки для опознания, и свидетелям предложили указать тех лиц, кто принимал участие в том самом «преступлении». 8 % людей в этих группах были опознаны как преступники, хотя на самом деле они никоим образом не участвовали в ключевом событии, и их фотографий не было в ранее представленной свидетелям подборке фотографий. 20 % ни в чем не повинных людей, фотографии которых были включены в ранее представленную свидетелям подборку фотографий, тоже были ошибочно опознаны как преступники. Никто из этих людей не совершил никакого преступления, и никого из них свидетели раньше не видели лично, тем не менее они были опознаны по фотографиям и идентифицированы как преступники.
Насколько часто имеют место ошибочные опознания? Сколько таких отцов Пагано и Ленеллов Гетеров были арестованы по ошибке, неправомерно осуждены и посажены в тюрьму за преступления, которых они никогда не совершали? В классической работе по этой теме, «Осуждение невиновного», автор, ученый-юрист Эдвин Борхард, описывает 65 случаев «ошибочного осуждения невинных людей». В 29 из этих 65 случаев (45 %) причиной ошибки было ошибочное опознание подозреваемого свидетелями. На странице 367 Борхард делает такой вывод: «Эти случаи наглядно показывают, что эмоциональный баланс жертвы или свидетеля настолько нарушается его/ее необычными переживаниями, что его/ее способность восприятия ухудшается, и результаты опознания им/ею преступника становятся крайне ненадежными».
Ошибки при опознании часто пытаются объяснить тем, что настоящий преступник оказывается очень похожим на ошибочно опознанного человека. Но относительно 29 случаев, в которых причиной судебной ошибки стало именно ошибочное опознание подозреваемого очевидцами, Борхард сообщает следующее: «… в восьми случаях между ошибочно осужденным лицом и настоящим преступником вообще не было ни малейшего сходства, еще в двенадцати других случаях сходство все-таки было, но отнюдь не близкое. И только в двух случаях сходство можно было назвать поразительным» [там же].
В 1983 году Арье Раттнер, аспирант Университета штата Огайо, защитил докторскую диссертацию под названием «Осуждение невинных: когда юстиция ошибается» (Convicting the Innocent: Where Justice Goes Wrong). По подсчетам Раттнера, примерно 0,5 % арестованных и обвиняемых в тяжких преступлениях, подлежащих статистическому учету (по классификации ФБР — indexed crimes; это убийства, грабежи, изнасилования, изготовление фальшивых денег, кражи, вооруженные нападения и поджоги), были осуждены ошибочно. Хотя с точки зрения статистики доля 0,5 % кажется весьма небольшой, это одна из самых больших численных оценок, которые я видела, и это означает, что ежегодно в США выносится примерно 8500 ошибочных приговоров.
Даже если предположить, что данные Раттнера аномально высокие и, возможно, процентная доля ошибок на самом деле в два раза меньше, то все равно это 4250 ошибочных приговоров в год. Ну пусть даже эта доля еще вдвое меньше, и в этом случае у нас будет 2125 ошибочных приговоров. Мы можем и дальше уменьшать цифры, но ведь должен наступить момент, когда нас наконец пронзит мысль: это же живые люди, такие же как мы с вами, и вот их хватают прямо на улице, судят, осуждают и заключают в тюрьму, хотя они невиновны. Даже если бы за год их набиралось всего десять человек, все равно это было бы слишком много.
Сколько людей, учтенных в исследовании Раттнера, было осуждено на основании ошибочной идентификации подозреваемых очевидцами? Раттнер тщательно изучил более двухсот таких судебных дел и обнаружил, что 52,3 % ошибочных приговоров были связаны главным образом с ошибочной идентификацией подозреваемых очевидцами. «Наши данные, — заключает Раттнер, — показывают, что ошибочные приговоры чаще всего бывают обусловлены именно ошибочной идентификацией подозреваемых очевидцами» [Rattner 1983. Р. 292].
Каким образом можно было бы решить эту серьезную проблему? Несмотря на очевидные риски, присущие процедуре опознания подозреваемых свидетелями, массовый отказ от нее стал бы трагической ошибкой, поскольку очень часто, прежде всего в делах об изнасилованиях, других свидетельств, кроме результатов опознаний, просто не бывает. И результаты опознания подозреваемых свидетелями чаще всего вполне корректны. Но как же все-таки быть с тем небольшим процентом случаев, когда опознание оказывается ошибочным? Как защитить права невиновного человека, которого могли обвинить по ошибке? Что мы можем сделать, чтобы присяжные лучше представляли себе возможности использования таких свидетельств и соответствующие «подводные камни»?
Адвокаты защиты часто просят судей прочитать перечень наставлений присяжным о возможных рисках идентификации подозреваемых свидетелями. Но эти наставления, как правило, оказываются слишком запутанными и трудными для многих людей, чтобы они могли следовать им. Более того, многочисленные психологические исследования показывают, что и присяжным трудно понять их. Другим возможным решением проблемы опознания подозреваемых свидетелями могли бы стать экспертные заключения, то есть психолог может объяснять присяжным, как работает человеческая память, и использовать результаты научных экспериментов применительно к рассматриваемому делу.
Именно этим я и занимаюсь. Я даю в суде показания о свойствах человеческой памяти и психологических факторах, влияющих на показания очевидцев. Я выступаю свидетелем в тех случаях, когда идентификация подозреваемого очевидцами является единственным или главным доказательством вины подсудимого, включая случаи вынесения смертных приговоров, когда последствия ошибочной идентификации могут стать необратимыми.
Когда двадцать лет назад я начинала свои исследования человеческой памяти, об использовании их результатов в показаниях экспертов в судах и речи не было. Когда юристы спрашивали меня, буду ли я давать показания в тех случаях, когда опознание подозреваемого свидетелями действительно играет важную роль, я выражала принципиальное согласие в надежде на то, что соответствующие психологические исследования помогут сделать нашу систему уголовного правосудия более справедливой.
Если я даю показания в уголовном суде, это не является гарантией того, что ни в чем не повинный человек останется свободным, но вероятность его оправдания, несомненно, возрастает. Мы не можем, просто не имеем права предполагать, что наша система уголовного правосудия работает идеально и обеспечивает всем невиновным мужчинам и женщинам достаточную защиту. «Суд вершат люди, и поэтому судебные процессы не могут быть безукоризненными», — писал судья Джером Франк в своей книге «Невиновен» (Not Guilty). Ошибки будут совершаться и впредь, невинные жизни по-прежнему время от времени будут затягиваться в огромный и сложный механизм нашей системы правосудия, и некоторые из них никогда не смогут выбраться обратно.
В ХХ веке в этой стране казнили более семи тысяч человек, и в одном недавнем исследовании было показано, что по крайней мере двадцать пять из них были невиновны. Двадцать пять жизней были отняты по ошибке. Сейчас в камерах смертников сидит примерно 1600 человек — сколько среди них невиновных?
За данными статистики и непростыми дискуссиями о виновности и невиновности скрывается вопрос, в принципе не имеющий ответа, неразрешимая дилемма. В некоторых случаях, например в случае отца Пагано или Ленелла Гетера, невиновность удается доказать. Но во многих случаях невиновность — так, чтобы без тени сомнения, — доказать не удается. Из дел, которые я подробно описываю в этой книге, только в двух были получены четкие и неопровержимые результаты, настоящий преступник был посажен за решетку, а невинный человек — полностью и публично оправдан. Это только Голливуд в изобилии предлагает нам гладкие, счастливые концовки, а в реальной жизни редко удается выстроить факты в аккуратные последовательности, тщательно рассортировав и скомпоновав их, разрешив все противоречия и распутав все хитросплетения. Но разве при отсутствии абсолютного доказательства невиновности человек становится менее невиновным?
Рассмотрим для примера дело Джимми Ландано. Ландано в свое время был наркоманом, потом сидел в тюрьме Аттика, а сейчас отбывает «пожизненный срок плюс 15 лет» в федеральной тюрьме Рахвей в штате Нью-Джерси за убийство полицейского, совершенное в 1976 году. Он был осужден также за ограбление, хранение оружия, взлом, угон автомобилей и преступный сговор.
Четыре очевидца и сообщник, признавшийся в соучастии в убийстве, заявили в суде, что именно Ландано произвел смертельный выстрел. Волосы, найденные в шляпе убийцы, были похожи на волосы Ландано, его имя было обнаружено в записной книжке другого соучастника убийства, и у него не было железного алиби.
Доказательства вины ранее судимого бывшего наркомана были чрезвычайно убедительными. А когда он пригрозил прокурору «разобраться» с ним после того, как выйдет из тюрьмы, судья и присяжные окончательно убедились в том, что они действительно осудили опасного преступника, который и должен провести всю оставшуюся жизнь за решеткой.
Но сам Ландано утверждал, что его подставили члены банды мотоциклистов «The Breed», чтобы выгородить настоящего убийцу. По словам Ландано, они пристроили шляпу, похожую на его собственную, на сиденье автомобиля, который использовался убийцей для бегства с места преступления. Его прошлое героинового наркомана и уголовника, сидевшего в Аттике за крупную кражу, делало его идеальным кандидатом для такой фальсификации, человеком, «которого не жалко».
Четверо очевидцев опознали Ландано по фотографии как убийцу полицейского, но в их показаниях были противоречия. Один из очевидцев утверждал, что у убийцы были густые усы, в то время как другой описывал убийцу как человека вообще без усов; на самом деле у Ландано густые усы. Один судмедэксперт утверждал, что волосы, найденные в шляпе убийцы, могут принадлежать Ландано; другой эксперт утверждал, что, скорее всего, это не его волосы. Лыжная куртка убийцы на Ландано смотрелась просто комично: его длинные руки торчали из ее рукавов почти на треть, так что на них были видны две татуировки. Она еле налезла ему на плечи, была туго натянута и ограничивала движения, и он так и не смог застегнуть на ней молнию. Его мать и подружка заявили, что в то утро, когда произошло убийство, он был с ними (следует заметить, однако, что, даже если бы присяжные им поверили, теоретически у Ландано все равно было достаточно времени, чтобы совершить это преступление).
В свободное время в тюрьме Джим Ландано читает судебные протоколы и полицейские отчеты, рассказывая про свое дело любому, кто соглашается его слушать, пишет письма адвокатам и журналистам и помогает другим заключенным в аналогичных случаях. Ему сорок четыре года, и должно пройти еще целых двадцать лет, прежде чем он получит право на условно-досрочное освобождение. Такая перспектива пугает его, он боится состариться в тюрьме и упустить шанс как-то наладить свою искореженную жизнь. Тюрьма, по его словам, порождает в человеке ненависть и отчаяние. «Если вы относитесь к людям, как к животным, — повторяет он снова и снова, — они и становятся животными».
Этот безрадостный тезис то и дело сменяется у него другим стереотипным утверждением. «Мое дело сфабриковано, — говорит Ландано с яростной убежденностью. — Я невиновен».
Итак, на одной чаше весов у нас страстные заявления человека о своей невиновности, а на другой — данные под присягой показания четырех очевидцев и трех сообщников плюс решение жюри присяжных из двенадцати человек, которые тщательно взвешивали все доказательства и в итоге признали Джимми Ландано виновным.
Как тут определить, кто прав, а кто не прав?[6]
Часть II. КОНКРЕТНЫЕ СЛУЧАИ
Описанные в этой книге реальные дела в целом составляют историю о том, как моя жизнь благодаря моим исследованиям памяти и попыткам использования их результатов в сфере правосудия пересекалась с жизнью людей, обвиняемых в насильственных преступлениях. Одновременно это также история семей обвиняемых, история жертв преступлений и их семей, а также адвокатов, судей и присяжных заседателей, которые играют важнейшие роли во всех этих делах.
Но в конечном счете это рассказ о человеческой памяти, об этой нашей восхитительной и невероятно сложной способности, позволяющей нам возвращаться в прошлое и заново переживать, а во многих случаях и переосмысливать его. «Память — это сосуд и оболочка для всех знаний», — сказал Цицерон еще во II веке до нашей эры. А в XVI веке Джамбаттиста Базиле красиво написал о памяти: «… шкатулка воображения, сокровищница разума, реестр совести и зал совещаний для мыслей».
Мне нравится литературная цветистость этих описаний, яркие и запоминающиеся образы людей, благоговейно склоняющихся перед великолепием собственного ума. Но я должна сознаться, что мне больше по душе высказывание Марка Твена о памяти: «Удивительно не то, сколько всего я помню, а то, сколько из этого я помню неправильно».
3. Темная сторона юстиции. Стив Тайтус
Им, покоящимся здесь, не суждено ни надеяться, ни молиться, ни любить, ни исцеляться, ни смеяться, ни плакать.
Из речи президента США Рональда Рейгана 5 мая 1985 г. в бывшем концлагере Берген-БельзенЯ никогда не забуду Стива Тайтуса. Он ярко отпечатался в моей памяти — этакий веселый мальчишка с круглым лицом, широкой белозубой улыбкой и морщинками, образующимися вокруг глаз, когда он смеется. Но я помню его и с потупленными глазами, со сжатыми челюстями и ртом, искривленным от отчаяния и ярости.
Это странно, потому что на самом деле я ни разу его не видела. Его четко сфокусированные портреты, которые я храню в памяти, сложились на основе черно-белых фотографий из газеты The Seattle Times, напечатанных за те четыре года, пока Стив Тайтус боролся за свою жизнь и свою честь. И это вполне соответствует ситуации, в которой если в отношении Тайтуса и была проявлена хоть какая-то справедливость, то проявили ее СМИ и конкретно резкий на язык местный репортер Пол Хендерсон, смолящий одну сигарету за другой.
Это история о столкновении Стива Тайтуса с темной стороной юстиции, история о дружбе, возникшей между Тайтусом и Хендерсоном, и их странном партнерстве, которое радикально изменит их жизнь. И еще это история о том, что происходит потом, когда все уже забыли о громких газетных заголовках и зернистые черно-белые изображения стерлись из нашей памяти.
Надеюсь, что никому из читателей не придется узнать, каково это — подвергнуться ложному обвинению. Даже пристально наблюдая ситуацию снаружи, мы можем только догадываться о градусах гнева и ужаса, страданий и возмущения, переполняющих все внутри. История Стива Тайтуса позволяет нам в максимальной мере приблизиться к пониманию мук несправедливо осужденного человека. Это самая печальная история, которую мне когда-либо доводилось рассказывать.
* * *
12 октября 1980 года в 18:45 семнадцатилетняя Нэнси ван Роупер стояла на узкой асфальтированной обочине Тихоокеанского Южного шоссе в 16 км к югу от Сиэтла, подняв вверх большой палец и ожидая, пока кто-нибудь не предложит подвезти ее. Быстро темнело, и высокие фонари, освещающие шоссе, придавали мокрой и скользкой от дождя дороге какой-то жутковатый, потусторонний глянец. Нэнси дрожала от холода и начала волноваться, предвкушая неприятный разговор с матерью по возвращении домой. «Где ты была? — спросит мать своим пронзительным голосом. — Я так волновалась!»
Небольшая светло-синяя машина съехала на обочину, и шорох шин на покрытой галькой поверхности заставил Нэнси отпрыгнуть. Бородатый мужчина потянулся через пассажирское сиденье и открыл дверь.
— Привет! — сказала она. — Куда путь держим?
— В Такому, — ответил он.
— Прекрасно, — отозвалась девушка, усаживаясь и закрывая дверь. — Мне как раз туда и надо.
Водителю на вид было лет двадцать девять или тридцать, и одет он был в костюм-тройку. Он оглянулся через плечо и легко встроился обратно в трафик. Несколько минут они ехали молча. Нэнси всегда чувствовала себя немного неловко, сидя в пойманной чужой машине. Она открыла сумочку, достала помаду, накрасила губы и разгладила помаду губа об губу, наслаждаясь ощущением приятной гладкости и блеском.
На 208-й Южной улице водитель неожиданно свернул с шоссе и начал спускаться с холма. Нэнси удивленно взглянула на него.
— Мне нужно чуть притормозить, проведать сестру Лиз, — сказал мужчина.
Он свернул на 22-ю Южную авеню, а затем поехал вниз по узкой грунтовой дороге, вскоре упершейся в разрушенный фундамент снесенного дома. Это здесь, что ли, его сестра живет? Краешком сознания Нэнси начала ощущать страх. Она посмотрела вокруг, ища взглядом фонари, людей, машины, что-нибудь живое, способное двигаться, но ничего такого там не было, просто несколько ветхих домов и огромные кучи грязи, камней и гнилой древесины.
Вдруг водитель резко остановил машину, повернулся к ней и приставил к ее горлу что-то острое. В ее пустом от страха сознании зафиксировалась лишь одна мысль: это не нож, слишком тупой, ощущается как отвертка.
— Делай, что я говорю, или я тебя покалечу, — сказал он. Затем приказал ей снять блузку и джинсы. Трясущимися руками она расстегнула блузку.
— Пожалуйста… — начала было она.
— Снимай джинсы! — приказал он, касаясь оружием ее шеи.
Когда она разделась, он принудил ее к оральному сексу, а потом изнасиловал. Закончив, он велел ей одеться, выйти из автомобиля и ждать, пока он уедет. Он вырулил из проулка и поехал, подбрасывая в воздух комки грязи. Сквозь темноту ночи, охваченная ужасом, спотыкаясь, рыдая, она побежала искать помощи между темных, безмолвных куч грязи и дерева. В конце дорожки, метрах в двухстах от места изнасилования, стоял дом, на крыльце которого горел свет.
В 19:22 был зарегистрирован звонок в полицию порта Сиэтла из дома в конце 22-й Южной авеню, причем ответили сразу четыре офицера. Они опросили потерпевшую, которая тихо плакала, но выглядела невредимой. Ее одежда была чистой и целой, и на ней самой не было никаких следов насильственных действий: ни порезов, ни синяков, ничего такого. Она описала насильника как мужчину от двадцати пяти до тридцати лет, ростом около 180 см, нормального телосложения, с окладистой бородой и светло-каштановыми волосами до плеч. Одет он был в костюм-тройку кремового цвета. Автомобиль был чистого голубого цвета, какая-то из малолитражек, новый, возможно, 1980 года выпуска, с ковшеобразными сиденьями, обтянутыми вельветом. В заднем окне были видны временные номерные знаки. Потерпевшая вспомнила, что на зеркале заднего вида висело ожерелье, ну или, может, это была пара подвязок. На заднем сиденье лежала коричневая виниловая папка или скоросшиватель.
Она проводила сотрудников на место преступления и указала точное место, где насильник припарковал автомобиль. Там были видны свежие следы шин, прекрасно сохранившиеся в грязи и уходящие назад и вправо, а потом прямо по грунтовой дороге. Полицейские сделали множество фотографий.
Расследование было поручено детективу Рональду Паркеру. Предположив, что насильник должен быть достаточно хорошо знаком с местностью и, может быть, живет где-то рядом, Паркер поручил коллегам проехаться по ночным клубам и парковкам вдоль Тихоокеанского Южного шоссе, обращая внимание на голубые малолитражки с временными номерными знаками на заднем стекле.
В 01:20 ночи детектив Паркер и офицер Роберт Йенсен заметили голубой «шевроле» с временными номерными знаками, припаркованный у ресторана Raintree на Тихоокеанском Южном шоссе рядом с аэропортом Сиэтл-Такома. Они припарковали свой патрульный автомобиль так, чтобы его не было видно, и стали ждать.
В это время в ресторане Стив Тайтус и его невеста Гретхен Абрахам допивали свои бокалы. Тайтусу был 31 год, и он работал управляющим сетью ресторанов Сиэтла; Гретхен работала официанткой в ресторане Denny’s к югу от Такомы. Они вышли из бара после половины второго ночи и прошли через стоянку. Тайтус открыл дверь своего служебного автомобиля — нового голубого «шевроле»! — и подождал, пока Гретхен пристегнется и положит свой плащ подальше от двери.
Они поехали на юг по Тихоокеанскому Южному шоссе, к квартире Тайтуса в Кенте. Четырехполосная дорога, большую часть суток переполненная машинами, везущими пассажиров и сотрудников аэропорта в аэропорт или из него, сейчас была до жути пустой, и желтые фонари, освещавшие шоссе, наполняли густой, туманный воздух слабым светом. Над их головами прогрохотал аэробус, и казалось, что его гладкое металлическое брюхо пронеслось всего лишь в двух-трех сотнях метров над землей.
Вскоре Тайтус заметил в зеркале заднего вида мигающие красные огни. Тихонько выругавшись, он съехал на обочину. Паркер и Йенсен подошли к его «шевроле» и вежливо попросили Тайтуса выйти из машины.
— В чем дело, командиры? — спокойно, с улыбкой, спросил Тайтус.
Паркер попросил Тайтуса предъявить водительские права и регистрацию.
Он также попросил Тайтуса подробно и точно рассказать, где он был во второй половине дня и вечером, фиксируя факты и детали. Тайтус объяснил, что всю вторую половину дня он провел в доме родителей близ аэропорта, отмечали день рождения отца.
— Во сколько вы оттуда ушли? — спросил Паркер, держа ручку над записной книжкой.
— После шести, — ответил Тайтус. — Точнее, в шесть десять, я помню, что, выходя, посмотрел на часы.
— Что вы делали потом? — спросил Паркер, быстро делая записи.
Тайтус сказал, что вернулся домой, в свою квартиру в Кенте, — всего 15-20 минут езды. Приехал домой в 18:30, сделал несколько телефонных звонков, потом смотрел телевизор вместе со своим лучшим другом. Примерно в 21:20 вышел из квартиры, чтобы забрать Гретхен и отпраздновать их совместную годовщину.
Паркер поблагодарил Тайтуса и разрешил ему сесть в машину. Гретхен он опросил отдельно. Потом он попросил у Тайтуса разрешения осмотреть автомобиль и сделать фотографии внутри и снаружи.
— Пожалуйста, — ответил Тайтус, — на здоровье!
Наверное, они ищут угнанный автомобиль, думал он, наблюдая, как двое полицейских тщательно осматривают машину, освещают фонариками заднее сиденье, описывают его временные номерные знаки. В самом деле, зачем же еще фотографировать автомобиль внутри и снаружи? Этот «шевроле» был взят в аренду его работодателем, корпорацией Yegen Seafood, владевшей популярной в Сиэтле сетью ресторанов Ivar’s Seafood Bars на условиях франшизы. В качестве окружного менеджера компании Тайтус контролировал работу около ста сотрудников в семи точках, предлагавших посетителям блюда из морепродуктов, и мог пользоваться этим автомобилем всегда, когда ему было нужно. Он рассказал все полицейским, и они записали эту информацию в блокнот.
Когда Йенсен спросил, можно ли его сфотографировать, Тайтус только улыбнулся — конечно, почему нет? На фотографии в профиль и анфас он улыбается, смотрит спокойно, левая бровь слегка приподнята. В шутку он спросил полицейских, не сфотографируют ли они его вместе с невестой. Теперь настала очередь Паркера пожать плечами.
— Конечно, — ответил он, — без проблем.
После того как Паркер сказал ему, что он свободен, Тайтус продолжил путь на юг, в сторону своей квартиры в Кенте. Но в зеркало заднего вида он теперь поглядывал с опаской.
— Не волнуйся, — уговаривала его Гретхен. — Просто очередное недоразумение. Все уже закончилось.
Но Тайтус продолжал думать о фотографии — зачем им понадобилось его фото? И почему они обыскали его машину и записали его номер?
Детектив Паркер вернулся в отделение полиции порта Сиэтла в аэропорту Сиэтл-Такома. Шел уже третий час ночи, но Паркер горел энтузиазмом. Произошло изнасилование, и у него уже было описание преступника и был подозреваемый, соответствующий этому описанию почти во всех деталях. Согласитесь, вряд ли кому-то удалось бы сделать намного больше всего за семь часов работы.
То и дело сравнивая только что сделанные им самим поляроидные фото Стива Тайтуса с описанием насильника, составленным со слов потерпевшей (белый мужчина лет 25-30, рост около 180 см, нормального телосложения, с окладистой бородой и светло-каштановыми волосами до плеч), Паркер начал анализировать снимки, имевшиеся в департаменте полиции. Правда, ростом Тайтус был сантиметров на десять ниже, но это маленькое несоответствие Паркера не смутило. Жертвы изнасилований в своих описаниях часто ошибаются в частностях, и в численных оценках тоже. И то — легко ли вспомнить все подробности момента, когда вам к горлу приставили нож?
Паркер отобрал шесть мужчин, по две фотографии каждого, в профиль и анфас. В правом верхнем углу коллажа он прикрепил два фото Стива Тайтуса. У всех мужчин, представленных на этих фото, были каштановые волосы и окладистые бороды. Все они были средней наружности, от двадцати пяти до тридцати лет, без особых примет типа пятен на лице и т. п. Среди них не было ни великанов, ни уродов, ни садистов, и Паркер подумал — просто обычные американские парни. Он смотрел то на одно фото, то на другое, сравнивая внешность своего основного подозреваемого с остальными снимками, и в итоге остался доволен: подборка, без сомнения, была удачной.
В понедельник 13 октября Паркер и его коллега Скотт Пирсон постучали в дверь дома потерпевшей в Такоме. «У нас тут несколько фотографий, — сказал Паркер Нэнси ван Роупер мягким, отеческим тоном. — Мы хотим, чтобы вы посмотрели на них и сказали, нет ли среди них человека, который вас изнасиловал».
Нэнси несколько минут внимательно смотрела на фотографии, закусив губу так, что из нее пошла кровь. Она несколько раз отрицательно покачала головой, путаясь и чуть не плача. Паркер уговаривал ее собраться и подумать как следует.
— Надо справиться, — говорил он.
Наконец Нэнси трясущейся рукой показала на фотографии в правом верхнем углу листа.
— Этот больше всех похож, — сказала она, держа слегка дрожащий палец всего в паре-тройке сантиметров над поляроидными фото Стива Тайтуса. — Должно быть, этот.
* * *
14 октября машина департамента полиции порта Сиэтла подъехала к офисам корпорации Yegen Seafood в Южном центре, обширном торговоофисном комплексе, расположенном примерно в 15 км к югу от Сиэтла. Офицеры полиции вошли в помещения компании и спросили, здесь ли Стив Тайтус. Когда он появился, они зачитали ему его права, провели к ожидавшему внизу патрульному автомобилю, надели на него наручники и втолкнули на заднее сиденье. Спустя несколько часов приехал эвакуатор и увез автомобиль компании Тайтуса, тот самый голубой «шевроле» с временными номерами на заднем стекле.
В тот же день после полудня в комнате для полицейских допросов в аэропортовских офисах департамента полиции порта Сиэтла Тайтус в присутствии детектива Рональда Паркера и офицера полиции Роберта Йенсена сделал добровольное заявление относительно того, где он был и что делал во второй половине дня и вечером 12 октября. Говорил Тайтус без адвоката, офицеры не делали никаких записей, и вообще разговор не записывался.
В течение следующих нескольких недель специальное подразделение прокуратуры анализировало улики против Стива Тайтуса, и ему решили предложить сделку: если он успешно пройдет тест на полиграфе, обвинения против него будут сняты.
Если же он потерпит неудачу, он будет привлечен к ответственности за изнасилование, хотя по закону результаты теста на полиграфе нельзя было использовать против него. Тайтус нанял Тома Хиллера, считавшегося одним из лучших адвокатов по уголовным делам в штате Вашингтон. Хиллер, который на тот момент не проиграл еще ни одного дела об изнасиловании, обсудил с Тайтусом сделку, предложенную прокуратурой, пояснив, что ситуация как будто беспроигрышная и указывает на то, что прокуратуре недостает убедительных доказательств. В отсутствие неопровержимых доказательств вины правдивый результат теста на полиграфе, представленный авторитетным экспертом, часто оказывается достаточным, чтобы посеять разумные сомнения, ведущие к снятию обвинений.
— Если вы успешно пройдете тест, у прокуратуры появятся убедительные основания для закрытия дела, — объяснил Хиллер своему клиенту. — В противном случае у них будет моральное оправдание для того, чтобы продолжить расследование. К сожалению, совпадение фактов позволяет думать, что вы могли бы быть этим насильником: автомобиль, временные номера, описание со слов жертвы и просто то, что вы были в этом районе в эту ночь. Но у вас есть твердое алиби со свидетелями, репутация, постоянная работа и отсутствие судимости. Идите и пройдите через полиграф, это дает нам наилучшие шансы на закрытие дела.
Тайтус согласился на полиграф — и с треском провалил тест. Все четыре черных иглы, показывающие значения давления, частоты пульса, дыхания и кожно-гальванические реакции, процарапали линии, которые интерпретируются как «ложь». В основе работы полиграфа лежит теория, гласящая, что, когда человек лжет, происходят характерные физиологические реакции, инициируемые эмоциями, и потом эти реакции можно оценить количественно и сравнить с «контрольными» реакциями на эмоционально нейтральные вопросы. Но люди понимают, какие вопросы являются значимыми, и выдают реакцию стресса/страха при ответах на нейтральные вопросы. То есть полиграф измеряет уровень страха и стресса, не более того.
Тайтусу был задан вопрос: «Вы изнасиловали Нэнси ван Роупер двенадцатого октября?» Зная, что ответ на этот вопрос определяет его будущее, Тайтус, видимо, запаниковал, и царапающие черные иглы указали, что имеет место паника.
Ознакомившись с отвратительными результатами тестирования Тайтуса на полиграфе, прокуратура приняла решение продолжить дело. Стив Тайтус должен был предстать перед судом по обвинению в изнасиловании.
Судебное разбирательство планировалось начать в конце февраля, и Том Хиллер решительно взялся за трудную работу по защите этого клиента, ярость и горечь которого могли сработать только против него. Тайтус был возмущен и полон злобы и враждебности к детективу Паркеру и департаменту полиции порта Сиэтл в целом. Он бродил взад-вперед по офису Хиллера, его руки были сжаты в кулаки, а все тело было жестко напряжено. Он напоминал Хиллеру дикое животное, посаженное в клетку, которое нельзя ни приручить, ни успокоить. Хиллер знал, что, если он не сможет так или иначе успокоить Тайтуса до суда, у них будут проблемы. При его теперешнем состоянии присяжным достаточно было бы просто взглянуть на этого агрессивного, подозрительного, озлобленного человека, чтобы сделать роковой вывод — «виновен».
Хиллер сел за круглый стол вместе с Тайтусом и его родителями, и они смогли точно определить, где Тайтус был и что он делал с полудня до полуночи 12 октября 1980 года. Все они согласились, что он покинул родительский дом, расположенный в трех с небольшим километрах к северу от аэропорта Сиэтл-Такома, в 18:10 и прибыл в свою квартиру в Кенте в 18:30 вечера. Когда он входил в квартиру, в ней звонил телефон, но, когда он поднял трубку, на другом конце линии трубку уже повесили. Он собирался встретиться со своим лучшим другом Куртом Шефером, но опоздал, поэтому сразу же позвонил Шеферу, который жил в этом же жилом комплексе.
Через десять-пятнадцать минут Шефер уже входил в квартиру Тайтуса.
«Это было не позже 18:50», — сказал Тайтус Хиллеру, потому что, прежде чем Тайтус в 19:00 сделал междугородный телефонный звонок Гретхен в Такому, они с другом сидели в квартире и говорили уже не менее десяти минут. После этого звонка Тайтус и Шефер смотрели по кабельному телевидению «Супермена». В 21:20 Тайтус вышел из своей квартиры, чтобы забрать Гретхен и отпраздновать их совместную годовщину.
Алиби у него было твердокаменное, за исключением пятидесяти минут с 18:10 вечера, когда Тайтус покинул дом родителей, и до 19:00, когда он сделал звонок, который подтверждался записями междугородной телефонной компании. И Тайтус, и Шефер настаивали на том, что Тайтус позвонил Шеферу около 18:30 и что Шефер пришел в квартиру Стива между 18:45 и 18:50. Но никаких убедительных доказательств этого не было, и присяжные вполне могли бы решить, что Шефер лжет, чтобы прикрыть своего лучшего друга. И еще: потерпевшая говорила полицейским, что насильник подсадил ее в свою машину в 18:45, а звонок в полицию порта Сиэтла был зарегистрирован в 19:22. Покинув дом родителей, Тайтус физически не мог успеть подсадить голосовавшую девушку, отвезти ее в заброшенный дом, изнасиловать ее, добраться до дома и в 19:00 позвонить из дома по междугородному телефону.
Как ни сопоставляй и ни «растягивай» факты, невозможно втиснуть в пятнадцатиминутный временной интервал изнасилование и 20 минут езды.
В пользу Тайтуса свидетельствовало и сделанное потерпевшей описание одежды насильника. Нэнси ван Роупер рассказала полицейским, что насильник был одет в костюм-тройку кремового цвета. Между тем, когда Тайтус выходил из родительского дома, на нем были темные брюки, темный свитер и зеленая рубашка. Это подтверждается фотографиями, сделанными во время празднования дня рождения. Зачем Тайтусу понадобилось менять одежду перед изнасилованием? Но даже если бы кому-либо в прокуратуре удалось придумать вескую причину, побудившую насильника надеть костюм-тройку (а Тайтус утверждал, что такого костюма у него никогда не было), никто из них не смог бы замедлить время настолько, чтобы за двадцать минут (к 19:00) Тайтус успел переодеться, совершить изнасилование, еще раз переодеться и вернуться в свою квартиру. Это просто невозможно.
Самым сильным пунктом алиби Тайтуса было подтверждение времени совершения междугородного телефонного звонка, но были и другие весомые аргументы в его пользу. У прокурора не было абсолютно никаких вещественных улик, подтверждающих обвинение Стива Тайтуса в изнасиловании. Криминалистическая лаборатория штата тщательно изучила служебный автомобиль Тайтуса и одежду потерпевшей и не обнаружила ничего, ноль, никаких совпадений: ни образцов волос, ни волокон одежды, ни отпечатков пальцев — ни-че-го. Полиция порта Сиэтла обнаружила в «шевроле» Тайтуса восемнадцать отпечатков пальцев, но ни один из них не принадлежал потерпевшей. Полицейские взяли образцы синего винила с сидений «шевроле» (винила, а не вельвета, о котором говорила жертва изнасилования!) и протестировали их на наличие пятен спермы; и снова все анализы дали отрицательный результат. Волосы с головы насильника, снятые со свитера потерпевшей, не соответствовали образцам волос с головы Тайтуса.
К тому же вскоре появилась еще одна хорошая новость (можно сказать, просто сказочная): Западная криминалистическая лаборатория штата Вашингтон установила, что следы шин «мишлен», сфотографированные на месте изнасилования и ставшие важной составляющей обвинения, не могли быть оставлены автомобилем Тайтуса. Металлокордные радиальные шины являются стандартной опцией на многих импортных автомобилях, внешне похожих на «шевроле» компании Тайтуса.
Самым весомым доказательством против Тайтуса было опознание его потерпевшей. Нэнси ван Роупер опознала Стива Тайтуса как насильника, и у Хиллера не было никаких оснований надеяться, что она передумает в последнюю минуту. В суде она, несомненно, укажет на Тайтуса и произнесет убийственные слова: «Это он. Это сделал он». Хиллер знал, что в любом случае опираться на показания очевидцев — дело весьма сомнительное, но в случае изнасилования, когда жертва находится с глазу на глаз с напавшим на нее человеком, опознанию придается большее значение, нежели в других случаях. Жюри присяжных также может обратить особое внимание на эмоциональную травму, связанную с изнасилованием. Жизнь семнадцатилетней девушки искорежена случайным актом насилия, и вряд ли суд проявит в отношении обвиняемого хотя бы минимальную долю сочувствия.
Результат опознания насильника потерпевшей опровергнуть нельзя, но, едва взглянув на коллаж Паркера, Хиллер понял, что он в высшей степени «наводящий». Фото Тайтуса, сделанные «поляроидом», были примерно вдвое меньше остальных пяти пар фотографий. Кроме того, они отличались от других фотографий тем, что между фотографиями Тайтуса в профиль и анфас не было темной линии разграничения. К тому же на этих фотографиях Тайтус улыбался. На предварительном слушании Хиллер утверждал, что коллаж наводящий и его нельзя показывать присяжным, однако судья отклонил его ходатайство, постановив, что присяжные сами должны решить, является коллаж наводящим или нет.
Мало того, кроме опровержения результатов опознания, Хиллеру предстояло еще разобраться с поразительным сходством номерных знаков, описанных потерпевшей, и номерных знаков на машине Тайтуса. Согласно отчету детектива Паркера, потерпевшая утверждала, что начальные цифры временного номерного знака на заднем стекле машины насильника были 667 или 776. «Шевроле», предоставленный компанией Тайтусу, имел шестизначный временный номер 661-677.
В общем, тут имело место невероятное совпадение: две одинаковые машины одинакового цвета, с почти одинаковыми временными номерными знаками, управляемые двумя мужчинами, приметы которых соответствовали одному и тому же описанию, почти одновременно оказались почти в одном и том же месте. И прокурор обязательно будет концентрировать на этом внимание присяжных, настаивая на том, что такое совпадение является статистически невозможным.
Хиллер обратился в транспортное управление штата и выяснил, что недавно купленные автомобили действительно могли иметь похожие номера. Например, все временные номера, выданные в городе Олимпия, штат Вашингтон, в сентябре-октябре 1980 года, начинались с цифр 66. И вполне возможно, что другой автомобиль, купленный примерно в то же время, что и «шевроле» Тайтуса, имел почти идентичный номер.
По мере приближения даты суда (намеченного на февраль) Том Хиллер все тверже убеждался в полной невиновности своего клиента. Лично у него не было никаких сомнений в том, что Стив Тайтус стал жертвой ошибочного опознания. Однако при этом он все-таки не мог избавиться от ощущения беспокойства, потому что дело это было все-таки «скользким», неуправляемым и его результат был непредсказуемым. Все-таки Нэнси ван Роупер придет в зал суда, покажет пальцем на Тайтуса и будет утверждать — под присягой! — что ее изнасиловал именно он. На тот момент это была самая большая проблема для Хиллера.
Или почти самая большая, потому что на деле самой большой проблемой был сам его клиент. Стив Тайтус был до смерти напуган, и его страх принимал какие-то безумные, истеричные формы. Раз за разом Хиллер (тщетно) пытался успокоить Тайтуса. Он пытался приучить его сначала думать, а потом уже говорить, и расслабляться, чтобы по мере сил контролировать свой гнев. Но все, что он говорил, у Тайтуса в одно ухо влетало, в другое вылетало. День суда приближался, и Том Хиллер все чаще задумывался о том, что злейшим врагом его клиента Стива Тайтуса может оказаться он сам, Стив Тайтус.
* * *
Суд начался 25 февраля 1981 года и проходил в небольшом зале на третьем этаже здания суда округа Кинг. Свидетельская трибуна находилась всего в нескольких метрах от жюри присяжных, так что, когда потерпевшая давала показания, присяжные могли видеть даже слезы, наворачивающиеся ей на глаза. Прокурор Крис Вашингтон подробно расспросил ее о событиях, имевших место вечером 12 октября. В частности, он попросил точно указать время, когда некий мужчина подсадил ее в свой небольшой голубой автомобиль.
— Шесть тридцать вечера, — ответила она сразу и уверенно.
Тайтус и Хиллер смотрели друг на друга, причем лицо Хиллера выражало раздражение, а лицо Тайтуса — панический страх. Потерпевшая просто постфактум отвела стрелки на пятнадцать минут назад: с 18:45 на 18:30! И эти лишние пятнадцать минут уже позволяли предположить, что Тайтусу могло хватить времени (хотя и в обрез), чтобы совершить изнасилование и к 19:00 вернуться в свою квартиру. В ходе перекрестного допроса Хиллер рассчитывал указать на это несоответствие и заявить, что это шаг отчаяния стороны обвинения. Но если теперь Нэнси ван Роупер вспомнила, что насильник подсадил ее именно в 18:30, она имеет полное право заявить об этом в суде.
Прокурор показал потерпевшей коллаж и спросил, узнает ли она кого-нибудь на этих фотографиях.
— Да, — ответила она, указывая на фотографии Тайтуса.
— Вы видите этого человека в зале суда?
— Да, — снова ответила она, указывая на Тайтуса.
Прокурор попросил ее спуститься, пройти к столу защиты и подойти как можно ближе к Тайтусу, примерно на то расстояние, которое было между ними в вечер изнасилования.
Нэнси ван Роупер сошла со свидетельской трибуны, сделала несколько шагов по направлению к столу защиты, но не сумела совладать с собой и безудержно зарыдала. Хиллер, ошарашенный возмутительной тактикой прокурора, вскочил на ноги, выкрикивая возражения. Судья поспешно извинился перед присяжными, но Хиллер продолжал кричать во всю мощь своих легких, надеясь, что присяжные почувствуют его возмущение этим грубым нарушением закона. Судья попытался успокоить его, приняв его возражения и сделав замечание прокурору. Но непоправимое уже свершилось: присяжные закрыли лица и опустили глаза, отказываясь смотреть на Хиллера и Тайтуса.
Теперь в маленьком и не имевшем окон зале суда один за другим выступали свидетели со стороны обвинения. Забавно, что почти все выступавшие эксперты представляли доказательства, подтверждавшие невиновность Тайтуса. Так, специалисты из криминалистической лаборатории штата заявили присяжным, что они не нашли никаких доказательств того, что потерпевшая была в машине Тайтуса. Еще один специалист заявил, что ни один из отпечатков пальцев, снятых в «шевроле» Тайтуса, не принадлежит жертве изнасилования. На кусках синей виниловой обивки, вырезанных из сидений «шевроле» Тайтуса, не оказалось никаких следов спермы. Микроскопический анализ головных волос, обнаруженных внутри машины, показал, что ни один из них не принадлежит потерпевшей. Волокна от одежды, взятые из машины Тайтуса, не соответствовали ни одному из предметов одежды, которые были на потерпевшей в ночь изнасилования. Ни один из множества головных волос, снятых с синего свитера, который был тогда на потерпевшей, не соответствовал образцам волос, взятых с головы Стива Тайтуса.
Ни отвертку, ни нож в «шевроле» обнаружить также не удалось, хотя прокурор утверждал, что оружием, которое насильник приставлял к горлу жертвы, мог быть черный фломастер, найденный между сиденьем переднего пассажира и дверью.
Подошла очередь детектива Рональда Паркера. Полноватый, с открытым лицом и руками, сложенными на коленях, Паркер выглядел хорошим, порядочным копом. Спокойно, четко, твердым голосом Паркер заявил, что следы шин, которые он сфотографировал в ночь изнасилования, не являются следами шин автомобиля насильника. Он пояснил, что недавно он еще раз вместе с потерпевшей побывал на месте преступления, и она вспомнила, что насильник заехал на него по прямой и уезжал тоже по прямой. Следы же, которые были сфотографированы (и которые не соответствовали следам от «шевроле» Тайтуса), поворачивали вправо.
Хиллер слушал его в полном изумлении. Полиция просто изменила свою версию, выбросив из нее прежние доказательства, потому что они не подтверждали виновность Тайтуса, и вставив в нее новые доказательства, которые никак не подтверждались фактами и которые нельзя было проверить, но которые почти наверняка еще больше укрепили бы имевшееся у присяжных предубеждение против Тайтуса.
Несколько минут спустя Паркер нанес второй сокрушительный удар. Он заявил, что видел на заднем сиденье «шевроле» Тайтуса коричневую виниловую папку, именно такую, о которой говорила жертва изнасилования. Хиллер и Тайтус ошарашенно посмотрели друг на друга: в рапорте, представленном офицером полиции, осматривавшим автомобиль Тайтуса в ночь изнасилования, ни о какой папке и речи не было.
Но и это было еще не все. Паркер также представил отпечатанное на машинке заявление, которое, как он утверждал, было заявлением, добровольно сделанным Тайтусом после его ареста 14 октября, в котором он рассказал о том, где он находился в вечер изнасилования. Итак, Паркер выждал, пока до начала судебного процесса останется всего неделя, чтобы распечатать свои воспоминания о том разговоре, те самые воспоминания, которые Тайтус, увидев эту распечатку только в ночь перед тем, как Паркер огласил свои показания, назвал просто враньем. В этом заявлении Паркер утверждал, что Тайтус сказал ему, что в вечер изнасилования он приехал домой в 18:55 (а не в 18:30, как утверждал Тайтус с того момента, когда он впервые был допрошен Паркером рано утром 13 октября).
— Он лжец, — буркнул Тайтус себе под нос.
Хиллер коснулся рукой руки Стива.
— Стив, будьте осторожны! — шепнул он. — Вы не можете просто выйти туда и назвать его лжецом, иначе вы настроите присяжных против вас. Успокойтесь. У нас будет возможность сказать свое слово.
В ходе перекрестного допроса Хиллер раз за разом указывал на нестыковки в версии обвинения, утверждая, что внесенные в последнюю минуту изменения и манипуляции фактически являются жестами отчаяния, которые позволяют слабым аргументам выглядеть сильнее. Но впрямую подвергать сомнению показания потерпевшей и представителей полиции порта Сиэтла он не решался, опасаясь, что это сочтут жестом отчаяния уже с его стороны. В ходе перекрестного допроса потерпевшей Хиллер был мягок и деликатен и избегал неосторожных выражений и тем более нападок на нее, чтобы еще больше не оттолкнуть присяжных. Свой последний вопрос к ней он сформулировал весьма тщательно:
— Если бы я смог доказать вам, что в то время, когда произошло изнасилование, Стив Тайтус находился в другом месте, вы бы по-прежнему утверждали, что это сделал именно он?
— Да, — не задумываясь ответила Нэнси ван Роупер.
Хиллер посмотрел на присяжных, надеясь, что они отметят для себя этот момент. Он хотел показать им, что потерпевшая до такой степени «зациклена» на Стиве Тайтусе, что отвергнет любую, даже неоспоримую, железобетонную информацию, показывающую, что он не мог этого сделать. Хиллер надеялся, что из ее ответа на его последний вопрос присяжные поймут, что она опознала Стива Тайтуса безотчетно и необоснованно, в состоянии обсессии.
В своем заключительном выступлении перед присяжными Хиллер продолжал изображать хорошего парня с прямолинейным мышлением. Он пытался убедить присяжных в том, что совершается трагическая ошибка. Понятно, что никто не хочет сознательно навредить Стиву Тайтусу. Полиция просто пытается делать свою работу, но этот человек невиновен, он не совершал всех этих преступлений. Обратите внимание на все эти нестыковки. Нет абсолютно никаких доказательств его причастности к этому преступлению. Сверьтесь с фактами. Оцените их спокойно и рассудительно.
Но, когда он вновь занял свое место рядом с клиентом и поднял глаза на скептически настроенных присяжных, прищуривших глаза, он почувствовал, что и у него внутри нарастает страх. «Наверное, мне нужно было играть грубее, — подумал он. — Прокуратура играла нечисто. Они лгали, фабриковали и искажали доказательства, а мы вот приехали и сидим тут с улыбками на лицах и протянутыми руками. Проклятье!»
Хиллер вдруг почувствовал, что проигрывает дело. Все произошло так быстро, что не было времени все это осмыслить, но обвинение просто пригвоздило их к стене. Он читал это в глазах присяжных, это сквозило в позах, в которых они сидели, — повернув головы немного в сторону, как если бы боялись смотреть на него прямо. Он был уверен в том, что уже потерял некоторых из них. Сидя за столом защиты, он прочел про себя короткую молитву: «[Господи,] не дай мне потерять их всех! Пусть устоит хоть один, только один — и тогда у Стива останется шанс!»
Присяжные совещались двенадцать часов. В первых двух турах они проголосовали за оправдание — восемь против четырех. В третьем туре мнения разделились уже иначе: семь против пяти, но и здесь большинство проголосовало за оправдание. Но спустя два часа, на четвертом и окончательном голосовании, присяжные все-таки согласовали свое решение: Стив Тайтус был признан виновным в изнасиловании первой степени.
В зале суда реакция на приговор была истерической. Родные Тайтуса орали на присяжных, а его невеста, рыдая, упала на пол. Судья поспешно приказал охранникам сопроводить присяжных из зала суда. Стив Тайтус сидел за столом защиты, уже осужденный и отстраненный от суеты.
* * *
В начале апреля 1981 года репортеру The Seattle Times Полу Хендерсону позвонил человек, представившийся Стивом Тайтусом. Тайтус говорил быстро, как будто боялся, что Хендерсон повесит трубку на полуслове. Его осудили за изнасилование, сказал он, но он не виноват, он стал жертвой ошибочного опознания. До вынесения окончательного приговора остается всего несколько недель. Не возьмется ли Хендерсон расследовать эту историю? Хендерсон закурил сигарету (может быть, уже сороковую за день) и стал слушать рассказ Тайтуса.
Тайтус рассказал ему обо всем, что было 12 и 13 октября: празднование дня рождения, возвращение на машине в свою квартиру, в 19:00 звонок возлюбленной. Он рассказал Полу о процессе, о том, как потерпевшая расплакалась в зале суда, как у нее в памяти время, когда ее подсадил в свою машину человек в костюме-тройке, изменилось с 18:45 на 18:30, и о том, как детектив Паркер лгал про следы шин и виниловую папку.
Хендерсон зажег новую сигарету. Что ж, из этого могла бы получиться история, и может быть, даже очень крутая. Голос собеседника чем-то зацепил его. Тайтус был на пределе.
Во второй половине того же дня Хендерсон ехал на юг по шоссе I-5 в городок Кент, примерно в 25 км к югу от Сиэтла. Он остановился, чтобы купить упаковку пива — 6 банок, и между тем прикидывал, как можно было бы оживить разговор. Он нашел нужное здание и постучался в дверь квартиры Тайтуса. Дверь ему открыл симпатичный мужчина с волнистыми каштановыми волосами и бородой, лет, наверное, тридцати. Хендерсон протянул ему руку, крепко пожал. Снял куртку, сел на диван, закурил и открыл пиво.
Следующие четыре часа он провел в гостиной квартиры Стива Тайтуса, слушая рассказ человека, находящегося в полном отчаянии. Причем примерно через час Хендерсон поймал себя на мысли: «Эге, да этот парень и правда, наверное, невиновен». Если бы Тайтус был виновен, он говорил бы медленнее, двигался медленнее и был бы более расчетлив в своих высказываниях. Он бы обстоятельно спланировал весь разговор, шаг за шагом. А ему этот разговор как будто пережимал глотку, казалось, что он на пределе: он то и дело подпрыгивал, судорожно перекладывал бумаги из одной стопки в другую и говорил, говорил без умолку.
Тайтус объяснил, что единственный способ, позволяющий надеяться на отмену приговора и выиграть следующий суд, — это представить «новые доказательства вещественного характера». Он показал на свой кухонный стол, заставленный высокими стопками полицейских отчетов, юридических документов и протоколов судебных заседаний. Каждую ночь он сидел до часу, а то и до двух, сравнивая рапорты и отчеты, перечитывая их снова и снова и пытаясь найти в них ошибки, противоречия и нестыковки. На момент беседы с Хендерсоном в его списке было уже семьдесят таких расхождений. Семьдесят!
Но для прокуратуры этого было недостаточно: их удовлетворили бы только «новые доказательства вещественного характера». На протяжении трех недель Тайтус стоял на обочинах Тихоокеанского Южного шоссе, выискивая глазами автомобили, которые подходили под описание, данное потерпевшей, или, что то же самое, очень похожие на «шевроле», за рулем которого в тот вечер был он сам. Однажды он заметил голубой «шевроле-цитейшен», спешивший на юг. Водитель был с бородой, да еще в желтовато-коричневом костюме и жилете. Тайтус «проводил» эту машину до Такомы, припарковался вне поля зрения водителя, записал адрес и номер машины и поехал домой. Но, когда он сверился с данными департамента автотранспорта, выяснилось, что этот автомобиль был приобретен уже после того, как произошло изнасилование.
Тайтус рассказал Хендерсону, что провел массу времени в департаменте автотранспорта, просматривая годовые отчеты продаж автомобилей и выискивая те, которые были приобретены в течение двух недель до 12 октября 1980 года. При этом просмотр бумаг у одного дилера занимал шесть-восемь часов; а всего местных дилеров было двадцать пять. Он платил сотруднице офиса, чтобы она продолжала поиски, но и той удача не улыбнулась.
— Я разорен, — сказал Тайтус. — У меня ничего не осталось.
Услуги адвоката в суде стоили ему 5000 долларов, услуги адвоката по кассационной жалобе — 10 000, освобождение под залог — 2500 долларов наличными. Частный детектив выставил ему счет на 1200 долларов. Работодатель Тайтуса сказал ему, что верит в его невиновность, но не может держать на работе человека, осужденного за изнасилование; уволить Тайтуса должны были в мае, и официальная причина увольнения состояла в том, что он «не справлялся с работой».
Тайтус допил пиво, положил банку на пол в кухне и раздавил ее каблуком.
— Знаете, я привык быть этаким беззаботным парнем, не особо задумывающимся о том, что и как, — сказал он. — Но это были старые добрые времена.
Чтобы изучить историю Стива Тайтуса, проверить и перепроверить все факты и подготовить материал для публикации, Полу Хендерсону потребовалось шесть недель. В пятницу 15 мая The Seattle Times опубликовала историю Тайтуса в изложении Хендерсона под названием «Битва одиночки за сохранение своего доброго имени» (One Man’s Battle to Clear His Name). Прочитав его статью (занимавшую в общей сложности более двух метров набора газетной полосы), судья решил отложить вынесение приговора на несколько недель.
В пятницу 29 мая The Seattle Times опубликовала вторую статью о деле Стива Тайтуса, и снова судья отложил вынесение приговора на неделю. Но для всех, кто верил в невиновность Тайтуса, это было что-то вроде наличия запасного комплекта тормозных колодок на лесовозе, везущем несколько тонн бревен и летящем вниз по 30-градусному склону со скоростью 130 км/ч: они чувствовали, как новая дата вынесения приговора стремительно надвигается на них, слышали визг тормозов, отчаянные гудки, чувствовали в воздухе густой запах паленой резины.
Как-то раз, посреди дождливого лета в Сиэтле, когда до даты вынесения приговора Тайтусу оставалось всего несколько дней, Хендерсон играл в крокет и пил пиво с приятелями. И вдруг откуда ни возьмись на него снизошло откровение, да такое, что у него перехватило дыхание. Какое удачное место преступник выбрал для изнасилования, подумал он, не выпуская из рук крокетный молоток и рассеянно наблюдая за дождевыми каплями, падающими с краев бейсболки. Все эти заброшенные, обреченные дома, заросшие дороги, кучи грязи и досок, тупиковые дороги, ведущие в никуда, — это же настоящий рай для насильника! А вдруг тот парень не ограничился одним разом? Что, если он возвращался туда и, может быть, даже не один раз? А вдруг какая-то другая потерпевшая обращалась в полицию и в полиции имеются соответствующие документы?
Понятно, что все это пока лишь «а вдруг?..» и «может быть». Хендерсон знал, что в полицию обращаются всего около 10 % жертв изнасилования. Может быть, повезет, думал он, а может быть, и нет. Он поехал домой, поспал несколько часов, а рано утром сел на телефон и начал звонить в отделения полиции в Кенте и Норманди-Парке с просьбой поднять протоколы: не зафиксировано ли, случайно, еще одно изнасилование на 22-й Южной авеню в сентябре-ноябре 1980 года?
Через два дня ему перезвонили. Детектив из отдела сексуальных преступлений департамента общественной безопасности округа Кинг сообщил ему, что да, было изнасилование в том же месте; соответствующую запись он обнаружил в конце одного дела «с низким приоритетом». Потерпевшая, пятнадцатилетняя девица, убежавшая из дома, сообщила об изнасиловании по телефону, но потом так и не пришла на запланированный допрос.
Это происшествие было зарегистрировано под номером 80-187676 в 2:40 ночи 6 октября 1980 года — тоже жертва автостопа на Тихоокеанском Южном шоссе. Хорошо одетый мужчина в голубом спортивном автомобиле остановился и предложил подвезти ее до Такомы. Свернул с шоссе, сказав жертве, что ему нужно навестить брата. Завез ее на пустынную грунтовую дорогу вблизи 22-й Южной авеню, приставил нож к горлу и сказал: «Делай, что я говорю, и я тебя не трону». Эта потерпевшая описала насильника как мужчину 29-30 лет с бородой и каштановыми волосами, одетого в желтовато-коричневую спортивную куртку, синие брюки-слаксы, в коричневом галстуке.
Ну, что и требовалось! Всё как заказывали: дата, цвет машины, борода, извинение за то, что придется свернуть с шоссе, грязная грунтовая дорога, оружие к горлу, угрозы. Полное совпадение по всем пунктам! Но самое приятное — что 6 октября был понедельник, и, значит, Тайтус должен был быть на работе.
Хендерсон позвонил в отдел кадров Yegen Seafood и попросил бывшего начальника Тайтуса, Боба Денниса, посмотреть личные дела сотрудников: нет ли там записей о том, где был и что делал Стив Тайтус в понедельник 6 октября 1980 года? Деннис нашел расходный счет, из которого следовало, что в понедельник 6 октября Тайтус получил возмещение за проезд 147 км: от своей квартиры в Кенте в деловую часть Сиэтла, потом обратно, в бар Ivar’s Seafood в графстве Кент, а потом в магазин компании в Федерал-Уэй.
— На какой машине он ездил? — спросил Хендерсон.
— «Понтиак-леман» 1979 года с кузовом универсал, — ответили ему.
Итак, 6 октября Тайтус ездил на грузопассажирском автомобиле, а тот, кто изнасиловал пятнадцатилетнюю беглянку, сидел за рулем спортивного автомобиля.
Хендерсон передал найденную им информацию в полицию, которая 6 октября установила местонахождение жертвы изнасилования (семейный приют в Такоме). Сержант Харлан Боллинджер подготовил коллаж с изображениями восьми бородатых субъектов, включая Стива Тайтуса, и показал его пятнадцатилетней потерпевшей. Если бы она указала на фото Тайтуса, его дела были бы плохи, даже несмотря на алиби, подтвержденное в сообщении из отдела кадров его компании. Но эта жертва изнасилования даже не взглянула на фото Тайтуса второй раз.
В понедельник 8 июня 1981 года, вооружившись результатами журналистского расследования Пола Хендерсона, адвокат Стива Тайтуса доказывал в Верховном суде, что в неоднозначном деле об изнасиловании появились «новые доказательства вещественного характера», которые дают Тайтусу право на новое судебное разбирательство. Прокуратура решительно выступила против направления дела на новое рассмотрение. Судья Чарлз Джонсон рассмотрел новые доказательства, отменил обвинение Тайтуса в изнасиловании, имевшем место 12 октября, и согласился с передачей дела на новое рассмотрение.
Три недели спустя, 30 июня 1981 года, прокуратура сняла обвинение со Стива Тайтуса и объявила имя нового подозреваемого в изнасиловании 12 октября: Дэнни Стоун, безработный торговец из Кента, штат Вашингтон.
Стоуна и Тайтуса можно было принять за двойников: оба носили бороды и были примерно одинакового возраста, роста и веса. Дэнни Стоун был обвинен в изнасилованиях 6 октября и 12 октября, а также в изнасиловании, которое произошло в январе 1981 года, и в изнасиловании, совершенном всего за две недели до его ареста в июне, когда он уже был признан подозреваемым в трех случаях изнасилования.
Нэнси ван Роупер доставили в отделение полиции для опознания нападавшего вживую. Она посмотрела на Дэнни Стоуна через прозрачное зеркало и заплакала.
— Боже мой, — говорила она всхлипывая. — Что же я устроила мистеру Тайтусу?!
Дэнни Стоун сознался в этих изнасилованиях и был помещен в Западную государственную больницу в городе Стейлакум, штат Вашингтон, для прохождения программы лечения сексуальной психопатии.
* * *
На этом историю Стива Тайтуса можно было бы и закончить. Прокуратура и полиция порта Сиэтла должны были принести ему публичные извинения. Он должен был вновь соединить разрозненные куски своей жизни, вернуться на работу в Yegen Seafood, жениться на Гретхен и поднимать семью. Ему следовало бы просто вспоминать эти девять месяцев жизни как кошмар, который наконец закончился.
Система правосудия на некоторое время дала сбой, но в конце концов исправила свою ошибку. Стив Тайтус был оправдан, и ни у кого не осталось никаких сомнений в том, что он с самого начала был невиновен. В общем, все хорошо, что хорошо кончается.
Но, по мнению Стива Тайтуса, дела обстояли совсем иначе. Он-то как раз считал, что все закончилось очень плохо. Yegen Seafood так и не предложила ему вернуться на работу. Прокуратура так и не принесла ему публичных извинений. Гретхен решила, что она не может жить с этим одержимым злобой человеком, который забыл, как это — улыбаться, и расторгла их помолвку.
Стив Тайтус не мог просто простить и забыть все это. Система, в которую он верил и думал, что она гарантирует ему справедливость, вдруг обернулась монстром и ни за что ни про что объявила его виновным в тяжком преступлении. Она лишила его работы, невесты, сбережений, наконец репутации. Она разрушила его жизнь, и он хотел заставить кого-то заплатить за то, что с ним сделали.
В жаркий солнечный день в середине августа 1981 года я поехала на Пайонир-сквер, чтобы встретиться с Ричардом Хансеном и Дэвидом Алленом, адвокатами по уголовным делам, с которыми я работала по другим случаям предположительно ошибочного опознания. Пайонир-сквер находится в старой, исторической части Сиэтла, с брусчаткой, вековыми кирпичными зданиями, четырехзвездочными ресторанами и небольшими барами. И еще это место сбора людей городского «дна»: пьяниц, попрошаек, бездомных нищенок, обитающих на тротуарах и только что окрашенных парковых скамейках. Я припарковала машину на улице в нескольких кварталах от адвокатской конторы, прошла по тротуарам через странную толпу, состоявшую из попрошаек с протянутыми руками и прекрасно одетых джентльменов, спешащих на важные деловые встречи, и вошла в Пайонир-билдинг, самое старое офисное здание в Сиэтле, если верить Национальному реестру исторических зданий.
Мы встретились в библиотеке трехэтажного здания, где находилась контора Дэвида и Ричарда, в комнате, отделанной темным деревом и обставленной целыми шкафами тяжелых юридических томов в красных кожаных переплетах и с крупным золотым тиснением. Ричард познакомил меня с Полом Хендерсоном, который оказался мужчиной лет, может быть, сорока, худощавым, с редеющими волосами, застенчивой улыбкой и как бы приплюснутым носом. Он походил на боксера полусреднего веса, который в этот день пропустил слишком много ударов.
— Рад познакомиться с вами, — сказал он низким, скрипучим голосом, демонстрировавшим последствия многолетнего интенсивного курения.
Я пожала ему руку и сказала, что сильно волновалась перед встречей с ним.
— Я чувствую, что мы родственные души, — сказала я.
— Сражающиеся за правду, справедливость и американский путь? — спросил он.
— Ну что-то вроде этого, — ответила я, и мы оба рассмеялись.
Мы уселись в удобные кресла вокруг стола в конференц-зале, и Ричард Хансен объяснил, почему он собрал всех нас вместе.
— Стив Тайтус собирается подать в суд на полицию порта Сиэтла, — начал Ричард. — Он считает, что детектив Паркер давил на свидетелей и сфабриковал доказательства, и хочет встретиться с ним лицом к лицу в суде и рассказать правду о том, что с ним случилось. Он нанял нас, — Ричард кивнул в сторону Дэвида, — чтобы мы представляли его интересы в этом гражданском деле, и мы хотели бы пригласить вас обоих в качестве свидетелей-экспертов.
Ричард наклонился вперед в своем кресле, сложив руки и напряженно глядя на нас своими голубыми глазами.
— Пол, вы раскрыли это дело, продемонстрировав отличные навыки и интуицию и как репортер, и как следователь. Мы хотим поднять вопрос о том, что именно полиция должна была сделать то, что сделали вы, еще до того, как она обвинила Стива Тайтуса в этом изнасиловании. Они должны были постараться выяснить, именно так, как это сделали вы, не было ли похожих изнасилований в том же месте в пределах нескольких дней от даты изнасилования ван Роупер. Всякий, кто работает в сфере уголовного правосудия, знает, что насильники редко ограничиваются одним эпизодом, и поиск аналогичных преступлений здесь является стандартной процедурой. Пол проделал это самостоятельно, но я думаю, что граждане этого штата имеют право рассчитывать на то, что сотрудники полиции впредь будут принимать некие базовые, стандартные меры. Ведь Стива никогда бы не обвинили, если бы они просто нормально выполнили свою работу. Коротко говоря, мы бы хотели, чтобы вы помогли нам показать, что полиция, мягко говоря, промахнулась, и рассказали о том, как вы доказывали невиновность Стива. У нас есть признание Стоуна, но мы хотим, чтобы присяжные осознали и каждой клеточкой своего тела поверили, что Стив не виноват.
Ричард перевел взгляд на меня.
— Бет, мы надеемся, что вы согласитесь просветить присяжных в отношении того, насколько легко манипулировать свидетелями, используя различные «тонкие» подходы, и как быстро можно подвести свидетеля к уверенности в том, что он/она указывает на того самого человека. Все мы знаем, что сотрудники, проводящие допросы, на самом деле могут манипулировать свидетелями, причем таким образом, что сам свидетель этого даже не осознает. Анализируя протоколы допросов потерпевшей, мы пришли к выводу, что Паркер «подготовил» ее, сказав ей, что они поймали типа, который сделал с ней это ужасное дело. Паркер усадил ее на диван, сказал ей несколько утешительных слов, а потом сказал, что у него есть несколько фотографий и он хочет, чтобы она опознала мужчину, который ее изнасиловал.
— Если он действительно так сказал, — ответила я, — тогда вы можете утверждать, что это были наводящие высказывания, вследствие которых у потерпевшей сложилось представление, что насильник уже находится под стражей и ей надо просто его опознать. Наводящие инструкции, то есть высказывания, заставляющие свидетеля верить, что преступник действительно изображен на одном из представленных фото или присутствует в линейке, являются одним из способов давления на свидетелей, побуждающим их обязательно опознать кого-нибудь.
Я кратко рассказала им об исследовании, проведенном Роем Малпассом в государственном университете в Платтсбурге, штат Нью-Йорк, в котором студенты становились свидетелями «преступления», а затем получали предвзятые инструкции («У нас уже есть преступник, и он в этой группе») или объективные инструкции («Преступника в этой группе может не быть; если вы не видите его, скажите “его здесь нет”»). При этом были составлены две разные группы. В одном случае преступник действительно был в составе группы. 100 % свидетелей, получивших необъективные инструкции, кого-то выбрали; при этом 25 % выбрали не того человека. Из свидетелей, получивших объективные инструкции, 83 % указали на настоящего преступника, а 17 % ошиблись, сказав, что преступника здесь нет.
Но еще более интересными оказались результаты для второй группы, в которой преступника вообще не было, и, таким образом, все члены этой группы были «невиновны». Из тех, кто получил объективные инструкции, 33 % указали на одного из членов группы; но из тех, кто получил предвзятые инструкции, целых 78 % указали на одного из членов группы — группы невинных людей! — как на преступника.
Ричард кивнул головой.
— Даже без всяких предвзятых инструкций проблема все равно существует, потому что, когда людям показывают линейку, они чаще всего предполагают, что в нее включен преступник и все, что от них требуется, — это идентифицировать его. У них создается ощущение необходимости выбора, обязательно надо кого-то выбрать — даже если свидетель ни в чем не уверен. Эти мягкие внушения, как вы сказали, оказывают сильное воздействие на сознание жертв, как правило не осознаваемое ими. Особенно когда человек, делающий такое внушение, облечен властью. В данном случае у нас впечатлительная и не очень образованная семнадцатилетняя девушка, и с ней мягко, по-отечески разговаривает скромный, заботливый полицейский. Налицо все предпосылки для катастрофы.
— Меня всегда удивляет один момент, — ответила я. — Почему юристы Тайтуса не наняли эксперта-свидетеля для оценки объективности памяти и проблем с показаниями очевидцев? Ведь все дело против Тайтуса строилось на словах одного очевидца.
— Во-первых, существует проблема получения разрешения на дачу показаний экспертом в суде, добиться которого в этом штате крайне сложно, — сказал Ричард. — Я уверен, что это отчасти повлияло на решение Хиллера. Во-вторых, тут еще дело в том, что не было никаких вещественных доказательств, связывающих Тайтуса с этим изнасилованием, и что у Тайтуса было, казалось, железное алиби, подтвержденное фактом междугородного звонка. Знаете, я столкнулся с Томом Хиллером в кафе Merchant’s во второй половине дня, после закрытия прений, когда он ждал решения жюри присяжных. Я давно знаю Тома, он отличный адвокат, один из лучших. Я увидел, что он в депрессии, тревожится о чем-то, так что я сел рядом с ним и спросил, что его беспокоит. Он рассказал мне об этом деле — о сходстве номеров, об описаниях автомобиля и насильника, об опознании «насильника» потерпевшей, а потом показал на Тайтуса, который сидел в баре и пил пиво. «Я думаю, они собираются обвинить его, а он невиновен», — сказал Хиллер. «Почему вы думаете, что он невиновен?» — спросил я его. Мне все имевшиеся доказательства казались весьма убедительными. «Тайтус не насиловал ее, — ответил Хиллер. — Это не он. Потерпевшая “отвела назад” время, а Паркер просто лгал со свидетельской трибуны. Тайтуса обвинили ложно».
Ричард слегка вздрогнул.
— Знаете, этот случай — самый страшный кошмар для защитника. Хиллер верил умом и сердцем, да и просто печенкой чуял, что Тайтус невиновен. У него было алиби — зарегистрированный телефонный звонок, и время ну никак не совпадало. Не было абсолютно никаких вещественных доказательств причастности Тайтуса к этому преступлению. Как могли присяжные признать его виновным? И вдруг, буквально на пустом месте, ситуация начинает меняться: потерпевшая изменяет свои показания относительно времени, когда ее подсадили в машину; копы подделывают заявление Тайтуса; Паркер меняет свое мнение относительно следов шин; и присяжные, которые воспринимают это дело весьма эмоционально (все мы так относимся к изнасилованиям и убийствам), возвращаются в зал с обвинительным приговором.
Ричард постукивал ручкой о стол, погрузившись в свои мысли.
— Ну и что Хиллер мог тогда сделать? — спросил он спустя мгновение. — Не мог же он добиваться пересмотра дела просто на основании своей прямо-таки животной уверенности в том, что Тайтус невиновен. Он должен был добыть новые доказательства, вещественные доказательства, подтверждающие невиновность Тайтуса. У него были и другие клиенты, интересы которых он должен был отстаивать, а у Стива не было денег, чтобы финансировать полномасштабное расследование. Похоже было, что Стиву определенно светит тюрьма.
Ричард повел рукой в сторону Пола Хендерсона.
— Перед вами «Сиэтл таймс» в лице Пола Хендерсона. Пол расследовал это дело, стал сторонником Стива и в итоге обнаружил доказательства того, что это изнасилование совершил другой человек. Его статьи помогли исправить ужасающую несправедливость и одновременно установить ошибку потерпевшей при опознании и констатировать полное фиаско тестирования на полиграфе с целью установления истины.
Тут впервые заговорил Дэвид Аллен, партнер Ричарда:
— Всех остальных участников, кроме Стива, такой конец устраивает. Правосудие сбилось с курса, но, благодаря мастерски проведенному журналистскому расследованию и наличию, слава богу, свободной прессы, его удалось образумить. Виновного ждет справедливое наказание, а невиновный освобожден. Ужасные девять месяцев — и такой красивый, впечатляющий конец. Всех нас это наверняка бы устроило, но для Стива Тайтуса ничто и никогда больше не будет красивым и благополучным. Его жизнь полностью разрушена. Он не может ни спать, ни есть, он потерял работу, у него почти не осталось сбережений, его бросила невеста, и он чувствует, что его репутация тоже испорчена. Многие ничего и не слышали о том, что в изнасиловании сознался другой человек, а Тайтус полностью оправдан. Они помнят имя Тайтус и, глядя на него, думают: «Он осужден за изнасилование». Жизнь Стива Тайтуса просто разлетелась на множество обломков, и он жаждет справедливости. Добиться справедливости и, может быть, отчасти и отомстить.
Я смотрела на Ричарда и Дэвида, и меня, как всегда при работе с ними, поражало, как могут столь яркие противоположности так идеально дополнять друг друга в паре. Ричард — высокий, с аккуратно подстриженными светлыми курчавыми волосами и тонкими чертами лица. Дэвид — сантиметров на пятнадцать ниже, темноволосый, борода с проседью и очки в проволочной оправе. Ричард — экстраверт, быстро соображает и четко излагает, всегда в центре стычки. Дэвид — замкнут, насторожен, с добрыми карими глазами, реагирующими на каждое слово и каждый жест.
— Значит, справедливость и месть, — повторила я. — А в гражданском процессе Стив надеется добиться возмещения расходов, понесенных им в ходе уголовного процесса? Или он надеется на нечто большее?
— На нечто большее. — Ричард и Дэвид посмотрели друг на друга, и Ричард слегка кивнул, передавая слово Дэвиду.
— Мы считаем, что детектив Паркер лгал со свидетельской трибуны, — сказал Дэвид. — Мы считаем, что он убедил жертву изнасилования в том, что она неправильно указала время, и придумал историю о следах шин и коричневой виниловой папке. Мы также считаем, что он сфальсифицировал доказательства против Стива Тайтуса. Речь идет в первую очередь об автомобильных номерах. Мы полагаем, что либо жертва никогда не называла Паркеру регистрационный номер автомобиля, либо она назвала ему совершенно другой номер. А после того, как Паркер задержал Тайтуса и записал временный регистрационный номер его машины, он изменил полицейский отчет, вставив в него именно эти цифры.
Пол Хендерсон прямо подпрыгнул. Он сказал, что заподозрил что-то неладное сразу, еще когда первый раз встретился со Стивом у него дома в Кенте и они выпили шесть банок пива. Ну конечно, неправомерные действия полиции, понял Хендерсон; потому что как иначе они смогли бы прищучить Тайтуса, у которого было такое твердое алиби?
Хендерсон продолжал говорить, тыча в воздух зажженной сигаретой. Регистрационный номер с самого начала был самой тяжелой уликой против Тайтуса, сказал он, потому что цифры, которые жертва изнасилования назвала Паркеру, почти совпадали с временным номером Тайтуса. Но когда Дэнни Стоун, настоящий насильник, был пойман и признался, то оказалось, что его номер радикально отличается от того, что указан в полицейском отчете. Узнав об этом, Хендерсон понял, что Паркер просто взял номер автомобиля Тайтуса и вставил его в свой отчет.
— Мы тоже думаем, что именно это он и сделал, — сказал Ричард. — Мы наняли Яна Бека, специалиста по анализу документов, который долгое время работал на ФБР и ЦРУ. Бек проверил полицейские отчеты и констатировал, что в них вносились изменения. Номер автомобиля Тайтуса был вставлен позже, уже после того, как первоначальный полицейский отчет был отпечатан и подписан потерпевшей. Страница с номером автомобиля Тайтуса выпадает из последовательности, а шрифт, которым напечатан номер, не соответствует виду остального печатного текста на странице.
— Почему же Паркер решился на такое вопиющее нарушение? — спросила я. — Зачем ему понадобилось фабриковать доказательства и давать ложные показания в качестве свидетеля? Просто чтобы засадить Стива Тайтуса?
— А почему нет? — мягко улыбнулся Ричард. — Попробуем рассуждать так: Паркер расследует изнасилование и у него есть жертва и даже есть подозреваемый, который подходит под описание почти по всем пунктам. Он допрашивает потерпевшую, но она не может вспомнить цифры номерного знака или, может быть, называет ему номер, который не совпадает с номером машины Тайтуса. Позже, после ареста Тайтуса, он понимает, что существует лишь одна небольшая нестыковка — номера не совпадают. Но Тайтус так хорошо вписывается в общую картину, ну все совпадает, кроме, может быть, некоторых мелочей: его рост, борода, номер здесь и там. Ну и он думает: «Она неправильно указала номер. Она не смогла его вспомнить, потому что была испугана и растеряна. Это сделал Тайтус, сомнений нет, но он выйдет на волю, если у нас не будет каких-нибудь железобетонных доказательств. Выйдет на волю, а там, глядишь, и снова кого-нибудь изнасилует. Я не могу этого допустить». Так что в интересах закона и правосудия и с целью перемещения преступников с улицы за решетку Паркер взял номер автомобиля Тайтуса и вставил его в исходный отчет. Это всего лишь небольшое дополнение к делу; вот как он, наверное, оправдывал этот поступок. Просто небольшая дополнительная подстраховка.
— Мы прочитали все эти отчеты с начала до конца и обратно, — сказал Дэвид. — После того как Бек рассказал нам об этих подозрительных страницах, нам достаточно было просто взять линейку и увеличительное стекло, чтобы увидеть, что кто-то взял готовый отчет, снова вставил его в машинку и добавил в него регистрационный номер автомобиля Тайтуса. Как просто и как подло!
— И это вполне могло бы сработать, — сказал Ричард, — если бы Тайтус не был таким бойцом и если бы на сцене не появился Пол Хендерсон. Они же уже почти закрыли Стива. Ведь когда Хендерсон обнаружил другой случай изнасилования, до вынесения приговора оставалось всего несколько дней. Так что Паркеру все могло сойти с рук.
— А где теперь Паркер, что с ним? — спросила я.
— Департамент [полиции] вступился за него, — сказал Ричард, — и они готовы воевать с нами любыми средствами. На кону их репутация, и они подают ходатайства одно за другим, всячески пытаясь не допустить суда.
Ричард и Дэвид снова посмотрели друг на друга, и их взгляды говорили о партнерстве и дружбе, а также о том, что впереди у них длинные, тяжелые ночи. Ричард вздохнул:
— Любая прямая атака на полицию, любая попытка подать в суд на департамент полиции за их халатность или некомпетентность встречает жесточайшее сопротивление. Нам предстоит долгая и отвратительная борьба.
* * *
Последние четыре месяца 1981 года и в течение 1982, 1983 и 1984 годов Стив Тайтус и его адвокаты продирались через бумажные лабиринты и досудебные споры, отмечавшие ход этого невероятно сложного гражданского иска. Полиция порта Сиэтла отчаянно дралась за каждый сантиметр этого пути, и дело продвигалось в направлении суда очень медленно и мучительно.
Время от времени то Ричард, то Дэвид звонили мне и рассказывали о последних изменениях, о положительном решении суда, о новой экспертизе по запросу полиции, о наметившейся задержке. Мне всегда хотелось спросить, как держится Тайтус, но каждый раз я стеснялась это сделать.
— Он сильно расстроен, — сказал Ричард во время одного из таких разговоров. — Он стал чрезвычайно недоверчивым.
— К вам? — спросила я.
— Ко всем. Все гораздо хуже, чем любой из нас мог себе представить. Понятно, что время лечит не все раны, но менее всего — раны Стива Тайтуса. Он постоянно занят этим делом и, кажется, думает о нем даже во сне. И особенно он страдает оттого, что перед ним до сих пор так никто и не извинился. Я думаю, если хотя бы один человек из полиции или из прокуратуры сказал ему: «Парень, ну извини, ну вот так мы лопухнулись», он бы ощущал горечь и гнев уже не так остро. Но вместо этого он ощущает себя нытиком, жалобщиком, надоедливым занудой, в то время как они пытались скрыть свои грехи, оправдывая себя тем, что он выглядел виноватым, и поэтому им не оставалось ничего другого, кроме как преследовать его в уголовном порядке. «Мы не делали ничего плохого, — говорили они. — С учетом имевшихся доказательств, у нас не было иного выбора, кроме как продолжать». Вообразите, каково это было слышать Стиву Тайтусу. Они еле-еле, через губу выразили ему свое сожаление, но извиняться отказались. Они просто разрушили его жизнь, и ни один не сказал: «Извините нас!»
— Разрушили его жизнь… — повторила я. — На время или навсегда?
— Не знаю, — ответил Ричард. — Честно, не знаю. Я однажды увидел, как Стив улыбнулся, и вдруг понял, что я первый раз вижу его улыбку. В тот день мы были в Апелляционном суде, и там был представлен очень весомый аргумент в поддержку ходатайства департамента полиции об отказе в удовлетворении нашего иска о халатном расследовании. Две крупные юридические фирмы дрались с нами насмерть, изо всех сил, не стесняясь в средствах. Выслушав череду сильных аргументов, судья выдал нам великолепное решение. Он посмотрел на нас и сказал: «Вы сможете выступить в суде, я не собираюсь вмешиваться». Я взглянул на Стива — он ухмылялся во весь рот. Но это длилось всего около трех секунд, а потом улыбка исчезла. Интересно, увижу ли я когда-нибудь снова его улыбку?
— Сможет ли он когда-нибудь перешагнуть через все это?
— Не думаю, — ответил Ричард. — Каждый из нас задавал себе этот вопрос. Мы же все наблюдаем за непрекращающейся борьбой этого человека и думаем: ну почему он не может как-то наладить свою жизнь? Но мы не испытали того ужаса, который испытал он, и поэтому мы не можем понять, каково ему теперь с этим жить. Мы просто не можем это прочувствовать.
* * *
И вот дело Тайтуса наконец обрело судебную перспективу. Все ходатайства, поданные департаментом полиции Сиэтла, были отклонены судом, все препятствия устранены, и слушание дела было назначено на 19 февраля 1985 года. Итак, Стиву Тайтусу потребовалось четыре с половиной года, чтобы получить возможность быть выслушанным в суде и наконец выступить в роли обвинителя, указывающего пальцем на людей, сидящих за столом защиты.
Оставшиеся до суда месяцы превращались в недели, недели — в дни, и я поймала себя на мысли, что Стив, наверное, считает оставшиеся дни. Утром 30 января, за девятнадцать дней до суда, Стив Тайтус проснулся, сгибаясь от боли. Он рухнул на пол, протянул руку женщине, с которой он жил, и прошептал: «Не бросай меня!»
Когда приехала «неотложка», Стив был уже в коме. Его сердце остановилось. Его доставили в отделение неотложной кардиологии в медицинском центре Валлей в Рентоне, где он так и лежал в коме, подключенный к аппарату искусственного дыхания и кардиомонитору.
8 февраля 1985 года, за одиннадцать дней до прямого противостояния со своими мучителями в суде, Стив Тайтус умер. Ему было тридцать пять лет.
По результатам внесудебного соглашения с портом Сиэтла родственникам Стива Тайтуса в течение 20 лет будет выплачено 2,8 миллиона долларов.
8 июня 1987 года, через шесть лет после снятия обвинения с Тайтуса, детектив Рональд Паркер был обнаружен на полу рядом со своим шкафчиком в тренировочном корпусе. Оказалось, что он умер от сердечного приступа. Ему было сорок три года.
* * *
Стив Тайтус похоронен на Вашингтонском мемориальном кладбище на Тихоокеанском Южном шоссе, недалеко от аэропорта Сиэтл-Такома. Как-то в один из ветреных весенних дней я поехала на это кладбище и нашла его могилу под двумя небольшими вечнозелеными деревьями. В землю была заделана небольшая каменная плита примерно 30 х 30 см; трава вокруг нее была аккуратно подстрижена. Сзади, со стороны Тихоокеанского Южного шоссе, на котором много лет назад началась эта трагедия, доносился шум непрерывно мчащихся туда-сюда машин.
Я опустилась на колени и сдвинула с камня свежие цветы, чтобы прочитать эпитафию. Она гласила:
Стивен Дж. Тайтус
1949-1985
Боролся за то, чтобы его выслушали в суде,
был раздавлен, обманут, предан
и лишен даже посмертной справедливости
4. Типичный американский парень. Тед Банди
Он был типичным американским парнем, убивавшим типичных американских девушек.
Джеймс Сьюэлл, заместитель шефа полиции кампуса Университета штата ФлоридаТеперь, оглядываясь назад, я не могу припомнить, чтобы Джон О’Коннелл когда-нибудь говорил мне, что его клиент, двадцатитрехлетний студент-юрист Тед Банди, невиновен. У меня сохранилось письмо О’Коннелла, в котором он ссылается на выдвинутое против Банди обвинение в похищении людей как на «одно из наиболее интересных дел, связанных с опознанием преступника очевидцами». Я также помню наш телефонный разговор, в котором он говорил о «чрезвычайно неубедительных аргументах» против его клиента. Он часто особо подчеркивал путаницу и неопределенность в показаниях жертвы похищения — как оказалось, единственной, кому удалось выжить и рассказать о нескольких мгновениях ужаса, пережитых ею рядом с Тедом Банди.
Но, прокручивая в памяти странные, болезненные воспоминания о моем участии в деле Теда Банди, я все же не могу припомнить, чтобы Джон О’Коннелл хоть раз со свойственной ему страстью и энергией утверждал, что его подзащитный невиновен. Может быть, это специфическое умолчание и должно было кое-что мне подсказать.
* * *
Имя Теда Банди ничего мне не говорило до декабря 1975 года, когда Джон О’Коннелл впервые связался со мной по поводу выдвинутого против его клиента обвинения в похищении людей. Ну что, имя как имя. Но один момент в письме О’Коннелла заставил сработать систему сигнализации в моей памяти. Вторая строчка в пятистраничном, напечатанном через один интервал письме.
Уважаемая д-р Лофтус! Я представляю интересы Теда Банди, которого здесь, в Солт-Лейк-Сити, обвиняют в похищении людей. Банди — студент юридического факультета в Сиэтле, и здесь он уже человек весьма известный, поскольку это происшествие сделало его главным подозреваемым в «случаях с Тедом».
Я знала все о «случаях с Тедом» и готова была поспорить, что каждая женщина, жившая тогда в штате Вашингтон, знала о них. С января 1974 года здесь стали пропадать девушки и молодые женщины — от старшего подросткового возраста до двадцати с небольшим лет, все красивые, с длинными каштановыми волосами, с прямым пробором. Раз в месяц исчезала очередная жертва. СМИ, со свойственной им паскудной бесчувственностью, стали называть пропавших женщин «Мисс Февраль», «Мисс Март», «Мисс Апрель» и «Мисс Май».
В июне 1974 года темп ускорился — исчезли уже две женщины, а в июле две женщины исчезли в один и тот же день из одного и того же национального парка у озера Саммамиш, в 20 км к востоку от Сиэтла. Но теперь наконец появились свидетели, которые сообщили полиции, что к нескольким женщинам подходил вежливый и привлекательный молодой человек с левой рукой на перевязи, называвший себя Тедом, и просил их помочь ему погрузить на машину парусную лодку. Сам он не может, объяснял он с застенчивой улыбкой, потому что вывихнул руку.
После этого исчезновения вроде бы прекратились, но зато стали обнаруживаться ужасные находки. В сентябре охотник на куропаток обнаружил возле заброшенной дороги для вывоза леса в 32 км к востоку от Сиэтла останки трех женщин. Следующей весной два студента лесотехнического института во время пешей прогулки по нижней части склонов горы Тейлора в окрестностях города Норт-Бенд обнаружили еще одно место, где преступник оставлял тела своих жертв. Там были найдены четыре черепа и разные другие кости, и все черепа были проломлены тяжелым тупым предметом, причем явно с невероятной силой и яростью.
Я вернулась ко второй странице письма О’Коннелла, где он описал один из случаев похищения, и перешла на третью страницу, где он писал об аресте Банди за нарушение правил дорожного движения почти через десять месяцев после похищения.
Никаких доказательств причастности подозреваемого к этому преступлению, кроме совпадения группы крови (первая, или 0) с группой крови, найденной позже на одежде жертвы, не было. И это несмотря на то, что в отношении Теда Банди было проведено самое тщательное полицейское расследование, которое я когда-либо видел. Поскольку времени со дня совершения преступления прошло очень много, мы не смогли установить алиби для соответствующего момента времени.
К своему письму О’Коннелл приложил 20-страничный полицейский отчет и расшифровку стенограммы заявления потерпевшей, сделанного в ночь происшествия. При работе с полицейским отчетом и стенограммой О’Коннелл использовал толстый черный карандаш, которым подчеркивал некоторые слова и фразы и делал пометки на полях. Я начала читать.
Преступление: похищение
Дата совершения: 11.08.1974
Подозреваемый: белый мужчина, американец, 25-30 лет, каштановые волосы средней длины, рост примерно 180 см, стройного/среднего телосложения, усы аккуратно подстрижены. Одежда: зеленые штаны и спортивная куртка, цвет неизвестен. Блестящие черные туфли из лакированной кожи.
От подчеркнутого слова вела стрелка к левому полю, где О’Коннелл нацарапал: «См. отпечатанные показания — там красновато-коричневые туфли».
Я пролистала остальные страницы полицейского отчета и заметила еще одно подчеркнутое место.
Потерпевшая утверждала, что она поцарапала подозреваемого, но, вероятно, не ногтями; что она не заметила на своих руках крови, которая должна была бы принадлежать подозреваемому, и что сама она не поранилась. Однако она не помнит, чтобы она поранила нападавшего.
В ходе беседы потерпевшая заявила, что, по ее мнению, она могла бы опознать подозреваемого, если бы увидела его снова, потому что она примерно 20-30 минут провела с ним в торговом центре, прошла почти всю парковку и довольно долго находилась вместе с ним в машине. Потерпевшая сама отпечатала свои показания, которые были включены в данный отчет в качестве приложения.
Дополнительный отчет содержал стенограмму разговора потерпевшей Кэрол Даронч с детективом Ритом. Я полистала и этот отчет, обращая внимание на подчеркивания и комментарии О’Коннелла. На четвертой странице детектив Рит спрашивает потерпевшую, сколько, по ее мнению, лет напавшему на нее человеку.
— От двадцати пяти до тридцати, — отвечает она.
— Как вы думаете, сколько мне лет? — спрашивает Рит.
— Я не могу назвать возраст, — отвечает Даронч.
О’Коннелл подчеркнул слова «Я не могу назвать возраст». На следующей странице зафиксирован такой диалог:
Р и т. Была у него борода, или какие-нибудь усы, или бакенбарды?
Д а р о н ч. У него были усы.
Р и т. Длинные, густые усы? Или короткие? Или средние?
Д а р о н ч. Точно, средние.
Но у Банди вообще не было усов! Эти слова, аккуратно написанные печатными буквами, были вынесены в скобки на полях.
Это показалось мне странным. Почему потерпевшая помнит усы, даже частично описывает их как «средние», если никаких усов не было? С другой стороны, может быть, для быстрой маскировки Банди использовал накладные усы.
Чуть ниже на той же странице детектив Рит спрашивает про обувь нападавшего.
Р и т. Обувь? Вы заметили какую-либо обувь?
Д а р о н ч. Да, туфли из лакированной кожи.
Р и т. Цвет?
Д а р о н ч. Что-то вроде красновато-коричневого.
Здесь туфли красновато-коричневые, а не черные, как значится на первой странице полицейского отчета. Расхождение небольшое, но в сочетании с другими сомнениями и противоречиями в показаниях потерпевшей можно утверждать, что буквально через несколько часов после происшествия она уже с трудом восстанавливает в памяти подробности попытки ее похищения.
Вот разговор о машине на шестой странице расшифровки стенограммы:
Р и т. Вы помните его машину?
Д а р о н ч. Да. Конечно. Более или менее.
Р ит . Какой марки была машина?
Д а р о н ч. «Фольксваген».
Р и т. Они все выглядят почти одинаково, не так ли? Все похожи друг на друга, да?
Д а р о н ч. Да.
Р и т. Вы заметили, какого она была цвета?
Д а р о н ч. Она была светлого цвета, голубая или белая.
Р и т. Не было ли каких-нибудь трещин на каком-либо из окон? Не помните?
Д а р о н ч. Нет, не припоминаю.
Р и т. А какие-нибудь наклейки на каком-либо из окон?
Д а р о н ч. Нет, не помню.
Р и т. Не припомните, какого цвета была обивка?
Д а р о н ч. Нет.
Р и т. Она была темной или светлой?
Д а р о н ч. Я не помню.
О’Коннелл отметил все это жирным черным маркером, не пропустив ни одного из этих пробелов в памяти. «Нет», «не помню», «я не помню» — все подчеркнул. Я подумала, что детектив Рит, наверное, был недоволен таким результатом. Я даже представила его себе откинувшимся на спинку скрипучего стула и тыкающим в десны зубочисткой. И вдруг, согласно моему воображаемому сценарию, он бросил зубочистку в грязную металлическую мусорную корзину, наклонился вперед, плотно сжав руки вместе, и попросил Даронч как можно точнее рассказать о том, что произошло после того, как к ней подошли в торговом центре.
Р и т. С чего он начал разговор, когда подошел к вам? Что он сказал?
Д а р о н ч. Он спросил меня, не припарковала ли я автомобиль на парковке Sears, и я сказала ему, что припарковала… тогда он сказал мне, что кто-то пытался взломать его с помощью куска проволоки, а кто-то другой увидел это, вошел в магазин и сообщил об этом ему. А потом мы вышли из дверей между Auerbachs и Ropers и подошли к моей машине на парковке Sears, потом я достала свои ключи и открыла дверь с моей стороны, со стороны водителя, и там все было в порядке.
Р и т. Что он тогда сделал?
Д а р о н ч. А потом мы подошли к двери на другой стороне, и он хотел, чтобы я открыла ее, а я спросила его — зачем? Я сказала: «Я же вижу, что из машины ничего не пропало».
Р и т. Тогда вы начали подозревать его?
Д а р о н ч. Да.
«Стресс, страх», — записала я на листке для заметок. Потом Даронч рассказала о том, как «офицер Роузленд» проводил ее обратно в торговый центр и там предложил отвезти ее в отделение полиции, чтобы она могла написать заявление. В этот момент она попросила его показать удостоверение.
Д а р о н ч. … Он открыл свой бумажник и показал мне вроде бы жетон, но он был весь золотой, и я не смогла разглядеть, написано на нем что-нибудь или нет. Он спрятал его во внутренний карман куртки. Потом мы пошли к машине. и он открыл. он был очень мил, открывал для меня все двери.
Открывал для меня все двери. У меня в памяти что-то щелкнуло, как будто и правда открылась дверь или луч света вдруг прорезал тьму. Я вспомнила, что одна из пострадавших с озера Саммамиш рассказывала полиции о каком-то «Теде». Он был «очень искренним», говорила она. «С ним было легко говорить. По-настоящему дружелюбный. У него была приятная улыбка». Тут я вспомнила еще один факт: «Тед» приехал к озеру Саммамиш на бежевом «фольксвагене».
И все его жертвы были молодыми женщинами с длинными каштановыми волосами с пробором посередине.
У Кэрол Даронч были длинные каштановые волосы? Был ли «фольксваген» голубым, как говорила Даронч с самого начала, или бежевым, как она утверждала позже? Когда Тед Банди перебрался из Сиэтла в штат Юта? Тед из Юты — это тот же Тед, что и в парке у озера Саммамиш, или нет?
Так, Бетси, стоп! Будем оперировать фактами. Я сделала глубокий вдох, потом еще один, и снова сосредоточила внимание на выцветшей ксерокопии полицейского отчета.
Д а р о н ч. [Он] помог мне открыть дверь машины для меня, я села, и [он] обошел [машину], сел и сказал мне пристегнуться, а я сказала. нет, я не хочу пристегиваться. А затем он развернулся, и тогда я задумалась, почему он не едет в полицию, а он повернул и поехал на восток, а затем повернул назад у знака «стоп». и потом он остановил машину, чуть-чуть съехал на обочину и спустился вниз, и я сказала ему: «Что вы делаете?», а потом я открыла дверь машины и выставила ногу, а потом он схватил мою правую руку и защелкнул на ней наручники, и я начала кричать, и я пыталась вырваться, а он достал пистолет и сказал, что застрелит меня.
Детектив Рит спросил ее про пистолет, но Даронч смогла описать его только как «черный и маленький». «Я не смогла как следует рассмотреть его», — сказала она.
«Концентрация внимания на оружии», — записала я в блокнот. Перед ее лицом размахивали пистолетом, так что неудивительно, что она с трудом вспоминает подробности.
Д а р о н ч. И тогда я снова начала кричать, попыталась схватиться за ручку машины, а он сказал, что застрелит меня, но я просто начала рваться из машины, и выскочила из машины вместе с ним, и он держал [меня]… левой рукой. У него в машине была монтировка, и я схватила монтировку, чтобы он не смог ударить меня, а он пытался оттянуть ее вниз, и меня с ней, и я не помню, упала я или нет, и наконец, не знаю, как это у меня получилось, но я вырвалась и выбежала на улицу. Я думала, что он гонится за мной, а потом я увидела машину и встала посреди улицы и начала махать руками, побежала к ней, и они остановились.
В расшифровке стенограммы нет запятых. Соответственно, представила я себе, звучал и голос Кэрол Даронч, когда она выплескивала из себя подробности тех недолгих, но ужасных мгновений, когда она изо всех сил боролась за свою жизнь.
Нет никаких сомнений в том, что Кэрол Даронч была охвачена ужасом, а когда люди боятся, их воспоминания становятся «скользкими», ускользающими, в них теряются детали и по-иному выстраиваются факты. Вспоминая что-нибудь, мы извлекаем куски прошлого из какой-то таинственной области в мозге, неровные кусочки мозаики, которые мы сортируем, сдвигаем, расставляем и переставляем, пока они не сложатся в картину, которая имеет смысл. Конечный продукт — воспоминание — кажется нам таким четким и сосредоточенным в нашем сознании, но на самом деле это лишь отчасти факт, а отчасти вымысел, деформированная и перекрученная реконструкция реальности.
Искажения возникают даже при отсутствии какого-либо стресса, страха, беспокойства или ужаса. Это естественное следствие несовершенства нашей способности хранить и извлекать из памяти данные. Но в случае какого-либо экстраординарного стресса (а в рассматриваемой ситуации он, несомненно, имел место) искажения также могут быть экстраординарными.
Когда Кэрол Даронч говорила детективу Риту, что она не может вспомнить те или иные подробности попытки похищения, она говорила правду. Всего через час после пережитого ею потрясения она не могла вспомнить даже самые очевидные подробности, касающиеся напавшего на нее человека, его автомобиля и оружия, которым он махал перед ее лицом. Ее память была разъедена кислотой страха.
Оставалась только одна страница дополнительного отчета. Рит спросил Даронч про жетон «офицера Роузленда».
Р и т. Вы смогли прочитать хоть что-нибудь, что там было написано? Был там орел или что-то подобное? Вот полицейский жетон. Был там такой орел или что-то похожее?
Д а р о н ч. Он был не такой большой, как этот, но имел такую же форму.
Р и т. И он был такого же цвета?
Д а р о н ч. Нет, он был весь золотой.
Последняя фраза — «Нет, он был весь золотой» — подчеркнута жирной черной чертой, и на полях примечание карандашом уже знакомыми каракулями О’Коннелла: «На слушаниях она показала, что он был сине-бело-золотой, то есть такой же расцветки, как и полицейский жетон Мюррея, показанный ей офицером полиции».
Я набрала номер Джона О’Коннелла в Солт-Лейк-Сити.
— Это Элизабет Лофтус, — сказала я, когда О’Коннелл взял трубку. — Я получила ваше письмо и полицейские протоколы по делу Банди, и, судя по тому, что я уже прочитала, кажется, здесь имеют место определенные психологические проблемы в связи с опознанием подозреваемого, которые я могла бы обсудить.
— Здорово! — прогремел в трубке голос О’Коннелла. Я даже отвела динамик от уха, пытаясь защитить свои барабанные перепонки. — Я уже писал в письме, что, на мой взгляд, это дело о похищении в целом имеет очень слабую доказательную базу, но с учетом массовой досудебной огласки, в этом процессе для моего клиента складывается крайне опасная ситуация.
О’Коннелл на мгновение замолчал, и мне удалось услышать звук зажигаемой спички, а затем выдох. «Трубка или сигарета?» — подумала я.
— Я должен сообщить вам, что за три недели до этого случая было еще одно похищение в Мюррее, исчезла дочь начальника полиции Мидвейла. Мидвейл находится километрах в восьми от Мюррея. Ее тело нашли через десять дней, она была изнасилована и убита. Хотя никаких доказательств, связывающих эти два инцидента, нет, в полиции Мюррея, кажется, склонны считать оба этих инцидента фактически нападением одного и того же человека на их отдел. Их здорово напрягает эта ситуация.
«Ретивые полицейские?» — записала я в блокноте.
— Мюррей — большой город? — спросила я.
— Примерно двадцать шесть тысяч жителей, — ответил О’Коннелл.
Я добавила дюжину вопросительных знаков после своих ретивых полицейских. Убийство и попытка похищения человека в течение двух недель — это, по-видимому, все-таки чересчур для небольшого города. Если бы я жила в Мюррее, я бы тоже встревожилась.
— А как насчет связи с вашингтонскими убийствами и исчезновениями? — спросила я.
— Это все несущественно, — сказал О’Коннелл, и его голос звучал успокаивающе. — Копы из Сиэтла встречались с копами из Юты и Колорадо, и даже вместе они не смогли найти никаких твердых доказательств причастности Банди к другим преступлениям. Но от них требуют найти подозреваемого, и Банди, кажется, единственный, кто у них есть. Они убеждены, что вышли на след серийного убийцы, действующего в нескольких штатах. Но огласка просто возмутительная. Не далее как в прошлом месяце я видел в одной из газет Сиэтла статью с заголовком «Тед из Юты — это Тед из Сиэтла?».
Я проигнорировала ощущение бурления в животе и перешла на вторую страницу письма.
— Вы упомянули, что мистер Банди был арестован за нарушение правил дорожного движения через девять месяцев после попытки похищения.
— Именно так. Патрульный остановил его на шоссе в августе прошлого года около двух часов ночи, потому что у него были частично включены стопсигналы.
— А как получилось, что банальное нарушение правил привело к его задержанию?
— Они нашли у него в машине лыжную маску, наручники, нож для колки льда, ломик и еще кое-какие инструменты. Они арестовали его за хранение инструментов для взлома.
«Наручники, нож для колки льда, инструменты для взлома?» — записала я в блокнот. Эта маленькая «заначка», конечно, характеризует мистера Банди не с лучшей стороны. Зачем он в два часа ночи гоняет на машине по жилым кварталам с наручниками и ножом для колки льда?
— Что было потом? — спросила я.
— Вскоре после его первоначального ареста за нарушение правил дорожного движения мистера Банди допросили насчет случаев пропажи девушек, но он, конечно, все отрицал и говорил, что ничего об этом не знает, — объяснил О’Коннелл. — Потом жертве попытки похищения показали фотографию Банди вместе со многими другими фотографиями (вообще после этого инцидента она просмотрела буквально сотни фотографий, пытаясь опознать виновника), и она выбрала его фотографию, объяснив, что этот человек больше похож на ее похитителя, чем люди на всех остальных фотографиях, которые она видела. «Я думаю, этот очень похож на того, я уверена» — это ее точные слова.
Но тут начинается самое интересное, — продолжил О’Коннелл тихим, доверительным тоном. — Я вполне мог бы представить его сидящим за широким дубовым столом, поправляющим галстук и любующимся видом на Табернакль[7] из окна своего офиса в высотке со стеклянным фасадом. «Через несколько дней после первого опознания Банди потерпевшей сотрудник полиции показал ей еще одну фотографию Банди, на этот раз на водительском удостоверении. И тут вдруг ее память резко улучшается, и оказывается, она убеждена, что Банди — именно тот человек. Но ведь не исключено, что копы сами сформировали нужное изображение в ее мозгу.
В словах О’Коннелла был определенный смысл. Показав ей две разные фотографии одного и того же человека, полиция фактически могла создать новый образ в памяти Даронч. Глядя на вторую фотографию, она, возможно, просто вспомнила лицо, которое видела на первой фотографии. А когда этот образ прочно зафиксировался в ее сознании, уже легко было вставить лицо Банди (которое она видела уже на двух отдельных фото) в оставшийся в памяти первоначальный образ «офицера Роузленда».
— Когда проводилось опознание в группе? — спросила я.
— Второго октября тысяча девятьсот семьдесят пятого года.
— Почти через одиннадцать месяцев после попытки похищения, — подсчитала я вслух. — Была ли линейка объективной, как по-вашему?
— Черт побери, конечно нет! — воскликнул О’Коннелл. — Она видела две разные фотографии Банди, но никогда не видела других парней из представленной ей группы. Кстати, все они были полицейскими. Ну и кого, по-вашему, она выбрала?
«Ошибочное опознание под влиянием фотографий». Я написала это большими буквами и дважды подчеркнула эти слова. Они могут стать важнейшим аргументом защиты. Если свидетель уже видел фото данного человека, то в случае включения его в состав линейки для опознания его лицо, конечно, покажется свидетелю знакомым. Свидетельница может встроить это знакомое лицо в свои воспоминания о преступлении и преступнике и ошибиться при опознании.
Я опустила ручку.
— Мистер О’Коннелл… — начала я.
— Джон, — прервал он меня. — Пожалуйста, зовите меня просто Джон.
— Хорошо. Джон, я поняла, что есть несколько факторов, которые в данном случае могли бы привести к ошибке при опознании. Но каковы мои шансы на то, что мне разрешат представить свои соображения?
Верховный суд по традиции постановил, что эксперт-свидетель не может давать показания о том, что, как можно с полным основанием предполагать, должно быть известно и неспециалисту. Прокурор по делу Банди почти наверняка так же отвергнет мои показания, опираясь на это стандартное постановление, как это уже делали другие прокуроры, отвергая показания эксперта-психолога в предыдущих случаях. За два года, прошедшие после того, как я впервые появилась в зале суда в качестве свидетеля-эксперта по проблемам памяти и восприятия, мне предложили дать показания по семи делам, но только в трех случаях из этих семи мне разрешили дать показания в суде.
— Мы считаем, что вероятность того, что мы сможем пригласить вас на свидетельскую трибуну, достаточно велика, — ответил О’Коннелл. — Правила в отношении свидетелей в штате Юта менее строгие, чем в Вашингтоне или в Калифорнии, и в одном случае нам удалось получить разрешение на такие показания. Однако в этом случае дело будет рассматривать другой судья, и обвинение, несомненно, приложит максимум усилий, чтобы не допустить вас на свидетельскую трибуну. Драться придется всерьез.
— Для меня это не первый бой, — сказала я.
Я попросила О’Коннелла прислать мне стенограммы предварительных слушаний, совмещенные фото Банди в профиль и анфас, подборки фотографий для опознания, газетные статьи и вообще все, что у него было на Банди. Потом я повесила трубку и занялась своими заметками.
Стресс
Страх
Ретивые полицейские??????
Наручники, ломик
Необъективная подборка фотографий
16 августа — арест Банди найдены наручники под вопросом
1 сентября — Даронч показывают фотографии неуверенное опознание
4 сентября — новое фото, уверенное опознание
2 октября — линейка, уверенное опознание
15 августа у студента-юриста Теда Банди пришлось на начало второго курса. 16 августа он становится подозреваемым во взломе, через две недели — подозреваемым в похищении, а через считаные месяцы его, пока на основании косвенных доказательств, начинают подозревать уже в серии убийств.
Жизнь, если можно так выразиться, пошла не в соответствии с планами Теда Банди.
Я попробовала осмыслить ситуацию, в которую попадает человек, подозреваемый в серии убийств. Был ли этот студент юридического факультета жестоким серийным убийцей, как, по-видимому, думали полицейские, или он был невиновен, просто оказался не в том месте не в то время? Я уже знала, как могут развиваться события, когда человек обретает статус подозреваемого. Арест произведен, идут предварительные слушания, наняты адвокаты для защиты, снимаются показания, публикуются статьи в газетах. Давление постепенно нарастает, накапливаются факты, делаются выводы, и тяжелая, громоздкая машина уголовного правосудия проворачивается. Проворачивается — и лицо, именуемое «подсудимый», захваченное шестеренками и зубцами этой системы, само становится ее неотъемлемой частью.
Бóльшую часть времени, наверное, 99 %, подсудимый считается виновным, и его крики — это последний протест человека, потерявшего самое дорогое — свою свободу. Но порой в эту систему затягивается невинный человек.
У меня целая папка с описаниями таких случаев, и их десятки. Лоуренс Берсон, семнадцатилетний первокурсник колледжа, был арестован в 1973 году и провел неделю в нью-йоркской тюрьме по обвинению в нескольких изнасилованиях после того, как пять женщин опознали в нем человека, напавшего на них. Берсон был освобожден лишь после того, как в Нью-Йорке был арестован, опознан и обвинен в этих изнасилованиях поразительно похожий на него водитель такси.
Тридцатилетнего Уильяма Шрегера, помощника окружного прокурора округа Квинс, Нью-Йорк, четыре женщины опознали как человека, который сексуально домогался их. Джон Приоло, сорока пяти лет, шофер санитарного управления, был опознан как преступник несколькими жертвами подобных сексуальных нападений. И Приоло, и Шрегер были оправданы, когда в некоторых преступлениях, в совершении которых их обвинили, признался некий двадцатидевятилетний почтальон. При этом о потерпевших, ошибочно опознавших его, сам Шрегер сказал: «Они были настолько логичны и настолько убедительны, что чуть не заставили меня самого поверить, что я это сделал».
Фрэнка Дото, сорока трех лет, семнадцать свидетелей опознали как мужчину, который ограбил три супермаркета и выстрелил в голову полицейскому. Правда, когда полиция проверила его алиби и обнаружила, что в то время он находился далеко от места преступления, он был освобожден.
Каждый из этих драматичных случаев еще и еще раз показывает нам, что память человека несовершенна, что очевидцы иногда ошибаются, и тогда признаются виновными и попадают в тюрьму невинные люди. Меня часто спрашивают: «А как насчет жертв этих преступлений? Их вам не жалко?» Да жалко мне их, конечно, жалко. Но как свидетель-эксперт я делаю все для того, чтобы убедиться, что, кроме потерпевших, у данного преступления не появится еще одна жертва — невинный человек, посаженный за решетку, в то время как настоящий виновник будет гулять себе на свободе.
В случае с Банди я не могла позволить себе думать о том, что Кэрол Даронч больше не сможет воспринимать этот мир как разумное и спокойное место. Я не могла позволить себе роскошь разделить с ней ее страх и ее боль, потому что мне приходилось учитывать некоторую вероятность того, что она ткнула пальцем в невиновного человека. Мне необходимо было сосредоточиться на факторах, которые могли снизить точность ее памяти и, следовательно, точность опознания ею Теда Банди.
«Но как же вы сможете встать и назвать свидетеля лжецом?» — спрашивали меня, и я отвечала, что называть кого-либо лжецом — это вообще не мое дело. Мое дело — описывать общую природу человеческой памяти и факторы, способные вносить в нее искажения. Мои свидетельские показания обособленны и абстрагированны — в том смысле, в каком гистолог, тестирующий образец ткани на злокачественность, отделен от боли и страха человека, готовящегося услышать диагноз.
«Но вы же таким образом подтверждаете показания людей, обвиняемых в самых страшных преступлениях, разве не так?» — спрашивали меня те же люди. «Я не защищаю их, — отвечала я, — я просто представляю суду результаты исследований памяти. Адвокат обязан защищать клиента, жюри присяжных обязано принять решение о виновности или невиновности подсудимого, а я просто представляю факты, и, насколько мне известно, факты истинные».
«А вы не боитесь, что присяжные могут оправдать виновного человека, потому что вы заронили в их умы сомнение?» На это я отвечаю так: чтобы вынести обвинительный приговор, присяжные должны верить, что обвиняемый виновен вне всяких разумных сомнений. И конечно, если мои показания заставят членов жюри присяжных усомниться в виновности подсудимого, то в соответствии с самыми основными, неотъемлемыми принципами нашей системы правосудия подсудимый должен быть оправдан.
Когда человека обвиняют в совершении преступления и привлекают к уголовной ответственности, наше правосудие — теоретически — предполагает, что он невиновен, пока его вина не будет доказана, и бремя доказательства вины обвиняемого «вне всяких разумных сомнений» возлагается на обвинителя. Но то в теории, а в реальном мире ситуация может быть совершенно иной. В ходе задержания, предъявления обвинения и допросов подозреваемого часто имеет место трудноуловимая, но весьма существенная трансформация. Мы постепенно «включаем» презумпцию виновности, и фактически бремя доказательства невиновности перекладывается на защиту. Необходимость доказывать чью-то невиновность проистекает, разумеется, из презумпции виновности, то есть по умолчанию данный человек считается виновным. И чем страшнее преступление, чем оно кровавее, тем сложнее адвокату преодолеть эту презумпцию виновности.
Эмоции, связанные с преданием преступника праведному суду, могут возбуждать дикие страсти, блокирующие доводы разума. Самая примитивная часть нашего сознания взывает к мести. Не к справедливости, а именно к мести: око за око, зуб за зуб, жизнь за жизнь.
Это менталитет толпы, и кто-то должен преградить ей дорогу. Я специалист по памяти и восприятию, я ученый, который проводит научные эксперименты в контролируемых условиях. Моя работа изначально подразумевает рациональность и здравомыслие, и ее цель — не допустить отступления от рационального восприятия фактов и аргументов, помешать искажению реальности, предвзятой интерпретации фактов под влиянием эмоций.
Я ищу справедливости, чтобы не восторжествовала месть. Я прошу только о том, чтобы мы думали о судьбах невинных людей, обвиненных в преступлениях, которых они не совершали. Попробуйте представить себе их горечь, страх и отчаяние. Вообразите, если сможете, ужас пребывания в суде в качестве обвиняемого (ни за что ни про что!), страдания, боль, вызванную потерей уважения и любви семьи и друзей, кромешный ад тюремной жизни. Попробуйте увидеть за сухими цифрами статистики тысячи мужчин и женщин, таких же, как вы, из плоти и крови, которые сидят в тюремных камерах и слишком хорошо знают темные стороны нашей юстиции.
Я считаю, что за права этих невинных людей стоит бороться. Если мы не будем бороться за них, мы потеряем лучшее, что в нас есть.
* * *
Вечером 24 февраля 1976 года Джон О’Коннелл показывал мне свой дом, извиняясь за то, что мне придется провести ночь в комнате его сына, Уилла.
— Боюсь, вам придется разделить комнату с Лютером. — О’Коннелл указал на невысокий комод, где стоял грязный аквариум, со дна которого на меня смотрела большая каймановая черепаха. — Лютер является многим нашим гостям в страшных снах, — признался О’Коннелл. — Надеюсь, вы не боитесь рептилий?
— Только змей! — ответила я, смеясь и чувствуя облегчение оттого, что смогу остаться в этом уютном, надежном доме. Когда я летела в Солт-Лейк-Сити (в тот же день, только раньше), мне пришла в голову мысль, что Тед Банди может предложить мне остаться в его квартире. Я просматривала свои заметки и изучала фото крупным планом, сделанные в ночь ареста Банди в августе 1974 года. Я сидела в самолете DC-10 возле прохода. Я поднесла снимок поближе и вгляделась в лицо Банди. Губы крепко сжаты, ноздри слегка раздуты, одна бровь приподнята — он показался мне наглым, дерзким и злым. Глаза холодные, безжизненные, пустые, было такое впечатление, что я могу смотреть прямо через них.
О’Коннелл протянул мне бокал белого вина и проводил меня в свой кабинет.
— Обсудим основные тезисы ваших завтрашних показаний, — сказал он, поудобнее устраивая свое сухое, долговязое тело в коричневом кожаном кресле. На полированном столе покоилась его ковбойская шляпа, огромная, как чемодан, и, вероятно, столько же и весившая. — Итак, первое: мы отказываемся от права на суд присяжных.
— Что? — переспросила я, и в моем голосе отчетливо проявился шок, который я испытала. Я осторожно поставила свой бокал и ждала, пока О’Коннелл объяснит это решение. Отказ от жюри присяжных — весьма необычный юридический маневр, который редко используется в делах с такими высокими ставками, как в данном случае. В суде присяжных судьбу Банди будут решать двенадцать мужчин и женщин, и все двенадцать должны согласиться в том, что он виновен вне всяких сомнений. В случае отказа от жюри присяжных, как решил О’Коннелл, решение о виновности или невиновности Банди будет принимать всего один человек — судья.
О’Коннелл взглянул мне в лицо и улыбнулся.
— Все просто: нам нужны ваши показания, — сказал он. — Обвинение базируется главным образом на опознании потерпевшей Кэрол Даронч Теда Банди как человека, который пытался похитить ее. Вы наш главный свидетель. Вы можете задавать вопросы, касающиеся опознания ею напавшего на нее человека, и обосновывать возможность искажений памяти и принципиально неоднозначную природу опознания преступника очевидцами. Как вы, наверное, понимаете, нам будет чертовски трудно получить эту информацию раньше присяжных: прокурор попытается сделать все возможное и невозможное, чтобы не допустить заслушивания ваших показаний. Но судья все же выслушает их, в этом я уверен.
О’Коннелл поднялся и начал ходить по комнате.
— Существует и еще одна причина, — сказал он. — Обычный, средний человек с улицы думает, что косвенные доказательства — это нечто неубедительное, но на самом деле они намного более надежны, чем показания очевидцев. Мы с вами знаем, что показания свидетелей — это хреновые показания, но присяжные, скорее всего, будут выносить приговор именно на основании показаний свидетелей.
О’Коннелл развернул руки ладонями вверх, как будто уже выступая в суде.
— Наша идея проста. Почему бы не выбрать вариант с одним «присяжным» — судьей, который, как мы знаем, человек умный, вместо того чтобы испытывать судьбу, доверяя решение двенадцати неизвестным?
Я глубоко вздохнула. О’Коннелл организовал весь этот процесс так, что я действительно смогу выступить в качестве эксперта-свидетеля. Это был рискованный ход. Судье придется выслушать мои показания, даже если прокурор будет протестовать, потому что О’Коннелл будет требовать «занести это в протокол». Известно, однако, что судьи относятся к обвиняемым строже, чем присяжные. Они каждый день имеют дело с закоренелыми преступниками и каждый день слышат одну и ту же песню: «Я невиновен, я не делал этого, это ошибка».
Это повторяется изо дня в день, с изучением всех подробностей ужасных преступлений, и от этого черствеет сердце. Своим жестким отношением к обвиняемым судьи напоминают мясников, привыкших к виду крови. Вот интересная неофициальная информация из жизни юристов. Мало кто знает, что мясников редко включают в число присяжных в уголовных судах — прокуроры сразу отвергают их, потому что примерно представляют себе, какую кучу ужасов нужно нагородить, чтобы шокировать человека, который по восемь часов в день режет на куски мертвых животных.
Я подумала, что, замышляя эту авантюру, О’Коннелл, наверное, учитывал личные качества и послужной список судьи по данному конкретному делу.
— Расскажите мне про судью, — попросила я.
— Его зовут Стюарт Хэнсон-младший, я с ним учился на юрфаке. — О’Коннелл взял трубку, чиркнул спичкой и несколько раз затянулся. — Он честный, справедливый, уважает закон и не боится полемики. Вот, в прошлом месяце он отклонил гражданский иск города против кинотеатра, демонстрировавшего фильм «Глубокая глотка». Хэнсон даже не дал ему дойти до суда, просто отклонил его. Мы думаем, что он сможет противостоять общественному давлению.
Я понадеялась, что Хэнсон будет вести себя в соответствии со сценарием О’Коннелла. Я хотела дать показания по этому делу не только в связи с возможностью ошибочного опознания, но и потому, что считаю, что исследования памяти пора уже выводить из лабораторий в реальную жизнь и что это может изменить мир к лучшему. Я исходила из презумпции невиновности и верила, что мои показания заслуживают того, чтобы их выслушали в суде.
— Давайте посмотрим основные пункты, касающиеся свидетелей по этому делу, — предложила я.
О’Коннелл порылся в лежавших на столе бумагах и протянул мне разлинованный лист формата 30 х 40 см, на самом верху которого от руки было написано «Лофтус — основные моменты».
— Я сделал кое-какие записи на основании наших телефонных разговоров, — пояснил он, ухмыляясь.
Я прочла первый пункт.
Восприятие и память работают не так, как видеокамера и видеомагнитофонная лента. Вспомнить можно только то, что было воспринято, то есть воспоминание нельзя «воспроизвести» снова, отмотав его назад таким образом, чтобы получить детали, которые отсутствовали в первоначальном восприятии. В качестве аналогии для сравнения можно использовать просмотр футбольного матча: если зритель не увидел событий, которые произошли на каком-то участке поля, потому что сосредоточился на действиях игрока с мячом, то он не сможет вызвать из памяти эти события, их там просто не будет (в отличие от видеозаписи игры, которая позволяет это сделать).
— Прекрасная аналогия, — сказала я.
— Я большой поклонник футбола, — сказал О’Коннелл, попыхивая трубкой. — Может, вы объясните мне эту концепцию видеоленты еще раз?
Я уже десятки раз читала студентам лекции на эту тему, и поэтому начала сразу, как на автопилоте.
— В большинстве теорий памяти этот процесс делится на три отдельных этапа, — начала я. — Первый этап — это восприятие, в ходе которого непосредственное ощущение данного события органами чувств встраивается в систему памяти; второй этап — это хранение, то есть период времени между событием и вызовом из памяти соответствующего конкретного блока информации; и третий этап — это извлечение, в ходе которого человек вспоминает сохраненную информацию.
Вопреки распространенному мнению, — продолжала я, — запечатлевшись в нашей памяти, факты не пребывают там пассивно, невредимые и не затрагиваемые дальнейшими событиями. На самом деле мы собираем фрагменты и характеристики окружающей нас среды, которые отправляются в память и там взаимодействуют с полученными ранее знаниями и ожиданиями — информацией, уже хранящейся в нашей памяти. Поэтому психологи-экспериментаторы представляют себе функционирование памяти как некий интегрирующий — и при этом конструктивный и творческий — процесс, а не пассивный процесс фиксации, подобный видеозаписи.
Потом я перешла от общих положений к конкретике.
— Все эти «я не знаю» и «я не помню» в показаниях Кэрол Даронч могут означать, что соответствующая информация никогда и не заносилась в память; иными словами, сбой произошел еще на стадии восприятия. Или это может означать, что информация хоть и была занесена в память, но потом была забыта, то есть имел место сбой на этапе хранения или на этапе поиска. Так или иначе, в реальности нет никакого способа узнать, что именно произошло.
Я снова посмотрела на список О’Коннелла и прочитала пункт 2: память разрушается в геометрической прогрессии.
— Накопленные к настоящему моменту результаты исследований показывают, что хранящаяся в памяти информация со временем разрушается и/или искажается, — пояснила я. — Через неделю информация, хранящаяся в памяти, будет менее точной, чем через день; через месяц она будет менее точной, чем через неделю; а через год она будет менее точной, чем через месяц.
— Одиннадцать месяцев хранить в памяти лицо Теда Банди — для Кэрол Даронч это, наверное, чертовски долго, — заметил О’Коннелл.
— Верно, — согласилась я, — хотя у многих людей существует ошибочное представление, что лица в памяти хранятся всю жизнь. Отчасти это так, но существует чрезвычайно важное различие между памятью на лица людей, которых мы знаем или знали на протяжении многих лет, и памятью на лица незнакомцев и незнакомок, которых мы видели лишь однажды и кратковременно. Многие люди сразу вспоминают лица друзей, которых они не видели многие годы или даже десятилетия. После окончания школы каждый из нас идет своим путем, но, когда через двадцать лет мы съезжаемся на встречу выпускников, мы обычно сразу узнаем лица наших бывших друзей.
Но с памятью на лица незнакомцев дело обстоит совсем иначе. Образы незнакомых людей, которых мы видели только мельком и только один раз, в подавляющем большинстве случаев со временем искажаются и размываются. Как правило, исследователи использовали периоды времени гораздо короче одиннадцати месяцев, и они обнаружили сильное разрушение образов незнакомцев в памяти.
О’Коннелл кивнул головой, посмотрел через мое плечо на список и прочитал: «Некоторые методы стимуляции улучшают восприятие и память, но сильный стресс затрудняет эти процессы. Негативно влияет на память страх, достигающий уровня истерики».
— Этот третий пункт относится к взаимосвязи между стрессом и памятью, — сказала я, — которая разъясняется в законе Йеркса — Додсона, названного так в честь двух исследователей, которые впервые установили наличие этой связи еще в 1908 году. При очень низких уровнях возбуждения (например, когда человек только просыпается утром) нервная система «включена» еще не полностью, и сенсорные сообщения могут не доходить по назначению. В такие моменты память работает не очень хорошо. При умеренных уровнях возбуждения (скажем, если вы немного нервничаете в связи с предстоящим судебным разбирательством или вас беспокоит конфликт с сыном-подростком) память работает наиболее эффективно. Наконец, при высоких уровнях возбуждения способность к запоминанию опять начинает снижаться и ухудшаться.
— Скажите, Элизабет, — начал О’Коннелл, — если бы вы ехали в машине с человеком, который представился сотрудником полиции, но при этом ехал к отделению полиции неверной дорогой да еще и в захудалом «фольксвагене», который затем скатился на обочину… Если бы этот человек защелкнул наручники у вас на запястье, размахивал перед вами пистолетом, а потом поднял монтировку и попытался ударить вас по голове, как вы оцените — это высокий уровень стресса?
— Конечно! — ответила я. — Но есть одно существенное потенциальное «но».
О’Коннелл приподнял брови.
— Дело в том, что в первые пять или десять минут контакта с «офицером Роузлендом» Кэрол Даронч не испытывала сильного эмоционального стресса, — сказала я. — Как минимум часть этого времени она шла рядом с ним по хорошо освещенному торговому центру. Поэтому можно утверждать, что уровень эмоционального возбуждения у нее был умеренный — такой, который, как правило, позволяет сохранять бдительность и обеспечивает достаточно хорошую запоминаемость и восстановление из памяти.
— Прокурор обязательно ухватится за это, — сказал О’Коннелл. — Однако все-таки, если собрать вместе все факты, мы можем убедительно заявить о возможном снижении точности памяти. — Он указал на пункт 4 в списке. — Трудно сохранять обособленные визуальные образы без переноса и слияния.
— Этот пункт относится к процессу, который обычно называют бессознательным, или непреднамеренным, переносом, — сказала я. — Когда человека, которого вы видели в одной ситуации, вы путаете с человеком, которого вы видели («вспоминаете») в другой ситуации. И опять же, применительно к данному конкретному случаю, когда полиция показала Кэрол Даронч две разные фотографии Теда Банди — крупно в профиль и анфас, а затем, через несколько дней, фото на водительском удостоверении, — они могли таким образом сформировать образ в ее памяти. «Вживить ей в мозг», как вы однажды выразились.
О’Коннелл снова кивнул головой. Он понимал этот пункт достаточно хорошо.
— Пункт 5, — сказала я, читая последний абзац в списке. — «Эффект предвзятости допрашивающего, в частности непреднамеренные сигналы и акцентирование». Соответствует предположению, что с 1 сентября (первоначальная подборка фотографий) до 2 октября (линейка опознания) у блюстителей порядка нарастали возбуждение и активность, и, соответственно, у свидетелей это спровоцировало эффект перехода от неуверенного опознания к уверенному. Вы всегда называете полицейских блюстителями порядка? — спросила я.
— Ну да, — ответил он. — Я называю их так, потому что они должны быть такими.
Но в данном случае О’Коннелл полагал, что «блюстители порядка» зашли слишком далеко и повлияли на потерпевшую, передав ей словами, жестами и другими «намеками» свою уверенность в том, что именно Тед Банди и был похитителем. После того как 1 сентября 1975 года Даронч неуверенно опознала Банди по фотографии, а затем через несколько дней более уверенно опознала его по другой фотографии, полицейские могли — намеренно или ненамеренно — общаться с ней, ощущая, что «клиент» у них уже есть. И она, стремясь помочь полиции и положить конец собственным мытарствам, могла уловить эти сигналы и решить для себя, что ее пытался похитить именно Банди. Вопросы, предполагающие определенные ответы, которые побуждают задавать более детальные вопросы, и этот механизм все раскручивается и раскручивается, махина движется вперед, затягивая Банди — виновного или невиновного? — под колеса.
— Вы же смотрели стенограмму, Элизабет, — сказал О’Коннелл. — Вы же видите, что по сравнению с показаниями, данными в ночь преступления, на предварительном слушании Даронч изменила показания. Почему она изменила в них так много деталей? Почему она изменила свое первоначальное высказывание «этот чем-то похож на того» на «это он»? Потому, что полицейские давили на нее. Потому, что они — намеренно или ненамеренно — сообщали ей, что Тед Банди — именно тот человек. Ее мягко зомбировали, в этом просто нет никаких сомнений.
О’Коннелл взял стенограмму предварительных слушаний и стал быстро переворачивать страницы.
— Вот, на странице 37, Йоком, прокурор, спрашивает Даронч про монтировку. Даронч отвечает, что похититель держал ее в правой руке. «Вы уверены, Кэрол, что он держал ее именно в правой руке?» — спрашивает Йоком. «Да», — отвечает она.
О’Коннелл усмехнулся.
— Йокому этот ответ ну совсем не понравился. Банди ведь левша.
Он перевернул еще несколько страниц.
— Страница 57, — сказал он. — Йоком спрашивает ее о цвете автомобиля. «Он был светло-бежевый или белый?» — спрашивает он. «Да», — отвечает она. Он провоцирует ее: «Может быть, он был голубой или зеленый?» — «Нет». Но вот здесь, в полицейском отчете, составленном всего лишь через час или два после этого события, она утверждает, что автомобиль был светло-голубой или белый. Как вы думаете, что случилось, почему она изменила свое мнение?
Вопрос был риторический. О’Коннелл считал, что, когда полиция нашла подозреваемого с бежевым автомобилем, память свидетельницы постепенно начала приспосабливаться к новой информации, и цвет машины стал потихоньку изменяться с белого или светло-голубого на бежевый.
— Страница 67, — продолжил О’Коннелл чтение расшифровки стенограммы. — В ходе перекрестного допроса я спросил Даронч, сколько раз она смотрела на фотографии в связи с этим делом. «Очень мало», — призналась она. «Ну хотя бы примерно? Раз десять?» — спросил я. «Пожалуй, да», — ответила она. — Он снова перевернул страницу. — «Сколько раз вы видели фото мистера Банди?» — «Несколько раз. Раза три или четыре». — «Вы видели его фото в газетах?» — «Да», — ответила она.
О’Коннелл откинул голову к левому плечу, потом к правому, поправил очки.
— Ну вот, я собираюсь прочитать следующие разделы дословно по стенограмме предварительных слушаний, страницы 79, 80. Я задаю потерпевшей вопросы, и мы говорим о подборке фотографий для опознания, которые ей показали через одиннадцать месяцев после попытки ее похищения. Одиннадцать месяцев, на протяжении которых она просмотрела сотни фотографий. И вот что мы здесь имеем:
В о п р о с. Сколько фотографий вам показали?
О т в е т. Ну, может быть, восемь или девять.
В о п р о с. А что было, когда вы просмотрели их и сказали точно, что именно произошло в тот раз? Потом вы отдали их обратно, но вынули из пачки фото мистера Банди, затем отдали пачку обратно и сказали, что никого не узнаете, и они спросили: «Тогда почему вы вынули его из пачки?» — и вы сказали: «Ну, просто этот больше похож на него, чем люди на всех остальных фото», так?
О т в е т. Да.
В о п р о с. Итак, в первый раз вы утверждали, что фотографии этого человека, ну, человека, который это сделал, там нет, но что мистер Банди похож на него больше, чем другие люди?
О т в е т. Да.
В о п р о с. Хорошо. Теперь скажите, через какой срок вам снова принесли посмотреть фото мистера Банди?
О т в е т. Я не знаю. Не помню. Через неделю или около того.
В о п р о с. Хорошо. А какого типа были эти фотографии: крупный план, или фотографии с водительских прав, или какие-то иные?
О т в е т. Я не помню, какие они были. Были и такие, и такие.
В о п р о с. Во второй раз вы уверенно опознали человека?
О т в е т. Нет.
В о п р о с. Все опознания по фото были неуверенные, не так ли?
О т в е т. Да.
О’Коннелл бросил 150-страничную стенограмму на стол, взглянул на часы и вздохнул.
— Уже двенадцатый час. Я прошу прощения, что так получается, но разрешите мне еще кратко рассказать о том, что произошло в суде за последние два дня. Йоком начал свой прямой допрос, опираясь на показания, данные в ночь похищения, и опознание Банди потерпевшей одиннадцать месяцев спустя. В ходе перекрестного допроса я указал на нестыковки при опознании: например, в самом начале она описала Теда как человека с усами, некоторое время спустя, вскоре после происшествия, решила, что их не было, а спустя еще некоторое время опять решила, что усы у него были.
Ладно, — день второй, сегодня. Черт возьми, это был длинный день. — О’Коннелл провел рукой по волосам. — Детектив Джерри Томпсон утверждает, что при обыске квартиры Банди он нашел две или три пары блестящих лакированных кожаных туфель. В своем первоначальном заявлении Даронч утверждала, что напавший на нее человек был в черных или темно-красных лакированных туфлях. У нас есть свидетели, которые утверждают, что Банди не то чтобы не вылезал из лакированных кожаных туфель, но в его квартире они были. Это не очень хорошо для нас.
О’Коннелл пожал плечами.
— Давайте вернемся к сентябрю 1975 года, когда детектив Томпсон показал потерпевшей Даронч пачку фотографий. Она просмотрела их, вынула фото Банди, а остальные вернула Томпсону со словами: «Я не вижу здесь никого, кто был бы на него похож». — «А что насчет этого?» — спросил Томпсон и показал на фотографию, которую она держала в руке. «Не знаю, — ответила она. — Мне кажется, этот похож на него». Но теперь, отвечая на вопросы прокурора в суде, Томпсон сообщил, что Даронч сказала: «Да, я считаю, что он очень похож на того человека, но я не уверена».
Итак, при перекрестном допросе я должен выделить два важных момента: во-первых, она сказала не «очень похож на того человека», а «вроде похож на него», и Томпсон именно так и написал в своем первоначальном отчете. Следующий пункт касается второго опознания по фото, когда Даронч показали фотографию с водительских прав Теда, и он критически важен для ваших показаний. «Вы знали, что это неправильно, не так ли, — спросил я Томпсона, — показать потерпевшей две разные фотографии одного и того же человека? Показать еще одну фотографию того же самого человека после того, как она уже один раз неуверенно его опознала: “Этот вроде похож на него”?» — «Я понимаю так, что было бы неправильно показать ту же самую фотографию, но совсем другую, которая выглядит совсем по-другому, — я не вижу в этом ничего плохого», — ответил Томпсон.
Но в этом, конечно, есть что-то неправильное, некорректное, — заключил О’Коннелл, — и именно тут пригодились бы ваши показания.
— Бессознательный перенос, — сказала я. — Даронч видит фотографию, детектив обращает на это внимание, а потом ей показывают еще одну фотографию того же самого человека. Теперь она уже кажется знакомой. Но, возможно, она просто опознала на этой фотографии человека, которого она видела раньше, на первой фотографии. Это воспоминание действительно могло быть «сформировано» у нее полицейскими.
— Именно! — улыбнулся мне О’Коннелл и в последний раз посмотрел на часы. — Хватит тренироваться, к девяти часам мы должны быть в суде. Готовы ли вы лицезреть Лютера, потрясающую каймановую черепаху?
* * *
На следующее утро в суде я сидела за столом в кабинете судьи. По другую сторону стола, достаточно близко ко мне, чтобы можно было дотянуться и прикоснуться к нему, сидел Тед Банди. «Он просто восхитителен», — подумала я и сама удивилась своему первому впечатлению, потому что представляла его себе угрюмым, мрачным и напряженным. Но он был полон обаяния, присущего выпускникам Лиги плюща, аккуратный, свежевыбритый, явно после душа, веселый и энергичный. Я запросто могла бы представить его себе мечущим фрисби на пляже в Калифорнии или сидящим на лужайке закрытого загородного клуба в безупречно белом костюме для тенниса, потягивающим джин с тоником и обсуждающим достоинства и недостатки удара закрытой ракеткой. У него было почти квадратное лицо с сильными, выступающими челюстями и скулами, подчеркнутыми красивыми линиями улыбки. На лбу у него, казалось, навсегда пролегли морщины, толстые складки кожи над хорошо сформированными бровями, приподнятыми с видом откровенного высокомерия и пренебрежения.
Мы сидели вокруг стола в кабинете судьи: О’Коннелл, Банди, сам судья Хэнсон, Йоком и я. Я отвела глаза от Теда Банди и сосредоточилась на юридических аргументах, которые позволили бы определиться с тем, буду или не буду я сегодня давать показания. Как и ожидалось, Йоком выступил против заслушивания моих показаний, сославшись на традиционные постановления Верховного суда о том, что свидетель-эксперт не может давать показания о том, что, как можно с полным основанием предполагать, должно быть известно и неспециалисту. Для оценки показаний Кэрол Даронч, утверждал Йоком, судье Хэнсону не нужна помощь «эксперта», поскольку судья, которому ежедневно приходится выслушивать ответы свидетелей на свои и чужие вопросы, безусловно, знает сильные и слабые стороны свидетельских показаний.
Хэнсон внимательно слушал и иногда кивал головой, принимая к сведению тщательно подготовленные прокурором убедительные аргументы. Он терпеливо ждал, пока Йоком закончит, а затем напомнил о том, что штат Юта и Верховный суд США официально признали, что именно показания очевидцев являются наиболее сомнительной категорией показаний. А то, что он сам в какой-то мере эксперт, как раз и должно помочь ему оценить сильные и слабые стороны моих показаний. В итоге протест Йокома был отклонен. Мне разрешили выступить с показаниями.
Когда мы покидали кабинет судьи, я взглянула на Банди, чтобы оценить его реакцию на решение Хэнсона, и увидела, что он улыбается Йокому какой-то заискивающей, вкрадчивой улыбкой, открывающей его ровные белые зубы. Эта улыбка, казалось, говорила: «Ну посмотри, я совсем не такой плохой, как ты думаешь! Ну дай мне передышку!» Я была поражена. Почему Банди улыбается прокурору, своему главному обвинителю? Какого черта он это делает?
Воспоминание об этой улыбке жгло мне мозг. Все остальное у Банди казалось правильным: его сдержанный серый костюм, аккуратно подстриженные волосы, даже морщины беспокойства на лбу. Но эта улыбка была какой-то неправильной, неуместной. Абсолютно неуместной.
Мне уже приходилось представлять интересы невинных людей, и я никогда не видела, чтобы кто-то из них, ну хоть один, улыбнулся прокурору. Это были ожесточенные, обозленные люди, которых ложно обвинили, которые были в ужасе от происходящих с ними событий, из-за которых они в конце концов и попали в зал суда, где им теперь нужно бороться за свою репутацию, а иногда и за свою жизнь и которые жили в страхе перед этой могучей системой, которая может уничтожить их. Для них прокурор был палачом, и эти невинные люди боялись его мощи.
А тут вдруг Тед Банди — уверенный в себе, расслабленный и улыбающийся своему прокурору.
Что-то здесь было не так. Выйдя на свидетельскую трибуну, подняв правую руку и поклявшись говорить правду, одну только правду и ничего, кроме правды, я взглянула на стол защиты. Судья Хэнсон распорядился поставить дополнительные стулья для членов семьи Банди, и его мать пристально смотрела на меня. Ее губы были раскрыты, глаза опухли от слез, голова немного откинута назад. В ее глазах я увидела ужас, и это не стало для меня неожиданностью.
О’Коннелл подошел к свидетельской трибуне.
— Доктор Лофтус, — начал он, воспользовавшись первой же возможностью, чтобы подчеркнуть мою принадлежность к академическим кругам, — что такое «бессознательный перенос»?
— Это термин, используемый для обозначения ошибочных воспоминаний или путаницы, когда вместо человека, которого видели в одной ситуации, «вспоминают» человека, которого видели в другой ситуации, — ответила я, стараясь говорить сильным, спокойным, «профессиональным» голосом. — Классический пример — случай ограбления кассира на железнодорожной станции, помнится, с использованием пистолета. Потом этот кассир из группы представленных ему людей опознал некоего матроса. Он утверждал, что вооруженное ограбление совершил именно этот матрос. Оказалось, однако, что у матроса было железное алиби, но раньше он трижды покупал у этого кассира билеты. Так что, когда кассир разглядывал членов группы, лицо матроса действительно показалось ему знакомым, но при этом он ошибся и вспомнил действительно знакомое ему лицо матроса как лицо грабителя, а не как лицо человека, ранее покупавшего у него билеты.
— Не могли бы вы рассказать нам о вашем собственном эксперименте?
— Я показала тридцати участникам моего эксперимента шесть фотографий, последовательно, по одной, и в это время они слушали рассказ о совершенном преступлении. Все люди, причастные к этому инциденту, были невиновны — кроме четвертого человека, который и совершил преступление. Участники эксперимента узнали, что этот человек и есть преступник. Через три дня они пришли снова. При этом они даже не знали, что им будут задавать вопросы (они думали, что их пригласили получить чеки, плату за участие в эксперименте). Мы показывали им фотографии четырех человек, которых они никогда раньше не видели, и одну фотографию невиновного человека, просто случайного свидетеля, героя предыдущего рассказа, и попросили их выбрать фото преступника. Правильный ответ должен был бы звучать так: «Преступника здесь нет». Но на самом деле случилось вот что: 60 % участников выбрали невиновного случайного свидетеля, 16 % выбрали другого, естественно, тоже невиновного человека — то есть 76 % ошиблись и так или иначе выбрали невиновного! И только 24 % отказались опознать кого-либо. Этот эксперимент показывает, что феномен бессознательного переноса можно наглядно продемонстрировать в лаборатории и что это вполне реальное явление.
Затем О’Коннелл вовлек меня в дискуссию о влиянии постсобытийной информации. Когда люди, ставшие свидетелями важного события, получают новую информацию, она может не только добавляться к информации, уже имеющейся в памяти, но и изменять ее, в частности, даже встраивать в ранее приобретенную память несуществующие детали. В нашем случае Кэрол Даронч изначально помнила, что знак у «офицера Роузленда» был «весь золотой». Но после того, как ей показали полицейские значки Мюррея, на которых присутствуют три цвета — золотой, серебряный и синий, она изменила показания, и значок у «офицера Роузленда» стал «золотой, серебряный и синий». Ее память, предположила я в зале суда, могла быть изменена последующим воздействием. Аналогичные изменения памяти могли иметь место и в отношении усов подозреваемого, которые в памяти Даронч сначала были, потом отсутствовали, а потом опять появились — как если бы «офицер Роузленд» был бумажной куклой, которую можно свободно одевать и раздевать.
По ходу моего выступления О’Коннелл задавал мне вопросы, которые, в частности, позволили мне подчеркнуть воздействие сильного стресса на память. Я попыталась донести до слушателей мысль, что страх и ужас не укрепляют память, сжимая ее в целостную и притом точную массу, но, напротив, создают пробелы в наших воспоминаниях. Теперь судьба Банди зависела от этого важнейшего пункта: были ли воспоминания Кэрол Даронч в ту ночь адекватными или она ошибалась?
Когда вопросы у О’Коннелла закончились, судья Хэнсон наклонился ко мне через свой массивный письменный стол.
— Доктор Лофтус, — заговорил он на удивление мягким голосом, — у вас есть данные, позволяющие сделать вывод относительно того, как потерпевшая могла подвергнуться воздействию в реальной ситуации?
Я поняла смысл его вопроса. Фактически он спросил меня, имеют ли все эти лабораторные исследования какую-либо связь с реальной жизнью.
— Исследования показывают, — сказала я, стараясь как можно тщательнее сформулировать свой ответ, — что, когда человек испытывает стресс, возбуждение или страх, память работает менее точно и подробно. Если вы предполагаете, что жертва преступления находилась в состоянии крайнего возбуждения, то ее воспоминания будут не так точны и подробны, как в случае более умеренного возбуждения.
— Предположим, что у вас есть временной континуум, представленный прямой линией, — продолжил Хэнсон свою череду вопросов. — В какой-то момент времени никакого стресса нет. Проходит некоторое время, и стресс начинает развиваться. Жертва начинает подозревать, что она может стать жертвой. В какой-то следующей точке этой линии жертва уже уверена в том, что для нее возникла реальная угроза. Каково ваше мнение: как стресс мог бы повлиять на результат опознания в подобных обстоятельствах? Я имею в виду, могла бы жертва в этих обстоятельствах опознать преступника с большей вероятностью по сравнению с ситуацией, когда насилие осуществляется внезапно, как, например, если преступник вламывается через дверь или через окно?
— При внезапном событии опознание, скорее всего, будет менее точным, — ответила я, — потому что тогда жертва все время будет находиться в состоянии крайнего стресса.
Хэнсон вцепился в эту тему и никак не хотел с ней расставаться. Он кратко описал 15-минутный контакт Кэрол Даронч с «офицером Роузлендом». Каким образом это могло повлиять на ее память?
Я ответила без колебаний:
— Вы имеете в виду эффективность памяти, если человек находился в состоянии умеренного стресса перед тем, как пережил сильный стресс? В этом случае можно ожидать достаточно высокой эффективности памяти.
Если бы дело Теда Банди рассматривал суд присяжных, судья Хэнсон, вероятно, остерегся бы задавать эти вопросы. В процессах с участием присяжных судьи ведут себя осторожно, стараясь оставаться беспристрастными наблюдателями и избегать воздействия на присяжных своими вопросами, сомнениями и т. п. Но в данном случае, будучи единственным арбитром,
Хэнсон, очевидно, счел себя обязанным вникнуть во все, даже мелкие, нюансы моих показаний. Он произвел на меня большое впечатление своим стремлением докопаться до истины. Он определенно установил, что 15-минутное пребывание Кэрол Даронч в состоянии умеренного стресса перед развитием у нее чрезвычайно сильного стресса обеспечивало «достаточно высокую эффективность памяти», а это был ключевой пункт обвинения. Иными словами, у Кэрол Даронч, скорее всего, было достаточно времени, чтобы запомнить лицо «офицера Роузленда», пока она еще не была в состоянии сильнейшего стресса.
Однако сильными аргументами защиты были, во-первых, 11-месячный разрыв между попыткой похищения потерпевшей и первым, неуверенным опознанием ею Теда Банди, и, во-вторых, некоторая вероятность того, что, предъявив потерпевшей две фотографии одного и того же человека еще до опознания в линейке, сотрудники полиции сами создали в ее памяти образ, соответствующий лицу уже арестованного подозреваемого.
Позже я узнала, что все выходные судья Хэнсон промучился с анализом доказательств, изучением записей по данному делу и формулировкой своего решения. В итоге его решение основывалось на том, что он не поверил Теду Банди. Не то чтобы у него вообще не было сомнений — «никто не может знать ничего достоверно», — заявил он представителям прессы, но у него не осталось никаких разумных сомнений в том, что именно Тед Банди пытался похитить Кэрол Даронч.
В понедельник, 2 марта 1976 года, в 13:30, судья Хэнсон объявил свой вердикт. «Я считаю, что подсудимый, Теодор Роберт Банди, виновен в похищении человека при отягчающих обстоятельствах, особо тяжком преступлении первой степени, согласно предъявленному обвинению». Хэнсон приговорил Банди к относительно небольшому сроку — к пятнадцати годам заключения в тюрьме штата Юта, причем менее чем через три года он мог претендовать на условно-досрочное освобождение.
27 января 1977 года, через десять дней после того, как в той же тюрьме штата Юта, в которую был заключен Банди, был расстрелян Гэри Гилмор,
Банди перевели в окружную тюрьму Питкин в подвальном этаже здания суда в Аспене, штат Колорадо, а спустя три месяца он снова поменял адрес и перебрался в крошечную камеру в одноэтажном кирпичном здании в городе Гленвуд-Спрингс, Колорадо.
Власти Колорадо обвинили Банди в убийстве Карин Кэмпбелл, 23-летней медсестры, пропавшей на горнолыжном курорте Сноумасс в штате Колорадо 12 января 1975 года, обнаженное тело которой было найдено двадцать шесть дней спустя, причем ее череп был проломлен сильным ударом. Несколько свидетелей предварительно опознали Банди, и кроме того, согласно данным кредитной карты, которой он пользовался на заправке, 12 января он находился в Колорадо, а специалист тамошней лаборатории ФБР заявил, что образец волос, взятый с помощью пылесоса в автомобиле Банди, «микроскопически неотличим» от волос, взятых у Карин Кэмпбелл.
7 июня 1977 года, во время перерыва в предварительных слушаниях в здании суда в Аспене, Банди вошел в библиотеку суда. Сотрудник, который должен был смотреть за ним, вышел в коридор покурить, и Банди выпрыгнул из открытого окна второго этажа.
Однако менее чем через неделю, рано утром 13 июня, он снова был арестован и заключен в тюрьму округа Гарфилд в городе Гленвуд-Спрингс, Колорадо. Но 30 декабря 1977 года Банди опять бежал, на этот раз через старый проем для освещения в потолке тюремной камеры.
После этого наступило затишье — целых шесть недель жуткого, зловещего затишья. В эти недели я иногда ловила себя на том, что гляжу в пространство и уговариваю полицию побыстрее поймать Банди. Его должны были судить за убийство Карин Кэмпбелл в Колорадо и за убийства в Вашингтоне и Юте — как иначе полиция могла бы узнать, он совершил эти преступления или не он? И как иначе можно положить конец страданиям членов семей этих молодых женщин? И наконец, если эти преступления действительно совершил Тед Банди, если он на самом деле и есть то ужасное существо, которое убивает женщин без разбора и походя, то что он делает сейчас, на свободе? Сколько женщин еще будут убиты?
17 февраля 1978 года, около 8 часов утра, я вошла в канцелярию факультета психологии, чтобы проверить поступившие телефонные сообщения. «Ты слышала про Теда Банди?» — спросила одна из секретарш, протягивая мне первую часть сегодняшней утренней газеты The Seattle Post-Intelligencer.
Теперь стреляют во Флориде
Банди вновь пойман
Беглый арестант Теодор Р. Банди из Такомы был схвачен вчера в результате погони со стрельбой в Пенсаколе, штат Флорида.
Банди, разыскиваемый ФБР для допроса о 36 убийствах на сексуальной почве в западных штатах, 31 декабря бежал из тюрьмы в Гленвуд-Спрингс, штат Колорадо, где он ожидал суда за убийство первой степени.
Еще до уверенного опознания Банди представителями власти в штате Флорида в полиции заявили, что они допрашивали его 15 января по поводу убийства ударом по голове двух студенток Университета штата Флорида в Таллахасси.
Звуки жизни, текущей жизни, заполненной рутиной, отдавались у меня в ушах: горячий воздух, дующий через вентиляционные отверстия, прерывистый треск пишущей машинки, дождь, тихонько постукивающий по окнам, закрывающаяся дверь в коридоре. Шаги, людское дыхание, приглушенный смех.
Я повернулась и побежала по коридору, и высокие каблуки моих туфель цокали по линолеуму. Я взглянула на часы: занятия у Джеффа должны начаться через десять минут. Внезапно я ощутила огромную благодарность судьбе за то, что мы с мужем оба профессора психологии в одном и том же университете, и наши кабинеты находятся в одном здании. Все девять лет нашего брака Джефф всегда оказывался там, где он был мне нужен.
Когда я ворвалась в его кабинет, Джефф просматривал какую-то сложную последовательность чисел на компьютерной распечатке. Я протянула ему газетную статью.
— Что, если мои показания способствовали оправданию Банди в Юте? — быстро выговорила я. — Что, если он действительно убил этих женщин?
Джефф прочитал статью, встал и обнял меня.
— Иногда ты будешь свидетельствовать в пользу виновных, — сказал он.
— Такое случается, и нет никакого способа избежать этого. Ты не можешь знать, будет подсудимый признан невиновным или виновным, заранее, еще до того, как решишь взяться за его дело. Ты не судья и не присяжный заседатель, ты просто свидетель-эксперт, социолог в суде.
— Я должна это знать! — сказала я. — Я имею дело с фактами, статистическими данными, цифрами. Я должна уметь определять, какие факты доказывают невиновность подсудимого, а какие — виновность.
— Ты ученый, — сказал Джефф. — Ты не телепат, и не твое дело выносить суждение о виновности или невиновности другого человека. Твое дело — свидетельствовать о том, что, насколько тебе известно, является правдой.
Мир вдруг показался мне черно-белым, все сбивающие с толку парадоксы, альтернативные гипотезы и статистические нормы исчезли, я увидела внутренним взором красивое лицо Теда Банди с холодным взглядом и хитрой усмешкой и подумала: вот оно, лицо зла. Я вспомнила свое первое впечатление при встрече с Тедом Банди: он просто восхитителен, думала я, сидя примерно в метре от него. Как же я обманулась сначала и как обманывались многие другие, глядя на этого «типичного американского парня» с вежливыми манерами и морщинками перманентной улыбки! Непривычная к злу, я не смогла опознать его, когда оно смотрело мне прямо в лицо.
Раз или два в год мне снился кошмарный сон. Я быстро поднимаюсь на лифте, высоко, в десятках метров над землей. Кнопки не работают, и я никак не могу остановить лифт. Страшась высоты, я припадаю то к одному, то к другому окну, мои ладони прижимаются к холодному стеклу, мои колени подгибаются. Внезапно лифт наклоняется, двери открываются, я лечу вниз, кувыркаясь в воздухе, и в конце с огромной силой ударяюсь о землю.
«Это невозможно», — утверждает моя подруга, психолог-клиницист. Она уверяет меня, что, падая во сне, человек не ударяется о землю. Но я-то ударяюсь, отвечаю я ей. Я же ударяюсь!
Вот так же сильно я «ударилась о землю» в тот день, стоя в кабинете мужа, сжимая в руке газету и с ужасом думая о том, какую роль я сыграла в этой трагедии. Одиннадцать лет спустя, ранним туманным утром в Сиэтле я снова «ударилась о землю». Я помню, как проснулась в то утро, во вторник 24 января 1989 года, посмотрела на будильник и сразу же нажала кнопку пульта дистанционного управления, чтобы включить телевизор. Почему-то у меня тряслись руки. «Интересно, — помнится, подумала я. — Что это я так нервничаю?»
— Сегодня утром, на три минуты позже установленного времени, был казнен Тед Банди, — объявил голос диктора. На экране телевизора возникла толпа из нескольких сотен зрителей, собравшихся вокруг тюрьмы Старк в штате Флорида, а затем крупным планом показали их плакаты: «Жарься с миром!», «Так плохо, так грустно, что ты умер, Тед»[8] и «Этот кайф — как раз для тебя!». Какой-то мужчина был в футболке с рецептом «жареного Банди» спереди. Продавцы предлагали присутствующим значки с изображением электрического стула, а группа пожилых людей пела на мотив «На вершине старой Смоки» (On Top of Old Smokey) такие слова:
Он убивал несчастных девочек
Ударами по голове.
И теперь мы все в восторге:
Тед Банди мертв[9].
Потом показали интервью с Тедом Банди, взятое в ночь перед казнью. Тюрьма лишила его улыбку наглости и заострила черты его лица. Глаза, казалось, стали как-то глубже посажены, нос немного удлинился и выпрямился, морщины на лбу, казалось, застыли навсегда.
Изображение мелькнуло, и диктор рассказал о последнем разговоре Теда Банди с матерью. Голос Луизы Банди дрожал от волнения, когда она говорила Теду Банди последние — самые последние — слова: «Ты был и всегда будешь моим драгоценным сыном!»
Я выключила телевизор и смотрела, как ползет и кружится туман в свете уличных фонарей за моим окном. Я почувствовала головокружение и легкую боль в животе. Телевизионные картинки мелькали у меня в голове, смешиваясь с прежними образами Банди, отпечатавшимися в памяти в ходе судебного разбирательства, разговоров с О’Коннеллом. Я видела, как Банди улыбается прокурору и как он сидит за столом защиты и смотрит на меня неподвижными глазами, пока я рассказываю о возможных искажениях памяти.
В последние годы жизни Тед Банди признался в «двух или трех десятках убийств». Некоторые следователи считают, что он, возможно, убил пятьдесят, а может быть, и сто женщин. При этом сам Банди не понимал, почему его тянет насиловать и убивать с такой злобой и невообразимой жестокостью, хотя он как-то упомянул об охотниках, которые выслеживают и убивают оленей, нисколько не терзаясь угрызениями совести. Почему мы становимся такими моралистами, спрашивал он, когда речь идет о человеческой жизни? Почему человеческая жизнь стоит больше, чем жизнь оленя?
Вопрос, конечно, интересный… Просто общество выбрало самое строгое наказание — лишение жизни в обмен на лишение жизни, и теперь зрители пребывали в праздничном настроении. Один из аргументов противников смертной казни состоит в том, что она делает общество менее чувствительным и снижает ценность человеческой жизни. Но меня беспокоят не философские проблемы, а конкретика, в частности: допущенную здесь ошибку уже невозможно исправить. В случае казни невиновного человека мы не в силах развернуть ситуацию и вернуть его к жизни.
Зимнее утро длится, я сижу в своей комнате, экран телевизора погас, лица и ситуации уже уходят из памяти, но я по-прежнему слышу слова Луизы Банди: «Ты был и всегда будешь моим драгоценным сыном!» Банди был виновен, в этом нет никаких сомнений. Но он тоже был человеком, живым человеком, а теперь он был мертв. Ну и в чем тут победа, думала я, что тут праздновать, чем гордиться?
5. Все началось со стука в дверь. Тимоти Хеннис
Я хочу сказать вам, что я невиновен. Я никогда не совершал никаких преступлений, но иногда грешил. Я хотел бы простить этих людей за то, что они сейчас делают со мной.
Бартоломео Ванцетти — в момент, когда его привязывали к электрическому стулу 23 августа 1927 г.Они думают, что это началось со стука в дверь, раздавшегося примерно в 22 часа 9 мая 1985 года. Этот стук должен был испугать Кэтрин Истберн, которая в это время складывала белье в гостиной своего одноэтажного дома в Фейетвилле, штат Северная Каролина. Может быть, она стояла, держа в руках пару носков или детскую футболку, и ее сердце забилось сильнее. Кто бы это мог быть? Ее муж был в отъезде, трое маленьких детей крепко спали. Кто может в это время стучаться в дверь с черного хода?
Она прошла через кухню в кладовку и открыла дверь (никаких признаков взлома при осмотре обнаружить не удалось). Преступник вынудил миссис Истберн вернуться в гостиную, веревкой связал ей руки за спиной и швырнул ее на пол. Он рванул на ней блузку, так что две кнопки, щелкнув, раскрылись, и ножом разрезал ей лифчик спереди, сдвинув его назад, ей на руки. Приставив к ее горлу нож, он стянул с нее обувь и джинсы; при этом вместе с джинсами слетел один носок. Потом он с одной стороны разрезал ножом ее трусы и рванул их так сильно, что повредил ей кожу на бедре. Потом он изнасиловал ее.
Полиция восстановила этот сценарий, исходя из улик, найденных на месте преступления, но кое-какие вопросы так и остались без ответов. Сама ли Кэтрин Истберн открыла дверь и впустила незваного гостя, или же он каким-то образом вломился, не оставив никаких следов взлома? Или она поглядела в окно и узнала этого человека? Тогда, получается, этот человек был ей знаком? Или она была настолько доверчива и бесстрашна, что могла открыть дверь кому угодно в десять часов вечера, хотя мужа не было дома?
А вот в отчете патологоанатома практически все было ясно. Тело Кэтрин Истберн было обнаружено на полу в спальне справа от кровати, и лицо ее было накрыто подушкой. Пятнадцать ножевых ранений в грудь и такой огромный разрез на шее, что повреждены оказались трахея, пищевод, обе крупные артерии и обе крупные вены. Поскольку крови из ран в груди было относительно немного, патологоанатом заключил, что рана на шее, которая должна была в течение десяти секунд привести к потере сознания и в течение одной-двух минут к смерти, была нанесена первой. Колотые раны были нанесены оружием с острым лезвием, как минимум несколько дюймов длиной и менее дюйма[10] шириной; при этом патологоанатом не смог определить, использовалось только одно такое оружие или больше.
Тело трехлетней Эрин Истберн было обнаружено на полу в спальне слева от кровати, и ее лицо и грудь были частично накрыты подушкой. У нее было десять колотых ранений в грудь и верхнюю часть живота, а также огромный разрез на шее, который повредил трахею, пищевод, правую сонную артерию и частично левую. От раны на шее девочка должна была потерять сознание в интервале от десяти до шестидесяти секунд и в течение минуты-двух умереть. Одна из колотых ран повредила крупную артерию, идущую от сердца, которая тоже должна была вызвать почти мгновенную смерть — в интервале от нескольких секунд до нескольких минут.
Дальше по коридору, в средней спальне, было обнаружено тело пятилетней Кары Истберн; оно было прикрыто покрывалом до уровня чуть выше талии. У нее было десять колотых ран грудной клетки, нанесенных спереди и сзади и тоже огромный разрез на шее, от левой части срединной линии вокруг до задней стороны шеи. По мнению патологоанатома, рана на шее должна была привести к смерти через одну-две минуты.
По ходу дела, до или после этой череды убийств, убийца вытащил деньги и банковскую карту из сумочки Кэтрин Истберн. Из дома исчез также металлический сейф с кодом банковской карты и важными документами.
По дороге к выходу из дома убийца должен был пройти мимо комнаты 21месячной Яны. Тут он мог засомневаться и подумать: еще одна спальня — еще один потенциальный свидетель. Возможно, он открыл дверь и прислушался на мгновение к легкому, ритмичному дыханию ребенка. Его глаза к тому времени уже приспособились к темноте, и он смог бы различить кроватку, детские одеяла, пеленальный столик и мягких плюшевых зверушек. Питал ли он слабость к младенцам, или просто решил, что убийств уже достаточно?
Впрочем, окно детской выходило на улицу, так что, может быть, он просто услышал, что хлопнула дверь машины, или вдалеке раздался пронзительный вой сирены, и это прервало его размышления.
Он закрыл дверь спальни, где находилась Яна, и прошел по коридору, через кухню, в кладовку, покинул дом через ту же подсобную дверь и скрылся в туманной и дождливой ночи.
* * *
Утром в субботу 11 мая капитан Гэри Истберн ждал очередного еженедельного звонка от жены. Он был временно переведен в штат Алабама, в офицерскую школу, и через несколько месяцев собирался перевезти семью в Англию, куда его переводили служить. Часы тикали, Кэтрин не звонила, он начал волноваться и в 8:30 утра попытался позвонить ей сам, а потом снова пытался звонить в 11:00 и в 14:00.
К 17:00 капитан Истберн уже был уверен, что случилось что-то неладное. Он позвонил другу в Фейетвилл и попросил доехать до его дома и узнать, что там и как. Подъехав к дому, его друг громко постучался во входную дверь, несколько раз позвонил в дверной звонок, обошел дом вокруг и заглянул в окно спальни, где на одной из кроватей, вне поля зрения, лежало тело пятилетней Кары, прикрытое одеялом до уровня груди и с подушкой на лице. Поскольку он не увидел ничего необычного, то, вернувшись домой, позвонил Гэри Истберну, чтобы успокоить его. Но Истберн был уверен, что случилось что-то неладное. «Позвони шерифу», — попросил он друга.
Около полуночи помощник шерифа подошел к дому Истбернов, постучал несколько раз и прикрепил к двери записку для Кэтрин Истберн с сообщением, что ее муж пытался связаться с ней по телефону.
На следующее утро, в воскресенье 12 мая, забеспокоились соседи Истбернов, Роберт и Норма Сифелдт: почему дети не выходят на улицу и не играют на спортивной площадке? Почему на крыльце скапливаются газеты? В 11:30 Роберт Сифелдт постучал в дверь с черного хода, затем подошел к входной двери, громко постучал и позвонил. Потом он приложил ухо к двери, несколько минут слушал, и ему показалось, что он слышит слабый крик ребенка. «Норма, иди скорее сюда!» — крикнул он. Миссис Сифелдт тоже послушала у входной двери, а затем перегнулась через перила крыльца, чтобы послушать, что делается в передней спальне. Потом она посмотрела на мужа, и выражение лица у нее было испуганное и растерянное. «Я слышу плач младенца, — сказала она. — Давай-ка позвоним в полицию».
Около 13:00 помощник шерифа поднялся на крыльцо дома Истбернов, перегнулся через перила крыльца и заглянул в окно спальни. Штора была опущена, но через небольшую щель сбоку он смог разглядеть ребенка, стоящего в своей кроватке, плачущего и протягивающего ручки. Что, черт возьми, там происходит? Он срезал оконную сетку, открыл окно и залез внутрь. Яна Истберн, двадцати одного месяца от роду, изнемогшая от голода и обезвоживания, с надеждой тянула ручки к незнакомцу. Помощник шерифа поднял девочку, на мгновение прижал ее к себе и передал в окно Роберту Сифелдту. Потом он сделал глубокий вдох, пытаясь унять волнение. Случилось что-то плохое, подумал он, что-то очень-очень плохое.
— Я собираюсь посмотреть, что и как, — сказал он Сифелдтам через окно. Но не прошло и минуты, как он высунул голову из окна, через которое передал младенца, и позвонил по портативной рации в офис шерифа, чтобы сообщить о том, что увидел. Потом он подождал детективов и технических специалистов, которым предстояло попытаться как-то осмыслить эту бессмысленную бойню.
Было воскресенье 12 мая 1985 года — День матери.
* * *
Утром во вторник 14 мая убитый горем Гэри Истберн вспомнил про собаку. Его жена дала объявление в газете Форт-Брэгга о поисках нового дома для Дейзи, их четырехлетнего пятнистого английского сеттера. В своем последнем письме мужу Кэтрин Истберн писала, что во вторник вечером Дейзи взял «хороший человек» и повез ее домой на испытательный срок, чтобы посмотреть, уживется ли она с другой его собакой, черным лабрадором-ретривером; она собиралась позвонить этому человеку в ближайший четверг, чтобы узнать, поладили ли собаки между собой.
Утром в среду 15 мая офис шерифа округа Камберленд выпустил информационное сообщение, которое было передано по телевидению и по радио, с просьбой, чтобы человек, взявший у Истбернов собаку, немедленно связался с офисом шерифа. Сообщалась, в частности, кличка собаки, приводилось ее описание, а также имевшиеся на тот момент данные о ее новом владельце: он ездит на белом «шевроле-шеветт», и у него уже есть собака, черный лабрадор-ретривер.
В тот же день сразу после полудня сержант штаба сухопутных войск Тимоти Хеннис приехал из Форт-Брэгга домой, чтобы пообедать с женой Анджелой в присутствии их двухмесячной дочери Кристины. За обедом они смотрели новости по телевизору. Когда среди прочих новостей мелькнуло сообщение о собаке Истбернов, Хеннис повернулся к жене. «Господи, — сказал он, — это ж они меня ищут!» Он тут же позвонил своему ротному командиру, объяснил, почему не сможет вернуться на работу после обеда, и, захватив с собой жену и малышку, поехал в полицейский участок.
Допрашивали Тимоти Хенниса шесть с половиной часов. При этом детективы неоднократно заверяли его, что он не находится под арестом и не является подозреваемым по этому делу, так что ему даже не пришло в голову потребовать присутствия адвоката. В своем добровольном заявлении Хеннис подробно описал все, что он делал со вторника 7 мая до следующего понедельника 13 мая. Вечером в четверг 9 мая, то есть в тот вечер, когда были совершены эти убийства, Хеннис приехал домой примерно в 20:30. В 20:45 ему позвонила миссис Истберн и спросила, как поладили между собой собаки. «Вы знаете, отлично, — ответил он, — у них все просто отлично!» В 21:00 или около того он позвонил родителям жены. Примерно в 21:30 он вышел в магазин за пепси-колой. Вернулся домой, когда еще не было 22:00, сделал кое-какие домашние дела и лег спать. В пятницу 10 мая он встал около 4:00 и около 5:00 отправился на работу.
Пока детективы допрашивали Хенниса, они параллельно с этим спешно готовили подборку фотографий для опознания. Фотография Хенниса находилась в ней в позиции под номером 2. Все фотографии в этой подборке были обрезаны так, что видно было только голову и верхнюю часть тела, поэтому определить относительный рост или вес запечатленных на фотографиях людей было невозможно. Фотография Хенниса была единственной в этой подборке фотографией мужчины-блондина с короткой стрижкой, одетого в темный клубный пиджак.
Один из детективов вынес подборку фото на улицу, к полицейскому автомобилю. В автомобиле сидел Чак Барретт, афроамериканец, сотрудник обслуги, который в воскресенье 12 мая сообщил помощнику шерифа, что в пятницу 10 мая, примерно в 3:30 утра он видел белого мужчину, который шел по подъездной дорожке от дома Истбернов. По словам Барретта, этот человек был одет в дорогую черную куртку, на лоб была низко надвинута черная вязаная шапочка, и на плечах он нес темный мешок для мусора. В самом конце подъездной дорожки, когда он был примерно в метре с небольшим от Барретта, он сказал: «Вот, приходится ехать ни свет ни заря». Он пошел по улице, сел в стоявший на обочине белый «шеветт» и уехал.
Барретт изучал фотографии, сидя на заднем сиденье полицейской машины между двумя детективами. «Узнаешь его?» — спросил один из детективов.
— Ну, знаете, я пока думаю, пока смотрю, — сказал Барретт. Он посмотрел еще, потер глаза, посмотрел еще немного. Четверо из шести мужчин были совсем не похожи на человека, которого он видел в то утро на Саммер-Хилл-роуд, так что он сосредоточил внимание на двух остальных, конкретно — рассматривал их стрижки и носы, которые он узнал, как пояснил он детективам. У человека под номером 5 нос был прямой и узкий, как и у того человека, которого он видел, но номер 2 в целом был больше похож на него, хотя нос у него был широкий и приплюснутый.
— Ну так как, это он? — продолжал спрашивать детектив.
— Вы знаете, — сказал Барретт, указывая на фото № 2, — этот, знаете, вроде там был.
— Вы уверены? — спросил детектив.
— Ну нет, — ответил Барретт. — Так я не могу сказать.
Детектив передал Барретту подборку фотографий, попросил его подписать инициалами выбранную им фотографию № 2, и потом его сопроводили в здание Управления обеспечения правопорядка. Когда они шли через автостоянку, один из детективов указал Тимоти Хеннису на белый «шевроле-шеветт».
— Вы узнаете эту машину? — спросил он Барретта.
— Да, она похожа на машину, которую я видел на Саммер-Хилл-роуд, — ответил Барретт.
Тогда этот детектив повернулся к напарнику, и, как показалось Барретту, он услышал, как тот сказал: «Мы попали в точку!»
Тимоти Хеннис между тем и понятия не имел, что он уже превратился в главного подозреваемого в убийствах в доме Истбернов. Он спокойно согласился, чтобы у него сняли отпечатки пальцев и сфотографировали его, и позволил сотрудникам полицейской лаборатории взять образцы его крови и волос с головы и с лобка. Наконец, в 19:30, после почти семичасового допроса, детективы сказали Хеннису, что он свободен и может отправляться домой.
Однако менее чем через шесть часов, примерно в час ночи в четверг 16 мая, Тимоти Хенниса разбудил громкий и настойчивый стук в дверь. Он быстро натянул джинсы и футболку, включил свет на крыльце и открыл дверь. На крыльце было полно полицейских.
— Сержант Хеннис? — спросил один из них официальным тоном.
Хеннис кивнул.
— У нас есть ордер на арест и ордер на обыск. Вы имеете право хранить молчание…
Хеннис был просто ошеломлен. Он смотрел на уличные фонари и моргал сонными глазами, пытаясь проснуться. Кто-то уже надел на него наручники, кто-то другой схватил его за руку, и его начали толкать вниз по ступенькам, в сторону полицейского автомобиля, стоявшего прямо на проезжей части. Хеннис оглянулся на жену, стоявшую в проеме двери в халате и державшую на руках малышку. Он не знал, что ей сказать. До свидания? Позвони мне? Я люблю тебя? Слова беспорядочно всплывали у него в мозгу и тут же исчезали, и он понимал только, что переставляет ноги, то одну, то другую, и пытается преодолеть страх, который подступал прямо к горлу, страх настолько плотный, что он чувствовал, что как будто тонет в нем. Кто-то положил руку ему на голову и легко втолкнул его, мужчину ростом выше 190 см и весом 90 кг, на заднее сиденье. Офицер, усевшийся рядом с ним, сказал: «У тебя большие проблемы, приятель. Очень большие проблемы».
Итак, Тимоти Хенниса обвинили в тройном убийстве — Кэтрин, Кары и Эрин Истберн. Следующие шесть месяцев он провел в тюрьме округа Камберленд без права освобождения под залог. Для защиты он нанял Джеральда Бивера и Уильяма Ричардсона — двух молодых адвокатов, которые только что выиграли получившее широкую огласку дело о произволе полиции в Фейетвилле. Некий Генри Спелл был арестован, и в ходе допроса полицейский так сильно ударил его коленом в пах, что это вызвало разрыв яичка и необратимую стерилизацию. В конце концов истец получил по суду компенсацию в размере 900 000 долларов, и 235 000 составили гонорары адвокатов.
Менее чем через месяц после вынесения приговора по этому затянувшемуся и очень сложному делу 37-летний Бивер и 29-летний Ричардсон согласились взяться за дело Тимоти Хенниса. Изучив имевшиеся доказательства вины их нового клиента, оба адвоката пришли к выводу, что доказательная база тут одна из самых неубедительных, с которыми они когда-либо сталкивались. Единственным доказательством возможной причастности Тимоти Хенниса к данному преступлению были показания свидетеля Чака Барретта. Ни одной вещественной улики, хоть как-то привязывавшей Тимоти Хенниса к месту преступления, не было. Бивер и Ричардсон были весьма воодушевлены теми серьезными минусами, которые они нашли в позиции обвинения.
Но, увы, эта самоуверенность обошлась им очень дорого. Потому что это ужасное, кровавое тройное убийство в доме Истбернов разбудило в людях сильные страсти и эмоции. И конечно, возникли явные ассоциации с печально известным делом Джеффри Макдональда, тоже обвиненного в убийстве. Ранним утром 17 февраля 1970 года, тоже в Фейетвилле, были зверски убиты беременная 26-летняя Колетт Макдональд и две ее малолетние дочери: пятилетняя Кимберли и двухлетняя Кристин. Череп Колетт был разбит ударами тяжелой биты, а на ее теле было более двадцати восьми колотых ран. У Кимберли было восемь или даже десять колотых ран, и тоже была раздроблена голова. На теле Кристин были обнаружены тридцать три колотые раны — в спину, в грудь и в шею. Самого капитана Джеффри Макдональда нашли лежащим на полу рядом с женой, всего с одним ножевым ранением в живот. Позже Макдональд рассказал следователям, что в его дом ворвались хиппи со свечами в руках и, скандируя «Класс!» и «Коли свиней!», убили его семью. Но у следователей сложилась совсем другая картина, и в этих ужасных преступлениях обвинили самого Макдональда.
Можно смело утверждать, что почти все, кто жил в Фейетвилле, знали об убийстве жены и дочек Макдональда, и горячие споры о его виновности или невиновности идут еще и сейчас, пятнадцать лет спустя. Адвокаты Хенниса опасались, что воспоминания об этих убийствах Макдональда могут просто по ассоциации «переплеснуться» на трагедию в семье Истберн и, таким образом, затронуть интересы их клиента. К тому же Макдональд настаивал на том, что он невиновен, но жюри присяжных признало его виновным, и Хеннис тоже утверждал, что был невиновен, но люди могли подумать, что он, наверное, тоже виновен.
Джеффри Макдональд был приговорен к трем последовательным пожизненным срокам тюремного заключения. Он получил такой приговор, потому что смертная казнь в соответствии с федеральным законом тогда не применялась. Но в 1977 году смертная казнь в Северной Каролине была восстановлена, и, если бы Тимоти Хенниса признали виновным в убийствах в доме Истбернов, его могли приговорить к смертной казни.
В ноябре начали приходить результаты лабораторных анализов, причем все они были отрицательными: отпечатки пальцев не его, волокна не от его одежды, группа крови не его. То есть не было буквально ни одного доказательства того, что Тимоти Хеннис был в доме Истбернов. Хеннис начал умолять адвокатов, чтобы они вытащили его из тюрьмы. Но Бивер и Ричардсон предупреждали его о необходимости проявлять сдержанность и терпение. «Аргументация у обвинения слабая, ну просто до смешного слабая, — говорили они Хеннису. — Но если мы попросим изменить меру пресечения в связи с отсутствием вещественных доказательств и если судья согласится вас выпустить, то это все равно как если бы мы отправили в прокуратуру телеграмму: у вас слабая доказательная база. Срочно ищите новые доказательства».
— Поверьте, Тим, — говорил Билли Ричардсон своему клиенту, — обвинение не примет эту информацию и отправит ее в архив, но при этом они вывернутся и сделают все возможное, чтобы укрепить свою доказательную базу.
— Мне нужно выйти отсюда, — сказал Хеннис. В крошечной тюремной камере его большое тело как бы свернулось калачиком и сжалось, и адвокатам он напоминал огромного «чертика из табакерки», готового в любой момент выпрыгнуть. — Рождество на носу, мне нужно быть дома, с женой и дочкой.
— Всего несколько месяцев, — пытался убедить его Бивер. — Давайте не будем сразу раскрывать все карты, дело передадут в суд, и там судье и присяжным сразу станет ясно, насколько слабы доказательства, и вы снова станете свободным человеком.
Хеннис покачал головой. Он не мог смириться с мыслью, что придется провести в тюрьме еще хотя бы день. «Пожалуйста, — умолял он, — вы должны вытащить меня!»
И вот 11 декабря 1985 года Бивер и Ричардсон заявили в Верховном суде округа Камберленд, что доказательства стороны обвинения настолько слабы и неубедительны, что Хенниса следует выпустить под залог. Судья согласился с этим, и Хенниса выпустили под залог 100 000 долларов, собранных его родителями и родственниками со стороны жены. Рождество Хеннис праздновал уже дома.
22 января 1986 года Билли Ричардсон разыскал главного свидетеля обвинения Чака Барретта в доме его сестры в Гибсонвилле, Северная Каролина.
— Вы уверены, что в ту ночь вы видели именно сержанта Хенниса? — спросил Ричардсон у Барретта.
Воспоминания Барретта были отрывочными и расплывчатыми, он не был уверен ни в чем. Он честно признался Ричардсону, что у него возникли сомнения.
— Вы не возражаете, если мы запишем этот разговор на магнитофон? — спросил Ричардсон.
Барретт сказал, что не возражает.
В записанном на пленку разговоре Барретт добровольно признал, что у него возникли сомнения насчет опознания им Хенниса, что он мог и ошибиться.
— Вы говорите, что не уверены, что это тот самый человек, которого вы видели? — спросил Ричардсон.
— Ну да, — ответил Барретт.
Держа в руках распечатки записи этого разговора, Ричардсон и Бивер обсуждали, каким должен быть их следующий шаг. Бивер считал, что нужно подать ходатайство об исключении результатов опознания подозреваемого Барреттом из перечня доказательств, поскольку они изначально были ненадежными. Ричардсон же полагал, что они должны сохранить запись на кассете и представить ее как сюрприз в ходе судебного разбирательства. Бивер возражал, что, если Барретт будет придерживаться этой новой версии и откажется опознать Хенниса, прокуратуре придется прекратить дело, и Хеннис будет избавлен от мучительной процедуры разбирательства в суде присяжных.
В итоге они все же решили подать ходатайство об исключении результатов опознания подозреваемого Чаком Барреттом из перечня доказательств и попросили Барретта дать показания в письменной форме и подписать их (аффидевит). Они встретились в офисе независимого юриста Джеймса Уокера, который побеседовал наедине с Барреттом в своем кабинете. Уокер показал Барретту аффидевит, подготовленный Ричардсоном и Бивером, попросил его прочитать этот документ и подтвердить, что факты, изложенные в нем, являются правдой. Барретт поклялся на Библии, что никто и никоим образом не заставлял и не принуждал его к этому, и добровольно подписал аффидевит, тем самым официально признав наличие у него сомнений по поводу опознания им Тимоти Хенниса.
Я думал, что я уверен, что человек, которого я выбрал из подборки фотографий, был тем самым человеком, которого я видел. Однако позже я думал об этом еще и еще, и у меня появились сомнения, того ли человека я выбрал. Я не могу утверждать, что человек, которого я выбрал при опознании по фото, — это именно тот человек, которого я видел тогда на Саммер-Хилл-роуд.
В ходе предварительных слушаний, состоявшихся 13 февраля 1986 года, Ричардсон и Бивер представили судье магнитофонную запись разговора с Барреттом и подписанные им письменные показания под присягой. Прокуроры тут же попросили объявить перерыв и вместе со свидетелем исчезли почти на два часа. Когда они вернулись в зал суда, Чак Барретт полностью отказался от своих показаний, данных под присягой, и магнитофонной записи, заявив, что адвокаты оказывали на него давление и заставили его сказать то, чего он не намерен был говорить. Он заявил, что не понимал, что подписывает аффидевит. Судья принял решение не исключать прежние показания Барретта из перечня доказательств, обеспечив ему возможность выступить в качестве свидетеля обвинения по делу Хенниса.
* * *
Суд начался 26 мая 1986 года. На перила перед присяжными прокурор прикрепил фотографии улыбающихся членов семьи Истберн. «Это до Хенниса», — нараспев произнес он. Потом он убрал эти фотографии и прикрепил к перилам другую подборку — сделанные полицией фотографии изуродованных тел членов семьи Истберн, с которыми он обращался так, как если бы они действительно были залиты кровью. «А это после Хенниса», — сказал он.
Судья разрешил подвесить в зале суда специальный экран, достаточно большой, чтобы на нем одновременно могли поместиться проекции двух слайдов. Относительно присяжных экран располагался так, что они видели его на стене зала суда прямо над головой Тимоти Хенниса. При этом на каждом цветном слайде, проекция которого появлялась на стене, в левом углу был виден Тимоти Хеннис, глядящий на эту бойню.
Щелчок проектора — и на экране появилось цветное, 2,5 х 1,5 м, изображение истерзанного тела трехлетней Эрин Истберн. Еще щелчок — еще одно цветное фото; еще щелчок — третье и так далее. Тридцать пять раз щелкал проектор, и тридцать пять жутких, кровавых фотографий жертв сменяли одна другую прямо над головой подсудимого. В переполненном зале то здесь, то там раздавались приглушенные стоны.
Девять слайдов, изображающих место преступления и расположение тел, были показаны, несмотря на настойчивые возражения защиты; в ходе выступления двух патологоанатомов обвинению разрешили показать также двадцать шесть слайдов с фотографиями вскрытия трупов жертв. Под конец прокурору разрешили передать членам жюри присяжных глянцевые цветные фотографии — копии слайдов, демонстрировавшихся на экране в зале суда. Фотографии передавались им по одной, так что вся процедура длилась целый час.
Потом на свидетельскую трибуну вышел Чак Барретт и заявил, что он уверен, теперь уверен, что именно Тимоти Хеннис был тем человеком, которого видел на подъездной дорожке дома Истбернов в 3:30 в то самое утро, когда произошло убийство.
— Это он, это мистер Хеннис, — сказал он, указывая на подсудимого. — У меня были сомнения. Теперь у меня нет сомнений. Я уверен.
Защита пыталась доказать, что Барретт видел другого человека — мужчину, который в ранние утренние часы бродил в тех местах и которого местные жители называли «обходчик». Ричардсон и один частный детектив в течение месяца каждую ночь дежурили там около 3:00, но «обходчик» так и не появился. Он просто исчез. Самым сильным шагом со стороны защиты было бы представить свидетелей, которые заявили бы, что видели человека, гуляющего по соседству с домом Истбернов в ранние утренние часы.
Когда Барретт покинул свидетельскую трибуну, Ричардсон и Бивер решили, что лучший свидетель обвинения уже выступил, и были уверены, что приговор будет оправдательным. В самом деле, Барретт был единственным свидетелем, хоть как-то связывавшим Тимоти Хенниса с этим преступлением, и эта «связь» была настолько тонкой и неубедительной, что не могла стать веским основанием для обвинения человека в убийстве.
Но тут случилось нечто, радикально изменившее ситуацию. Позже Билли Ричардсон рассказывал друзьям и коллегам, что это было самое невероятное, самое обескураживающее событие, которое когда-либо случалось с ним в зале суда. Прокурор объявил о выступлении неожиданного свидетеля — Сандры Барнс. Ричардсон и Бивер в ужасе посмотрели друг на друга, и оба они почувствовали нарастающий страх, что они могут проиграть дело. Они знали о существовании Барнс и даже сами допрашивали ее в пределах двух месяцев от даты преступления. Дело в том, что убийца украл кошелек Кэтрин Истберн, в котором находилась банковская карта, а также металлический сейф, в котором, среди прочих ценностей, хранился пин-код этой карты. В пятницу 10 мая 1985 года, в 22:54 убийца получил по ней в банкомате 150 долларов. В субботу 11 мая, в 8:56 утра эту карту использовали снова — по ней было получено еще 150 долларов.
А в 8:59 тем же субботним утром 11 мая, всего через три минуты и тридцать пять секунд после того, как убийца снял деньги со счета Кэтрин Истберн, деньги в том же банкомате получила Сандра Барнс. Когда спустя несколько недель с ней связались сотрудники правоохранительных органов, она твердо и решительно сказала им, что в тот день у банка она никого не видела. В сентябре Ричардсон и Бивер снова связались с Барнс, и снова она утверждала, что в то утро около банка она никого не видела.
Но теперь, в суде, Сандра Барнс заявила, что она неожиданно вспомнила нечто важное. Где-то в феврале или в марте 1986 года, рассказала она, она вспомнила, что все-таки видела кого-то рядом с банком. Когда она подъехала к банкомату, она увидела, что от него отходит «необычайно высокий» человек со светлыми волосами, одетый в белую футболку и армейские брюки. Она смотрела на него, наверное, с минуту, пока он шел от банкомата к своей машине. Когда он склонился над рулем своей небольшой светлой двухдверной машины, ему на лицо упало несколько прядей волос.
Прокурор попросил ее посмотреть на ответчика.
— Вы видели этого человека?
— Да, сэр, он похож на человека, которого я видела, — ответила она.
Билли Ричардсон взглянул на присяжных и понял, что дела его клиента плохи. До этого момента присяжные были на их стороне, и Ричардсон почти физически ощущал возникшую с ними связь. Но потом с показаниями выступил неожиданный свидетель — Сандра Барнс. Она была очень убедительна, весьма уверенно указала на Тима Хенниса и сказала: «Он похож на человека, которого я видела». К Сандре Барнс вернулась память, и Билли Ричардсон понял, как одно, казалось бы, незначительное воспоминание может радикально изменить ситуацию, превратив невиновного человека в виновного.
Адвокаты сделали все возможное, чтобы поставить это воспоминание свидетельницы под сомнение.
— Что такое произошло, — спросил Бивер у Барнс в ходе перекрестного допроса, — что так освежило вашу память?
Миссис Барнс ответила, что просто неожиданно вспомнила это.
— Вы говорили кому-нибудь об этом внезапном изменении в своей памяти? — спросил у нее Бивер.
— Нет, — ответила она, — я никому об этом не говорила несколько месяцев.
— И даже мужу?
— Нет, даже мужу не говорила.
— Вы абсолютно уверены, что ответчик — это именно тот человек, которого вы видели возле банка?
— Знаете, если это не он, то кто-то очень похожий на него, вот все, что я могу сказать, — ответила Сандра Барнс.
— То есть это либо мистер Хеннис, либо кто-то очень похожий на него?
— Да, сэр.
Свидетели защиты показали, что в ночь на пятницу 10 мая в 22:54, когда банковская карта Истберн была использована в первый раз, сержант Хеннис находился на работе и что он ушел с работы всего за на несколько минут до того, как эта карта была использована второй раз — в 8:56 в субботу. В то утро он ушел с работы в 8:45 — и как он мог через все светофоры и знаки «стоп» доехать до того банкомата всего за одиннадцать минут?
Защита акцентировала внимание на полном отсутствии вещественных доказательств, хоть как-то связывавших Тимоти Хенниса с этим преступлением. Были сняты десятки отпечатков пальцев и ладоней, собрано и проанализировано более двухсот волосков — и ни один отпечаток, ни один волосок не принадлежали мистеру Хеннису. Из тела миссис Истберн были взяты вагинальные мазки, и эксперт ФБР заявил, что хотя нельзя исключить, что насильником был Хеннис, но то же самое можно сказать о 88 % мужского населения страны.
Защита пригласила Пола Стомбо, бывшего химика из ФБР, который согласился дать показания из-за возникших параллелей с делом Джеффри Макдональда. По делу Макдональда Стомбо выступал в качестве ключевого свидетеля обвинения и заявил, что имеющиеся вещественные доказательства можно считать достаточно вескими, чтобы связать Джеффри Макдональда с убийством его жены и детей. Однако в случае с Хеннисом Стомбо пришел к совершенно противоположным выводам. Он сказал присяжным, что не нашел ни малейших доказательств того, что Тимоти Хеннис был на месте преступления.
Например, одной из улик, подтверждающих невиновность Хенниса, можно было считать кровавый след левого ботинка, обнаруженный с помощью химических тестов, проводившихся следователями прокуратуры. Специалист-серолог из Бюро расследований штата проверил дом Истбернов на наличие невидимых пятен крови и обнаружил и внутри, и снаружи дома следы, которые, по-видимому, были оставлены жесткой подошвой обуви с левой ноги. Для определения размеров следов они были сфотографированы вместе с положенной рядом линейкой. Сотрудник Бюро расследований заявил, что, по его мнению, определить истинный размер обуви по фотографиям следов невозможно, потому что обувь одного и того же размера может иметь разные по размерам подошвы и каблуки.
Но антрополог д-р Луиза Роббинс, специально изучавшая следы, оставленные людьми в обуви и без обуви, показала, что некоторые из следов, обнаруженных в доме Истбернов, были полными и на них видны четко очерченные края подошвы (кроме 3-4 мм в задней части пятки). Размер этих следов от пятки до кончика носка подошвы составлял от 9,31 до 10,9 дюйма (23,65-27,69 см), и, по мнению д-ра Роббинс, все следы были оставлены одним и тем же предметом обуви с жесткой подошвой размером 8,5-9,5.
Между тем размер ноги Тимоти Хенниса 12, то есть 12,25 дюйма (31,12 см) от пятки до носка в обуви и 11,5 дюйма (29,21 см) без обуви, так что нога ответчика просто не могла втиснуться в обувь, следы которой были обнаружены на месте преступления, заявила д-р Роббинс.
Ни на одежде, ни на обуви, ни на куртке обвиняемого, ни на его шикарном складном ноже, обнаруженном у него в кармане во время ареста, не было никаких следов крови. Его автомобиль тщательно осмотрели, обыскали, пропылесосили, обрызгали специальными спреями внутри и снаружи, сделали все необходимые химические анализы и тоже не обнаружили никаких следов крови. Как мог сержант Хеннис совершить три кровавых убийства, спрашивали адвокаты присяжных, таким образом, что после всей этой бойни у него ни на теле, ни на одежде, ни на ноже, ни в автомобиле не осталось ни единого следа крови? Как ему это удалось?
Присяжные начали совещаться в 16:30 в среду 2 июля 1986 года. Они совещались почти час, а потом закончили работу. Вернулись они в четверг 3 июля 1986 года и совещались весь день, с часовым перерывом на обед. Потом снова собрались в пятницу 4 июля и находились в совещательной комнате с 9:30 утра до позднего вечера. Наконец в 16:19 в пятницу 4 июля они вышли и огласили свой вердикт: сержант Тимоти Хеннис признан виновным по трем пунктам обвинения в убийстве первой степени и по одному пункту обвинения — в изнасиловании первой степени.
Хеннис повернулся к Билли Ричардсону, снял с пальца свое обручальное кольцо и сказал: «Отдай это Анджеле! Скажи ей, что я люблю ее».
Ричардсон взял кольцо и мягко сжал его в кулаке. Он понял, что это значит: Тим Хеннис решил, что он уже никогда не выйдет из тюрьмы и что его жизнь кончена.
7 июля 1986 года начался этап определения наказания за убийства. Выслушав просьбы защиты о снисхождении, присяжные приговорили сержанта Тимоти Хенниса к смертной казни, предложив ему на выбор газовую камеру и смертельную инъекцию. Хеннис выбрал смерть от инъекции.
В блоке для смертников Тимоти Хеннис прожил 845 дней. Каждый день он надевал белые носки, белую рубашку и зеленые брюки. Его камера открывалась в 7:30 утра. Он завтракал, писал письма, читал книги, обедал, читал книги, писал письма, общался с другими шестнадцатью обитателями блока смертников, с которыми он делил помещение, где они могли находиться днем.
С 16:00 ему разрешалось смотреть телевизор. Ужин был в 17:00. После ужина он убирал камеру, принимал душ, стирал свою одежду. В 22:30 камера закрывалась.
Раз в неделю ему разрешалось смотреть кино. Дважды в неделю он мог заниматься физическими упражнениями на свежем воздухе. Раз в неделю к нему приезжали жена и дочь. Кристина колотила в прозрачную пластиковую стенку, отделявшую ее от отца, и кричала: «Открой, папа! Открой!» После нескольких месяцев таких еженедельных визитов она стала называть тюрьму «папин дом».
В начале марта 1987 года Хеннис получил написанное от руки письмо, которое ему переслали из офиса шерифа.
Уважаемый г-н Хеннис!
Это преступление совершил я, я убил Истбернов. Очень сожалею, что вы так проводите время. Спасибо.
М-р ХХеннис долго рассматривал это письмо. Потом он взял листок бумаги, взял карандаш в левую руку и написал свое имя. Посмотрев на свои неуклюжие каракули и сравнив их с детскими печатными буквами в письме, он понял, что «мистер Икс» писал письмо левой рукой.
Спасибо. Это слово просто взбесило его. Спасибо. Как будто он добровольно пожертвовал своей жизнью! Как будто он и «мистер Икс» состояли в каком-то сговоре, были партнерами, сотрудниками, торговцами-инсайдерами!
Хеннис передал письмо своим адвокатам, которые сказали ему, что дело об убийстве позволит разговорить этих придурков. Они подшили это письмо к делу и вплотную занялись составлением записки для Апелляционного суда.
14 сентября 1988 года, через двадцать шесть месяцев после того, как Хеннис был признан виновным, Ричардсон и Бивер заявили перед Верховным судом Северной Каролины, что все обвинения с Тимоти Хенниса должны быть сняты, поскольку имела место судебная ошибка. Улики против Хенниса были настолько неубедительными, говорили они, что дело вообще нельзя было передавать в суд присяжных. Обвинение, не имея необходимых вещественных доказательств и показаний свидетелей, сыграло на эмоциях присяжных, показав им цветные слайды и фотографии жертв. Кроме того, суд первой инстанции допустил ошибку, отказавшись исключить из перечня доказательств показания Чака Барретта.
6 октября 1988 года, приняв необычно быстрое решение, Верховный суд Северной Каролины постановил провести новое судебное разбирательство по делу сержанта Тимоти Хенниса, поскольку «страшные, чудовищные» фотографии, показанные присяжным, не позволили обеспечить Хеннису справедливый приговор. И судьи назначили новое судебное разбирательство.
Для нового судебного разбирательства Бивер и Ричардсон разработали новую стратегию. Прежде всего они наняли нового частного детектива, Леса Бернса, бывшего «зеленого берета», имеющего семнадцатилетний опыт работы в качестве частного детектива и занимавшегося главным образом делами, связанными с ошибочными опознаниями.
Вторым серьезным изменением в стратегии защиты стало решение позволить самому Тимоти Хеннису дать показания в суде. На первом судебном процессе Ричардсон и Бивер боялись, что раздражение Хенниса, вызванное его арестом и заключением, и его явную неприязнь к прокурору Уильяму ван Стори присяжные могут интерпретировать как общую недоброжелательность, что позволит им сделать вывод, что Хеннис и в самом деле отвратительный, злобный и, вероятно, жестокий человек. Адвокаты знают, что присяжные обращают внимание на поведение свидетелей — их жесты, гримасы, интонации, проявления нерешительности, мимику — и учитывают их как «доказательства поведением» наряду с прочими доказательствами, представляемыми в ходе судебного заседания. Они также обращают пристальное внимание на манеры и взгляды свидетелей, дающих показания, и эти внешние проявления зачастую определяют их решение в большей мере, нежели произносимые слова. Если бы Хеннис на суде демонстрировал раздражение, вел себя сварливо или излишне агрессивно, тем самым он мог бы вызвать недоверие, а то и неприязнь присяжных.
Но, как оказалось, стоическое, хладнокровное поведение Хенниса во время первого судебного процесса обернулось против него: наблюдатели отмечали, что он был слишком холоден, слишком спокоен, и просто вслух выражали сомнение, что невинный человек в такой ситуации может вести себя столь тихо и сдержанно. На этот раз адвокаты решили попробовать другую стратегию и дать Хеннису возможность вести себя в суде более активно.
Третье и последнее изменение стратегии состояло в том, что они решили нанять эксперта, способного убедительно рассказать присяжным о проблематичности показаний очевидцев и возможностях изменения и даже создания «воспоминаний» путем внушения. Человеком, которого они наняли, оказалась я.
* * *
Джеральд Бивер позвонил мне в начале декабря, кратко пересказал обстоятельства дела и спросил, не будет ли мне интересно взглянуть на материалы, относящиеся к опознаниям, сделанным очевидцами.
— Обязательно! — не задумываясь, ответила я.
Это дело заинтересовало меня сразу по нескольким причинам. Первая из них — речь шла о смертной казни. Если Тимоти Хеннис невиновен, а его приговорят к смертной казни, то последствия приведения приговора в исполнение будут необратимыми. Наказание за менее серьезное преступление, например ограбление или изнасилование, бывает менее суровым и, главное, временным, и, если человек осужден ошибочно, судебная система может впоследствии признать свою ошибку, извиниться и, возможно, даже выплатить денежную компенсацию. Но смертная казнь — это навсегда, и признанием ошибки тут ничего не исправишь.
Никто не знает точно, сколько невинных людей было предано смерти от имени правительства США, но в одном недавнем исследовании сферы наказаний сообщается, что в этом столетии в преступлениях, караемых смертью, были ошибочно обвинены 343 человека, и 25 из них действительно были казнены. Двадцать пять невинных людей были казнены! И Тимоти Хеннис вот-вот может стать двадцать шестым.
Вторая причина того, что я согласилась дать показания в суде по делу Хенниса, была менее альтруистичной и более личной. В результате первого процесса Хеннис был осужден и приговорен к смерти; во втором процессе на его стороне сможет выступить свидетель-эксперт. Что при этом может измениться? При рассмотрении уголовных дел в большинстве случаев проводится только одно судебное разбирательство, поэтому у нас нет никаких способов узнать, могли ли присяжные вынести иное решение, если бы какая-то вводная изменилась. Может быть, мое свидетельство и не было бы единственной изменившейся переменной в этом процессе, но в результате я сама могла бы получить ценную информацию об эффективности влияния показаний экспертов на решения жюри присяжных.
Кроме того, была еще одна причина, побудившая меня участвовать в этом деле. За пятнадцать минут телефонного разговора Джерри Бивер убедил меня в том, что он на 100 % уверен в невиновности своего клиента. «Этот человек невиновен, — сказал он, просто и без экивоков. — Он не совершал эти преступления». У меня не возникло ощущения, что Бивер пытался уговорить меня или манипулировать фактами, просто чтобы я взялась за это дело (а именно так иногда ведут себя адвокаты, когда хотят, чтобы я выступила «на стороне клиента»). Бивер держался прямо, просто и честно: он хотел, чтобы я прочитала материалы дела и сама приняла решение. В общем, мне практически с самого начала было ясно, что он искренне верит в невиновность своего клиента.
Через несколько дней я получила дело и быстро разделила документы на две стопки, касающиеся опознания обвиняемого Чаком Барреттом и опознания его же Сандрой Барнс. Начала я с Барретта.
14 мая 1985 года, через два дня после обнаружения тел убитых, Барретт сделал добровольное заявление для полиции. (В верхней части распечатанного заявления имеются слова «Не под арестом».)
В пятницу 10 мая, около 3:30 утра, я только что вышел от своей подружки и шел по Саммер-Хилл, и я увидел слева белую машину, это был «шеветт». Я продолжал идти и был как раз под вторым уличным фонарем, и тут я увидел белого парня, идущего от навеса для машин по подъездной дорожке с мусорным мешком на плечах, и я подумал, что он взломщик, но не смог ничего сказать, так что я просто пошел дальше, и, когда проходил мимо, он заговорил со мной и сказал: «Вот, приходится ехать ни свет ни заря». Я подошел под фонарь, чтобы видеть, куда он пойдет, поэтому я наклонился и обернулся, чтобы посмотреть, и он смотрел на меня. Так вот он сел в белый «шеветт» и стал разворачиваться, а я зашел во двор к этой леди, а он развернулся и повернул направо на Ядкин-роуд, ну а я пошел домой и рассказал отцу о том, что случилось. Он сказал, чтобы я не волновался, вот вроде и все.
После того как он сделал это заявление, последовала череда вопросов и ответов. Вопросы задавал детектив из офиса шерифа.
— На какой подъездной дорожке вы видели уходящего белого мужчину с мусорным мешком? — спросил детектив.
— Там, где были убиты люди?
Ответ Барретта прозвучал в форме вопроса — имеет ли это значение?
— Вы уверены? И если да, то почему?
— Уверен потому, что я видел его.
— А как этот белый мужчина был одет? Постарайтесь припомнить как можно точнее.
— На нем была черная вязаная шапочка, белая, ну, типа футболка, тонкая темная куртка, джинсы и теннисные туфли.
— Какие еще приметы этого белого мужчины, которого вы видели покидавшим дом, где были убиты люди, вы можете указать?
Я обратила внимание, что теперь допрашивающий упомянул белого мужчину, который покидал дом, а не просто шел по дорожке.
— У него были усы, короткие волосы, стрижка как у солдата, светлокаштановые… весил он под 90 кг и ростом был примерно 180 см.
К этому добровольному заявлению Бивер приложил написанную от руки записку: «Мы впервые услышали это описание только в ходе судебного разбирательства; см. с. 44 апелляционной записки».
В последнем абзаце на той странице апелляционной записки было написано следующее:
…в суде защита, к своему удивлению, обнаружила, что первоначальное описание, данное Чаком Барреттом детективам, ведшим расследование, было таким: белый мужчина-шатен, ростом около 180 см и весом около 75 кг, то есть он был ниже самого свидетеля Барретта. Между тем ответчик — блондин ростом выше 190 см и весит почти 92 кг, то есть разница в росте около 10 см, а в весе около 18 кг. Таким образом, защите до начала предварительного слушания было отказано в доступе к этой жизненно важной оправдывающей информации, порочащей показания свидетеля…
К началу предварительных слушаний защите не было передано это первоначальное описание. Указывая на очевидное несоответствие внешности своего клиента этому первоначальному описанию, Бивер и Ричардсон в поданной апелляции утверждали, что показания Барретта, касающиеся опознания преступника, являются ненадежными и не заслуживают доверия.
Выступая с показаниями на первом суде, Чак Барретт отступил от своего первоначального описания. Человек, которого он увидел на дорожке у дома Истбернов, оказался ростом уже не 180 см, как он говорил в самом начале, а около 190 см; и у шатена, которого он видел, волосы стали уже светлокаштановыми. То есть Барретт изменил описание внешности так, чтобы оно соответствовало внешности Тимоти Хенниса.
Я прочитала стенограмму записи беседы между адвокатом Билли Ричардсоном и Чаком Барреттом от 22 января 1986 года. В ней на 2-й странице приведен такой диалог:
— Вы говорили мне, что долго и напряженно думали о своем опознании Хенниса, — говорит Ричардсон. — Что вы мне сказали?
— Я сказал, что я был не очень уверен, — отвечает Барретт. — Сначала был, а теперь нет.
— Что означает «вы не очень уверены»?
— Ну вы знаете, может быть, я ошибся в отношении его, ну что это был тот самый человек.
— Вы чувствуете, что у вас есть разумные сомнения или что у вас есть сомнения в отношении опознания? — спрашивает Ричардсон у Барретта.
— Да, вы знаете, сейчас точно есть. Но понимаете, я хотел бы подумать об этом еще немного, но сейчас вы знаете, как обстоят дела, и, знаете, я сомневаюсь.
— Хорошо. А почему у вас возникли сомнения?
— Потому что, ну вы понимаете, я читал газеты и все такое, понимаете, и все стало казаться не таким, каким казалось сначала.
— Но сомнения у вас появились не из-за того, что я что-то сказал, или чего-то подобного?
— Нет. Эхе-хе… хмм. — ответил Барретт.
— И эти сомнения появились у вас не из-за какого-либо страха?
— Нет. Знаете, у меня эти сомнения появились очень давно.
— Они появились у вас очень давно? — спросил Ричардсон.
— Ну да, знаете, я очень долго думал об этом.
— И вы говорите, что не вполне уверены, что это тот самый человек, которого вы видели?
— Ну да…
Из этого разговора стало ясно, что Барретт сомневался в собственных показаниях в отношении опознания Тимоти Хенниса. Неделю спустя, 29 января 1986 года, Барретт согласился подписать письменные показания под присягой (аффидевит), в которых он признавал наличие у него сомнений («…у меня появились сомнения, того ли человека я выбрал»). Ричардсон и Бивер тут же попросили провести предварительное слушание, на котором они утверждали, что опознание Барретта необходимо исключить из перечня доказательств.
На слушаниях по поводу исключения результатов опознания Хенниса Барреттом из перечня доказательств сторона защиты заявила в суде, что Барретт подписал аффидевит. Объявили перерыв на обед, и детектив проводил Барретта обратно в прокуратуру. В показаниях, которые Барретт давал после двухчасового перерыва на обед, он отказался от своего заявления о наличии у него сомнений и утверждал, что аффидевит он подписал под давлением защиты. И теперь он уверен, абсолютно уверен, что Хеннис — это именно тот человек, которого он видел на подъездной дорожке у дома Истбернов в ночь убийства.
Что же говорили Барретту детектив и прокуроры, чтобы заставить его передумать? Этого мы никогда не узнаем, но если учесть его полный отказ от разговора, записанного на магнитофон, и показаний, данных под присягой, то возникает вопрос: не принуждали ли Барретта к этому и не угрожали ли ему каким-либо образом? Я часто слышу от адвокатов, что полиция или прокуроры оказывают давление на свидетелей, используя для шантажа невыплаченные долговые обязательства, предлагая сделки, свидетельский иммунитет и т. п.
С другой стороны, возможно, уговоры полицейских были вполне невинными, такими, про которые полиция может сказать: «Послушайте, у всех бывают сомнения, у многих наших свидетелей бывает такая нерешительность и неопределенность. Доверяйте своим первым импульсам. Только вы сами знаете, что вы видели». И Барретт, стремясь угодить и со временем безнадежно запутавшись в том, что было и чего не было, отбрасывает сомнения и возвращается к своим первоначальным показаниям.
Каким образом полиция повлияла на Барретта? Когда Джерри Бивер впервые позвонил, чтобы попросить моей помощи в этом деле, он упомянул о том, что три года назад Барретта арестовывали по обвинению в мошенничестве с кредитными картами, когда он якобы пытался использовать украденную кредитную карту, чтобы получить по ней деньги в банкомате. Барретт явно был не в ладах с законом, и, если бы полицейские захотели использовать это обвинение, чтобы воздействовать на него, они легко заставили бы его «увидеть» то, что им было нужно.
Потом я обратилась к материалам, касающимся Сандры Барнс. Миссис Барнс стала неожиданным свидетелем, потому что воспользовалась банкоматом в филиале Branch Banking and Trust Company в Методистском колледже в Фейетвилле в 8:59 утра 11 мая 1985 года — через три минуты и тридцать пять секунд после того, как этим банкоматом воспользовался убийца. Помощники шерифа связались с миссис Барнс в конце июня или в начале июля, то есть примерно через месяц после убийства Истбернов, чтобы выяснить, не заметила ли она кого-нибудь около банкомата, когда снимала деньги со своей карты. Она сказала детективам, расследовавшим дело, что в то утро она «очень спешила» и «вообще никого и ничего не видела». В сентябре 1985 года миссис Барнс допросил следователь, занимавшийся этим делом со стороны защиты, и ему она тоже сказала, что «не припомнит, чтобы она там что-нибудь видела».
В апреле 1986 года, опасаясь, что Хенниса могут отпустить под залог, и не полагаясь целиком на показания колеблющегося главного свидетеля обвинения, детективы снова допросили всех, кто пользовался этим банкоматом утром 11 мая. И на этот раз миссис Барнс сообщила детективам, что она вспомнила, что кого-то видела, причем воспоминания ее оказались удивительно подробными. Она описала высокого и хорошо сложенного белого мужчину с тонкими светлыми волосами, одетого в военные брюки и белую футболку, который отошел от банкомата и сел в небольшой бежевый или другого светлого цвета двухдверный автомобиль.
16 апреля 1986 года детективы показали миссис Барнс подборку фотографий нескольких светловолосых мужчин, в том числе Тимоти Хенниса. Миссис Барнс указала на фотографию Хенниса, но призналась, что она не уверена, действительно ли она видела его в то утро возле банка или просто видела его фотографии в газетах. Ей также показали фотографию автомобиля ответчика, но она сказала, что не может определить, такой или не такой автомобиль она видела тогда недалеко от банкомата.
Защиту никто не предупредил о том, что Сандра Барнс появится в суде со своими «новыми воспоминаниями». В большинстве штатов прокуратура по закону была бы обязана уведомить защиту о том, что она собирается вызвать нового свидетеля. Но в Северной Каролине защита, видимо, не всегда заранее знает, что еще припасено у обвинения.
В записке, представленной в Апелляционный суд, Бивер и Ричардсон сообщали о том, что они сделали:
…неоднократные прошения и ходатайства о раскрытии фактов и обстоятельств, касающихся любого опознания подсудимого, с тем чтобы обеспечить разумную возможность подготовки к судебным заседаниям и составления документов, имеющих целью опровергнуть их приемлемость. Все эти ходатайства были отклонены… Результаты опознания [подсудимого] миссис Барнс и факты, связанные с ее наблюдениями, были скрыты от защиты до момента ее появления на свидетельской трибуне.
Когда адвокат попросил разрешения допросить миссис Барнс, его запрос был отклонен.
В ходе открытого судебного заседания помощник окружного прокурора предложил миссис Барнс посмотреть на Тимоти Хенниса: «Этого человека вы видели?» — «Да, сэр, он похож на человека, которого я видела», — ответила она.
В своей записке, представленной в Апелляционный суд, Бивер и Ричардсон утверждали, что это опознание в зале суда было «…неконституционно диспозитивным и чрезмерно наводящим показом. Подсудимый сидел в зале суда, за столом защиты, и был единственным человеком в “линейке опознания”; прокурор указал на него и предложил миссис Барнс опознать его: “Этого человека вы видели?” И она ответила: “Да, он похож на человека, которого я видела”».
В таких обстоятельствах — в открытом судебном заседании, с возможностью «выбора» только из одного человека, на которого к тому же прокурор указывает пальцем, — опознание практически неизбежно. Во многих случаях судьи решали, что такое «предъявление для опознания» свидетелю всего одного человека противоречит конституции. Также во многих случаях результаты таких опознаний просто не принимались во внимание.
Я сложила юридические документы и рукописные заметки обратно в папку и отодвинула ее на край стола. У меня не было сомнений в том, что свидетельства этих двух очевидцев были самыми неубедительными из всех, с которыми я когда-либо сталкивалась. В самом деле, в течение девяти месяцев Сандра Барнс не помнила о том, что видела кого-нибудь возле банка, и дважды говорила следователям, что в то утро она никого не видела. И вдруг, спустя несколько месяцев, к ней «возвращается память», она опознает Тимоти Хенниса в суде, но при этом говорит только, что «он похож» на человека, которого она тогда видела, и признается, что не уверена, может быть, она узнала его лишь потому, что видела его фотографии в газетах.
Бивер включил в подборку документов две дополнительные записки, касающиеся опознания подсудимого Сандрой Барнс. В распоряжении защиты была видеозапись действий клиентов у банкомата и данные соответствующего хронометража. В среднем одна транзакция занимала 30-40 секунд. Убийца воспользовался банкоматом в 8:56 утра — и зачем ему понадобилось оставаться около него еще две или три минуты после того, как он снял деньги с банковского счета женщины, которую он позавчера изнасиловал и убил?
Во второй записке содержалась ссылка на свидетельницу со стороны защиты, которая показала, что она пользовалась этим банкоматом вечером 10 мая и позже была допрошена тем же детективом, который допрашивал Сандру Барнс. Этот детектив подробно описал ей сержанта Хенниса, а когда свидетельница стала настаивать на том, что она не видела у банкомата никого, кто соответствовал бы этому описанию, он стал вести себя с ней «скептически» и «раздраженно».
Если предположить, что Тимоти Хеннис был невиновен, то что такое должно было случиться с Сандрой Барнс, чтобы заставить ее думать, что около банкомата она видела именно Хенниса? Как она могла состряпать целый воображаемый сценарий, а потом согласилась под присягой подтвердить, что это правда? На самом деле появление таких искусственно созданных воспоминаний объясняется довольно просто. У себя в лаборатории, используя тонкие наводящие вопросы, я могу заставить людей вспомнить, что они видели знак «Стоп» или знак «Уступи дорогу» там, где на самом деле не было ничего, кроме голого столба. Когда человек говорит «Да, я видел знак “Стоп”», я прошу его описать этот знак. «Ну, знаете, — могут ответить, например, так, — он был такой же, как и все знаки “Стоп”, красный с белым, в форме восьмиугольника…» В одном из наших экспериментов участница описала нам несуществующий диктофон, который я «вживила» в ее сознание как «маленький, черный, в футляре, без видимых антенн».
Я могу создавать у людей «воспоминания» в самых спокойных и невинных ситуациях, просто задавая им вопрос, который подталкивает их к мысли, что в той или иной рассматриваемой ситуации действительно мог фигурировать диктофон или знак «Стоп». В своей лаборатории мы не давим на участников экспериментов, чтобы добиться от них «правильных» ответов; я не обещаю студентам ни хороших оценок, ни по двадцать долларов за подробные описания (несуществующих) объектов. Аспиранты, которые помогают мне в моих экспериментах, воспитанны и вежливы; они не носят бейджиков, не морщатся, не ругаются и не барабанят пальцами по столу, когда получают ответ, который им не нравится, и не имеют письменных досье на свидетелей. И уж конечно, в своих экспериментах мы обходимся без обвиняемых в убийствах, стоящих здесь же наготове, без человеческих тел, лежащих в морге, и не ведем уголовные процессы. Но и в таких условиях я могу искусственно формировать у участников экспериментов «воспоминания», просто внедряя в их сознание нужные образы.
И я полагаю, что, основываясь на результатах своих исследований искусственно созданных «воспоминаний», я могу объяснить, что произошло с Сандрой Барнс. В ее сознании хранилась определенная картина — воспоминание об использовании банкомата утром 11 мая 1985 года, и в течение девяти месяцев убийцы в этой картине не было, просто не было. Но за месяц до начала суда над Тимоти Хеннисом — после того, как его фотографии десятки раз были напечатаны в газетах, — миссис Барнс вдруг вспомнила, что в то утро у банкомата она видела какого-то человека, очень похожего на Хенниса. Статичная картинка в ее голове начала двигаться, менять форму, ожила, и в эту картинку она начала вживлять газетные фото Тимоти Хенниса. Она видела банк, видела банкомат и — да, после минимального, почти незаметного психического редактирования смогла «увидеть» и человека. Он был высок и хорошо сложен, и у него были светлые волосы. Она смогла «увидеть» даже тонкие пряди волос, падавшие ему на глаза, когда он шел к своей машине, открывал дверь и отъезжал.
Сандра Барнс, несомненно, ощущала давление, с тем чтобы изменить образы в ее памяти. На нее давило то обстоятельство, что она была в том самом банке в то самое утро и что она, скорее всего, была единственным человеком, который мог видеть убийцу, единственным, кто мог теперь опознать его и помочь отправить его за решетку. Но не было ли здесь и более опасного давления? Не запугивала ли полиция Сандру Барнс, используя свою власть и влияние, чтобы заставить ее изменить свои воспоминания? Результаты моих исследований памяти со всей очевидностью показывают, что полиции вовсе не нужно использовать принуждение в той или иной форме. Просто задавая ей вопросы, повторяя один и тот же вопрос несколько раз в течение нескольких месяцев, представители обвинения оказывали на нее незаметное, но глубокое воздействие, в конце концов побудившее ее «вспомнить» человека около банка. Если их вопросы были наводящими или если допрашивающий демонстрировал раздражение или скепсис, в частности в ответ на желание другого клиента банка дать показания, то такое воздействие можно охарактеризовать как интенсивное и, может быть, отметить его в качестве возможного источника «созданного» воспоминания. В данной ситуации мы можем убедиться в силе внушения, позволяющей сформировать воспоминание о том, чего на самом деле не было.
Обвинение может утверждать, что это воспоминание у Сандры Барнс существовало и раньше, но было вытеснено из сознания, погребено под более поздними воспоминаниями и ожидало нужного момента, как крупная рыба на дне глубокого пруда. Но если эта «рыба» была, почему она так долго не появлялась на поверхности? Исходя из того, что первоначально миссис Барнс заявляла, что возле банка она никого не видела, и того, что через восемь месяцев она вдруг вспомнила мужчину, который был «очень похож» на Тимоти Хенниса, я утверждаю, что воды ее памяти были изначально пусты и что «рыба» была внедрена в ее сознание с помощью фотографий в газетах; что, когда детектив начал задавать вопросы, она начала ходить кругами, а детектив продолжал забрасывать крючки и мутить воду, пытаясь добиться поклевки, и только тогда рыба выскочила и заглотила крючок. После того как память «клюнула», воспоминание стало реальным. Однако при этом у меня нет никаких сомнений в том, что Сандра Барнс теперь искренне полагала, что она действительно видела у банка кого-то похожего на Тимоти Хенниса на следующее утро после убийства в доме Истбернов.
В наших исследованиях уверенность субъектов в реальности воспоминаний о подсказанных или воображаемых событиях часто оказывается столь же сильной, как уверенность в реальности воспоминаний, основанных на реальных впечатлениях. При сравнении описаний этих двух разных видов воспоминаний обнаруживается, что искусственно созданные воспоминания содержат чуть меньше сенсорных атрибутов, таких как цвет, размер или форма объекта. При описании воспоминаний, являющихся плодом воображения, субъекты также стремятся использовать больше вербальных ограничений, позволяющих уклониться от прямого ответа, таких как «я думаю» или «я полагаю». Но когда их просят подробно описать их искаженные воспоминания, испытуемые часто оказываются довольно многословными и рассказывают, о чем они думали или на что обратили внимание, когда «увидели» (воображаемый) объект.
Достаточно подробно и уверенно люди описывают также воспоминания, обусловленные внушением, полученным под гипнозом. В одном эксперименте, в котором производилось внушение под гипнозом, испытуемый вспомнил, что однажды вечером он проснулся от громких звуков. «Я уверен, я их слышал, — говорил он. — В самом деле, я совершенно уверен. Я уверен, что слышал эти звуки».
Эти и другие эксперименты показывают, что между воспоминаниями о том, что действительно происходило, и внушенными воспоминаниями существуют тонкие различия, но большинство людей не в состоянии уловить эти различия. Иными словами, когда человек что-то вспоминает, он склонен верить, что это правда. И когда люди описывают свои воспоминания, их рассказы могут быть настолько реалистичны и подробны, что слушатели (в том числе и присяжные) обычно считают, что это воспоминания о реальных событиях.
Так как же отличить реальные воспоминания от ложных, искусственно созданных воспоминаний? Психолог Уильям Джеймс в свое время писал о «теплоте и близости» нашей памяти. Сандра Барнс «вспомнила» тонкие волосы мужчины, пряди волос, падающие на его лицо, скрип открываемой двери автомобиля. Ее воспоминание обрело форму, цвет, образ и вещественность — «теплоту и близость» реального события.
* * *
Из-за чрезвычайно широкой досудебной огласки второй суд над Тимоти Хеннисом был перенесен из Фейетвилла в Уилмингтон, Северная Каролина, прибрежный город с населением около 44 тысяч человек, расположенный всего в 80 км от границы с Южной Каролиной. В среду 12 апреля 1989 года я прилетела в Уилмингтон, и в аэропорту меня встретили Билли Ричардсон и Лес Бернс, частный детектив, работавший по этому делу. Через полчаса мы встретились с Джерри Бивером в рыбном ресторане у входа в канал, в одном из сооружений из стекла и дуба, с фикусами по углам и с доской объявлений о сегодняшних скидках на вина. Билли, Джерри и Лес решили ужинать по полной программе, но я все еще жила по стандартному тихоокеанскому времени и с теми избыточными углеводами, которыми меня пичкали в самолете. Поэтому я заказала креветочный коктейль и бокал шардоне.
— Расскажите мне про Хенниса, — попросила я. — Почему вы так уверены в его невиновности?
У меня вдруг возникло ощущение, что я веду телевикторину и сидящие передо мной участники лихорадочно нажимают кнопки ответов. И мы все вчетвером расхохотались.
— Я первый! — воскликнул Джерри. Будучи старшим членом их юридической фирмы, он воспользовался привилегией руководителя. — Начнем с полного отсутствия вещественных доказательств причастности Тима Хенниса к этому преступлению. И в гостиной, и в спальне было обнаружено множество волос с головы и лобковых волос, но ни один из этих волосков не принадлежит Тиму Хеннису. Ни один! Масштаб преступления таков, что можно было бы ожидать, что удастся найти какие-то вещественные доказательства причастности обвиняемого к этому преступлению, но в данном случае не было найдено абсолютно ничего. Более того, многие доказательства, в частности кровавые следы обуви, указывают как раз на невиновность Хенниса.
В разговор вступил Билли Ричардсон. Круглолицый и гладко выбритый, он выглядел так, как будто только вчера окончил свой юридический факультет.
— Я думаю, вы также должны принять во внимание абсолютную наивность и доверчивость Хенниса. Настоящий виновник не отправился бы в полицию так спокойно, как это сделал Тим Хеннис, и не дал бы так легко себя обследовать — отпечатки пальцев, следы рук, отпечатки ног, образцы крови и слюны. Он провел в полицейском участке почти семь часов, ответил на все вопросы, которые они ему задавали, и даже не подумал о том, чтобы вызвать адвоката. Мой опыт подсказывает, что если существует нечто такое, что отличает невиновного человека от виновного, так это доверчивость, отсутствие подозрительности, готовность сотрудничать с полицией, потому что вы хотите помочь им, хотите быть хорошим американским гражданином.
Настала очередь Леса Бернса. Как и большинство частных сыщиков, которых мне довелось видеть, Бернс вполне соответствовал категории «хмурого индивидуалиста»: высокий и худой, угловатый — в стиле Криса Кристофферсона, с седеющей бородой и склонностью резать правду-матку. Бернс повторил соображения Бивера насчет отсутствия вещественных доказательств:
— Я работаю частным детективом уже семнадцать лет, и, столкнувшись с таким жутким преступлением, с перерезанными глотками и множественными колотыми ранами, вы ожидаете найти нечто такое, что могло бы изобличить подозреваемого. Но десятки следователей, как ни старались, не смогли найти ни малейшего доказательства, которое изобличало бы Хенниса. Потому что Хеннис просто не совершал этих преступлений.
Бернс посмотрел на Бивера и Ричардсона, и было очевидно, что мнение у этих троих мужчин общее.
— Тим Хеннис не убийца, — просто и спокойно сказал Бернс. — Подумайте, каким надо быть человеком, чтобы убить мать и ее двоих маленьких детей? У Тима Хенниса свой ребенок, маленькая девочка. Я не имею в виду, что меня нельзя обмануть, можно, конечно, в этом нет никаких сомнений. Но я не верю, что Тим Хеннис по своему человеческому типу относится к категории убийц. И еще этот «обходчик»…
Следующие двадцать минут Лес Бернс рассказывал мне, как он нашел «обходчика». Когда Чак Барретт рассказал, что видел мужчину, уходившего от дома Истбернов по подъездной дорожке, прямо в свете уличного фонаря и что этот мужчина заговорил с ним, сказал: «Вот, приходится ехать ни свет ни заря», Бернс понял, что здесь что-то не так. Чтобы человек, только что жестоко убивший молодую мать и двух ее маленьких детей, тащил что-то тяжелое по подъездной дорожке, спокойно вошел в круг света от фонаря и спокойно беседовал с незнакомцем? Бернс усомнился в этом. Он предположил, что человек, которого видел Барретт, не имел никакого отношения к этому преступлению, а просто гулял возле дома Истбернов в эти ранние утренние часы.
Перед первым заседанием суда Билли Ричардсон ходил по Саммер-Хилл-роуд от одной двери к другой и опрашивал соседей: не видели ли они, как кто-то ходит здесь неподалеку между 2:00 и 5:00 утра? Несколько человек ответили — да, кто-то был, бродил там ночью. Они даже придумали ему кличку — «обходчик». Он всегда носил на плече мешок, был одет в темную куртку, на голове низко надвинутая темная шапка, он высок и хорошо сложен — то есть выглядит именно так, как выглядел человек, которого первоначально описал Чак Барретт.
Каждую ночь в течение четырех недель Билли Ричардсон приезжал сюда около 3:00 и наблюдал за ближайшими окрестностями, надеясь поймать «обходчика». Лес посмотрел на Билли и Джерри и в восхищении покачал головой.
— Я семнадцать лет в этом бизнесе, но мне еще никогда не выпадала честь работать с адвокатами, настолько преданными своему делу. Джерри постоянно копается в юридических книжках, а Билли каждый день выезжает «в поле», и в выходные, и поздно вечером, и рано утром. Они живут этим делом, анализируя каждую мелочь, которую им удается найти. Я никогда не видел ничего подобного.
Но «обходчик» не появлялся, и на первом судебном процессе защита могла опираться только на слова соседей о том, что такой человек действительно был. После того как Хенниса признали виновным и начался апелляционный процесс, Бернс понял, что он должен найти «обходчика», потому что это может дать Хеннису хоть какой-то шанс на оправдательный приговор. Начал он с Ядкин-роуд — магистрали, которая соединяется с Саммер-Хилл-роуд. Он останавливался у каждого магазина и спрашивал, не видел ли кто парня, который подходил бы под описание «обходчика».
И наконец в одном из небольших продуктовых магазинов директор понимающе закивал головой. «Да, конечно, — сказал он. — Его зовут Джо Ползин. Он работал здесь на складе. Он пополнял запасы поздно ночью, после того как мы закрывались».
Ползин. Это имя показалось ему знакомым. Вскоре после первого судебного процесса Биверу позвонила одна из соседок Истбернов. Она сказала, что в их районе бывал молодой человек, поразительно похожий на Тимоти Хенниса. Он был высокий, светловолосый, носил темную одежду и часто ходил по району ночью. Бивер написал Бернсу записку, что нужно проверить этого человека. Его звали Джо Ползин.
— Что делал Ползин после того, как заканчивал работу? — спросил Бернс.
— Днем он ходил в школу, — объяснил директор магазина, — и он приходил на работу со своими книгами и сменной одеждой в рюкзаке. А после работы он гулял тут по окрестностям, и сумку носил на одном плече, на лямках.
— А где он сейчас? — спросил Бернс.
— Он недавно уехал из штата, — ответил директор. — Поступил в колледж где-то на севере.
Проведя месяц в непрерывных поисках, Бернс и Ричардсон нашли Джо Ползина в колледже в нескольких сотнях километров от Фейетвилла. Они представились и объяснили, что ищут человека, который имел обыкновение ходить по Саммер-Хилл-роуд в Фейетвилле поздно ночью, в синих джинсах, темной куртке и шапке, низко надвинутой на голову, и с сумкой через плечо.
— Ну да, это я, — сказал Ползин. — Я носил в сумке свои книги и сменную одежду. А после работы я гулял пешком по окрестностям, ну это просто привычка у меня такая.
Ползин рассказал Бернсу и Ричардсону, что во время первого судебного процесса, после того как одна из соседок Истбернов показала, что она видела «обходчика», с ним связались сыщики из офиса шерифа. Позже один из детективов забрал его куртку и сумку и положил их в багажник своего автомобиля. Когда ему вернули его вещи, рассказал Ползин, одежда была на плечиках и в пластиковых мешках, как после химчистки. Люминол, подумал Бернс, копы искали следы крови. Они распылили на вещи люминол, а когда ничего не нашли, отправили их в химчистку.
Тут я прервала рассказ Бернса:
— То есть вы имеете в виду, что полиция и прокурор знали об «обходчике» еще на первом судебном заседании?
— Именно так, — сказал Бернс.
— И они не сказали защите, что нашли его? — спросила я в изумлении.
— Да, именно так, — сказал Бернс.
— У нас в Северной Каролине очень мягкие законы о раскрытии доказательств, — вмешался Джерри Бивер. — Защита имеет право только на получение научных доказательств и/или доказательств, которые могут рассматриваться как оправдательные. Прокурор потом сказал нам, что, поскольку Ползин не был подозреваемым по этим убийствам, он не видел причин информировать о нем защиту. По закону обвинение должно раскрывать информацию только о тех доказательствах, которые, как можно предположить, являются оправдательными, но они утверждали, что в ситуации с Ползином не было ничего, что могло бы оправдать Хенниса.
— Их можно было бы счесть двойниками? — спросила я.
— Я был просто поражен их сходством, — ответил Лес. — У меня есть портреты-наброски Хенниса и Ползина, и я пририсовал к ним шапки, чтобы посмотреть, насколько они будут похожи друг на друга, если им прикрыть волосы и лбы. Я показывал эти фотографии разным людям, и они говорили, что думали, что это просто разные изображения одного и того же человека.
— Но даже если бы они не были похожи друг на друга, существуют и другие причины, по которым Чак Барретт мог перепутать этих двоих мужчин, — сказал Джерри Бивер тихим голосом, наклонившись через стол. — У Барретта явно проблемы с алкоголем. У нас есть свидетель, продавец из пекарни, который рано утром доставляет продукцию в несколько магазинов на Ядкин-роуд, и он готов дать показания, что часто видел, как Барретт гуляет рано утром пьяный в стельку. И еще один полицейский готов засвидетельствовать, что в 1987 году, после первого процесса, он задержал пьяного Барретта за хулиганство. Когда Барретт не пришел на суд, прокуратура прикрыла это дело, но сохранила за собой право возобновить его.
Бивер поднял брови и ухмыльнулся.
— Мы выявили еще одну болевую точку, которую обвинение может использовать, чтобы заставить Барретта вести себя так, как им нужно. Месяц назад помощники шерифа предъявили Барретту ордер на арест по обвинению трехлетней давности в мошенничестве с кредитной картой: якобы Барретт пытался снять в банкомате деньги с украденной кредитки.
— И это главный свидетель обвинения, — сказала я, покачивая головой. — Мне с трудом верится, что Хенниса могли осудить на основании того, что его опознали Барретт и Барнс. Свидетельства этих двух очевидцев — самые неубедительные из всех, с которыми я когда-либо сталкивалась.
Странно, но я помню этот разговор так ясно, как будто он был вчера. Я помню, где каждый из нас сидел за дубовым столом, вкрапления седины в бороде Леса Бернса, помню напряженное, серьезное выражение лица Джерри Бивера и выражение усердия на круглом лице Билли Ричардсона. Все эти детали — свежие, четкие и красочные — сохранились в моей памяти. Но о следующем дне, когда я давала показания в суде, у меня остались лишь смутные впечатления.
Я помню, что здание суда было новым, но вместе с тем величественным и «официальным», с длинной крутой лестницей с мраморными ступеньками. Помню, что был теплый весенний день, с бабочками и пчелами, и женщины ходили в легких платьях без рукавов. Помню, что свидетельская трибуна была из темного дерева, резная и отполированная до блеска, а на сиденье лежала красная подушка.
Помню, что с этой трибуны я говорила о силе внушения и способах непреднамеренной передачи информации свидетелю. Когда сотрудники полиции допрашивают свидетеля, пытаясь получить от него информацию, говорила я, они на самом деле могут сами передавать ему информацию. Это особенно опасно, когда у полиции уже есть подозреваемый или когда у них сложилась картина происшедшего, потому что они могут передать свои мысли свидетелям и повлиять на память свидетелей. Используя наводящие вопросы, продолжала я, можно даже создать в памяти «воспоминание» о том, чего на самом деле никогда не было. Кроме того, свидетели часто изменяют свои показания просто из честного желания сотрудничать с властями.
Я помню, как говорила о том, что первоначальные показания свидетеля, несомненно, будут более точными, нежели более поздние воспоминания, потому что время и накладывающиеся друг на друга последующие события обычно искажают воспоминания. Сандра Барнс сначала говорила следователям, что никого не видела возле банка, и лишь много позже, после допроса в полиции и испытав воздействие газетных сообщений, «вспомнила», что видела мужчину, который выглядел как Тим Хеннис. Чак Барретт первоначально описал мужчину ростом в 180 см, весом около 75 кг и с каштановыми волосами. И только потом, после нескольких очных ставок с Хеннисом, он добавил 10 см роста и чуть не 20 кг веса и изменил цвет волос на светлый, чтобы подогнать свое описание под внешность Хенниса.
Я помню, как мы обсуждали проблемы идентификации свидетелями людей другой расы. Чак Барретт афроамериканец, и «обходчик» и Тимоти Хеннис для него «белые». Большинство людей знает, что белым людям трудно различать черные лица, но они часто не знают, что у чернокожих эта проблема тоже существует: им труднее различать белые лица. Результаты множества психологических исследований показывают, что обычно людям намного труднее распознавать лица людей другой расы, нежели своей.
Я помню, что после того, как я закончила свои показания, мы несколько минут говорили с Тимоти Хеннисом, но не помню о чем. Скорее всего, я задала ему стандартный вопрос: «Ну как вы, держитесь?» — а он, должно быть, дал какой-нибудь стандартный ответ. Он показался мне приятным человеком, с открытым лицом, держался застенчиво и немного неловко. Он все время покачивался, перенося вес с одной ноги на другую, взад-вперед, взад-вперед. Я помню разговор с капитаном Гэри Истберном, мужем убитой жены и отцом убитых дочерей. Я не знаю, как и почему я вступила в разговор с ним; вероятно, это было во время перерыва, мы были в коридоре, и я, кажется, чувствовала себя неловко и непривычно, потому что мы с ним были вроде как по разные стороны баррикады.
Помню, я спросила о его планах, что он будет делать после того, как суд закончится, и он несколько минут говорил о возвращении на базу ВВС в Англии вместе с маленькой дочкой Яной. Ей пять лет, сказал он, и скоро день рождения. Мы не говорили о других — о старших сестрах и их матери, но горе ощущалось в каждом его слове.
После того как я дала показания, Лес Бернс отвез меня в аэропорт. До самолета оставался еще час, нам надо было как-то его убить, и мы заказали в ресторане сэндвич. Лес рассказал об одном известном случае ошибочной идентификации, в котором ему пришлось разбираться несколько лет назад. Два брата, 18-летний Лонни и 21-летний Сэнди Сойер из Минт-Хилл, Северная Каролина, были арестованы по обвинению в похищении, которое произошло 15 мая 1975 года. Менеджер универмага уверенно опознал в них мужчин, которые похитили его, угрожая оружием. Никаких других доказательств причастности их к этому преступлению не было, у обоих братьев было твердое алиби, но жюри присяжных проголосовало за осуждение; позже в интервью одна из трех присяжных, высказавшихся за оправдание, призналась, что она в конце концов подстроилась под большинство, просто потому что «устала».
После того как Сойеров осудили, их защита наняла Леса Бернса, чтобы он расследовал это дело. Бернс проверил слух о том, что в этом похищении признался другой человек, и в конце концов обнаружил улики, которые полиция скрыла от защиты, в том числе первоначальное описание одного из похитителей, составленное жертвой похищения, и фоторобот, составленный полицией. Ни один из братьев Сойер не соответствовал ни этому описанию, ни фотороботу. В конце концов, два года спустя, в содеянном сознался другой мужчина, и губернатор Северной Каролины объявил о полном помиловании Сойеров ввиду их невиновности.
— Со сколькими случаями ошибочной идентификации вы столкнулись за все время работы? — спросила я.
Бернс на мгновение нахмурился и почесал бороду.
— У меня были сотни случаев, связанных с ошибочными показаниями очевидцев, и наверное, в четырнадцати случаях человек был обвинен или осужден на основании ошибочного опознания. Никто из этих людей уже не сидит в тюрьме — за исключением, конечно, Хенниса. И безусловно, он тоже один из невиновных.
— Вы сможете задержаться, чтобы выслушать приговор? — спросила я.
— У меня еще одно дело в Шарлотте, — ответил он. — Но я буду следить за информацией каждый день и, как только что-то услышу, позвоню вам.
Через неделю, 20 апреля, я прилетела в Чикаго, чтобы прочитать лекцию на юридическом факультете Северо-Западного университета. После лекции я ужинала с заместителем декана юридического факультета и его женой. Когда я вернулась в свою комнату, почти сразу зазвонил телефон. Это был Лес Бернс.
— Невиновен по всем пунктам! — прокричал он в трубку.
Присяжные совещались всего два часа двадцать минут. После оглашения приговора некоторые члены жюри рассказали журналистам, что они пришли к этому решению так быстро, потому что обвинение просто не смогло обосновать свою версию. Они сослались на отсутствие доказательств, подтверждающих присутствие Хенниса на месте преступления, на неубедительность показаний очевидцев и на существование «обходчика», благодаря которому удалось показать, как легко по ошибке принять одного человека за другого. Хеннис стал первым смертником, добившимся оправдания в ходе нового судебного разбирательства, с тех пор как в 1977 году Северная Каролина восстановила у себя смертную казнь.
После того как Лес сообщил мне подробности оправдания Хенниса, он рассказал мне еще кое-что, очень серьезное.
— В июле 1987 года в офис шерифа пришло еще одно письмо от «мистера Икса», написанное тем же почерком, что и первое, — сказал Лес. — И никто не сообщил защите об этом втором письме. Мы узнали о нем только после того, как нашли Джо Ползина, «обходчика», показания которого заставили судью усомниться. Кто знает, что еще могло быть скрыто среди документов обвинения? Поэтому судья обязал сторону обвинения пересмотреть все свои документы и ознакомить защиту со всеми материалами, которые могут свидетельствовать в пользу Тима Хенниса. И только тогда они представили второе письмо «мистера Икса».
— Вы думаете, «мистер Икс» и есть настоящий убийца? — спросила я Леса.
— Не знаю, — ответил он. — Но я предполагаю, что тот, кто убил Истбернов, продолжил совершать убийства. Выяснилось, что через несколько месяцев после убийства трех членов семьи Истберн в одном крошечном городке в 65 км от Фейетвилла произошел поразительно похожий случай: женщина была изнасилована и жестоко убита — ее несколько раз ударили ножом в грудь, шею и спину, а горло перерезали так сильно, что она была почти обезглавлена. Когда ее нашли, руки у нее были связаны веревкой, а лицо закрыто подушкой, как у Кэтрин Истберн.
Но послушайте дальше, — рассказывал Лес тихим, ровным голосом. — За пять дней до того, как ее убили, эта женщина поместила объявление в местной газете. Она предлагала на продажу водяную кровать. Помните, Кэтрин Истберн поместила в газете объявление, что она отдает свою собаку в хорошую семью?
Я думаю, именно так этот мужчина и выбирал своих жертв. Он читал газету с объявлениями, звонил по телефону, узнавал адрес, осматривал дом, а затем выбирал подходящую ночь. У полиции нет подозреваемых, и никто не ведет ни одно из этих убийств, но я думаю, что Истбернов и эту женщину убил один и тот же человек, и думаю, что он будет убивать и дальше.
Когда я повесила трубку, было уже поздно. Я села на двуспальную кровать и осмотрела свой номер. Тяжелые цветочные шторы были закрыты, но я стянула их покрепче, наложив края друг на друга. Обогреватель то жужжал, то отключался. Я подумала, не позвонить ли кому-нибудь или, может быть, спуститься в гостиную и немного выпить, но было уже поздно, а утром следующего дня я должна была опять читать лекцию и потом еще успеть на самолет, летящий обратно в Сиэтл.
Я приготовилась ко сну, залезла в постель и достала книжку. Но книжка так и осталась у меня на коленях закрытой, а я сидела, разглядывала обои и думала о деле Хенниса. Я пыталась сосредоточиться только на первой части нашего разговора с Лесом Бернсом — на благой вести об оправдании Тимоти Хенниса. Но мое сознание раз за разом настойчиво возвращалось к последней части его рассказа. Я продолжала думать про убийцу, который выбирал свои жертвы по объявлениям в газетах, звонил по номеру телефона, указанному в объявлении, чтобы узнать адрес, а потом ждал снаружи, пока все не улягутся и не погаснет свет. А потом раздавался стук в дверь…
6. «Устами младенца». Тони Эрререс
Каждые пятьдесят лет наше общество охватывает очередной пароксизм добродетели, эдакая оргия самоочищения, благодаря которой искореняется тот или иной порок. Эта моралистическая истерия тянется красной нитью от охоты на ведьм в Салеме к охоте на коммунистов эпохи Маккарти и далее к сегодняшней мании борьбы с насилием над детьми.
Дороти Рабинович. Harper’s Magazine, май 1990 г.5 июля 1984 года в 16:15 в пригороде Чикаго, штат Иллинойс, пятилетняя Кэти Дэвенпорт выскочила из желтого микроавтобуса и крикнула: «Спасибо!» Ее лучшая подружка Пейдж Беккер с заднего сиденья корчила ей рожи, а она смеялась и в ответ тоже состроила ей забавную рожицу. Махнув на прощание рукой, она подбежала к матери, крепко прижалась и поцеловала ее.
— Ну, зайка, чем ты сегодня занималась в лагере? — спросила дочку Линор Дэвенпорт, когда они за ручку шли на кухню.
Кэти только пожала плечами.
— Ты играла с Пейдж? Нарисовала мне что-нибудь или научилась новым играм?
Миссис Дэвенпорт давно привыкла задавать дочери подробные вопросы и получать односложные ответы. «Пятилетние дети очень активны, внимание у них быстро переключается», — думала Линор, с любовью наблюдая за дочерью.
— Мы смотрели кино, — в конце концов выдавила из себя Кэти.
— Ну, хорошо. А что за фильмы?
Кэти уставилась вниз, на линолеум:
— Смешные фильмы.
— Смешные?
— Да, мультики. Про кроликов, эльфов. Правда смешные. — Кэти хихикнула. — Мамочка.
— Да? — Миссис Дэвенпорт погладила длинные каштановые волосы дочки.
— Ты знаешь, что пенис по-другому называется «член»?
Линор Дэвенпорт опустилась на колени и положила руки на плечи Кэти.
Она смотрела ей прямо в глаза и изо всех сил старалась говорить спокойным голосом.
— Солнышко, — сказала она, — а где ты это слышала?
Кэти чуть улыбнулась и краем глаза посмотрела на мать.
— Это совсем не смешно, Кэти. Скажи мне, где ты слышала эти слова!
Кэти заплакала. Мать взяла ее на руки, отнесла к дивану в гостиной и села на него, держа ребенка на коленях.
— Доченька, — спросила она чуть погодя, — что произошло сегодня? Что ты делала в дневном лагере?
— Мамочка, я хочу есть. Можно немножко печенья?
— Сначала расскажи мне, а потом будем есть печенье. Что там было в мультиках, Кэти?
— Я видела тетю с длинными белыми волосами, летящую по воздуху. И дядю, у которого на голове было смешное.
— Смешное? — нахмурилась миссис Дэвенпорт.
— Смешное. Смешное плохое…
— Плохое? Ты хочешь сказать — страшное? Что ты имеешь в виду, Кэти?
— Просто плохое. Похоже на пенис. — Кэти снова хихикнула. — Пенис у него на голове.
— Кто вам сказал, что это пенис? — резким тоном произнесла миссис Дэвенпорт.
— Дети говорили. И Тони.
Тони? Миссис Дэвенпорт сосредоточилась, пытаясь вспомнить, кто такой Тони. А, конечно, это же новый вожатый в лагере, студент-медик — откуда же он? Из Северо-Западного университета? Симпатичный парень. Мексиканец или пуэрториканец, приятный и вежливый, очень любит детей. Он всегда собирает детей младшего возраста, играет с ними, обнимает их.
— Тони прикасался к тебе, Кэти? Тони трогал тебя там, где нельзя?
Кэти нахмурилась.
— Нет, — ответила она.
— Точно нет?
— Точно. Я думаю.
В тот же вечер, как только Кэти заснула, Линор Дэвенпорт позвонила матери Пейдж, Маргарет Беккер. Не рассказывала ли Пейдж о чем-нибудь необычном, что произошло в дневном лагере? Нет, ответила миссис Беккер, Пейдж ничего особенного не рассказывала. Линор Дэвенпорт поделилась с ней тем, что рассказала Кэти о плохих фильмах и пенисе на голове. Потрясенная миссис Беккер согласилась назавтра еще раз расспросить Пейдж. В течение следующих двух недель матери каждый день разговаривали друг с дружкой и каждый день беседовали со своими детьми, ласково успокаивая их, убеждая, что им нечего стыдиться, что ничего плохого не случится, если они расскажут правду, и никто не причинит им вреда.
В конце июля между Кэти Дэвенпорт и ее матерью состоялся еще один примечательный разговор.
— Солнышко, помнишь, несколько недель назад ты сказала мне, что Тони показывал тебе плохие фильмы?
Кэти покраснела:
— Да — Ты оставалась одна с Тони?
— Нет.
— Ты уверена, Кэти? Точно-точно нет?
— Честное слово, мама, мы ничего не делали, мы только пошли в ванную!
— В ванную? — Миссис Дэвенпорт не смогла скрыть беспокойства. — А что ты делала в ванной с Тони?
— Я надевала купальник. А он помогал мне.
— Он трогал тебя?
— Нет.
— Кэти, ну если он помогал тебе надеть купальник, значит, он трогал тебя.
— Я не знаю. Он помогал мне.
— К каким местам он прикасался?
— Ну, к руке… К спине… К голове.
— Он трогал тебя там, внизу, за интимное место?
— Нет.
— Точно нет?
— Точно. Я так думаю.
Как-то, примерно через три недели, в середине августа, миссис Дэвенпорт купала дочку в ванне. Когда мать намыливала ей ягодицы, Кэти сильно покраснела.
— Только ты можешь трогать меня за эти места, — сказала она.
— Правильно, Кэти.
— Другим никому нельзя. Тони нельзя.
— Тони когда-нибудь трогал тебя за эти места?
— Нет. — Кэти помотала головой.
— Кэти, если ты не скажешь правду, я не смогу тебе помочь.
— Ну, может быть.
Кэти колебалась, а затем добавила:
— Да.
— Где, Кэти. где ты была, когда это случилось?
— В ванной.
— Что еще делал Тони? Он просил тебя потрогать его?
— Нет, — ответила Кэти.
Мать погладила ее по голове.
— Точно нет?
— Ну да.
— Да — это значит, что он действительно трогал тебя или не трогал?
— Ну да.
Миссис Дэвенпорт вынула дочь из ванны и стала вытирать ее полотенцем. Она изо всех сил старалась говорить спокойно:
— В каких местах он трогал тебя, Кэти?
— Пенис по-другому называется «член», — неожиданно сказала Кэти.
— Что делал Тони, Кэти?
— Он положил свой пенис мне на голову, — сказала Кэти. — А потом засунул его мне в рот.
Миссис Дэвенпорт позвонила в полицию.
* * *
23 августа 1984 года детектив Янси из полицейского управления Чикаго попросил миссис Дэвенпорт и миссис Беккер привезти дочек в полицейское управление. Детей более двух часов допрашивали детектив Янси и детский психолог Марта Сандерсон. Пейдж призналась, что Тони ей не нравится, потому что он «несправедливый». Она сказала, что видела фильм, который смотрела Кэти, тот, в котором мужчина был с пенисом на голове.
— Это был мужчина, которого вы знаете? — спросила психолог.
— Это был Тони, — ответила Пейдж.
15 сентября миссис Беккер и миссис Дэвенпорт повели Кэти и Пейдж в больницу, чтобы проверить их на предмет возможного сексуального насилия. Врач не нашел никаких физических признаков, которые позволили бы ему с уверенностью сказать, что насилие имело место. Однако, как он объяснил встревоженным матерям, с момента предполагаемого инцидента прошло два месяца, и если насилие представляло собой оральный секс, как предполагают мамы, то никаких физических следов и не должно быть.
Менее чем через неделю миссис Беккер в слезах позвонила детективу Янси:
— Пейдж вспомнила фильм с обнаженными телами. И она говорит, что Тони трогал ее за «плохие места».
Детектив Янси добавил в постепенно толстеющую папку еще одну страницу.
Прошел еще месяц. 25 октября миссис Беккер снова позвонила детективу Янси. Оказалось, что, проведя день с Кэти Дэвенпорт, Пейдж вспомнила кое-что еще. Она рассказала, что прошлым летом Тони Эрререс иногда приводил ее в ванную, раздевал и фотографировал ее голую. Потом он просил «поцеловать» его член.
Этого детективу Янси было достаточно, и он направил дело в прокуратуру. В апреле 1985 года большое жюри предъявило Тони Эррересу обвинение по трем статьям: «В неустановленный день в промежутке от 18 июня до 4 июля 1984 года Тони Эрререс вступил в сексуальные отношения, а именно фелляцию, с Кэти Дэвенпорт, пяти лет, преднамеренно принудив ее сделать ему фелляцию силой или под угрозой силы; фелляцию с Пейдж Беккер, пяти лет; и, зная, что неустановленный фильм непристойный или вредный, безответственно предоставил его для просмотра Кэти Дэвенпорт и Пейдж Беккер».
В начале мая Тони Эрререс нанял адвоката по уголовным делам Марка Курцмана из Миннесоты, который блестяще защитил двух клиентов в Джордане, штат Миннесота, по делам о сексуальном насилии.
3 июня 1985 года Марк Курцман позвонил мне.
* * *
— Позвольте мне рассказать вам одну историю, — сказал Курцман, представившись и кратко описав дело против Тони Эрререса. Акцент Курцмана выдавал в нем коренного жителя Нью-Йорка: он говорил «по-нью-йоркски», так, что одно предложение без всякого перехода сливалось со следующим. Но к черту грамматические тонкости. — Около семи месяцев назад, сразу после судебных процессов в Джордане, штат Миннесота, когда эмоции еще не утихли, ведь подобно тому, как в старые времена под каждым кустом видели коммуниста, так сейчас под каждым кустом находят совратителя малолетних, мне позвонили и рассказали еще об одном деле о сексуальном насилии в Висконсине. Вы должны понимать, что такие дела возникают повсюду, как те утки в парке развлечений, которых вы подстреливаете из пугача, а они потом возвращаются обратно.
В этом конкретном случае пятилетний мальчик, назовем его Рэнди, вроде бы обвинил своего отца, назовем его Сэм, в надругательстве над ним. Это первый уровень фактов. Сэм развелся с матерью Рэнди, которая живет с мужчиной по фамилии Мэлоуни. Это второй уровень фактов, и теперь мы попадаем в настоящую грязь. Эта мамочка и Мэлоуни пришли к Сэму и попросили его активнее помогать своему ребенку. Они собираются пожениться, но, поскольку Мэлоуни был безработным, они не могли позволить себе ни снять квартиру, ни покупать приличную еду. Сэм посочувствовал, но он сам находился в стесненных обстоятельствах, получал минимальную зарплату, у него не было счета в банке, и оказывать более значительную материальную помощь он был просто не в состоянии. Тогда мамочка и Мэлоуни запретили ему встречаться с сыном. И теперь мы спускаемся на третий и четвертый уровни — прямо в бездну. В течение двух лет Сэм подавал жалобы на жену, обвиняя ее в том, что она не заботится о ребенке и плохо с ним обращается. Мальчик всегда грязный, на его теле непонятно откуда взявшиеся синяки и порезы (отец был уверен, что ребенка избивает Мэлоуни).
— И вдруг, — произнес Курцман, сделав быстрый вздох, — Сэм узнает, что его обвиняют в насилии над ребенком. У полицейских даже есть видеозапись. Они записали несколько бесед с мальчиком, чтобы у них было наглядное доказательство того, что они все делали по закону. Я просмотрел эту видеокассету, и на третьем часу просмотра обратил внимание на короткий эпизод, всего секунд десять. Господи, я же мог просто не заметить его! В нем один из полицейских спрашивает мальчика об инциденте на кухне, где Сэм якобы лизал пенис своего маленького сына. «Что там было?» — спрашивает полицейский. «Я ел мороженое», — отвечает мальчик. «Нет, расскажи мне о своем отце», — говорит полицейский. «Папа дал мне мороженое». — «Папа лизал тебя?» — «Папа этого не делал, — говорит мальчик, — это делал Мэлоуни».
И здесь сквозь всю эту клоаку вдруг высветился момент истины. Я передал эту маленькую сценку из видео судье, который сразу же закрыл дело и поручил Сэму осуществлять полную опеку над сыном. Еще один ужасающий случай произошел в Орегоне, когда мать заметила какие-то странные ожоги на ноге ее двухлетнего ребенка. Она отвела его к врачу, тот сообщил социальным работникам, те, в свою очередь, обратились к полицейским детективам, которые привлекли детских психологов и воспользовались анатомически правильными куклами, и внезапно обвинение в жестоком обращении с ребенком раскрутилось так мощно и быстро, что просто голова идет кругом. Полицейские предполагали, что прижигала ребенка няня, но возможно, кто-то предположил, что это делала его мать. В итоге девочку отняли у матери и поместили в приемную семью. Но позже, во время одного из визитов врача, наблюдательная медсестра высказала предположение: а может быть, это не ожоги, а следы стафилококковой инфекции? Проверили, и выяснилось, что так оно и есть.
Я не утверждаю, что все подобные обвинения — чепуха. Я считаю, что, наверное, от восьмидесяти пяти до девяноста процентов обвиняемых в сексуальном насилии действительно виноваты. Но Тони Эрререс — как раз один из невиновных.
— Откуда вы знаете? — задала я стандартный вопрос, хотя в этом случае его можно было бы счесть не вполне уместным: ведь не было ни взрослых свидетелей, ни орудий преступления, ни каких-либо физических улик. Таким образом, бремя доказывания незаметно перешло к обвиняемому Тони Эррересу, то есть его адвокату предстояло доказать, что его подзащитный не совершал насилия в отношении двух маленьких девочек. А как можно доказать, что вы ничего не делали?
Курцман не колебался ни секунды.
— Во-первых, у нас есть данные, полученные на полиграфе, результаты анализатора стрессовых изменений голоса и психологического теста. С Тони работало с десяток психологов и психиатров. Они — независимо друг от друга — пришли к единодушному мнению: Тони не совершал этого преступления. Во-вторых, у нас есть информация о том, что одна из девочек, Кэти Дэвенпорт, утверждала, что Тони ничего плохого не делал. На закрытом слушании девочка рассказала судье, что мама сказала ей, что именно она должна говорить, вложила эту мысль ей в голову. В-третьих, мы выяснили, что ее мать вела дневник. Мы приложили массу усилий, чтобы заполучить этот дневник, ибо судья, прочитав его, заявил, что в нем отсутствуют доказательства невиновности, ну нет в нем ничего, что могло бы помочь защите. Но мы продолжали биться за то, чтобы прочитать этот дневник, и в конце концов мы его все-таки получили. И что же мы обнаружили? — очень подробную, почти стенографическую запись бесед матери с дочерью! И выяснилось, что, когда Кэти говорила, что с Тони у нее ничего не было, мать ее наказывала — отправляла девочку в ее комнату. А когда она говорила, что Тони обращался с ней ненадлежащим образом, то в награду она получала печенье, или мать гладила ее по голове. Итак, маленькую Кэти Дэвенпорт действительно принуждали, но принуждала ее собственная мать: когда Кэти говорила то, что хотела услышать мать, ее поощряли улыбкой, лаской или печеньем; но когда она отрицала насилие, с ней происходило что-нибудь нехорошее, ее так или иначе наказывали. Это же классический случай формирования условного рефлекса, разве не так? Точно по Павлову и его собакам.
— Не совсем, — сказала я, улыбаясь сама себе от мысли, что познания этого адвоката в сфере психологии ограничиваются вводным курсом.
Я объяснила, что теория Павлова, или классический процесс формирования условного рефлекса, предполагает многократное повторение двух раздражителей — нейтрального (например, звонок колокольчика) и активного раздражителя (пищи), который вызывает рефлекторную реакцию (слюноотделение). Со временем нейтральный раздражитель уже сам по себе начинает вызывать рефлекторную реакцию; так, Павлов в своем классическом исследовании мог вызывать слюноотделение у собак, просто позвонив в колокольчик.
— В описанном вами случае, — продолжила я, — человек получает награду или наказание, и в результате его/ее поведение меняется. Реакция возникает на основе известной ассоциации между конкретным действием и желаемым результатом. Эту концепцию разработал Б. Ф. Скиннер еще в тридцатых-сороковых годах ХХ века. Он предположил, что именно положительные и отрицательные последствия формируют наше поведение и что принцип подкрепления — получение вознаграждения за определенные формы поведения — является основным механизмом управления поведением. Когда Кэти Дэвенпорт говорила «да», тем самым признавая, что она подверглась насилию, а затем получала печенье или попадала в объятия матери, то это было положительным подкреплением, что увеличивало частоту такого поведения. Когда она отрицала, что происходило нечто нехорошее, ее отправляли в ее комнату, и это была форма наказания, которая фактически уменьшала вероятность такого ответа.
Но, пока я объясняла Курцману психологические термины, что-то по-прежнему не давало мне покоя. Это ведь не классическое свидетельское дело, в котором жертва имела лишь кратковременный контакт с обвиняемым. Эти дети хорошо знали Тони Эрререса, они проводили с ним целые дни, он читал им сказки, наклеивал лейкопластырь на поцарапанные пальцы, улаживал их ссоры, смеялся над их шутками, утешал их, когда им было страшно. Почему же они указывают пальцем на этого человека и обвиняют его в таком ужасном преступлении?
Если он действительно невиновен, я бы рассматривала только одну причину их обвинений: дети подверглись давлению, вероятно со стороны матерей, а позже — полицейских и врачей. Но с чего бы матери подталкивать своего ребенка к такому ужасному обвинению?
— Расскажите мне о матерях, — попросила я Курцмана.
Курцман вздохнул.
— У нас две матери, которые очень любят своих детей, ну очень-очень любят. И нам нужно спросить себя: существует ли более сильный стимул, чем потребность матери защитить своего ребенка? Позвольте мне рассказать, как, по-моему, было на самом деле. По-моему, дети в лагере завели разговор в ванной, ну вы знаете, Джонни говорит: «Эй, у меня есть пенис, а у тебя нет», а потом Джо говорит: «Эй, а ты знаешь, что член — это все равно что пенис?»
— Но между разговорами о пенисе и последующими обвинениями в сексуальном насилии — большая дистанция, — перебила я.
— Верно. И я считаю, что это пространство как раз и заполнили матери, которые услышали, что дети говорили о членах и пенисах. Мамы сразу же встревожились, ну, по понятным причинам, задали дочкам сотни вопросов, в течение нескольких месяцев то и дело звонили друг другу, разговаривали с полицией, водили дочек в больницу, все эти мытарства привели к тому, что им удалось внушить детям свои страхи и даже мысли.
Курцман сделал паузу и глубоко вздохнул.
— В этих делах нет ни одного — ни одного! — доказательства сексуального домогательства, — сказал он. — Нет никаких доказательств показа порнографических фильмов. Если им показывали порнофильмы — где эти фильмы? У нас есть только слова детей.
Только слова детей. Мое сознание ухватилось за эту фразу и зациклилось на ней, начало кружить вокруг нее, крутить ее так и сяк, обнюхивать и исследовать. По-видимому, эти дети превратились в некий объединяющий лозунг для специалистов, занимающихся вопросами защиты детей от насилия, и следователей. И людей, которые не верят утверждениям ребенка, они считают предателями. Я заставила себя сосредоточиться на монологе Курцмана.
И потом, все эти разговоры между матерями… Наверное, они разговаривали друг с дружкой раз сто, все больше и больше возбуждаясь, обмениваясь информацией, убеждая друг друга и доходя до истерики. После телефонного разговора матери садились с детьми и пытались получить от них дополнительную информацию: «Ты уверена, что он тебя не трогал? Не стесняйся, мне ты можешь рассказать все, расскажи мамочке». Раз за разом, мягко, но неуклонно они подводили своих дочек к тому, к чему хотели подвести.
— У нас есть эти фильмы, — продолжал Курцман. — И не торопитесь судить, пока не посмотрите эти якобы порнографические фильмы: «Маленький принц» (The Little Prince), «Плюшевый кролик» (The Velveteen Rabbit), «Миллионы кошек» (Millions of Cats), «Щедрое дерево» (The Giving Tree). В «Плюшевом кролике» я обнаружил даму с длинными светлыми волосами, летающую по воздуху. Это «детская фея», волшебница, которая подобрала маленького плюшевого кролика и летит с ним в лес, где превращает его в настоящего кролика. В одном из мультфильмов присутствует маленькая фигурка пожилого мужчины в высокой шляпе, стоящей торчком у него над головой и, да, весьма похожей на фаллос. Я думаю, что именно тогда и возникла тема пениса. Ну представьте себе: когда в фильме появляется этот человечек, кто-то из детей кричит: «Ого, у него шляпа — как пенис на голове!» Дети хихикают, и кто-то говорит: «А вы знаете, что пенис по-другому называется “член”?» И все, они уходят. Вскоре эти слова приписали Тони Эррересу и, как в старой игре в испорченный телефон, эту историю рассказывали-пересказывали, слухи и обвинения распространились повсюду, и внезапно выяснилось, что мы имеем дело с грязным сексуальным маньяком.
— Расскажите мне о Тони Эррересе, — попросила я.
— Это очень милый парень с широкой улыбкой, светлый человек, все эмоции на поверхности, помолвлен и скоро собирается жениться, студент-медик, круглый отличник. Во время нашей первой беседы он не выдержал и, рыдая, говорил, как он любит этих малышей и просто не может поверить, что случилось такое: как они могли обвинить его в том, чего он не делал? Он рыдал два часа не переставая. Сыграть такое страдание просто невозможно. Мы говорили о расовых предрассудках (он ведь единственный латиноамериканец в штате лагеря, а большинство детей в нем из белых англосаксонских протестантских семей, да еще из верхнего слоя. Кстати, он пересказал мне разговор, который состоялся у него с директрисой дневного лагеря в тот день, когда его принимали на работу. «Будьте готовы к тому, что вас будут обвинять в насилии над детьми, — сказала она ему в тот день, когда наняла его. — Это неизбежно, когда воспитатель-мужчина работает в детском саду».
Услышав это, я испытала шок. Я, конечно, знала о наличии предрассудков в отношении работающих женщин, хотя бы потому, что недавно сама была свидетелем битвы, которую вела моя коллега-женщина, требовавшая повышения ее зарплаты до уровня, сопоставимого с зарплатой наших коллег-мужчин. Но я не могла даже представить себе, что есть люди, убежденные в том, что если мужчина работает в детском саду, то он обязательно педофил. Для меня это стало потрясающим откровением.
— Я знаю, что ваши исследования связаны в основном с искажениями памяти у взрослых, — вдруг сказал Курцман, резко изменив тему. — Но ведь вы также изучали влияние наводящих вопросов на детей, верно?
Я вкратце рассказала о своих исследованиях в отношении детей. В одном из экспериментов, проведенных в конце 1970-х годов совместно с Филом Дейлом, экспертом в области психологии развития, мы показали детям из подготовительной школы и детского сада четыре фильма длительностью примерно по одной минуте. Потом мы беседовали с этими детьми и задавали им вопросы, причем некоторые из них были наводящими, и получили весьма неожиданные ответы. Один ребенок позже, когда его спросили про содержание фильма, в частности: «А ты видел лодку?» — вспомнил «несколько лодок на воде». Другого ребенка спросили: «Разве ты не видел медведя?» — и позже он ответил: «Я помню медведя». «Разве ты не видел пчел?» — спросили мы ребенка, и он потом вспомнил, что видел «там [в фильме] пчелу». А ребенок, которого спросили: «Видел ли ты, как от свечей начался пожар?» — ответил: «Свеча вызвала пожар». Между тем в этих фильмах не было ни лодок, ни медведей, ни пчел, ни свечей.
— Другими словами, — объясняла я Курцману, — мы могли изменять ответ ребенка, возможно, даже «создавая» воспоминание в уме ребенка, просто задав ему наводящий вопрос. Почему дети так внушаемы? Это трудный вопрос, скорее всего, относящийся к сфере психологии творчества. Пока мы знаем только то, что у нас есть ребенок, утверждающий, что видел медведя, тогда как никакого медведя не было. И мы можем предложить два возможных варианта объяснения. Может быть, первоначальное воспоминание у ребенка поблекло, и мы можем относительно легко заставить его вообразить, что он действительно видел медведя. Медведь буквально становится воспоминанием. Другое возможное объяснение состоит в том, что ребенок на самом деле не думает, что видел медведя, но просто идет на поводу у человека, задавшего вопрос, поскольку в такой ситуации ребенок считает, что он должен был увидеть медведя. Иными словами, он считает, что если скажет, что видел медведя, то даст правильный ответ.
На мгновение я заколебалась, думая, нужно ли рассказать Курцману о более раннем эксперименте, проведенном со взрослыми людьми, которым показали фильм об автомобильной аварии, а затем опросили их, задавая, в частности, суггестивные (наводящие) вопросы. Используя глагол «разбить вдребезги» вместо «ударить», мы смогли изменить не только оценку зрителями скорости автомобилей при аварии, но и повысить вероятность упоминания о разбитом стекле — хотя в фильме не было разбитого стекла, и мы во время бесед не говорили им о разбитом стекле! Этот конкретный эксперимент подтверждает гипотезу о том, что в определенных ситуациях первоначальное воспоминание у людей может изменяться.
Я взглянула на часы — через пятнадцать минут начинался мой семинар по свидетельским показаниям — и решила не посвящать Курцмана в подробности.
— Мистер Курцман, через несколько минут у меня начинаются занятия. Но хочу сказать, что мои эксперименты с детьми — это лишь небольшая часть моей работы в области исследования искажений памяти. Есть эксперты, которые специализируются только на детских воспоминаниях и знают соответствующую литературу намного лучше, чем я.
— Даже если так, — сказал Курцман, — у них нет опыта работы в зале суда и репутации признанного эксперта в области искажений памяти. Вы сможете приехать на судебное заседание в Чикаго в начале августа?
— Приеду, — ответила я.
* * *
Через несколько недель, сидя в своем офисе и просматривая записи бесед полицейских с двумя детьми, я вспомнила слова Курцмана, сказанные им во время нашего телефонного разговора. «У нас нет доказательств, — сказал он. — У нас только слова детей».
Я развернула кресло и вынула из шкафа для бумаг папку с надписью «Насилие над детьми». Прямо сверху в ней лежала статья из еженедельного журнала People за октябрь 1984 года о судебных делах в городе Джордане, Миннесота, связанных с насилием над детьми. На третьей странице статьи (всего в ней было четыре страницы) я нашла то, что мне было нужно. Женщина-прокурор Кэтлин Моррис резко комментировала оправдательный приговор по делу, в котором семейная пара обвинялась в сексуальном насилии над шестью детьми, включая своих трех сыновей. «Это не означает, что они невиновны, — утверждала Моррис. — Это означает, что мы живем в обществе, которое не верит детям».
Права ли она? Я вспомнила те не очень еще далекие времена, когда дети считались примитивными, неполноценными существами, не способными отличить правду от лжи, и им разрешалось находиться в зале суда только в присутствии взрослого свидетеля, готового подтвердить слова ребенка. В 1910 году известный немецкий педиатр горячо отстаивал точку зрения, что нельзя допускать, чтобы дети давали показания в суде. «Дети — самые ненадежные из всех свидетелей», — утверждал он.
Результаты психологических исследований, проведенных в начале ХХ века, как правило, подкрепляли такое отношение к показаниям детей. В 1911 году бельгийскому врачу Варендонку предложили оценить информацию, полученную от двух девочек в рамках расследования знаменитого дела об изнасиловании и убийстве. После обстоятельных бесед с детьми Варендонк пришел к выводу, что детьми можно манипулировать и что взрослые способны вынудить детей говорить то, чего хотят взрослые. Чтобы подтвердить свою точку зрения, он разработал несколько хитроумных экспериментов. В одном эксперименте девятнадцать семилетних детей попросили указать цвет бороды их учителя. Шестнадцать детей ответили, что борода у него «черная», хотя бороды у этого учителя не было вообще. Когда Варендонк попросил двадцать восьмилетних детей ответить на тот же вопрос, девятнадцать указали тот или иной цвет, и только один правильно сказал, что у мужчины вообще нет бороды. «Когда мы, все цивилизованные нации, откажемся от выслушивания детей в суде?» — спрашивал Варендонк.
В 1913 году один психолог изучил литературу по детской внушаемости и пришел к следующему заключению: «Во-первых, внимание ребенка распределяется не так, как у взрослого человека… Во-вторых, ребенок не способен критически относиться к заполнению пробелов в своей памяти и легко использует или случайную информацию, или свое воображение, или внушаемый ему материал».
В 1926 году социолог Браун выступил с дерзким заявлением о том, что «нельзя полагаться на память и разум ребенка», а затем предложил в качестве «превосходного правила» относительно внушаемости такую формулировку: «Женщины более внушаемы, чем мужчины, а дети более внушаемы, чем взрослые».
В следующие четыре десятилетия такие теории о присущей детям внушаемости господствовали как в научной сфере, так и среди неспециалистов. К детям по-прежнему относились как к недееспособным лицам, неспособным отличить фантазию от реальности, и в большинстве случаев в зал суда они не допускались. Даже если жертвой преступления был сам ребенок, законодательство разрешало прокуратуре направлять дело в суд только в том случае, когда есть еще хотя бы один взрослый свидетель, подтверждающий обвинение. Показания ребенка считались достоверными, если обвиняемый совершил преступление на глазах у взрослого, был пойман с поличным или признался. Работа судов, как и обстановка в семье, определялись старой поговоркой «Детей должно быть видно, но не слышно».
Но вследствие роста массовой политической активности в 1960-е годы, резкого усиления влияния организаций феминисток и органов опеки и попечительства, а также усиления заботы о правах ребенка в обществе в целом подобное существующее с давних пор отношение к детям начало меняться. Судьи и присяжные начали выслушивать детей, вместо критериев дееспособности («способен ли ребенок отличить правду от лжи?») появились возрастные ограничения, которые допускали привлечение свидетелей старше семи лет, и законодательные акты постепенно очищались от старых норм, требующих наличия еще одного свидетеля, подтверждающего слова ребенка-свидетеля. Теперь в зал суда часто допускаются уже дети старше четырех лет, и их показания всерьез рассматриваются судьями и присяжными.
Присутствие детей в зале суда становится все более обычным явлением, поскольку число дел о сексуальном насилии над детьми резко возросло. Похоже, что за каждым углом стоит и за каждым кустом прячется педофил. По данным журнала Time (выпуск от 21 января 1990 года), если в 1976 году было зарегистрировано 6000 случаев сексуального насилия над детьми, то в 1988 году было зарегистрировано уже примерно 350 000 подобных сообщений, то есть рост почти в шестьдесят раз. Означают ли эти цифры, что в прошедшее десятилетие имел место взрывообразный рост насилия? Или сами дети в более либеральной атмосфере 1980-х годов почувствовали себя свободнее и стали рассказывать о том, что они подверглись насилию?
И тут необходимо задать еще один очень трудный, пугающий вопрос: сколько таких сообщений о сексуальном насилии представляют собой ложные обвинения? В связи с этим возникает и другой важный вопрос: если некоторые из этих дел строятся на ложных обвинениях, то почему дети лгут?
Психологов, изучающих память детей и достоверность их показаний, можно разделить на два основных лагеря. К первому лагерю относятся ученые, полагающие, что, задавая детям суггестивные вопросы, можно увести ребенка в «другую версию реальности», так что иногда ребенок полностью принимает трактовку реальности собеседника, даже если эта трактовка не является истинной. Иными словами, со временем дети начинают путаться, и их первоначальные воспоминания размываются.
В другой лагерь входят ученые, утверждающие, что дети не будут сознательно говорить неправду о травмирующих событиях. Да, их можно сбить с толку соответствующими вопросами, когда речь идет о цвете чьих-то глаз или о том, что они ели на ужин в среду на прошлой неделе. Но если ребенок подвергся сексуальному насилию, он знает, что было, а чего не было. Согласно этой теории, дети, не имея собственного сексуального опыта, не способны фантазировать о сексуальных отношениях достаточно подробно, и их нельзя принудить или психологически обработать до такой степени, чтобы они обвинили в преступлении родителей, учителей или друзей. Дети не будут лгать сознательно.
Как ученый, более двух десятилетий изучающий память, восприятие и силу внушения, я считаю, что ключевое слово, которое важно запомнить, — это не лгать,а сознательно. Изменения в памяти, как правило, протекают на бессознательном уровне, и искажение воспоминаний происходит постепенно, без нашего умышленного вмешательства. И главная проблема не в том, что сбитый с толку ребенок начинает говорить неправду. Дело в том, что как в памяти взрослого человека, так и в памяти ребенка может содержаться ложная и противоречивая информация.
Даже если предположить, что детские воспоминания сопоставимы с воспоминаниями взрослых во всех аспектах, у детей все равно обнаруживаются свои проблемы с памятью. И поскольку мне удавалось заставить взрослых людей вспомнить, что в фильме об автомобильной аварии они видели разбитое стекло, хотя никакого разбитого стекла в нем не было, тот факт, что ребенок вспомнил медведя в фильме, где не было никаких медведей, уже не кажется фантастическим. Все мы, взрослые и дети, схожи в том, что являемся внушаемыми существами.
Попробуем воспользоваться аналогией и представить себе память как кусок глины, который мы держим в руках и согреваем, чтобы слепить из него ту или иную фигурку. Нельзя превратить глину в камень, воду или хлопок, но можно изменять ее форму, месить, мять, сгибать, лепить фигурки людей и животных, создавать орнаменты и рельефы. Но после завершения всех этих манипуляций мы отправляем вылепленную из глины форму в печку нашего разума, где она обжигается и становится прочной и твердой. Так и искажения нашей памяти становятся неоспоримой реальностью. Частично эта реальность отражает действительность, частично является вымыслом, но в нашем мозгу уже сложилось четкое представление о том, «как все было».
Я вспомнила недавний разговор со Стивеном Сеси, профессором Корнеллского университета, автором важных исследований по детской внушаемости. Мы обсуждали развившуюся в обществе общенациональную истерию по борьбе с сексуальным насилием над детьми, и Сеси вспомнил суды над ведьмами в Салеме. Между 10 июня и 19 сентября 1692 года состоялись суды над двадцатью жителями Салема, штат Массачусетс; их обвинили в колдовстве и вынесли им смертные приговоры, которые были быстро приведены в исполнение.
Какие же доказательства были у судей против этих так называемых ведьм и колдунов? Слова детей. В качестве главных обвинителей выступали дети в возрасте от пяти до шестнадцати лет. Именно они дали самые важные свидетельские показания, например, утверждали, что видели, как «ведьмы» превращаются в черных кошек, по ночам летают на метлах над пастбищами и разговаривают с насекомыми, которые потом влетают в тела детей и вонзают коготки им в животы. Доказательством против обвиняемых стало также то, что при виде ведьмы дети испытывали апоплексический удар или впадали в полный паралич или изрыгали гвозди и булавки (тридцать или даже больше за один раз) в присутствии судей, присяжных и зрителей.
— Мы никогда не узнаем, были ли обвинения этих детей сознательной ложью, или они действительно верили, что говорили правду, — сказал Сеси, — но в записях реальных бесед с салемскими детьми несомненно присутствуют наводящие вопросы, суггестивные высказывания, инсинуации и откровенные попытки родителей, чиновников и судей убедить детей в том, что они видели колдовство. К тому же у нас есть публичные покаяния, сделанные через много лет.
Сеси прочитал отрывок из книги «Колдовство в деревне Салем» (Witchcraft in Salem Village), которую написал в 1892 году У. С. Невинс. На странице 250 этой книги изложено признание самой известной девочки-обвинительницы Энн Патнам своему пастору в 1706 году, через четырнадцать лет после процесса над салемскими ведьмами:
Я смиренно принимаю перед Богом печальный и унизительный удар судьбы, постигший семью моего отца в 1692 году, когда я, будучи ребенком, согласно промыслу Божьему, превратилась в инструмент обвинения нескольких лиц в тяжком преступлении, в результате чего их лишили жизни. Сейчас у меня есть достаточные основания и веская причина считать, что эти люди были невиновны и что Сатана ввел меня в заблуждение, обманул меня в то печальное время. Поэтому я справедливо опасаюсь, что я и другие, по неведению и непреднамеренно, послужили орудием и навлекли на себя и на эту землю грех за невинную кровь. Перед Богом и людьми я могу честно сказать, что сказанное или сделанное мной в отношении любого человека было обусловлено не злобой, не преступным намерением и не злым умыслом, ничего подобного ни к кому у меня не было, но я сделала это по неведению, будучи обманута Сатаной… я хочу лежать в пыли и быть униженной за то, что я вместе с другими стала причиной столь большого горя для этих людей и их семей.
Вечером 14 августа 1985 года, накануне дня, когда мне предстояло давать показания в суде по делу Тони Эрререса, мы с Марком Курцманом провели три часа в номере гостиницы в Чикаго, просматривая фильмы, которые Кэти и Пейдж видели более года назад в лагере. Мы искали детали, которые ум ребенка мог бы истолковать неправильно. Курцман указал на летающую блондинку и маленького человечка с остроконечной шляпой, но никто из нас не смог найти в этих фильмах ничего, что можно было бы счесть порнографическим контентом.
Позже мы обсуждали мои показания. Курцман вел себя непринужденно и спокойно, одет он был в хлопковый костюм марки Banana Republic, на щеках глубокие морщины от улыбок, на лице темная щетина. Ему бы еще хлыст в руку, и он стал бы весьма похож на опытного дрессировщика львов.
— Вы все еще верите, что Тони невиновен? — спросила я Курцмана.
— Убежден в этом, — решительно ответил он. — У меня в этом нет ни малейшего сомнения.
На следующее утро в суде Курцман был одет в прекрасно сшитый костюм и неяркий шелковый галстук, а его лицо было чисто выбрито. Он подошел к свидетельской трибуне с нахмуренным лбом и, глядя мне в глаза, осторожно провел меня через обычный длинный и скучный перечень вопросов (пожалуйста, назовите ваше имя, работаете ли вы в настоящее время, какое у вас образование, являетесь ли вы членом какого-либо почетного общества, являетесь ли вы автором учебников или статей), а затем перешел к сути дела.
— Вам известен термин «имплантат памяти»?
— Да, этот термин относится к ситуациям, которые я всесторонне изучаю в своей лаборатории последние десять или двенадцать лет. — Я — сознательно — выпрямилась, откинула плечи назад и выставила вверх подбородок. Эти жесткие деревянные стулья в этих узких деревянных ящиках сделаны так, что, наклонившись, с них легко вывалиться вперед. — Если человек присутствовал при каком-либо инциденте или сам пережил какой-либо инцидент, иногда после окончания инцидента он может получить новую информацию. Эта новая информация может передаваться ему в виде наводящих вопросов, или свидетель может нечаянно услышать рассказ другого свидетеля об этом событии. Во многих случаях новая информация будет включена, или имплантирована, в память свидетеля и дополнит ее путем изменения, трансформации, «загрязнения» или искажения первоначальных воспоминаний.
— В данном случае, — сказал Курцман, — присяжные заслушали показания двух детей, которым в настоящее время около шести лет и которым на момент события было пять лет. Знакомы ли вы с исследованиями, в которых прямо говорится о детях в возрасте пяти и шести лет и об особенностях памяти у таких детей?
— Лет пять назад в моей лаборатории проводилось исследование с участием детей четырех и пяти лет, — сказала я, глядя на присяжных. — Меня интересовал вопрос, в какой степени дети, просмотревшие фильм, будут подвержены влиянию наводящих вопросов. Под наводящим вопросом я имею в виду вопрос, который содержит в себе предположение, каким должен быть ответ. Например, вопрос «Ты видел медведя?» подсказывает ребенку, что медведь был, и спрашивают его лишь о том, видел он медведя или нет. Мы выяснили, что дети весьма восприимчивы к наводящим вопросам. Если вопрос задавался с использованием определенного артикля, многие дети говорили, что да, они видели предмет или объект, о котором спрашивают, хотя на самом деле [в фильме] его не было.
— Можете ли вы рассказать присяжным в общих чертах о податливости и внушаемости пятилетних и шестилетних детей в процессе имплантации памяти? — спросил Курцман.
— Позвольте мне сделать отступление и рассказать вкратце о методике, используемой в этих исследованиях.
Меня беспокоило, что мы могли слишком быстро перейти к результатам экспериментов, не объяснив присяжным, как они проводились.
— Поговорим немного об эксперименте со взрослыми, потому что даже взрослые в некоторых случаях могут быть подвержены влиянию. Мы показали участникам нашего эксперимента фильм, а потом задавали наводящий вопрос, например: «С какой скоростью двигались автомобили, когда они столкнулись друг с другом?» Потом мы проверяли, что помнят испытуемые о показанном в фильме событии, и определяли влияние наводящего вопроса или иной суггестивной информации. Выяснилось, что людям очень легко внушать информацию и что при определенных условиях они становятся жертвами такого внушения и приходят к убеждению, что действительно видели упомянутые собеседниками детали. Нам удалось побудить людей говорить, что они видели разбитое стекло, если задавали вопрос о столкнувшихся друг с другом автомобилях. Люди говорили, что видели зеленый, а не красный свет, если им задавали наводящий вопрос, содержавший предположение, что свет был зеленый. Мы внушали людям, что у человека были вьющиеся волосы, тогда как на самом деле волосы у него были прямые, и потом они сами говорили об этом. Сейчас уже известно, что в определенных ситуациях дети даже более внушаемы, чем взрослые. Я имею в виду детей трех, четырех и пяти лет. Когда им задают наводящие вопросы, которые подсказывают, каким должен быть ответ, они впитывают эту информацию, включают ее в свои воспоминания и в конце концов уже сами верят в то, что они изначально знали все эти подробности, тогда как на самом деле им это внушили.
Курцман вернулся к столу защиты, взял несколько листков, затем выдержал одну из тех многозначительных пауз, информирующих присяжных о том, что сейчас будет оглашено нечто важное. Этот простой, но неотразимый юридический прием рассчитан на то, чтобы прокурор напрягся, а присяжные сдвинулись на краешки своих стульев.
— Доктор Лофтус, — начал Курцман, — я хочу, чтобы вы сделали некоторые допущения. Предположим, что пятого июля тысяча девятьсот восемьдесят четвертого года в дневном лагере под названием «Эхо-Лейк» две пятилетние девочки по имени Кэти Дэвенпорт и Пейдж Беккер вместе приблизительно с пятьюдесятью другими детьми той же возрастной группы и десятью-двенадцатью воспитателями находились в помещении и смотрели фильмы, которые видели вы, я и присяжные. Предположим, что в одном из этих фильмов появляется изображение пожилого мужчины в высокой шляпе, стоящей торчком над головой, и один ребенок кричит: «Это похоже на пенис на голове!» Предположим, что после просмотра фильмов Кэти приходит домой и рассказывает матери, что смотрела некие мультфильмы, мать расспрашивает ее и в конце концов Кэти говорит: «Ты знаешь, что “член” — это то же, что “пенис”?» После этого мать начинает более настойчиво расспрашивать, что дочка делала в лагере, что она видела, и Кэти говорит, что видела летящую по воздуху девушку с длинными белыми волосами и пенис на голове у мужчины.
Курцман положил свои записи на стол защиты и медленно направился к свидетельской трибуне.
— Исходя из вашего опыта и знаний и на основании информации из фильмов, которые вы видели, каково ваше мнение: могла ли девочка утверждать, что она действительно видела летящую по воздуху блондинку или мужчину с пенисом на голове, опираясь на свой реальный опыт, или вы считаете, что ребенок, возможно, путает реальность и вымысел, смешивает фрагменты из фильмов и вопросов, заданных матерью после просмотра фильмов?
— Протестую! — воскликнул прокурор. — Ваша честь, я бы хотел переговорить с вами приватно!
Судья жестом пригласил обоих юристов к судейскому столу. Я прислушивалась к шепоту (время от времени — на повышенных тонах) и ощущала только легкое чувство вины за подслушивание. Иногда во время таких приватных разговоров в зале суда я вспоминала эпизоды из моей школьной жизни, когда девочки кучкой собирались в углу столовой и о чем-то шептались, глядя в мою сторону. Ощущая себя одинокой и беззащитной, я краем глаза наблюдала за ними, делая вид, что ничего не замечаю, но мои щеки краснели от сознания того, что они говорили обо мне, высмеивали мою одежду, мои брекеты или новую прическу.
Я почувствовала, что Тони Эрререс смотрит на меня, но, когда я взглянула на стол защиты, он уже опустил голову и сидел так все время, пока в зале стояла тишина, уставившись на полированный деревянный стол. Я видела под столом его ноги в черных кожаных туфлях, недавно начищенных и неподвижных как камни. Он был молод, может быть, девятнадцать или двадцать лет, стройный и немного неловкий. Похоже, что Тони не знал, что делать со своими руками. Он то складывал их, то клал на колени, то клал на стол ладонями вниз и постукивал пальцами по твердому дереву. Внезапно он виновато взглянул на присяжных и снова сложил руки вместе, стиснув пальцы так сильно, что я увидела, как напряглись его челюсти.
— Вы помните вопрос? — неожиданно спросил меня судья.
— Нельзя ли повторить его? — попросила я.
Секретарь суда зачитала вопрос Курцмана: «Каково ваше мнение, говорят дети о своем реальном опыте или смешивают фантазию и реальность?»
— Продолжим. Отвечайте на вопрос! — сказал судья. Я чувствовала, что мне приятно наполнять звуками унылый зал суда, рассказывать о своей работе и своей лаборатории, объяснять факты, которые я понимала и могла контролировать.
— После просмотра фильмов понятно, что по крайней мере в двух из этих фильмов присутствует девушка с длинными светлыми волосами, — сказала я, — и, если учесть результаты моей работы и работы многих других людей, нельзя исключить, что один ребенок будет использовать вербальные выражения другого ребенка. Выражение «пенис на голове» могло быть подхвачено и интегрировано с другими фактами, и это просто нормальная работа памяти.
— Предположим, — сказал Курцман, — что пятилетний ребенок смотрел фильмы, которые вы, я и члены жюри просмотрели. И этого ребенка стали расспрашивать о содержании фильмов только через семь недель. Мог ли этот семинедельный период сколько-нибудь существенно повлиять на способность этой девочки точно, в деталях, рассказать о том, что она видела?
— На мой взгляд, семь недель — это значительный период. В некоторых исследованиях, о которых я упоминала ранее и в ходе которых маленьких детей спрашивали, что они помнят, даже через три дня у них уже наблюдались значительные пробелы в памяти. Я могу только экстраполировать эти данные, и утверждение, что за семь недель воспоминания могут быть искажены намного сильнее, является разумной с научной точки зрения экстраполяцией.
— Предположим теперь, — сказал Курцман, — что через одну или две недели после истечения этого семинедельного периода, примерно в первую неделю сентября, пятилетняя девочка, которую на протяжении последних девяти недель то и дело допрашивали о том, что она видела и что происходило в лагере, внезапно заявляет, что мужчина засунул пенис ей в рот. Предположим, что через восемь или девять недель после того, как это якобы произошло, девочка, которая за это время была проинформирована о механизмах орального секса, сказала, что у нее был оральный секс. Является ли этот девятинедельный период существенным с точки зрения разрушения первоначального воспоминания и восприимчивости к имплантации идеи орального секса?
— Да, — ответила я, — девять недель — это много, и хотелось бы узнать поподробнее об имевших место за это время допросах, насколько они были суггестивными и могли ли они сформировать новое воспоминание.
Курцман резко переменил тему.
— Ваша преподавательская деятельность включает в себя обучение умению правильно задавать человеку вопросы, с тем чтобы выявить его реальный опыт и не допустить имплантации идей в его сознание во время опроса?
— Да, я читала лекции полицейским и другим сотрудникам правоохранительных органов о том, как правильно задавать людям вопросы, чтобы получать точные и полные ответы.
— Каково ваше мнение о том, способно ли лицо, надлежащим образом обученное методам ведения допросов и ведущее допрос пятилетнего ребенка, которому в течение двух месяцев уже задавали вопросы, определить, является ли информация, полученная в ходе надлежащим образом проведенного расследования, точным отражением реальности или это смесь фактов и фантазий?
— У меня есть своя точка зрения. — Это был критически важный момент в моих показаниях как свидетеля-эксперта по проблемам памяти. — Если память человека после произошедшего события была «загрязнена», искажена или трансформировалась в ходе процессов, о которых я говорила, или же в результате суггестивного допроса и других видов внушения, то отличить факт от вымысла практически невозможно, ибо данный свидетель теперь сам верит в то, что он (или она) говорит.
— Итак, — сказал Курцман, — если пятилетний или шестилетний ребенок рассказывает историю, содержащую искажения, фантазии, имплантации, способен ли он высказать ложное — в его понимании — обвинение?
— Ребенок не способен на ложные обвинения, — ответила я. — Конечно, дети могут обманывать и обманывают, но мы сейчас говорим о тех детях, которые искренне верят в то, что они говорят, но говорят они это вследствие суггестивного воздействия на них, которое было оказано умышленно или неумышленно.
— Спасибо, — сказал Курцман. — У меня больше нет вопросов.
Конечно, мне как ученому, приверженцу ratio, важно казаться уверенной в себе, но каждый раз перед началом перекрестного допроса прокурора мое сердце начинает биться чаще.
Прокурор был мужчина высокий и худой, с длинным прямым носом, бакенбардами, выглядевшими так, как будто они были выровнены по линейке, и аккуратно подстриженными ногтями, блестящими, как будто отшлифованные.
— Здравствуйте, доктор, — сказал он с натянутой улыбкой (я еще ни разу не встретила прокурора, который испытал бы радость, увидев меня в зале суда). — Меня зовут Тед Бланшар, мэм, и я выступаю в качестве прокурора по этому делу. Поясните, пожалуйста, чтобы я понял, какая доля вашего времени и объема вашей работы приходится на непосредственную работу с детьми в возрасте четырех, пяти или шести лет, которые подверглись сексуальному насилию?
— Я не работаю с детьми, которые подверглись сексуальному насилию, — ответила я. — Я изучаю память.
— Хорошо. Вы изучаете память в целом, а затем применяете то, чему научились в этой области, к четырехлетним, пятилетним и шестилетним детям, которые, возможно, подверглись сексуальному насилию?
— Да, я изучаю память в целом и применяю свои знания к памяти взрослых и детей на события или переживания, имевшие место в прошлом.
— Вы когда-либо контактировали с детьми женского пола в возрасте четырех, пяти или шести лет, которые подверглись сексуальному насилию?
Тут его прервал судья:
— Может быть, это просто проявление любопытства, но скажите, вы являетесь практикующим психологом, или занимаетесь только научной работой, или как-то сочетаете то и другое? У вас есть пациенты, или вы только проводите исследования, или сочетаете то и другое?
— Ваша честь, я занимаюсь исследованиями. Я работаю в лаборатории, а иногда исследую воспоминания людей о своем прошлом в реальных условиях.
Судья откинулся в кресле, постучал карандашом по столу и кивнул прокурору.
— Итак, в ходе ваших исследований и всего, что вы делаете, — сказал Бланшар голосом тонким, как весенний лед, — в своей конкретной работе вы не попадаете в условия, когда у вас возникает личный контакт с детьми, которые подверглись насилию. Это верно?
— Именно так. Я не встречаюсь с детьми, утверждающими, что они подверглись сексуальному насилию.
Бланшар предпринимал целенаправленные усилия, чтобы показать, что мне нечего делать в этом зале, ибо я излагаю свое «научное» мнение по делу реальных, живых людей. Его вопросы содержали жесткий подтекст: мол, я работаю в лаборатории и должна там и оставаться. Пусть ученые-психологи занимаются своими крысами.
— Вы когда-нибудь разговаривали с детьми, которые подверглись сексуальному насилию или предполагаемому сексуальному насилию? — Бланшар делал что-то смешное со своим ухом: оттягивал мочку, а потом проводил указательным пальцем вдоль ушной раковины. Он смотрел на меня с явным пренебрежением. — То есть фактически вы ничего не знаете о пятилетних детях, которые подвергались сексуальному насилию, не так ли?
Из темноты прошлого на меня вдруг нахлынуло воспоминание, пронзив меня насквозь.
— Знаю, — сказала я. — Я кое-что знаю об этом, потому что сама подверглась сексуальному насилию, когда мне было шесть лет.
Палец Бланшара застыл посередине ушной раковины, тонкая усмешка исчезла с его губ, он посмотрел на меня широко открытыми удивленными глазами. Ему понадобилось несколько секунд, чтобы он снова смог заговорить.
— Вы помните это? — спросил он.
— Да, помню. Еще бы.
Мои глаза смотрели на Бланшара, но мой разум не замечал его. Вместо этого я видела Говарда, приходящего «няня», сидевшего рядом со мной на диване и гладившего гладкую кожу моей руки тыльной стороной кисти, а его пальцы перемещались по плавному изгибу от запястья до локтя и на секунду выше, а потом снова вниз. Взад-вперед, плавный изгиб, приятное прикосновение, мягкое, успокаивающее, убаюкивающее. Я вспомнила, что Говард рассказывал мне, что дети вылупляются из яиц, которые надо насиживать, и что он просил меня никому не говорить о том, что он рассказал мне, и о том, как он касался моей руки. «Это наш секрет», — шептал он.
Однажды поздно вечером, когда мои младшие братья ушли спать, после того, как Говард некоторое время гладил мою руку, он за руку повел меня в спальню моих родителей. Он снял брюки, стянул с меня платье через голову и снял с меня трусики. Потом он лег на кровать и, потянув меня на себя сверху, расположил меня так, что наши тазовые области соприкасались. Его руки обвились вокруг меня, я ощутила, как он прижимается ко мне, и почувствовала неладное. Смущенная и растерянная, я вырвалась и выбежала из комнаты.
После этого в моей памяти только темнота, полная и абсолютная темнота, ни одной светлой точки. Говард просто пропал, испарился, исчез. Моя память схватила его и уничтожила.
Я сообразила, что Бланшар задал мне вопрос, и мои мысли вернулись к настоящему.
— Я не хочу вдаваться в подробности, — сказал Бланшар все еще с широко раскрытыми глазами. — Я не собираюсь расспрашивать вас ни о каких конкретных деталях, но вы помните обстоятельства, связанные с этим инцидентом?
— Да, кое-что я помню, — ответила я. — Речь идет о приходящем бебиситтере. Некоторые вещи я помню, трудно сказать, насколько точно, но помню.
— Мне неловко вас об этом спрашивать, — к Бланшару постепенно возвращалось самообладание; он пытался придать своему очередному высказыванию оттенок сарказма, но было очевидно, что ему хотелось, чтобы вся эта тема просто исчезла. — Я предполагаю, что это произошло достаточно давно. Когда это случилось?
— Примерно тридцать пять лет назад, — ответила я.
Бланшар резко сменил тему:
— Вы сегодня говорили, что иногда давали показания в пользу обвинения; это верно?
— Я бы не использовала термин «давать показания». Я сказала, что выполняла определенную работу для прокуроров.
— Да, выполняли для них работу. Извините. — Напускная вежливость все-таки едва скрывала его презрение. — Если я скажу что-то неправильно, неточно, скажите мне, и я перефразирую вопрос. Вы говорили с кем-нибудь из полицейских, занимавшихся этим делом?
— Нет, не говорила.
— Вы говорили с кем-нибудь из родителей или детей, которых это дело касается?
— Нет.
— Вы говорили с кем-нибудь из прокуратуры?
— Нет, не говорила.
— Таким образом, имеющиеся у вас факты односторонние или, по крайней мере, информацию о них вы получали только от одной стороны?
— Нет, я не согласна с этим, потому что я читала полную стенограмму заседания суда в апреле тысяча девятьсот восемьдесят пятого года и…
— А как насчет стенограмм большого жюри, вы вообще видели их?
— Нет.
— То есть вы не осведомлены обо всех фактах, связанных с этим конкретным делом. Очевидно, вы вряд ли сможете согласиться с этим утверждением, не так ли?
Тут я просто вынуждена была сказать:
— Когда вы задаете наводящий вопрос, подобный этому, я считаю, что должна ответить «да».
Взгляд Бланшара был просто убийственным. Он покопался в своих бумагах и сделал еще одну попытку.
— Вы утверждали, поправьте меня, если ошибаюсь, что можете вспомнить события, произошедшие, когда вам было шесть лет. Мой вопрос к вам будет таким: хотя, в общем случае, с течением времени воспоминания ослабевают, но существуют некоторые конкретные события, которые остаются с нами даже в наши взрослые годы. Это верно?
— Бывают события, которые остаются с нами, да.
— Некоторые из этих событий существенны, а другие несущественны, вы согласны с этим?
— Обычно с нами остаются самые значительные и часто вспоминаемые события.
— Часто вспоминаемые события. — Бланшар снова начал теребить свое ухо. — Ну вы же не хотите сказать, что в сорокалетнем возрасте нельзя вспомнить события, случившиеся, когда человеку было пять или шесть лет, даже если эти события он вспоминал нечасто, не так ли?
— Можно вспомнить, — согласилась я.
— Относительно повторяющихся воспоминаний — вы имеете в виду, что человек думает об этом сам, так сказать, своим умом, или же они повторяются при участии другого человека?
— Как правило, он время от времени думает об этом или рассказывает об этом другим людям.
— Еще раз: это ведь совсем не обязательно негативно влияет на способность человека вспомнить некий конкретный инцидент.
— На самом деле это зависит от того, как вы думаете об этом событии. Если вы думаете об этом самостоятельно, без каких-либо суггестивных воздействий, то потенциал для искажения воспоминания существенно снижается.
О том, что вопросы у него закончились, Бланшар оповестил зал банальной фразой «Спасибо, мэм!»
— Вы свободны и можете идти по своим делам, — сказал судья, указывая карандашом на тяжелую деревянную дверь зала суда. Он объявил перерыв, и Курцман спустился вместе со мной по длинной каменной лестнице и вышел из здания суда, чтобы поймать мне такси до аэропорта. Когда такси остановилось, Курцман положил руку мне на плечо:
— Я не знаю, как вас благодарить за то, ваше воспоминание, — сказал он.
— Думаю, у меня не было выбора, — ответила я.
Курцман на секунду замолчал.
— Вы знаете, тех, кто защищает людей, обвиняемых в сексуальном насилии над детьми, презирают и поносят вместе с ответчиком. Люди считают, что мы, наверное, тоже не совсем здоровые. То, что вы так неожиданно раскрыли свою приватную информацию, поможет присяжным понять, что вы с пониманием относитесь к судьбам детей, подвергшихся сексуальному надругательству. В этот момент в зале суда вы проявили себя не просто как специалист, но — как личность.
Мы пожали друг другу руки, и я пожелала ему удачи. Десять часов спустя я вернулась домой и смотрела из окна на луну, серебрившую озеро. Я была измотана, но спать не могла: слишком устала, чтобы вернуться в настоящее или мечтать о будущем, была слишком поглощена той сценой в спальне родителей, когда «нянь» Говард обманул мое доверие, украл мою невинность и оставил неизгладимый шрам, плохое, черное воспоминание в том месте, где должны быть только хорошие, теплые и счастливые воспоминания.
— Говард, — шептала я куда-то в ночь, в те десятилетия, которые теперь отделяли меня от моего детства, — я тебя ненавижу!
* * *
Однажды утром в середине сентября, меньше чем через две недели после того, как я давала показания в Чикаго, у меня зазвонил телефон. Было всего 6:30 утра, я спала и, не разобравшись, в панике стала нажимать кнопки будильника, пытаясь прервать звонок. Наконец, поняв, что это не будильник, я протянула руку и взяла телефонную трубку, пробормотав: «Алло…»
— Тони сегодня утром оправдали! — сказал Курцман, даже не представившись.
— Оправдали? — переспросила я, протирая глаза. — Это здорово!
— И ему повезло, — добавил Курцман.
— Почему вы говорите «повезло»? — спросила я.
Факты, как мне казалось, были очевидными. Единственным свидетельством против Тони были «слова детей», но дневник матери со всей очевидностью показывал, что обвинения, выдвинутые ребенком, могли быть сформированы извне с помощью поощрений и наказаний. Так называемых порнографических фильмов просто не было, их тоже выдумали.
Курцман рассказал мне, что среди присяжных был один расист, который в ходе заседаний неоднократно оскорбительно высказывался в адрес меньшинств. После первого дня заседаний один дополнительный присяжный позвонил Курцману и проинформировал его о высказываниях этого присяжного. Курцман подошел к судье, заседание было остановлено, и судья по одному подзывал присяжных к себе для опроса. Четверо присяжных признали, что один из присяжных позволял себе расистские высказывания. Судья был крайне расстроен. Прежде чем объявить о продолжении слушаний, он тщательно проинструктировал присяжных, чтобы они не обращали внимания на оскорбительные комментарии и принимали решение только на основании имеющихся доказательств. Присяжные совещались более трех дней и в итоге вынесли оправдательный приговор.
— Поверьте мне, — сказал Курцман, — после этого дела, которое дошло до судебного разбирательства, несмотря на отсутствие убедительных доказательств, и после того, как мы видели предвзятое отношение присяжных, не только их предвзятость в отношении конкретного ответчика, принадлежащего к нацменьшинству, но и характерную предвзятость в отношении любого лица, обвиняемого в растлении ребенка, я не могу не задаться вопросом, сколько же невинных людей оказываются в тюрьме по обвинениям в подобных преступлениях. Позвольте мне рассказать вам еще одну историю.
Я сидела в постели, натянув на себя одеяло и пытаясь одной рукой убрать с лица непослушные волосы. Посмотрела на будильник: интересно, Курцман вообще представляет себе, который час на Западном побережье?
— Я только что получил новое дело. Мужчина, школьный учитель, обвиняется в сексуальном насилии над одним из своих учеников. Я заставил этого человека пройти массу проверок — через анализатор стрессовых изменений голоса, детектор лжи, психологический профиль. Поверьте, я не собираюсь летать по стране, защищая виновных людей больше, чем любых других. Но после получения результатов всех проверок я почувствовал, что этот человек почти наверняка невиновен. Поэтому я пошел в полицию и сказал, послушайте, давайте прежде всего проведем какие-то тесты, сделаем любые анализы, какие вы захотите, но нельзя автоматически обвинить его в этом преступлении, ведь его карьера будет закончена, даже если его в итоге оправдают. Полицейские смотрели на меня как на пустое место, сквозь меня. В их глазах я был мерзостью, подонком, защищающим такого гада, как этот.
Я вышел из комнаты, ощущая тошноту, но вдруг один из полицейских догнал меня. «У меня могут быть неприятности из-за этого, — сказал он, — но я думаю, что вы искренни и действительно верите, что этот парень невиновен. Я должен, однако, сказать вам, что это вовсе не надуманное обвинение: у нас есть доказательства того, что этот ребенок подвергся насилию». — «Откуда вы знаете?» — спросил я его. «У мальчика гонорея полости рта», — ответил полицейский. Я спросил, когда сделаны анализы, он сказал, что всего несколькими днями ранее. Тогда я срочно отправил своего клиента в больницу на анализ крови, и он оказался абсолютно чист, никакой гонореи. То есть с научной точки зрения просто невозможно, чтобы этот мужчина совершил насилие над мальчиком.
Но сейчас я расскажу о самом страшном в этой истории. Прокуратура хотела удержать эту информацию в тайне, чтобы расправиться с моим клиентом. Если бы этот полицейский не сказал мне про гонорею, то на момент рассмотрения дела в суде моему клиенту было бы уже слишком поздно делать анализ крови, чтобы оправдать себя. Он был бы признан виновным: 90 % дел о насилии над детьми заканчиваются вынесением обвинительных приговоров; конечно, он потерял бы работу, сидел бы в тюрьме, и на нем на всю жизнь осталось бы клеймо совратителя малолетних, что, как мы все знаем, хуже, чем клеймо убийцы. Если бы не один честный полицейский, его жизнь была бы кончена.
Я услышала в трубке другие голоса и слова Курцмана: «Да, сейчас, одну секунду!», а потом он вернулся и сказал, что должен идти — его ждут и что он навсегда благодарен мне, ну и еще раз спасибо за рассказ о Говарде. Потом он ушел. Я положила трубку и улыбнулась.
В самых потаенных глубинах моего сознания открылся некий ящичек, и из него, подобно старомодному Джеку-попрыгунчику, выскочило воспоминание. Воспоминание о Говарде. У него не было лица, я не могла сказать, какие у него волосы — прямые или вьющиеся, полный он или худой, в прыщах или с чистой кожей, высокий или маленького роста. Но картина была удивительно четкой. Безликий и бесцветный Говард и я, мы сидели на диване в моей гостиной, и он нежно, кончиками ногтей, царапал мою руку, от кисти до локтя и выше, а потом обратно вниз, вот так туда-сюда, снова и снова.
Но на этот раз воспоминание не принесло боли. На этот раз оно принесло чувство триумфа. Говард, подумала я, ты мерзкий сукин сын. Ты был виноват, и никто никогда не разыскал тебя. Но теперь, тридцать пять лет спустя, ты пригодился, послужил доброму делу. Я использовала это воспоминание, чтобы помочь другому, невиновному человеку.
Сидя в постели и наблюдая, как светлело небо, как менялся цвет облаков от синего до розового, а затем до кремового, я попыталась представить себе, как Говард выглядит сейчас. Ему должно быть лет пятьдесят пять, соображала я, с улыбкой глядя на неприятные черты, которыми мое воображение наделило пустое лицо Говарда. Он должен быть в бородавках и возрастных пигментных пятнах, с преждевременно лысеющей седой головой. С этой картинкой в голове я попрощалась со своими воспоминаниями о Говарде. Прощай, и хорошо, что я от тебя избавилась.
Потом я стала думать о детях. Кэти Дэвенпорт и Пейдж Беккер всю жизнь будут верить, что они подверглись насилию в тот летний день в лагере в уютном пригороде Чикаго. Этим двум маленьким девочкам пришлось чуть ли не треть прожитой ими к тому времени жизни вспоминать и рассказывать подробности обмана со стороны молодого человека, которому они доверяли и которого любили. Они сжились с этими подробностями, которые стали частью их личности.
Нет никаких сомнений в том, что дети поверили в ими же рассказанные истории. Поэтому, в самом глубоком смысле этого слова, они говорили правду. Если человек верит, что ложное воспоминание является правдой, если Кэти и Пейдж всем сердцем верили, что к ним приставали, как можно назвать их обманщицами? Поэтому вопрос «Верите ли вы детям?» — это некорректный вопрос. Главный вопрос, который мы должны задавать, должен звучать так: «Является ли воспоминание этого ребенка первоначальным и потому правдивым или же оно представляет собой правду, возникшую постфактум?»
Тони Эрререс невиновен с точки зрения закона, но в памяти этих детей, воспоминания которых будут стареть вместе с ними, навсегда останется отчасти придуманная ими, отчасти внушенная им картина того июльского дня 1984 года, когда Тони трогал их за «плохие места». Теперь это их воспоминание, начало конца их невинности, и они будут жить с этим, видеть это, слышать звуки и ощущать прикосновения в течение всей оставшейся жизни.
7. «Я не мог сделать такое с ребенком». Говард Хаупт
Правосудие реже терпело бы поражения, если бы все те, кто оценивает улики, были лучше осведомлены о несовершенстве человеческой памяти. Увы, можно сказать, что, хотя суд по максимуму использует все современные научные методы (когда, например, необходимо исследовать засохшую каплю крови в деле об убийстве), тот же суд вполне довольствуется совершенно ненаучными и бессистемными методами, основанными на общих предрассудках и невежестве, когда ему приходится оценивать психологические материи, в частности воспоминания свидетелей.
Гуго Мюнстерберг. На свидетельской трибуне (On the Witness Stand)Семилетний Билли Чемберс попрощался с родителями и уткнулся в симулятор автогонок. Боже, подумал он, всего час — и полный карман монеток! Ему не терпелось рассказать Джейсону, его лучшему другу в Корваллисе, штат Орегон, об этой поездке. Калифорния произвела на него неизгладимое впечатление, Большой каньон — это что-то невероятное, а Лас-Вегас — он еще никогда в жизни не видел так много игровых автоматов.
Он сунул двадцатипятицентовую монету в симулятор «Grand Prix» и смотрел, как дорога подхватила машину, подобно гигантскому сверхскоростному эскалатору. Он мчался все быстрее и быстрее, стараясь до финиша обогнать другие автомобили и виляя, чтобы избежать опасностей и объезжать препятствия, встречающиеся на пути. Его занесло на масляном пятне, он свернул с дороги, еле увернулся от кирпичной стены, вновь вернулся на дорогу, прошел поворот со скоростью, может быть, 160 км/ч и вдруг — хрясь! — врезался прямо в «корвет». Ну и пожар, конечно…
Билли сыграл еще два раза, а потом пошел по залу, наблюдая за тем, как играют другие дети. Он остановился около девочки (как ему показалось, четвероклашки или пятиклашки) и смотрел, как она борется с пультом управления мотосимулятора «Hang On».
— Так выключено же, — сказал он, глядя поверх ее плеча. — Надо четвертачок кинуть.
— Знаю, — ответила она, продолжая двигать джойстики.
Он пожал плечами: мало ли что. Может, у нее денег не осталось.
Вдруг кто-то схватил его за руку, сильные пальцы сжали косточки его запястья, и удивленный Билли повернулся, чтобы выразить свое возмущение. Рука, державшая его запястье, принадлежала незнакомому мужчине в кожаном пиджаке. Билли попытался высвободить руку, но незнакомец держал ее крепко и уже тащил Билли к двери в зал игровых автоматов. Билли ощутил страх. Что это за человек? И почему он держит его так крепко? А мужчина, почувствовав состояние Билли, наклонился к нему и сказал: «Я охранник отеля. Твои родители попросили меня привести тебя».
Билли перестал упираться. Наверное, с его родителями что-то случилось, и этого человека послали за ним. Что с ними могло случиться? Мысли у него в голове путались, а мужчина тем временем вывел его из зала игровых автоматов и повел по коридору в сторону казино. Потом резко повернул и потащил Билли за собой вверх по лестнице на второй этаж.
Зачем подниматься по этой лестнице? Сердце Билли билось очень быстро, он чувствовал, как оно колотится в груди. «Куда мы идем?» — наконец спросил, вернее, почти прошептал Билли. Он хотел заплакать, но сдержал слезы. «К маме», — ответил незнакомец хриплым, словно простуженным голосом.
Они все еще шли по коридору второго этажа, прошли мимо мужчины с чемоданом, а затем незнакомец, по-прежнему сжимая запястье Билли, снова повернул, потянув мальчика назад в тот же коридор и на лестницу. Теперь он шел очень быстро, и его рука по-прежнему сжимала запястье Билли, скользкое от пота.
Они прошли через вестибюль, который был переполнен будущими постояльцами, ожидающими регистрации. Женщина у входа в сувенирную лавку посмотрела на незнакомца и сказала: «Привет, Том!» Мужчина на секунду замялся, буркнул «Привет!», прибавил шагу и потащил перепуганного мальчика по длинному коридору, покрытому ковром, и дальше — из входной двери казино.
Было примерно 11:20, утро 27 ноября 1987 года — День благодарения.
* * *
В 11:10 Джоан Чемберс, проиграв за 20 минут семь с половиной долларов, оторвалась от своего игрового автомата и вернулась в зал аркадных игр в надежде найти там Билли. Она вошла в зал и осмотрелась: Билли здесь не было. Она еще раз осмотрела зал, уже более внимательно, переходя от одного автомата к другому. Нет, все-таки его здесь нет. Она подавила на мгновение охвативший ее ужас. Наверное, у Билли кончились монетки, и он сейчас ищет ее в переполненном казино. Она быстро вернулась в казино. Ее муж играл на долларовых слотах.
— Ты не видел Билли? — спросила она. — Я не нашла его в зале аркад.
Джек Чемберс дернул рычаг автомата и с досадой посмотрел, как в слотах остановились два лимона и вишенка. Еще один доллар улетел… Он взял жену за руку, и они вдвоем поспешно осмотрели заполненное людьми казино, а потом вернулись в зал аркад. Они обыскали вестибюль, ресторан на первом этаже, магазин сувениров и туалеты.
В 11:25 они обратились за помощью к охране отеля, и через десять минут сотрудники службы безопасности уже искали в отеле семилетнего мальчика-блондина с прямыми волосами и в толстых корригирующих очках, в кроссовках Reebok и красной куртке Polar Fleece. В 11:45 постоялец, покидавший гостиницу, заметил суматоху и остановил одного из сотрудников службы безопасности.
— Я видел наверху мальчика с отцом, — сказал мужчина, поглядев на часы, — может быть, минут двадцать назад.
— С отцом? — переспросил охранник.
— Ну да, они выглядели очень похожими. Мужчина держал мальчика за запястье и тащил его по коридору. Я подумал, что мальчика за что-то ругают. Он выглядел ошарашенным.
К полудню глава службы безопасности отеля уведомил департамент полиции Лас-Вегаса о возможном похищении ребенка. В течение следующих сорока восьми часов отдел вооруженных нападений и похищений полиции Лас-Вегаса и отделение ФБР в Лас-Вегасе вели широкомасштабное расследование. Пять свидетелей уверенно опознали Билли по его фотографии, сделанной в первом классе, на которой был изображен улыбающийся щербатый мальчик с прямыми светлыми волосами, зачесанными на лоб, и в таких больших очках, что края его сладкой, немного глуповатой улыбки чуть не упирались в нижний край оправы. Его правый глаз, казалось, слегка косил.
Описания мужчины, державшего мальчика за руку, были не столь определенными. Мужчину с мальчиком видели четыре взрослых свидетеля: это постоялец отеля Чарлз Кроутер, который прошел мимо них в коридоре на втором этаже, сотрудники отеля Джон и Сьюзен Пича, которые видели мужчину и мальчика в коридоре на втором этаже, и продавщица Гвен Марголис, 21 года, которая поздоровалась с мужчиной в магазине сувениров. В целом они описали подозреваемого как белого мужчину в возрасте от тридцати пяти до сорока лет, ростом примерно 170-180 см и весом от 75 до 80 кг, волосы светлые или рыжевато-светлые, ну, может, коричневатые, носит толстые очки в проволочной оправе, был одет в желтовато- или рыжевато-коричневую куртку и синие джинсы. Некоторые свидетели отметили, что мужчина и мальчик выглядели как отец и сын. Сьюзен Пича вспомнила, что, когда они проходили в коридоре мимо этого мальчика и мужчины, она в шутку сказала мужу: «Вот так и растят ботанов».
Элисон Мартинек, 11-летняя девочка, обменявшаяся с Билли несколькими словами в зале аркадных игр, описала высокого мужчину плотного сложения с темно-каштановыми волосами и с двумя родимыми пятнами или шрамами на лбу. На нем были синие джинсы, кроссовки Reebok и темные очки, сказала она полицейским.
Исходя из описаний очевидцев, художник составил фоторобот подозреваемого, который был опубликован в газетах и показан по телевидению, причем в СМИ информация об этом похищении стала приоритетной. Сотрудники полиции подробно допросили очевидцев, протоколы допросов были записаны на пленку и затем расшифрованы. Продавщица Гвен Марголис утверждала, что она знает мужчину, который шел с мальчиком: он работает в кухне отеля, и зовут его Том Спендлав. Детективы допросили Спендлава и включили его фото в подборку фотографий, которые они потом показали остальным четырем свидетелям. Джон и Сьюзен Пича сразу опознали в Спендлаве мужчину, которого они видели с мальчиком. Чарлз Кроутер выбрал фото сотрудника отеля Хосе Гарсии, заявив, что он больше всего похож на человека, которого он видел на втором этаже в коридоре. Элисон Мартинек утверждала, что мужчины, которого она тогда видела с мальчиком, на этих фотографиях вообще нет.
Вскоре выяснилось, что у Тома Спендлава и Хосе Гарсии были железные алиби, и далее за весь декабрь расследование практически не продвинулось. От сотен звонков граждан, желающих сообщить ту или иную информацию, даже воздух в департаменте полиции, казалось, раскалился. Одна женщина утверждала, что видела Билли Чемберса на улице, но в итоге оказалось, что мальчику, которого она видела, уже двенадцать лет. Позвонил мужчина и сообщил о человеке, похожем на фоторобот, который показывали по телевидению, но оказалось, что ему сорок пять лет и что у него отсутствует большинство передних зубов. Еще одна женщина, не пожелавшая представиться, сообщила о мужчине, осужденном за сексуальное преступление, но освобожденном условно-досрочно, но этому было восемнадцать лет, и у него было твердое алиби.
30 декабря 1987 года, примерно в 11 утра, уборщик, собиравший мусор с территории отеля, заметил метрах в двухстах от здания очки, валявшиеся около прицепа, которым пользовался менеджер отеля. Он наклонился, чтобы поднять очки, и увидел тело мальчика, лежавшего лицом вниз под задней частью прицепа. Он немедленно сообщил об этом своему начальнику, тот передал сообщение в службу безопасности отеля, а ее сотрудники, в свою очередь, уведомили об этом полицию Лас-Вегаса. Мать и отца Билли, остававшихся в Лас-Вегасе вместе с другими родственниками, доставили на место происшествия, и они, обливаясь слезами, подтвердили: да, это их сын Билли.
Дальше расследование вел отдел убийств полиции Лас-Вегаса. После вскрытия и проведения необходимых аналитических процедур патологоанатомы пришли к выводу, что Билли Чемберс умер от механической закупорки дыхательных путей в результате удушения. Состояние тела, сообщил патологоанатом, примерно соответствует дате исчезновения мальчика. Никаких признаков сексуального насилия обнаружено не было.
Следователи отдела убийств получили компьютерную распечатку полного списка гостей отеля в день исчезновения Билли. Особый интерес они проявили к гостям, которые были зарегистрированы в номерах на втором этаже, так как именно там уезжавший из отеля Чарлз Кроутер видел Билли и тащившего его мужчину. Фотографии с водительских удостоверений и данные идентификации постояльцев мужского пола, зарегистрированных на втором этаже, поступили из департаментов по регистрации транспортных средств Невады и Калифорнии.
Более или менее подходила под описания очевидцев только одна фотография — Говарда Хаупта. Ему было тридцать семь лет, рост 182 см, вес 67 кг, волосы светлые, глаза голубые. На приложенном фото было видно, что он носил пробор слева и очки в проволочной оправе. В отеле он зарегистрировался 25 ноября 1987 года, а выехал 28 ноября. Он жил в номере 229, то есть на втором этаже в южном крыле, совсем близко к тому месту, где Чарлз Кроутер видел взрослого мужчину, который тащил Билли Чемберса за руку по коридору.
13 января 1988 года следователи послали Говарду Хаупту письмо с просьбой добровольно явиться для фотографирования и снятия отпечатков пальцев, чтобы помочь полиции в расследовании смерти Билли Чемберса. При этом письмо они составили так, чтобы Хаупт уверился в том, что сотрудничать таким образом с властями попросили всех гостей отеля и казино и что он не является подозреваемым. К тому времени полиция также получила поляроидную копию цветной фотографии Говарда Хаупта от его работодателя, Центра обработки данных в Сан-Диего. При составлении подборки фотографий для опознания использовали еще пять фотографий, переснятых на поляроидную пленку, чтобы они стали похожи на фотографию Хаупта.
15 января 1988 года следователи допросили порознь Джона и Сьюзен Пича и показали им эту подборку фотографий. Сьюзен Пича не смогла опознать никого. Джон Пича — после интенсивного допроса — заявил, что, по его мнению, больше всего похож номер 3 (то есть Говард Хаупт), но уверенно опознать его он не может. «Я видел так много фотографий, — сказал он, имея в виду сотни снимков, которые ему показали за семь недель, прошедших после исчезновения Билли Чемберса, — что они у меня начинают путаться».
18 января ту же подборку фотографий показали продавщице Гвен Марголис. Она тоже выбрала номер 3 — Говарда Хаупта, а когда ее попросили оценить свою уверенность в правильности опознания по шкале от 1 (неточно) до 10 (уверенно), она ответила: «Я бы сказала — восемь».
21 января Чарлза Кроутера доставили на самолете в Сан-Диего, а затем к месту работы Говарда Хаупта. Цель этой поездки состояла в том, чтобы выяснить, сможет ли он опознать подозреваемого не по фото, а лично. Когда Хаупт прошел мимо него по дороге от автостоянки на работу, Кроутер сказал: «Мне нужно посмотреть на него еще раз». Когда позже его спросили, узнал ли он кого-нибудь, Чарлз Кроутер ответил: «Этот человек в кожаном пиджаке — тот мужчина, которого я видел с маленьким мальчиком в отеле». Человеком в кожаном пиджаке был Говард Хаупт.
Потом Кроутеру показали подборку фотографий. Он указал на номер 3, то есть на Говарда Хаупта, как на человека, которого он опознал в ходе поездки в Центр обработки данных. В ответ на просьбу оценить достоверность опознания подозреваемого по шкале от 1 до 10 он заявил: «От семи с половиной до восьми».
5 февраля следователи доставили в Центр обработки данных Гвен Марголис. Она тоже опознала Хаупта как мужчину, которого она видела тогда в отеле вместе с ребенком. На этот раз она была еще более уверенной и в ответ на просьбу оценить свою уверенность в правильности опознания по той же шкале 1-10 она заявила: «Я бы сказала, вероятно, около девяти».
3 февраля Хаупту, никак не отреагировавшему на первое письмо, было отправлено еще одно заказное письмо, на этот раз с уведомлением о вручении. Через шесть дней, 9 февраля, Говард Хаупт позвонил в офис шерифа Сан-Диего и договорился о встрече со следователями на 11 февраля в 17:30. Помощник шерифа между делом спросил Хаупта, почему он не ответил на первое письмо. «Я подумал, что им нужен не я, — ответил Хаупт. — Письмо-то на самом деле меня не касалось».
11 февраля, примерно в 7:30 утра, Джон и Сьюзен Пича прилетели из Лас-Вегаса в Сан-Диего и были доставлены на место работы Хаупта, где они опознали его как человека, которого они видели в отеле с мальчиком. Степень своей уверенности в правильности опознания она оценили как «между 9 и 10 баллами». Позже, когда им снова показали подборку цветных фотографий, Джон Пича указал на фото № 3 и сказал: «Вот человек, которого я видел. Но вживую он больше похож, чем на фотографии».
16 февраля 1988 года было официально возбуждено дело «Штат Невада, истец, против Говарда Хаупта, ответчика». Преступления описывались с использованием разных цветистых формулировок и формализованных оборотов, которыми отличается наш юридический язык:
Вышеуказанный Ответчик совершил преступления ПОХИЩЕНИЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ и УБИЙСТВО следующим образом:
ПУНКТ I — ПОХИЩЕНИЕ ПЕРВОЙ СТЕПЕНИ
Умышленно, незаконно, совершая тяжкое уголовное преступление и отвергая власть закона, увел, захватил, побудил, увлек или удерживал УИЛЬЯМА ФЕННО ЧЕМБЕРСА, несовершеннолетнего, с намерением удерживать, лишить свободы или отграничить указанного УИЛЬЯМА ФЕННО ЧЕМБЕРСА от его родителей, опекунов или других лиц, осуществляющих законную опеку указанного несовершеннолетнего лица, или с намерением удерживать указанное несовершеннолетнее лицо для [получения] незаконных услуг или совершения в отношении указанного несовершеннолетнего лица каких-либо противоправных деяний, а именно: сексуального удовлетворения.
ПУНКТ II — УБИЙСТВО
Тогда же и там же, отвергая власть закона и злонамеренно, умышленно и совершая тяжкое уголовное преступление, убил УИЛЬЯМА ФЕННО ЧЕМБЕРСА, человека, путем механического перекрытия дыхательных путей, что привело к удушению указанного УИЛЬЯМА ФЕННО ЧЕМБЕРСА.
Все это противоречит форме, силе и действию норм законодательства, принятых и предусмотренных для таких случаев, а также направлено против спокойствия и достоинства штата Невада.
В переводе на обычный язык это означало, что Говарда Хаупта обвинили в похищении первой степени и убийстве в штате Невада. И что если его признают виновным, ему грозит смертная казнь.
* * *
Стив Стайн был человеком одержимым. Я положила трубку так, чтобы иметь возможность что-то записывать, пока он говорит, но мне все равно пришлось сдерживать себя, чтобы не закрыть уши руками, потому что его баритон заполнял все пространство моего крошечного кабинета. Картотеки, эти надежные хранилища моей истории в Вашингтонском университете, казалось, давят на меня со всех сторон. С каждым годом, по мере добавления папок, пространство для хождения, разговоров и просто дыхания постепенно сжималось. Такое впечатление, что скоро меня раздавит, как в том эпизоде «Звездных войн», когда стены эффективного, но беспощадного уплотнителя отходов начинают двигаться друг к дружке. Иногда, сидя в своем вращающемся кресле, я упиралась ногами в эти металлические шкафы и некоторое время несильно, но непрерывно давила на них. Это позволяло мне почувствовать, что я все-таки что-то контролирую.
— Этот человек невиновен! — гремел Стайн. — Я на сто тысяч процентов уверен в этом, у меня в этом нет абсолютно никаких сомнений. Нет никаких доказательств причастности, никаких привязок Говарда Хаупта к этому преступлению. Это дело создано свидетелями, это ясно как день, и показания свидетелей столько раз менялись, что голова кругом идет. Хаупт — просто козел отпущения для полиции Лас-Вегаса, которую так ругали за вялотекущее расследование этого дела, что они арестовали первого попавшегося человека, который более или менее подходил под общее описание.
Доктор Лофтус, — продолжил Стайн, — я не беру дела о насилии над детьми и о похищении детей, потому что это отвратительные преступления, самые отвратительные из всех, которые может совершить человек. Но когда это дело возникло и я прочитал все сообщения о нем, я сказал себе: «Это дело не похоже на доказуемое». Мои партнеры говорили мне, что я сошел с ума. «Не нужно нам браться за такое дело», — говорили они. Но когда Хаупта экстрадировали из Калифорнии, я поехал в тюрьму, чтобы повидаться с ним. И я поверил ему, поверил, что он невиновен. Я защищаю уголовников двадцать лет, и за все это время у меня было, ну, может быть, пять невиновных клиентов. И поверьте мне, если вы занимаетесь этим делом двадцать лет, вы уже чувствуете, говорит человек правду или врет. Язык тела, зрительный контакт, предыстория, то, как полиция исполняет свои функции…
У меня в голове возник образ Стива Стайна: молодой безрассудный тип в ковбойской шляпе и кожаных штанах пришпоривает и так скачущую сумасшедшим галопом взмыленную лошадь, чтобы спасти невинного человека от кровожадной толпы. Я подавила возникшее было желание воскликнуть «Вау!» и вместо этого просто прервала его монолог.
— Мистер Стайн. — сказала я.
— Да?
Казалось, он был даже рад этому: можно будет перевести дух.
— Расскажите мне об опознании подозреваемого свидетелями. Главный свидетель — сам мальчик — мертв. А кто остальные?
Стайн коротко описал мне пятерых свидетелей.
— Говард Хаупт был единственным постояльцем отеля, который хотя бы отдаленно соответствовал описанию, — продолжил он. — Причем само описание постоянно меняется со временем, и не сказать чтобы почти незаметно. Через несколько дней после исчезновения Билли Чемберса двое свидетелей утверждали, что у мужчины-похитителя были каштановые волосы и весил он от 75 до 80 кг. Между тем Хаупт блондин и весит 67 кг. Девочка, находившаяся в зале аркадных автоматов и видевшая, как мужчина схватил мальчика за руку, описала его как человека «коренастого» и «мускулистого» с двумя темными пятнами на лбу, или язвами, или шрамами. Хаупт — мужчина стройный, и ни шрамов, ни родимых пятен у него на лице нет. Один из взрослых свидетелей утверждал, что у похитителя была полноценная шевелюра, а у Хаупта — очевидная лысина. У Хаупта есть алиби, подтвержденное свидетелями (он был на слете любителей буерного спорта), но никто не обращает на это никакого внимания. У него нет судимостей, но полицейские при обыске его квартиры нашли экземпляр «Плейбоя», и теперь хранят его в качестве доказательства того, что он растлитель малолетних. Ну вы поняли. Они нашли подозреваемого, который казался похожим, и мало-помалу искажали те минимальные свидетельства, которые у них были, так, чтобы сделать образ преступника более похожим на Хаупта.
Стайн продолжал:
— Я проверил Хаупта на трех самых строгих полиграфах, какие смог найти, причем сеансы проводили прекрасные специалисты с большим опытом, про которых было известно, что они с подозрением относятся к обвиняемым. Ни один из полиграфов не показал, что он лжет. Именно тогда я впервые подумал: э, да этот парень и вправду невиновен. Тогда я начал копать и находить маленькие «подсказки», с помощью которых полиция наводила свидетелей на своего единственного подозреваемого. Каждый свидетель сначала выбирал кого-то другого, а потом, в ходе дальнейших допросов, полицейские «за ручку» подводили их к образу Хаупта.
Между тем Хаупт сидит словно бессловесный чурбан. Он должен возмущаться, кричать, рычать, взрываться гневом и негодованием, а он просто сидит, с виду спокойный как удав и говорит: «Я не делал этого, я не знаю, о чем вы говорите». Я не мог понять, что с ним происходит. Он сдерживал все свои эмоции; вокруг него как будто была сплошная стена. Но однажды ночью у себя в офисе мне удалось расколоть его. Нам предстоял прямой допрос, и я показал ему фотографии трупа маленького мальчика. Он просмотрел фотографии одну за другой, и вдруг плечи у него затряслись, и он заплакал. «Я не делал этого, — сказал он, — я не мог сделать такое с ребенком. Уберите фотографии». Тогда я понял и теперь говорю вам, что виновный, увидев эти фотографии, не отреагирует таким образом. Говард Хаупт не убивал этого мальчика.
Я ощутила хорошо знакомый трепет возбуждения.
— Мистер Стайн, — сказала я, — если вы пришлете мне все, что у вас есть по этому делу: полицейские отчеты, стенограммы допросов свидетелей, стенограммы предварительных слушаний, — я немедленно просмотрю все это и сообщу вам мое решение относительно дачи показаний.
— Считайте, что все это уже у вас, — сказал Стайн, и менее чем через сутки улыбающийся сотрудник Federal Express, напевавший колыбельную Twinkle, Twinkle Little Star[11], действительно доставил мне все это, в чем я и расписалась.
* * *
Сначала я бегло просмотрела все документы и разделила их на стопки: здесь полезные, здесь серединка на половинку, а здесь не очень полезные. Эта работа отнюдь не напрасна: при этом я просеиваю факты, ищу едва заметные «подсказки», искусные наводящие формулировки, косвенные намеки, предположения, подразумеваемые утверждения. На моем столе были сложены добровольные заявления очевидцев, рукописные заметки из департамента полиции Лас-Вегаса, газетные статьи, черно-белые репродукции фотографий, предъявлявшихся для опознания, ксерокопии школьной фотографии Билли Чемберса размером во всю страницу и так далее, до бесконечности. По моим прикидкам, Стайн прислал мне больше пятисот страниц разной информации.
В последней пачке документов был, в частности, распечатанный отчет о патологоанатомическом исследовании. Я определила его в стопку «не очень полезных», но мрачное чувство долга побудило меня снова взять его в руки. На первой странице была кратко представлена история исчезновения Билли, обнаружения тела, опознания его родственниками и подтверждения отпечатков пальцев. На следующих четырех страницах, напечатанных через один интервал, приводились подробные описания внешнего и внутреннего состояния трупа мальчика. Я прочитала весь отчет, а потом аккуратно положила его обратно в папку.
Отчет о вскрытии оказал на меня мощное воздействие: он напомнил мне, что теперь этот человек мертв, этот здоровый маленький мальчик, у которого была семья, были друзья, одноклассники, и весь этот мир был уничтожен незнакомцем со смертоносной хваткой. Иногда в зале суда, когда главным пунктом для сторон обвинения и защиты становится вопрос о виновности или невиновности подсудимого, мы забываем о жертве, и чаще всего это имеет место тогда, когда речь идет об убийстве и жертва уже не может напомнить нам о своей боли и агонии. Я задвинула подробности смерти Билли в дальний угол своего мозга, но поклялась сама себе, что не забуду его.
Надвинув очки на нос повыше, я начала читать добровольные показания свидетелей. Через три часа у меня было уже двадцать страниц рукописных заметок, которые я перечитывала, делая пометки на полях. Я повернулась к компьютеру и, постоянно обращаясь к своим заметкам и добровольным заявлениям свидетелей, набрала короткий хронологический список для каждого свидетеля.
Сьюзен Пича (горничная отеля)
29 ноября. По фото в качестве подозреваемого опознан другой человек.
4 декабря. По фото в качестве наиболее вероятного подозреваемого опознан другой человек (не тот, который был опознан ранее, но и не Хаупт).
15 января. При просмотре подборки фотографий, в которой под номером 3 была фотография Хаупта, в качестве наиболее вероятного подозреваемого был опознан не Хаупт, а другой, неизвестный субъект.
11 февраля. Визит в Центр обработки данных и просмотр подборки фотографий: опознан Говард Хаупт.
Джон Пича (безработный)
29 ноября. По фото в качестве возможного подозреваемого опознан другой человек.
4 декабря. По фото опознан другой человек «с уверенностью 90 %».
15 января. По фото — как больше всего похожий на подозреваемого — опознан Говард Хаупт. Признание следователям: «Я видел так много [фотографий], они начинают у меня путаться».
11 февраля. Визит в Центр обработки данных (место работы Хаупта) и просмотр подборки фотографий: идентифицирован Хаупт с уверенностью «9 баллов» по 10-балльной шкале. Сказал следователям: «Это он был на снимке, который я видел».
Чарлз Кроутер (постоялец отеля)
27 ноября. Указал, что рост преступника 170-175 см.
24 декабря. Описал подозреваемого как человека со светло-каштановыми волосами, зачесанными вперед, граница волос без залысин.
8 января. Описал подозреваемого как человека с полноценной шевелюрой, без пролысин, ростом примерно 173 см.
22 января. Визит на место работы Хаупта: опознал его как «человека, соответствующего описанию». Опознание по очкам и желтовато-коричневой куртке, которая была на Хаупте, уверенность «7-8 баллов» по 10-балльной шкале.
Гвен Марголис (продавщица)
3 декабря. Опознала мужчину с мальчиком как Тома Спендлава, приятеля, который работает на кухне отеля. По ее оценке, она видела мужчину с мальчиком в течение 3-4 минут.
18 января. Описала подозреваемого как человека со светло-каштановыми волосами, ростом 170-173 см, стройного. При просмотре подборки фотографий опознала Хаупта (№ 3): «Номер 3 похож больше всего, но я не уверена». Уверенность в опознании оценила в «8 баллов» по 10-балльной шкале.
5 февраля. Визит на место работы Хаупта: опознала Хаупта. «Я опознаю его по его фотографии и по моим исходным воспоминаниям». Оценка уверенности «9 баллов».
Элисон Мартинек (11 лет, находилась в зале аркадных автоматов)
3 декабря. Описывает мужчину в зале аркадных автоматов как высокого, «вроде мускулистого», возраст — к сорока годам, в солнцезащитных очках, с темными волосами. «Я почти уверена, что у него были темные волосы. Темнокаштановые».
9 января. Вспоминает про два темно-красных, почти черных пятна на лбу у мужчины, как «язвы или родимые пятна».
13 января. Показали подборку фотографий. Хаупта (№ 3) не опознала.
10 февраля. Опознает Хаупта лично в предъявленной линейке. Оценка уверенности «9 баллов» по 10-балльной шкале.
Я снова и снова перечитывала эти записи, и с каждым новым прочтением крепла моя уверенность в том, что… Я не могла с полной уверенностью утверждать, что Говард Хаупт невиновен (в конце концов, это вообще не моя работа), но в этом деле было множество проблем с опознанием подозреваемого свидетелями. Я завела на своем компьютере файл «Стайн/Хаупт/Лас-Вегас/1989» и набрала слова постсобытийная информация.
Преступление было совершено 27 ноября 1987 года. Все положительные опознания Говарда Хаупта имели место между серединой января и серединой февраля, то есть через семь-двенадцать недель после того, как свидетели видели мужчину с мальчиком. Это достаточно длительное время, в течение которого память на лица может терять четкость, но еще важнее то, что все свидетели в это время подвергались воздействию многих источников постсобытийной информации, которая могла повлиять на их первоначальные воспоминания о мужчине и мальчике. Они изучали эскизы, сделанные художниками, им показывали и многочисленные фотографии отдельных лиц, и подборки фото для опознания, они видели множество телепередач и газетных публикаций, освещавших похищение и убийство Билли Чемберса. Первоначальное воспоминание, и так тускнеющее со временем, становилось все более уязвимым для воздействия источников постсобытийной информации.
Люди в большинстве своем не подозревают, что новая информация может влиять на их первоначальное воспоминание о событии. Люди не знают, что, когда мы получаем новую информацию, она постепенно встраивается в наши первоначальные воспоминания. Полагая, что это измененное воспоминание и есть и всегда было именно таким, что именно оно и есть настоящее, истинное, цельное и неизменное воспоминание о событии, происшедшем несколько месяцев или даже несколько лет назад, мы яростно держимся за него.
Вот для примера стенограмма разговора от 27 ноября между Чарлзом Кроутером и следователем департамента полиции Лас-Вегаса:
С л е д о в а т е л ь. Вы не помните, волосы [у него] сверху были редкими?
К р о у т е р. Нет, сэр.
С л е д о в а т е л ь. Не припомните, лысины, проплешины не было?
К р о у т е р. Я не помню никаких проплешин у этого джентльмена.
С л е д о в а т е л ь. То есть, по вашим воспоминаниям, [у него] была полноценная шевелюра?
К р о у т е р. Полноценная шевелюра.
Этот допрос проходил в тот день, когда исчез Билли, всего через несколько часов после того, как Чарлз Кроутер видел в коридоре отеля мужчину и мальчика. Однако 22 января, спустя почти два месяца, Кроутер описал Говарда Хаупта как человека, который имел вполне заметную лысину. Что такое случилось за эти два месяца, что побудило Кроутера изменить свое мнение? Он видел фотографии Хаупта, читал описания подозреваемого и знал, что ищут человека с хорошо выраженной лысиной. Его первоначальное воспоминание о полноценной шевелюре было подавлено, стерто этой новой информацией, на месте шевелюры в его памяти комфортно расположилась лысина, и именно это воспоминание в его мозгу стало числиться реальным и первоначальным.
Элисон Мартинек, девочка, находившаяся тогда в зале аркадных автоматов, 27 ноября рассказала полиции, что мужчина, которого она видела с мальчиком, был коренастым, мускулистым, темноволосым и что на нем была обувь Reebok. На предварительных слушаниях, состоявшихся шесть месяцев спустя, Стив Стайн задал Элисон следующие вопросы:
С т а й н. Помнишь, ты рассказывала сотрудникам полиции, что он был в кроссовках Reebok?
Э л и с о н. Нет.
С т а й н. Помнишь, ты говорила им, что у него темно-каштановые волосы?
Э л и с о н. Нет.
С т а й н. Помнишь, ты говорила полиции, что этот человек был мускулистым и коренастым?
Э л и с о н. Нет.
Что, спросил Стайн, помнит Элисон теперь? (Слово «теперь» в этом вопросе подразумевало, что в течение шести месяцев она подвергалась воздействиям в ходе допросов, при просмотре различных фотографий, фотороботов, при опознаниях и др.)
Э л и с о н. Он был высокого роста, светлые волосы, худой, и у него был костистый подбородок.
Понятно, что это точно, даже с некоторыми деталями, соответствовало внешности ответчика, Говарда Хаупта.
Я трижды нажала клавишу ввода на своем компьютере и набрала слова ошибочное опознание под влиянием фотографий. Перед личным опознанием каждому из очевидцев показывали фотографию Говарда Хаупта. Весьма вероятно, и даже вполне правдоподобно, что Хаупт был опознан именно потому, что свидетели уже видели его лицо при просмотре подборки фотографий, а затем лично опознали его как человека, чье лицо им знакомо, а не потому, что он был тем человеком, которого они видели с мальчиком. Почему Сьюзен Пича 15 января не обратила внимания на фотографию Хаупта, а позже, 11 февраля, опознала его? Почему 13 января Элисон Мартинек не отметила фото Хаупта, а 10 февраля опознала его? Когда Джон Пича уверенно опознал Хаупта на его рабочем месте 11 февраля, почему он сказал полиции: «Он был на фотографиях, которые я видел»? Поэтому никак нельзя было исключить вероятность того, что свидетели опознали Говарда Хаупта как человека, которого они видели только на показанных им фотографиях.
Третьим пунктом в моем списке был бессознательный перенос. В день исчезновения Билли Чемберса Говард Хаупт был постояльцем отеля. Все пятеро очевидцев в это время являлись либо зарегистрированными постояльцами, либо служащими отеля, и у них было множество возможностей видеть Хаупта внутри и вне здания отеля. Это обстоятельство могло способствовать тому, что у свидетелей возникло ощущение знакомого образа, когда они по прошествии нескольких месяцев идентифицировали Хаупта.
Далее в моем списке шли оценки длительности. Присяжные понимают, что чем дольше мы что-то наблюдаем, тем лучше память сохраняет увиденное, но они часто не знают, что впоследствии, когда свидетель пытается оценить длительность происходившего события, он/она чаще всего существенно переоценивает его продолжительность. В моих собственных экспериментах люди, наблюдавшие тридцатисекундную имитацию ограбления банка, позже указывали гораздо большие значения длительности этого события; несколько человек оценили его длительность даже в интервале от восьми до десяти минут.
Продавщица Гвен Марголис, 21 года, сообщила полиции, что она наблюдала за мужчиной с мальчиком «три или четыре минуты». Если бы она засвидетельствовала это в суде, любой присяжный понял бы ее показания в буквальном смысле, не подозревая об определенной склонности людей переоценивать продолжительность подобных событий. Присяжные так и поняли бы, что она действительно видела шедших вместе мужчину и мальчика в течение нескольких минут, то есть достаточно продолжительное время, чтобы рассмотреть их и потом точно идентифицировать мужчину, и определенно будут склонны доверять ее показаниям относительно Говарда Хаупта.
Уверенность. Как и большинство других людей, присяжные склонны полагать, что существует прочная связь между уверенностью свидетеля в своих показаниях и их достоверностью. Свидетель, который говорит: «Да, это безусловно, несомненно тот человек, которого я видел», наверняка будет для них более убедителен, чем тот, кто говорит: «Ну да, я думаю, что это тот парень». Сьюзен Пичу допросили еще раз в середине февраля после того, как она опознала Говарда Хаупта у него на работе. Когда ее попросили оценить степень ее уверенности в интервале от 1 до 10, где 1 означает «точно не тот, кого она видела», а 10 — «точно он», она ответила «10».
Гвен Марголис опознала Говарда Хаупта 18 января, оценив степень своей уверенности в 8 баллов. А 5 февраля, увидев Хаупта лично, она оценила степень своей уверенности уже в 9 баллов.
4 декабря Джон Пича опознал другого человека, сказав при этом, что он «уверен на 90 %». А 15 января он идентифицировал Хаупта как «наиболее подходящего», добавив: «Я видел так много лиц, что уже теряю уверенность». 11 февраля он снова опознал Хаупта и оценил свою степень уверенности в 9 баллов.
Чарлз Кроутер опознал Хаупта 22 января, оценив степень своей уверенности в «7-8 баллов», указав в качестве примет очки и желто-коричневый пиджак, которые были на Хаупте.
Итак, первоначально в нашем случае каждый свидетель идентифицировал не Говарда Хаупта, а кого-то другого. Шло время, свидетелям демонстрировали все больше фотографий Говарда Хаупта, так что в конце концов они и опознали его как человека, которого они тогда видели с мальчиком. С каждым последующим опознанием они становились все более уверенными, постепенно дойдя до степени уверенности от 7,5 до 10. В ходе судебного разбирательства прокурор специально акцентировал бы внимание присяжных на этих цифрах, тем самым заставляя присяжных полагать, что свидетели были столь же уверены в правильности опознания с самого начала, и таким образом придавая больший вес результатам последних опознаний.
Мне оставалось сформулировать заключительную часть. Я набрала в компьютере слова «наводящие вопросы »и несколько секунд смотрела на мигающий курсор, за которым желтело на экране пустое пространство. Наводящие вопросы формулируются таким образом, что они предполагают конкретный ответ или подводят свидетеля к определенному выводу. Иначе говоря, наводящие вопросы могут оказывать влияние на ответы. Но из всех разнообразных способов искажения воспоминаний этот способ наиболее субъективный и поэтому хуже всех других поддается проверке. Если вы располагаете видео- или аудиозаписью допроса, то по ним обнаружить наводящие вопросы довольно просто, но при краткой записи допроса в письменной форме сотрудник полиции часто не фиксирует вопросы, а просто передает существо ответов.
В этом случае мне повезло, так как добровольные показания свидетелей записывались на магнитофон и затем расшифровывались. Я обнаружила один просто поразительный пример наводящего вопроса. 15 января 1988 года полиция показала Джону и Сьюзен Пича подборку фотографий шести разных людей, среди которых Говард Хаупт числился под номером 3. Между тем Сьюзен пришла к заключению, что наиболее подходящим является номер 6.
— Но вы не выделяете никого из них определенно? — спросил следователь.
— Да, именно так, — ответила она.
Тогда проводивший опрос офицер обратился к Джону Пиче и попросил просмотреть фотографии, начиная с номера 1. Насчет номеров 1 и 2 Пича ответил «определенно нет», а про номер 3, поколебавшись, сказал: «Мне показалось вроде… да нет, он слишком старый, тот не выглядел таким старым».
— Ну а кто-нибудь кроме этого? — спросил следователь. — Я имею в виду, есть кто похожий?
— Ну да.
Пича посмотрел на номера 4 и 5. Оба были «определенно нет». Про номер 6 он сказал: «Похожи, мне кажется, лицо и очки, но волосы не такие».
— Таким образом, из всех только эти двое — номер 6 и номер 3 — останавливают ваше внимание? — спросил следователь.
— Ну, на самом деле, если к этой прическе, — сказал Пича про номер 3, — приставить такое лицо, — указал он на номер 6, — я думаю, тогда у вас бы и получилось то, что нужно.
— Вы выбираете волосы номера 3?
— Да, мне кажется, что это…
— А что насчет очков на номере 3?
— Это были очки скорее такого типа, — и Пича указал на номер 6.
— И что, желательно очки номера 6 надеть на номер 3?
— Ну да.
— Хорошо. И еще вам кажется, что номер 3 староват. Как вам кажется, сколько лет номеру 3?
— За сорок лет.
— А каким вам представляется возраст номера 6?
— Старше тридцати.
— Хорошо. Итак, номер 3 не подходит, потому что он выглядит старовато?
— И еще баки. Я их не помню, потому что этот парень был гладко выбрит.
— Но форма прически у него такая же?
— Прическа да, и цвет волос тоже.
— Цвет волос — это другой вопрос. Что вы скажете о цвете волос номера 3? — спросил полицейский.
— Что я скажу. по этой фотографии я ничего не могу сказать.
— Я понимаю, это трудно.
— Такие нечеткие фотографии.
— Но вы не видите среди них ни одного, который бы точно совпадал?
— Нет. Номер 1, я уверен, нет. Номер 2, я знаю, тоже. Номер 5, номер 6. Я так много их насмотрелся, я уже перестал различать. Прямо теперь как в тумане, так много я всего видел и так много людей.
— Хорошо.
— Но я бы сказал, что ближе всех номер 3.
— Хорошо, благодарю вас.
Большинство людей не увидели бы в этом разговоре ничего особенного. Пича неторопливо просматривал различные фотографии, а дознаватель задавал вспомогательные вопросы и постоянно наблюдал за свидетелем, подсказывая некоторые подробности, которые тот мог бы и упустить. И в конечном счете Пича остановил свой выбор на номере 3.
Но когда я дочитала до конца этот разговор, повсюду уже, как вешки, были расставлены красные галочки. У полицейских был один явный подозреваемый — номер 3. Свидетель колебался насчет номера 3, но затем отклонил его как слишком старого. Насчет номера 6 он утверждал, что находит сходство в лице и очках, но волосы не похожи.
Если бы подозреваемым был номер 6, то о номере 3 они бы забыли и дальше говорили бы о номере 6. Но вместо этого дознаватель опять обратился к фотографиям, непроизвольно дав понять свидетелю, что номер 6 ему не особенно интересен. Он сказал: «Итак, ваше внимание привлекли номер 3 и номер 6». А также: «Вы выбираете волосы номера 3». Потом: «Вам кажется, что для сходства на номере 3 должны быть такие очки, как у номера 6», а потом: «Вам кажется, что номер 3 староват. А сколько ему лет, как вам кажется?»
Все эти вопросы подводили внимание свидетеля к номеру 3. Обратите внимание, сколько раз дознавателю пришлось повторить слова «номер 3», пока свидетель не уловил, что «ага, копам вроде интересен парень под номером 3, похоже, от меня ждут, что я выберу номер 3. Может, если я выберу номер 3, они порадуются, и мы покончим с этим допросом?».
Мне не было доподлинно известно, что происходило в голове Джона Пичи в ходе этого допроса, но я точно знала, что не так уж сложно заронить в сознание человека некую мысль, а затем получить от него эту мысль как его собственную, размыть первоначальное воспоминание и медленно, но верно сделать эту мысль доминирующей. Мне вдруг захотелось научиться внедряться в человеческую память так, как если бы она была неким плотным веществом с хорошо различимыми нормальным и трансформированным состояниями. После чего, возможно, мне удалось бы зафиксировать, где, когда и как именно возникают в памяти эти искажения.
Я опять обратила взгляд на экран компьютера и еще раз пересмотрела свой список: постсобытийная информация; ошибочное опознание под влиянием фотографий; бессознательный перенос; оценки длительности; уверенность; наводящие вопросы.
Я собрала все факты по этому делу и распределила их по своим тематическим группам, так чтобы я смогла составить общую картину, которая позволила бы мне увидеть наиболее слабые места в свидетельских показаниях — главной составляющей материалов обвинения против Говарда Хаупта. Конечно, это была лично моя картина. Прокурор из тех же фактов составил бы совсем другую картину. Адвокат тоже будет тщательно подбирать свои факты, привлекая максимум внимания к отсутствию судимости у подзащитного, к отсутствию каких-либо вещественных доказательств, к доказанному алиби. Всегда бывает чрезвычайно любопытно наблюдать, как разворачиваются в зале суда эти столь разные картины, и слушать, чью же версию присяжные сочтут истинной.
Я напечатала свой пятистраничный обзор по делу Говарда Хаупта, вложила его в конверт вместе со своими личными данными и послужным списком и отправила все это экспресс-почтой Стиву Стайну.
* * *
Судебные слушания по делу Говарда Хаупта были запланированы на октябрь 1988 года, но судья отказался от моих показаний, заявив, что это было «вторжением в сферу компетенции присяжных». По сути, судья утверждал, что оценивать, были ли свидетели в состоянии видеть и слышать то, что, согласно их утверждениям, они видели и слышали, должны присяжные. А эксперт будет только запутывать дело — так, похоже, казалось этому судье.
Стайн попросил отложить рассмотрение на три месяца, чтобы попытаться убедить судью изменить принятое им решение. В начале октября я получила копию юридического документа, который Стайн подал в окружной суд. В этом документе под названием «Ходатайство о разрешении на дачу показаний экспертом» (Order Permitting Expert Testimony) на четырнадцати страницах в общих чертах были представлены мои полномочия, основные аспекты моих показаний, а также соответствующие юридические аргументы, устанавливающие правомерность и необходимость таких показаний. Заканчивалось ходатайство Стайна едва скрытой угрозой:
В заключение ответчик заявляет, что отказ от рассмотрения показаний доктора Лофтус явится основанием для отмены решения суда и злоупотреблением правом на действия по усмотрению со стороны уважаемого суда. Как ранее было отмечено Апелляционным судом в деле «Штат против Муна»:
«Исключение свидетельских показаний, аналогичных тем, которые приведены здесь, представляет собой злоупотребление правом действия по усмотрению для весьма ограниченного перечня случаев: 1) когда опознание подсудимого является основным вопросом в ходе судебного разбирательства; 2) когда ответчик представляет алиби и 3) когда существует мало или вообще нет других доказательств, связывающих обвиняемого с данным преступлением».
Суды в этой стране с осторожностью и скептицизмом воспринимают свидетельства экспертов относительно достоверности показаний свидетелей. Многие судьи старались избегать выдачи разрешений на такие показания, потому что опасались, что таким образом будут открыты шлюзы для битвы экспертов. Некоторые судьи отказывались давать разрешения на заслушивание показаний экспертов-психологов на основании того, что данные о воспоминаниях и восприятии относятся к «общеизвестной информации», известной, таким образом, и присяжным — так стоит ли тратить время и средства на выслушивание показаний экспертов по тем вопросам, которые и так уже понятны присяжным? Другие судьи считают, что показания экспертов-психологов незаконно ограничивают основную функцию присяжных. Как высказался об этом один из судей: «Я сильно сомневаюсь в том, что следует позволять научным работникам выполнять функции присяжных в части расследования».
Дело Муна, которое Стайн упомянул в своем кратком документе, было прецедентообразующим делом, рассматривавшимся в Апелляционном суде Вашингтона. Марк Мун и еще один человек были обвинены в похищении женщины, выходившей из гастронома в Сиэтле. После своего освобождения женщина представила полиции подробное описание обоих похитителей. Спустя несколько недель она ориентировочно идентифицировала предполагаемого сообщника Муна в линейке опознания и в ходе судебного разбирательства уверенно опознала его в суде. Но ее первоначальное описание сорокалетнего мужчины, шатена, ростом около 175 см, с широким ртом и щербатыми зубами, заметно отличалось от внешности двадцатидевятилетнего черноволосого, усатого и тонкогубого обвиняемого, рост которого составлял 190 см.
Выслушать эксперта не сочли нужным, и обвиняемый был осужден. В 1986 году Апелляционный суд отменил обвинительный приговор Джонса, постановив провести новое судебное разбирательство, в ходе которого эксперту должны быть разрешить дать показания.
Угроза Стайна сотворила чудо. Судья сдался и постановил, что мне будет позволено выступить с показаниями.
* * *
19 января 1989 года я прилетела в Лас-Вегас, и в аэропорту меня встретила Патти Эриксон, жизнерадостная молоденькая помощница Стайна. Мы поехали в отель, в котором мне предстояло остановиться, и уже вскоре погрузились в мягкие бархатные кресла в освещенной многочисленными люстрами гостиной. Разбирательство дела должно было начаться недели через две. Все свидетели уже дали показания (в том числе и мать Билли Чемберса), а Говарда Хаупта должны были допросить через два дня. Все вроде шло нормально, сказала Патти, но некоторые присяжные все же ее беспокоили.
— Их трудно понять, — сказала она, — большинство из них, я думаю, симпатизируют нам, но один или два могут создать нам проблемы. В ходе отбора присяжных прокурор отсеивал всех молодых — ему требовались основательные граждане авторитарного склада, почтительно относящиеся к полиции, уважающие статус-кво и трудовую этику протестантов, те, которые считают, что послушание и уважение к закону — это главные моральные принципы, которые следует прививать детям.
Мы, наоборот, старались отсеять таких людей из-за их враждебного отношения к обвиняемым, — продолжала Патти, — и мы использовали наше право отвода без указания причины по отношению к тем, кто имел ярко выраженные религиозные убеждения, милитаристские воззрения и т. п. У нас оставалась проблема еще с одной кандидатурой, и мы не могли решить, кого оставить, а кого отсеять. Выбор был между пожилым мужчиной, профессиональным военным, вышедшим в отставку в пятьдесят лет и затем пятнадцать лет работавшим в почтовой службе, и женщиной за пятьдесят, также состоявшей на военной службе. Мы оставили решение за подзащитным, и он выбрал женщину. Думаю, он счел, что если выбирать между мужчиной и женщиной со сходными обстоятельствами жизни, то женщина скорее оказалась бы справедливой и сочувствующей.
Патти отпила глоток белого вина.
— Я продолжаю думать об этом решении, — сказала она, — и задаюсь вопросом: а что, если он выбрал не того человека? Конечно, она женщина и, возможно, настроена более сочувственно. Но она также мать, и будет сопереживать семье мальчика. При этом она армейский сержант, прямая и твердая как гвоздь, — Патти прямо съежилась, — и странное дело — выбирать, кто будет решать твою судьбу: мужчина или женщина.
— Расскажите мне о Говарде Хаупте, — попросила я, — какой он?
Патти глубоко вздохнула и медленно выдохнула.
— Когда я увидела Говарда впервые, я, признаться, не знала, что и думать. Он был такой холодный и безэмоциональный, такой замкнутый. Он все держал внутри себя и не давал никому из нас возможности понять его чувства.
Однажды вечером, когда мы старались подготовить его к перекрестному допросу, он просто перестал сдерживаться. Растворилась внешняя оболочка, и он как будто распался на части. Словно открылась плотина, и все чувства потоком вышли наружу.
Она улыбнулась мне, как бы извиняясь:
— Простите за пафосные слова, но я так расстраиваюсь при мысли о том, что происходит с Говардом. Кто из нас сможет описать, что творится в душе этого несчастного человека? Лучшее, что я могу, — это рассказать, что я сама чувствую. Я верю в его невиновность. Не могу объяснить, почему так. Как-то по совокупности. До того как я встретилась с ним, мне было известно из стенограмм и предварительных свидетельских показаний, что доказательства неубедительны и неоднозначны и что показания свидетелей выглядят слабо. Я чувствовала, что это расчетливое преследование, потому что полиция работала так бездарно, что тридцать три дня не могла найти тело ребенка, а оно же было прямо рядом, на территории отеля. Я подумала, что Хаупт, возможно, невиновен. Потом мы встретились. И тогда мне сразу стало понятно, что он этого не делал. Вот такой холодный, замкнутый, неэмоциональный и весь в себе — я прямо почувствовала, что этот человек не убивал маленького мальчика.
Патти была юна и простодушна, недавно окончила юридический факультет и не обладала той многолетней убежденностью опытных адвокатов, отлично знающих, что большинство их подзащитных виновны. Но из-за отсутствия опыта ее уверенность в невиновности Говарда Хаупта не становилась менее убедительной. Слушая слова Патти, я поймала себя на мысли: а что, если он и вправду невиновен? И меня потряс страх возможности роковой ошибки в этом деле, того, что осужден и отправлен в тюрьму, возможно, невиновный человек.
Патти взглянула на часы и допила вино. Была почти полночь.
— Но присяжные убеждены? — произнесла она, продолжая свою мысль. — Кто же знает? В ходе отбора присяжных судья задал вопрос: считает ли кто-то из них, что не сможет быть объективным по отношению к обвиняемому? Все они решительно замотали головами. Но какова вероятность того, что предубежденный присяжный правильно оценит свою необъективность? Все присяжные заявляют, что они будут принимать решение исходя, в первую очередь, из презумпции невиновности. А что они думают на самом деле? «Если государство проявляет такое беспокойство, то он, наверное, виновен». Я уверена, это будет трудная борьба. Убит маленький мальчик. Пять человек дали показания в суде и указали на Говарда Хаупта. Присяжные, совершенно очевидно, будут думать, что не могут же все эти пятеро свидетелей ошибаться. Это было бы противно здравому смыслу. И вот вы приходите сюда и втолковываете им, что то, что им представляется доказанным, не обязательно является правдой. Правдой, — повторила Патти. — Перед этим процессом я бы поспорила о том, что такое правда и что такое справедливость. Теперь, когда я вижу, как Говард Хаупт в зале суда борется за свою жизнь, которую он может потерять, и испытывает страх смерти, я чувствую, что не уверена ни в чем.
* * *
В январе 1989 года, в пятницу утром, в 9:15 я заняла место на свидетельской трибуне. Более двух часов Стив Стайн задавал мне вопросы о тех факторах, которые могут оказывать влияние на приобретение, сохранение и извлечение воспоминаний. Я представила основные результаты научных исследований, ссылаясь на десятки работ и комментируя их с привлечением примеров, аналогичных ситуации, сложившейся в деле Говарда Хаупта в отношении показаний очевидцев.
После того как Стайн закончил свой первоначальный опрос, судья объявил перерыв на ланч, и Стайн предложил мне присоединиться к компании стороны защиты и перекусить в маленьком сэндвич-баре через дорогу. «Это единственное место, где Говард чувствует себя комфортно, — пояснила мне Патти, пока мы спускались из зала суда, протискиваясь между телевизионными и газетными репортерами, — единственное место, где люди не таращатся на него, как в зоопарке на диковинное животное».
Официант принял наш заказ. Хаупт заказал сэндвич с копченой говядиной и сложил на столе руки. У него были длинные изящные пальцы, прожилки под почти белой кожей казались бледными и тонкими. Глаза его тоже были светлыми, бледно-голубыми, с белками, пронизанными сеточкой лопнувших капилляров.
— Как вы держитесь? — спросила я у него, когда мы закончили обед. На другом краю стола, голова к голове, беседовали Патти и Стайн.
Он приподнял брови, открыл рот и снова закрыл его. Я поняла, что задала недопустимый вопрос.
— Это какой-то кошмар, — сказал он наконец. — Моя жизнь превратилась в кошмар. Каждое утро я просыпаюсь с надеждой, что все закончилось, но оно продолжается. Этот кошмар все время со мной. Он никогда не кончится.
Я смотрела, как он вставал из-за стола (его движения были напряженными и как бы заторможенными), и представила себе тот момент, ровно год назад, когда он, открыв почтовый ящик, нашел письмо с просьбой позвонить в офис шерифа в связи с похищением и убийством семилетнего мальчика в Лас-Вегасе, штат Невада. Все начиналось совсем безобидно — через почту, письмом с уведомлением о вручении — именно так начался для Говарда Хаупта весь этот ужас. И теперь уже ничто и никогда не будет как прежде.
* * *
В 13 часов мы вернулись в зал суда, и я в течение трех часов давала свидетельские показания в ходе перекрестного допроса, проводимого стороной обвинения. При первоначальном допросе свидетеля выставившей стороной, когда вопросы мне задает сторона защиты, я обычно точно знаю, чего ждать, и ощущаю контроль над ситуацией. Но при перекрестном допросе, лицом к лицу с прокурором, старающимся опровергнуть каждое мое слово и задающим изощренные вопросы в попытках запутать меня и утопить в противоречиях, в порядке мелкой подлости возвращающего мне исковерканные статистические данные и результаты исследований, — вот тут могут происходить непредсказуемые вещи.
Этот прокурор начал с обычных в таких случаях вопросов, принижающих значение моих исследований и выставляющих меня в роли наемника.
— Сколько раз вы давали показания в суде относительно воспоминаний свидетелей?
— Я давала такие показания сотни раз, — ответила я.
— И вам оплачивали ваши показания?
— Мне оплачивали мое время — предварительную подготовку, время в дороге, сами показания и так далее.
— Каков размер вашего гонорара в данном случае?
— За все мои приготовления, поездки и показания я ожидаю получить порядка трех с половиной тысяч долларов, — ответила я.
Он помедлил минутку, обернувшись к присяжным и подняв брови. Это огромная сумма, как бы говорили поднятые брови. Вы зарабатываете таким способом, то есть предлагая высказать свое мнение?
После основательной паузы он продолжил:
— Вы в состоянии дать определение памяти?
— Память — это поток информации в человеческий разум, хранение информации там и извлечение этой информации для использования ее в высших психических процессах вспоминания, мышления, вынесения суждений и принятия решений.
— Правда ли, что в сфере вашей деятельности психологи не сходятся во мнениях насчет того, что такое память?
— Да, по поводу памяти среди ученых существует много разногласий.
— И в этой сфере существуют разногласия насчет того, как она работает?
— Да, существуют некоторые разногласия.
— Нет ли среди психологов каких-либо заметных фигур, полагающих экспертные показания в этой сфере неуместными?
— Да, есть и такие.
Похоже, что он имел в виду Майкла Макклоски и Говарда Эгета — двух весьма уважаемых психологов-экспериментаторов, упорно выступающих против присутствия в зале суда психологов-исследователей, в том числе и моего присутствия. Они считают, что не существует никаких оснований утверждать, что присяжные чрезмерно доверяют показаниям свидетелей, что факторы, которые потенциально могут повлиять на достоверность свидетельских показаний, — стресс, концентрация внимания на оружии, межрасовая идентификация, постсобытийная информация, наводящие вопросы — или недостаточно хорошо описаны в работах исследователей, или же достаточно очевидны присяжным и что свидетельства экспертов тоже могут быть заведомо ложными и имеющими преюдициальное значение.
Наша полемика, временами горячая и враждебная, отражает существенную разницу мировоззрений. Макклоски и Говард Эгет, по-видимому, полагают, что те данные, которые получают психологи, должны быть практически окончательными и абсолютно точными, и тогда мы сможем спокойно выносить эти результаты на публичное обсуждение. Я же полагаю, что ожидание получения абсолютных данных равносильно бесконечному ожиданию, ибо достичь этого невозможно. Я не считаю также, что психологи должны замалчивать результаты научной работы просто ввиду их несовершенства. Говард Хаупт, сидевший за столом стороны защиты в зале суда Лас-Вегаса 20 января 1989 года, не может годами ожидать «совершенных» результатов исследований.
Прокурор продолжал спорить со мной и наносить удары — вы что же, используете студентов колледжа в качестве предмета своих исследований? И эти студенты получают за это деньги, не правда ли? И вы в самом деле полагаете, что у студента колледжа в исследовательской лаборатории такие же переживания, как и у очевидца насильственного преступления?
Я спокойно ответила, что да, это вполне обычное дело — использовать студентов в экспериментах, но что мы используем далеко не только студентов. Я привела в пример недавнее исследование памяти у детей и людей пожилого возраста с использованием в качестве субъектов посетителей Эксплораториума — интерактивного научного музея Сан-Франциско. Некоторые экспериментаторы в качестве субъектов использовали обслуживающий персонал магазинов. У других в качестве субъектов исследования фигурировали матери и их новорожденные дети.
Да, ответила я, мы либо засчитываем студентам, участвующим в исследованиях, какие-то учебные часы, либо платим им за участие в экспериментах, но это не влияет на те ответы, которые они дают, так как оплату они получают вне зависимости от своих ответов. Нет, ответила я также, субъекты экспериментальных психологических исследований, конечно, не испытывают таких ощущений, как очевидцы реальных преступлений, хотя стресс от реального события, по всей вероятности, оказывает негативное воздействие на память.
Прокурор сделал еще несколько выпадов, но потом снизил градус нападок, так ничего и не добившись. В 16:45 объявили перерыв на день, и Стив Стайн отвез меня в аэропорт к моему обратному вечернему рейсу в Сиэтл.
— Я внимательно наблюдал за присяжными по ходу ваших показаний, — сказал он, когда мы подъехали к аэропорту, — и уверен, что вы добились положительного сдвига. Единственная причина, по которой Говард Хаупт находится в суде и борется за жизнь, — это показания свидетелей, и вот вы ставите под сомнение достоверность этих показаний. Вы знаете, — продолжал он, и голос его звучал проникновенно, — такой случай адвокату по уголовным делам выпадает раз в жизни. Это все, на что я когда-либо мог рассчитывать, такой сказочный случай за все время после окончания юридической школы — иметь клиента, в невиновности которого ты твердо уверен, до мозга костей. И вот сейчас я имею дело с такой ситуацией. У меня есть робкое подозрение, что вплоть до завершения своей карьеры я буду испытывать некоторое разочарование, то есть, возможно, предстоящие лет тридцать я буду жить в затаенном ожидании какого-то дела, подобного этому.
Стайн припарковался около нужного терминала и извинился, что не сможет проводить меня внутрь.
— Мне еще работать всю ночь, — сказал он. — Я позвоню вам, как только присяжные вынесут вердикт.
— Что вам подсказывает интуиция, — спросила я, — выиграете вы это дело?
— Мы не можем проиграть, — сказал Стайн, но я понимала, что он постарался произнести эти слова уверенно именно потому, что не совсем уверен в победе.
В самолете я расположилась у окна и некоторое время смотрела на первую страницу бестселлера, купленного в сувенирном магазине аэропорта. Но мне не удавалось отвлечь мысли от зала суда, который я только что покинула, от человека, вопрос о жизни которого там решался, и от двенадцати присяжных, решавших его судьбу. Я прикрыла глаза, и мне то четко, то как в тумане представлялось лицо Говарда Хаупта. Я сфокусировала внимание, и постепенно это видение стало достаточно отчетливым — образ человека с тонкими светлыми волосами и бледно-голубыми глазами, в прозрачных очках с металлической оправой. Мне представлялось, что он сидит за столом стороны защиты, слегка ссутулившись, опираясь подбородком на пальцы, напряженно слушая и наблюдая происходящее.
Был ли он невиновен? Я верила, что да, но мое мнение в этом деле ничего не значило. Я сказала то, что и пришла сказать, теперь же все зависело от тщательно отобранных присяжных, которым надлежало спросить свои души и сердца, а затем своим коллективным разумом определить судьбу человека.
Я отпустила от себя образ Говарда Хаупта и опять обратилась к своей книжке в надежде отвлечься.
* * *
16 февраля 1989 года, после примерно двадцати часов совещаний присяжных в течение трех дней, Говард Хаупт был оправдан. Радостный Стив Стайн позвонил мне, чтобы в подробностях рассказать о волнующей сцене, имевшей место в зале суда.
— В зале были только стоячие места, — сказал он, медлительно растягивая слова, — и сам я, по правде сказать, очень волновался. Как позже выяснилось, в первом голосовании девять присяжных проголосовали за невиновность, двое за виновность и один воздержался. Потом расклад изменился: десять за невиновность, двое за виновность, при этом присяжные заседали еще почти шесть часов. В результате, после двадцати часов дебатов в течение трех дней, они вышли строем и вручили судье свой вердикт. По обвинению в похищении — невиновен. Мы все затаили дыхание. По обвинению в убийстве — невиновен. О, что тут началось, публика вопила и визжала, люди валились друг на друга! Говард Хаупт обнял меня и заплакал. Патти Эриксон изводила по пять салфеточек в минуту. Мать и отец Хаупта утирали лившиеся по щекам слезы. Плакали все.
Стайн на минутку замялся в нерешительности и вздохнул.
— Родители Билли сидели в первом ряду. Когда огласили вердикт, они опустили головы на руки и заплакали навзрыд. Несчастная семья.
Я спросила, возобновит ли полиция расследование.
— Надеюсь, что да, — тяжело вздохнул Стайн. — Убийца все еще на свободе, и, если полицейские сведения о нем верны, он нападает на маленьких мальчиков. Я думаю, тут копы правы. Убийца захватил Билли и повел наверх с намерением воспользоваться им как сексуальным объектом, но, встретившись в коридоре с постояльцем отеля Чарлзом Кроутером, запаниковал. Не думаю, что он изначально собирался убить Билли, но, как только узнал, что начались поиски, понял, что выбора нет. После убийства Билли прошло больше года, но ни одной подходящей версии так и нет. У меня такое ощущение, что это дело никогда не будет раскрыто. Оно так и зависнет в досье судебных документов с пометкой «незаконченный процесс» и каждый год будет отодвигаться все дальше назад. А через несколько лет вряд ли кто-то вообще вспомнит, что в Лас-Вегасе был убит мальчик по имени Билли Чемберс.
У меня есть несколько комментариев от присяжных, они могут быть вам интересны, — голос Стайна зазвучал уже по-другому. — Трое из них сказали нам, что они изначально считали, что Хаупт виновен, и именно ваши показания убедили их в обратном. «Мы серьезно отнеслись к показаниям Лофтус», — сказали они нам. Как вам это?
— Здорово! — сказала я. — Потрясающе, просто грандиозно!
Итак, Говард Хаупт снова свободный человек и чист в глазах закона, и Стив Стайн только что сообщил мне, что решающую роль при вынесении присяжными окончательного решения сыграли именно мои показания. Если бы я не выступила с показаниями, Говард Хаупт мог бы быть признан виновным и приговорен к смерти.
Что я при этом должна была чувствовать? Я веду образ жизни, отличный от жизни большинства академических психологов, и часто сталкиваюсь с попытками заставить меня отказаться от этой работы, выглядящей необычно и многим совершенно непонятной. Но Стив Стайн только что сказал мне, что мое выступление в суде изменило ситуацию. Говард Хаупт оправдан, и его адвокат считает, что это стало возможным благодаря показаниям эксперта относительно ошибок в воспоминаниях и во временных представлениях очевидцев. Теперь, возможно, полиция Лас-Вегаса и ФБР возобновят поиски настоящего убийцы. Возможно, они найдут его и тем предотвратят новые убийства.
Я размышляла о других делах, в которых мне не разрешили дать показания. Всего за несколько месяцев до того, как я выступила свидетелем в деле Говарда Хаупта, я летала в Пенсильванию давать показания в связи с делом человека, обвиняемого в убийстве престарелой пары. Адвокат был уверен в невиновности своего подзащитного, и я тоже убедилась в его невиновности, проведя с подсудимым шесть часов.
Но в последнюю минуту судья решил не заслушивать мои показания. В итоге обвиняемый был признан виновным. Был ли он тоже невиновен? Он был приговорен к двум пожизненным срокам без возможности досрочного освобождения. Его адвокат назвал это дело «наиболее трагическим делом за всю его двадцатилетнюю практику» и собирался подать апелляцию.
Я размышляла о тех случаях, когда обвиняемый беден и не может позволить себе высококлассную защиту. Защита Говарда Хаупта обошлась ему более чем в 250 000 долларов, и половину этой суммы внес он сам, другая половина — из сбережений его родителей. А что, если у Хаупта не было бы солидного счета, что, если бы у него не было состоятельных родителей, если бы он был темнокожим и нищим, то есть если бы это было одно из множества типичных дел, заполняющих рабочий график общественного защитника?
А потом я вспомнила о маленьком Билли Чемберсе. Я вспомнила его фотографии, а также описание патологоанатома, согласно которому полностью одетое тело Билли лежало лицом вниз под прицепом всего в двухстах метрах от входа в отель. Ладонями вверх, ноги скрещены, левая рука наискось.
Мне вспомнилось также описание, данное матерью похищенного мальчика в день его исчезновения. «Рубашечка у Билли навыпуск, — сказала она полицейским, — а на расстегнутой красной флисовой курточке рисунок — белая снежинка. Ах да, чуть не забыла, шнурки на ботинках завязаны на два узелка».
Все это мелкие подробности, не относящиеся прямо к моей работе, но их я потом вспоминаю, и они не дают мне заснуть. Это и есть те фактические данные, напечатанные на чистой белой бумаге, собранные в отчеты о судебных решениях, уложенные в папки с надписью «незаконченный процесс», и это разрывает мне сердце.
8. «Ужас, настоящий ужас!» Кларенс фон Уильямс
Часть воспринимаемой нами информации поступает от находящегося перед нами предмета, другая часть (и возможно, большая) всегда приходит из нашего разума.
Уильям ДжеймсЯ сидела на кровати поистине королевских размеров в скучном безликом номере отеля в городе Ориндж, штат Техас. Было жарко, я тосковала по дому и чувствовала себя очень несчастной. Я только что отужинала с Луисом Дугасом, молодым, энергичным адвокатом, представляющим интересы Кларенса фон Уильямса, обвиняемого в изнасиловании девочки-подростка и ее матери. Когда мы с Дугасом обсуждали вопросы, которые он задаст мне в суде на следующий день, к нашему столу подошла блондинка в облегающем платье и с обильным макияжем и протянула руку с длинными алыми ногтями. «Мистер Дугас? — сказала она, роняя слова с техасской медлительностью. — Я видела вашу фотографию в газете. Уверена, что вы снимете Уильямса с крючка, потому что я через две недели уезжаю в отпуск и хотела бы взять этого парня с собой!»
Неторопливой походкой она вышла из ресторана, а сильно смущенный Дугас рассыпался в извинениях. «В связи с этим делом эмоции просто бушуют, — сказал он. — Люди либо неудачно шутят о невероятной выносливости насильника, либо пишут письма в газеты с призывом к самосуду». Я ответила, чтобы он не переживал, такие вещи случаются, и мы быстро сменили тему. Но позже, сидя на кровати, упершись спиной в изголовье, в очках, с головной болью, нарастающей где-то за левым глазом, — а на будильнике 23:15, а на ночном столике стопка бумаг высотой чуть не полметра, — я не испытывала добрых чувств к этой блондинке.
Как можно подшучивать над изнасилованием, любым изнасилованием, а особенно таким жестоким и бесчеловечным, как это, когда мужчина в маске приставил пистолет к голове потерпевшей и попеременно насиловал, в том числе анально, то женщину, то ее дочь? Ведь именно это послужило поводом для непристойной шутки блондинки: как же, такой мужик, более часа курсировал между мамой и дочкой!
Я поправила очки, взяла с ночного столика верхний в стопке документ и начала читать. «Устные показания. Опознание преступника свидетельницей Салли Блэквелл». Девяносто восемь листов тонкой гладкой бумаги в папке из дешевого пластика. Первая страница выглядела весьма официально: в центре вверху напечатано «№ D-10, 102», а в верхнем левом углу — «Штат Техас против Кларенса фон Уильямса».
СЛЕДУЕТ ИМЕТЬ В ВИДУ, что в 14-й день февраля 1980 года вышеозначенные и пронумерованные основания для иска поступили на рассмотрение к достопочтенному Дону Берджессу, судье, в 260-й окружной суд округа Ориндж, штат Техас, где состоялось следующее судебное разбирательство…
Изнасилование произошло ранним утром 30 апреля 1979 года. Салли Блэквелл, сорока лет, разведенная, живущая с двумя детьми-подростками, была разбужена злоумышленником примерно в 2:30 ночи. Она растерялась и прямо с постели попыталась определить, кто стоит перед ней. В первое мгновение она подумала, что это ее сын Нейт, но потом все-таки разглядела в темноте мужчину, на лицо которого была натянута лыжная маска.
П р о к у р о р. Что произошло после того, как вы были разбужены этим человеком?
С а л л и Б л э к в е л л. Я подняла голову, пытаясь заговорить с ним, но он схватил меня за волосы на затылке и оттолкнул мое лицо от своего. Он приставил пистолет к моей голове и сказал, что, если я буду шуметь, он убьет моих детей, и спросил, поняла ли я это.
П р о к у р о р. Вы сказали, что увидели мужчину. Какое освещение было в комнате в это время?
С а л л и Б л э к в е л л. Свет от телефона и свет от цифровых часов.
Я подчеркнула этот ответ: при свете только цифровых часов и подсветке наборной панели телефона очень трудно различить черты лица (даже если на нем нет маски).
Мужчина велел ей не поднимать шум, потому что, если она разбудит детей, он заставит их смотреть на то, что он будет с ней делать. Он сбросил простыню и электрическое одеяло с кровати, задрал ей ночную рубашку и стал водить рукой по ее спине. Она попыталась убежать, завязалась борьба, и с тумбочки вдруг упал стакан.
Шум, видимо, разбудил сына женщины, и он позвал ее из коридора. Злодей направил пистолет на дверь, и мать, встав перед ним, умоляла его позволить ей успокоить сына. «У мужчины был пистолет, и я боялась за жизнь Натана», — рассказывала она. Незваный гость разрешил ей поговорить с сыном, который потом вернулся в свою комнату. После того как женщина закрыла дверь своей спальни, мужчина схватил ее, бросил на кровать и забрался на нее сверху. В этот момент ее позвала дочь.
П р о к у р о р. Как отреагировал преступник на крик Джанет?
С а л л и Б л э к в е л л. Он очень сильно занервничал. Он был рядом со мной, и я почувствовала, что он начал тяжело дышать. Его речь стала менее внятной, и он сказал: «Что ж, просто придется собрать здесь вас всех вместе».
Они пошли по коридору в комнату сына. Мужчина в маске включил свет, навел пистолет на мальчика, а затем приставил его к голове женщины. «Не делай глупостей, — сказал он, — иначе я ей мозги вышибу». Они пошли в комнату девушки, мужчина приказал ей встать с постели, и потом они все вчетвером вернулись в спальню, причем мужчина все еще держал пистолет у головы женщины. Он приказал матери и ее детям лечь поперек кровати, связал им руки за спиной, завязал глаза, а затем начал попеременно насиловать мать и дочь.
Я уже третий раз читала эту стенограмму с подробным описанием изнасилования, но по-прежнему содрогалась от ужаса, скрытого в этих черных буквах на страницах из тонкой белой бумаги. Я открыла страницу 18, там, где потерпевшую спрашивали о завязанных глазах. Она сказала, что преступник завязал им глаза узкими полосками ткани, которые постоянно соскальзывали. Поэтому насильник несколько раз останавливался, чтобы снова завязать глаза жертвам. Был момент, когда она сказала, что видела этого мужчину без маски, когда он насиловал ее дочь. Прокурор спросил, действительно ли она видела в это время его лицо.
С а л л и Б л э к в е л л. Да. Я видела белого мужчину, смуглого, с темнокаштановыми вьющимися волосами, усами и довольно густыми темными бровями. Я видела его совершенно ясно и концентрировалась на том, что вижу, и, когда смотрела на него, я поняла, что знаю, кто этот мужчина.
П р о к у р о р. Этот человек сегодня присутствует в зале суда?
С а л л и Б л э к в е л л. Да, конечно, присутствует.
П р о к у р о р. Не могли бы вы указать на него, пожалуйста, под протокол?
С а л л и Б л э к в е л л. Да, он сидит в первом ряду, в коричневом костюме и очках.
Я взглянула на часы. Скоро полночь, а мне еще нужно поработать. Я вновь надела очки, сделала глубокий вдох и посмотрела на свои заметки.
Согласно показаниям Салли Блэквелл, она находилась в одной комнате с насильником почти два часа. Почти столько же времени в комнате вместе с ним находились ее дети. Все они под присягой заявили, что насильником был Кларенс фон Уильямс. И все же, все же, все же…
Я открыла страницу 55 стенограммы — перекрестный допрос Салли Блэквелл адвокатом Луисом Дугасом, который разговаривал с ней мягко и бережно (агрессивное поведение по отношению к потерпевшим не добавляет вам сторонников в зале суда).
Д у г а с. Итак, вашей первой эмоцией, когда вы проснулись и поняли, что это не член вашей семьи, был ужас?
С а л л и Б л э к в е л л. Ужас, настоящий ужас!
Д у г а с. А какова была вторая эмоция?
С а л л и Б л э к в е л л. Наверное, еще более сильный ужас, страх и ужас. я должна сказать, что моими эмоциями тогда были страх и еще раз страх и ужас.
«Ужас, настоящий ужас… страх и еще раз страх и ужас». Многие ошибочно считают, что в условиях сильного стресса подробности события намертво «штампуются» в памяти человека. Верно то, что человек часто вспоминает экстраординарные события; однако стресс пагубно сказывается на умственной деятельности, и способность воспринимать и запоминать информацию ухудшается. И хотя человек то и дело вспоминает данное событие, при этом также вспоминаются ошибочные и неточные детали, которые тоже «впечатываются» в память человека. Чем чаще событие воспроизводится по памяти, тем больше человек убеждается в своей правоте, в том, что его воспоминания являются абсолютной и однозначной истиной.
Иными словами, в моменты, когда человека пронзает молния ужаса, его мозг просто не способен хорошо функционировать, работа нейромедиаторов нарушается, электрические сигналы заглушаются, ячейки памяти дают сбой. Защите следует делать акцент на том, что Салли Блэквелл была настолько напугана, а ее мозг настолько оцепенел от ужаса, что она просто не могла вспомнить детали того, что с ней случилось.
В протоколе судебного заседания было также указано, что Салли Блэквелл сказала Дугасу, что она точно знает, кто ее изнасиловал. Она пришла к этому выводу в понедельник утром, всего через несколько часов после изнасилования. В 8 утра она позвонила Лоис Уильямс, своей коллеге, чтобы сказать, что она сегодня не придет на работу. Но Лоис тоже была не на работе, поэтому Салли позвонила ей домой. Женщины разговаривали несколько минут. Примерно через два часа друг Салли настоял на том, чтобы она вспомнила имя изнасиловавшего ее мужчины. Он повторял ей это снова и снова, полагая, что это действительно был человек, которого она знала, раз насильник так внимательно следил за тем, чтобы она не увидела его лицо.
С а л л и Б л э к в е л л. Боб настаивал: «Это должен быть кто-то, кого ты знаешь. Ты видела его где-то по соседству, ты его видела раньше. Подумай, где ты его видела. Может быть, в продуктовом магазине, или в церкви, или еще где-нибудь. Может быть, на какой-нибудь вечеринке.» Когда он произнес слово «вечеринка», вместе с лицом насильника у меня вдруг мелькнуло имя. Я поняла, какое имя связано с этим лицом.
Кларенс фон Уильямс — вот какое имя возникло у нее в мозгу, когда ее друг произнес слово «вечеринка». Несколько недель назад Салли и ее друг подхватили Лоис и Кларенса фон Уильямса и все вместе поехали на званый обед, где обе пары провели вместе несколько часов. Женщины были подругами, но мужа Лоис, которого ей представили просто «фон», Салли увидела впервые.
Я закрыла глаза и сосредоточилась, пытаясь представить себе ход мыслей Салли Блэквелл. Насильник, утверждала Салли, очень беспокоился о том, чтобы она не увидела его лицо. Она решила, что он боялся этого потому, что если она увидит его лицо, то опознает его, поскольку видела его раньше. Чем больше она думала об этом, тем больше утверждалась в своем мнении. Она вообразила, что должна знать его. Но это не был человек, которого она знала хорошо; это должен быть просто знакомый, с кем она встречалась только один или два раза.
Через несколько часов после изнасилования она разговаривала с Лоис Уильямс. Наверное, это был эмоциональный разговор. Может быть, Лоис Уильямс упомянула о том, что ее муж пил до трех или до четырех утра, и именно по этой причине она в тот день не вышла на работу. Может быть, это случайное замечание и внедрило роковую мысль в голову Салли Блэквелл?
Через час к делу подключился друг потерпевшей. «Это должен быть кто-то, кого ты знаешь, — сказал он. — Просто подумай… ты видела его где-то, например на вечеринке.»
Разрозненные факты хаотично кружились в голове Салли, кружились все быстрее, набирая скорость и энергию и превращаясь в некую завихренную массу .Насильник — я должна его знать. Лоис Уильямс — знакомая.Подумай — ты с ним где-то встречалась. Подумай — вечеринка. Лоис Уильямс. Вечеринка. Муж Лоис Уильямс. И вдруг в ее мозгу всплывает лицо фон Уильямса, подобно тому как при проявлении фотографии на ней из ровного серого фона постепенно возникает изображение. Его лицо вроде бы соответствует чертам лица насильника, которые она помнит. Это он, думает Салли, видя лицо фон Уильямса внутренним зрением и накладывая его на сохранившийся в памяти образ человека, который ее изнасиловал. А черты лица постепенно становятся все яснее и отчетливее. Вот человек, который изнасиловал меня.
Возможно, это так и есть, Кларенс фон Уильямс мог быть тем самым насильником. Но при ее подавленном состоянии, когда ее вынуждали назвать хоть кого-нибудь, кого можно было бы обвинить в этом ужасном преступлении, соответствующие ассоциации могли сформироваться и закрепиться под влиянием страха, боли и желания поскорее покончить со всем этим, перестать думать об этом, найти ответ, необходимое решение.
Я размышляла. появилось бы лицо Кларенса фон Уильямса в воображении потерпевшей, если бы она не позвонила его жене в то же утро? Была бы она уверена в том, что знает насильника, если бы ее друг не сказал ей: «Ты видела его где-то. может быть, на вечеринке.» А если бы он вообще не произнес слово «вечеринка»?
Я не знала, изнасиловал ли фон Уильямс Салли Блэквелл или нет. Этого вообще никто не знал, конечно, кроме самого Уильямса. И возможно, еще одного человека. Если Уильямс не насильник, значит, этот человек бродит где-то вокруг и может еще кого-нибудь изнасиловать.
* * *
Следующее утро, 22 января 1981 года, выдалось ясным и прекрасным. Я быстро приняла душ, оделась и спустилась на лифте в кофейню. Я заказала чашку кофе с пшеничным тостом и вытащила из кейса свои заметки. Кофе мне принесли примерно к тому моменту, когда Луис Дугас выдвинул стул и уселся напротив меня.
— Бессознательный перенос, — сказал он, даже не поздоровавшись. — Все внимание на оружии. Сильнейший стресс.
Я рассмеялась: Дугас казался таким самоуверенным и энергичным.
— Она чрезвычайно уверенный в себе свидетель, Луис, — сказала я. — Она совершенно убеждена, что именно фон Уильямс — это тот мужчина, который изнасиловал ее и ее дочь. Она снова и снова повторяет: «Я знаю, что я видела своим мысленным взором».
Дугас кивнул и вздохнул:
— Но ваши исследования убедительно показывают, что уверенность и точность не всегда связаны между собой.
— Верно, — ответила я. — Но проблема в том, что это очень трудно объяснить присяжным, ибо они видят, как свидетельница указывает пальцем на обвиняемого и, несмотря на угрозу наказания за лжесвидетельство, заявляет, что именно этот мужчина изнасиловал ее.
Я изменила тему и перешла на отмеченную мной страницу в конце стенограммы опознания.
— В ходе перекрестного допроса вы задали очень удачный вопрос, — сказала я и прочитала маленький отрывок стенограммы: «… испытывали сильный ужас, вы не забыли это, не так ли?» — спросили вы свидетельницу. И она ответила: «Вы прилагаете огромные усилия, чтобы попытаться приглушить это, отгородиться от этого, насколько это возможно, чтобы можно было как-то жить дальше». Эта цитата прямо относится к памяти.
— Скажите мне, — сказал Дугас, перегнувшись вперед через стол, — что же произошло в данном случае? Вы считаете, она была настолько травмирована изнасилованием, что из ее памяти стерлись важные детали?
Я на мгновение задумалась.
— Невозможно точно знать, что происходило в ее голове. Я могу только сделать общие выводы из ее показаний и известных обстоятельств дела. В комнате было темно. Мужчина был в маске. У него был пистолет, который он неоднократно подносил к ее голове, угрожая ей. Она боялась за свою жизнь и за жизнь своих детей. Все эти факторы могли повлиять на точность воспоминаний, которые хранились в ее мозгу. Но прочитав стенограммы и полицейские отчеты, я пришла к выводу, что главная проблема с ее памятью, возможно, возникла на этапе поиска. У нее было тусклое, размытое воспоминание о насильнике, которое возникло всего несколько часов спустя, и у нее было еще одно воспоминание — о Кларенсе фон Уильямсе, которое возникло несколько недель спустя. Возможно, что эти два воспоминания перепутались, перемешались под воздействием стресса, страха и постоянного, настойчивого требования друга подумать и вспомнить имя насильника.
Я сделала глоток кофе и поспешно откусила кусочек тоста.
— Очень похожий случай, — сказала я, — произошел в Австралии. Как-то по местному телевидению выступал психолог. И прямо во время своего краткого пребывания в эфире он был арестован и обвинен в изнасиловании, а потерпевшая сразу же и уверенно опознала его. Обвиняемый потребовал от полиции подробные сведения об изнасиловании и выяснил, что оно произошло как раз в то время, когда его показывали по телевидению. Дальнейшее расследование по этому делу показало, что женщина была изнасилована во время просмотра телевизионной программы и что, по-видимому, телевизионный образ наложился у нее на воспоминание о насильнике.
— Какая странная история, — сказал Дугас, покачивая головой.
— Если Уильямс невиновен, то его история почти такая же странная, — заметила я. — Скажите мне, Луис, что говорят ваш опыт и интуиция в отношении Уильямса? Как вы думаете, он изнасиловал эту женщину и ее дочь или не он?
— Я убежден, что он невиновен, — ответил он. — Вы, наверное, постоянно слышите это от адвокатов, но я всеми фибрами ощущаю, что Уильямс не совершал это преступление. Нет никаких вещественных доказательств, которые связывали бы его с этими изнасилованиями: ни волос, ни отпечатков пальцев, ни следов спермы или ниток от одежды. Если бы этот человек находился в доме почти два часа, как свидетельствует потерпевшая, он, конечно, оставил бы какие-то следы. У него нет судимостей. Это добрый, мягкий человек, который находится в полном смятении, он совершенно раздавлен этим обвинением. Я наблюдал за ним, его женой и детьми, и я просто не могу представить себе, чтобы этот человек мог изнасиловать мать и дочь Блэквелл.
Я с минуту раздумывала над словами Дугаса, рисуя пальцем круги на виниловой скатерти.
— Вы знаете, адвокат однажды сказал мне, что на самом деле нельзя определить, виноват мужчина в изнасиловании или нет. Он утверждает, что это единственное преступление, которое нельзя «считать» с лица человека.
Дугас слегка улыбнулся.
— Да, пожалуй, я согласился бы с этим. Но в данном случае у меня есть четкое ощущение. Я верю ему.
— Почему? — спросила я, исподволь подталкивая его к одной из моих любимых тем.
— Сначала вы берете факты, а они никак не складываются. Вы их взвешиваете, измеряете, выворачиваете наизнанку, и все же они никак не складываются в слово «виновен». Потом у вас возникает ощущение. Я каждый день работаю с такими подсудимыми, и большинство из них виновны. При отсутствии доказательств, достаточных для того, чтобы хотя бы предположить виновность, дело просто не дойдет до суда, и почти все эти подсудимые наверняка виновны. Но иногда встречаются личности, которые как-то не вписываются в эту категорию. Пусть он выглядит как виновный, ведет себя как виновный, да и свидетель утверждает, что именно этот человек совершил преступление, но в глубине души ты просто не веришь, что это сделал он. Вот так я отношусь к Уильямсу. Это чистой воды интуиция, но я считаю, что он невиновен.
* * *
В здании суда округа Ориндж царил хаос. На ступеньках лестницы, ведущей в здание, столпилось множество людей, пытавшихся протиснуться в зал суда. Репортеры и фотографы стояли, прижавшись локоть к локтю к седым старушкам и матерям, державшим младенцев с сосками.
Мы протиснулись сквозь толпу в коридор, откуда Дугас направился в зал суда, а я села на скамейку напротив закрытых дверей с надписью «Свидетели не допускаются». Я наблюдала за прогуливавшимися людьми, которые посматривали на часы в ожидании начала шоу.
В 9:15 двери открылись, и Дугас провел меня в зал суда. Я спустилась по короткому проходу через невысокие, на уровне пояса, вращающиеся дверцы, отделяющие зрителей от судьи и присяжных, и остановилась перед свидетельской трибуной, где меня ждал судебный клерк.
— Вы клянетесь, что показания, которые вы дадите, будут правдой, только правдой и ничем кроме правды? И да поможет вам Бог.
— Да, — ответила я.
Я заняла свое место на свидетельской трибуне и посмотрела на переполненный зал, в котором стояла такая тишина, что было слышно, как скрипит перо прокурора по листку в его желтом блокноте. Притихший зал суда всегда напоминает мне церковь за несколько минут до начала службы. Тот же пыльный, не циркулирующий воздух с витающими в нем запахами одеколона и дезодоранта и печать добродетели на лицах зрителей.
Тогда я в первый раз увидела Кларенса фон Уильямса. Это был симпатичный смуглый мужчина с темными вьющимися волосами длиной до воротника и глазами, прикрытыми тяжелыми веками. На верхней губе густые усы, кончики которых по углам резко спускались вниз.
Я вспомнила первоначальное описание, которое Салли Блэквелл выдала полиции. «Белый мужчина с очень темными, темно-каштановыми или даже черными волосами; волосы густые, вьющиеся; усы; широкие темные брови; вес 80—90 кг». В целом Уильямс подходил под это описание, за исключением того, что весил он чуть больше 70 кг. И еще одно интересное несоответствие: прежде чем Салли Блэквелл вспомнила лицо Кларенса фон Уильямса как лицо насильника, она сказала полиции, что напавшему на нее было примерно двадцать лет. Уильямсу было сорок два.
Луис Дугас подошел к свидетельской трибуне и задал стандартные предварительные вопросы, позволяющие определить мой опыт и квалификацию. Затем он попросил меня объяснить присяжным, как работает человеческая память. Я рассказала суду об основных этапах ее работы: восприятии, хранении и извлечении информации.
— Важно отметить, — заключила я, — что на каждом из этих трех этапов действуют факторы, влияющие на качество памяти.
— Какие факторы могут влиять на память? — спросил Дугас.
— Одним из важнейших факторов, когда речь идет о криминальной ситуации, является интенсивность стресса, который испытывает человек.
Я повернулась к судье:
— Если вы не возражаете, ваша честь, я воспользуюсь доской, на которой покажу все наглядно.
— Конечно, — разрешил судья.
Я подошла к доске, расположенной напротив скамьи присяжных, и мелом начертила на ней перевернутую U-образную фигуру, изображающую зависимость между стрессом и памятью, известную психологам как закон Йеркса — Додсона.
— Повторим еще раз главное, — сказала я, указывая на правую часть кривой, — высокие уровни возбуждения или стресса резко понижают нашу способность обрабатывать информацию и хранить ее в памяти. Многие люди ошибочно полагают, что мощный стресс усиливает память, и это ошибочное представление как раз и зафиксировано в заявлении: «О боже, я так испугалась, что никогда не забуду это лицо!» На самом деле сильный стресс может лишь ослабить память.
Я рассказала об исследовании, которое моя лаборатория в Вашингтонском университете провела в 1977-1978 годах. В нем участвовали более пятисот человек (все — студенты, имеющие право голоса), и мы опрашивали их, чтобы выяснить, что они знают о факторах, влияющих на показания свидетелей. Когда их спросили о влиянии экстремального стресса и возбуждения на способность обрабатывать информацию, оказалось, что треть участников эксперимента не считает, что экстремальный стресс негативно влияет на способность запоминать и вспоминать подробности того или иного события. Особенно пикантным оказалось то, что 18 % испытуемых считали, что при сильном стрессе способность вспомнить детали события улучшается, а способность воспринимать детали ухудшается. Интересно, каким образом можно извлечь из памяти точную информацию, если изначально в память попадает неточная информация?
Я вернулась на свидетельскую трибуну и заняла свое место.
— Является ли наличие оружия фактором, который влияет на точность опознания преступника свидетелем? — спросил Дугас.
— Да, — ответила я. — Мы называем этот фактор «концентрацией внимания на оружии». Если при совершении преступления используется оружие, свидетели чаще всего склонны (очень склонны!) смотреть на это оружие. Это отнимает время и ухудшает обработку информации о других аспектах ситуации, то есть ухудшает способность запоминать другие детали, в том числе и детали лица человека, держащего оружие.
— Расскажите, что происходит с человеком, когда на него направлен пистолет? — спросил Дугас. — Как изменяется впоследствии способность идентифицировать этого человека?
Я рассказала об известном эксперименте, проведенном в Университете штата Оклахома, в котором 49 % испытуемых правильно идентифицировали человека с предметом, который не являлся оружием, но человека с оружием правильно идентифицировали только 33 % испытуемых. Я также рассказала об эксперименте, который мы с мужем провели в Вашингтонском университете.
— В нашей лаборатории мы изучали явление концентрации внимания на оружии с помощью аппарата для записи движения глаз. Участники этого эксперимента имели дело с двумя разными версиями грабежа. В первом случае грабитель направил пистолет на кассира. Во втором случае грабитель передал кассиру чек. У нас есть устройство, которое позволяет следить за движением глаз даже в таких сложных ситуациях и точно определять, куда направлен взгляд человека. Вы можете этого не знать, но, когда человек оказывается в сложной ситуации, его взгляд перемещается по всей панораме дискретно, с последовательной фиксацией в разных точках. Продолжительность фиксации в каждой точке — около трети секунды, затем взгляд перемещается в новую точку, потом в следующую и так далее. С помощью светового пятна мы могли точно определять, на чем фиксируется взгляд, и выяснилось, что он чаще фиксируется на пистолете, чем на предметах, не являющихся оружием, и соответственно снижается способность запоминать иные детали, кроме оружия. В этом и состоит феномен концентрации внимания на оружии. Именно оружие привлекает наше внимание. И противостоять этому очень трудно.
— Доктор Лофтус, — сказал Дугас, который вернулся за стол защиты и заглянул в свои записи, — не могли бы вы рассказать суду об исследованиях, проводившихся с целью определения влияния маскировки на способность распознавать лица?
Закон Йеркса — Додсона
Насильник был в маске, и Дугас надеялся убедить суд, что маска могла сбить свидетельницу с толку. Я быстро посмотрела на Уильямса, который носил очки. Я не могла припомнить, чтобы в полицейских отчетах или в стенограмме фигурировали очки. Уильямсу действительно необходимы очки, подумала я, или это маскировка? Я вспомнила, что Тед Банди за время судебного процесса несколько раз менял прическу. Иногда он переодевался во время обеденного перерыва, поэтому судья Хэнсон называл его оборотнем. Актером-трансформатором, по словам его биографа Винсента Буглиози, был также Чарлз Мэнсон. Буглиози утверждал, что даже небольшие изменения в настроении Мэнсона могли кардинально изменять его облик.
Я вернулась мыслями к рассматриваемому делу и рассказала об оригинальном исследовательском проекте, связанном с изменением внешности людей, описанном в 1977 году тремя британскими психологами. Участников эксперимента разделили на две группы, и одна группа проходила курс обучения, целью которого было улучшение способности распознавать лица. В первом эксперименте испытуемым показывали двадцать четыре фотографии людей в различных позах, с разными выражениями лиц, с разными прическами и дополнительными внешними элементами, изменяющими внешность, такими как борода, усы или очки. Двадцать четыре лица показывались последовательно, каждое в течение десяти секунд. Всем испытуемым настоятельно предлагалось «очень внимательно вглядеться» в каждую фотографию, потому что потом их попросят вспомнить лица, которые они видели. Их также предупредили, что некоторые лица могут снова появиться уже в измененном виде. Примерно через пятнадцать минут после показа первого набора фотографий была показана более широкая подборка — из семидесяти двух лиц. Для каждого из них участник эксперимента должен был указать, новое это лицо или то, которое он уже видел раньше.
Через три дня испытуемых снова протестировали на способность распознавать ранее виденные лица. Результаты оказались поразительными: в обеих группах изменение обликов ранее уже виденных людей очень сильно повлияло на вероятность их повторного опознания. Если лицо человека внешне не изменялось, то узнавание шло весьма эффективно: примерно в 80-90 % случаев испытуемый узнавал лицо, которое он действительно видел раньше. Но если выражение лица или ракурс изменялись, вероятность опознания снижалась до 60-70 %, а если облик изменялся с помощью дополнительных элементов, она становилась совсем низкой — около 30 %. Сравнение результативности для двух групп испытуемых не обнаружило никаких свидетельств того, что вышеуказанный учебный курс хоть в какой-то мере помог людям эффективнее запоминать лица.
Следующий вопрос Дугаса касался проблемы ошибочного опознания, спровоцированного показом фотографий:
— Может ли показ свидетелю подборки фотографий повлиять на последующую идентификацию?
— Да, — ответила я и объяснила, как в большинстве случаев действует полиция, если после совершения преступления у нее есть реальный свидетель.
Сначала свидетелю показывают подборку фотографий, и если он узнает преступника, то дальше обычно следует личное опознание подозреваемого в представленной ему группе лиц (линейке). В целом вся эта процедура имеет серьезные недостатки, ибо почти всегда только один человек фигурирует и в подборке фотографий, и в группе (линейке) для опознания «вживую», и вероятность того, что свидетель идентифицирует в линейке кого-либо другого, кроме человека, фотографию которого он выбрал из подборки, крайне мала. В подобных ситуациях вероятность ошибочной идентификации резко возрастает, и психологи называют это ошибочным опознанием под влиянием фотографий.
Поскольку большинству непрофессионалов эта концепция не очень понятна, я решила подробно рассказать суду об эксперименте, проведенном в Университете штата Небраска в 1977 году. Участников эксперимента просили внимательно рассмотреть «преступников», потому что вечером им придется опознавать их по полицейским фотографиям, а потом, на следующей неделе, опознавать их в реальной группе лиц. Через полтора часа испытуемые просмотрели пятнадцать фото, среди которых были фото «преступников». Спустя неделю было составлено несколько реальных групп (линеек), и испытуемым предложили указать, является ли кто-либо из присутствующих «преступником».
Результаты опять оказались потрясающими: в группе, состоявшей из лиц, которых испытуемые никогда не видели раньше, оказалось лишь 8 % ошибочно «опознанных» в качестве преступников. Однако если ранее они видели фотографии данного человека, то вероятность его ошибочного опознания в качестве преступника возрастала до 20 %. Эти люди не совершали преступлений, и испытуемые не видели их в лицо раньше, но сейчас их «опознали» в группе, потому что раньше видели их фотографии.
— Теперь вы можете понять, что имеет место в нашем случае, — продолжала я. — Фотография может оставить отчетливое воспоминание, обеспечивающее возможность последующего узнавания лица, поэтому, когда этого человека впоследствии видишь лично, он или она уже кажутся знакомыми. Но это узнавание связано с фотографией человека, а не с тем, что вы раньше видели его лично. В этом и заключается опасность использования фотографической линейки.
— Может ли состав линейки повлиять на результат опознания?
— Да, может. Очень важно максимально беспристрастно составить фотографическую линейку после фактического происшествия. Это означает, что, если человеку, не имеющему никакого отношения к происшествию, дать описание подозреваемого, то, увидев реальную группу из шести разных людей, теоретически он должен опознать подозреваемого только с вероятностью, равной 1/6. То есть люди в группе должны быть достаточно похожи друг на друга. Тогда можно считать, что группа подобрана правильно, беспристрастно и не имеет наводящих аспектов.
— У меня две фотографические линейки, — сказал Дугас. — Одна из них — это доказательственный материал штата № 3; другая — доказательственный материал обвиняемого № 2. Не могли бы вы оценить доказательственный материал штата № 3?
Дугас передал мне подборку из шести поясных фотографий шести разных мужчин.
— Считаете ли вы, что эта фотографическая линейка необъективна?
Прокурор вскочил на ноги, выкрикивая возражения.
— Я считаю, что вопрос о том, беспристрастно ли подобрана линейка, относится исключительно к компетенции присяжных, — сказал он, размахивая пальцем. — Этот вопрос решают присяжные. Мне неизвестна такая наука, которая позволяет давать юридически значимое заключение о том, соответствует состав линейки юридической проверке на внушаемость или нет.
— Протест отклонен, — объявил судья.
Прокурор ответил:
— Хорошо, ваша честь.
Я продолжила свои замечания общего порядка.
— При изучении фотографических линеек, что мне приходилось делать много раз, я сравниваю людей в фотографических линейках с описаниями, которые первоначально дают свидетели.
— Предположим, что нужно опознать человека ростом около 180 см, — сказал Дугас, — весом от 80 до 90 кг, с вьющимися темными волосами до воротника и с усами (разумеется, это было описание, данное Салли Блэквелл полиции через несколько часов после изнасилования).
— Недостаток данной подборки фотографий состоит в том, что в ней присутствуют люди, которых нужно удалить сразу, потому что они ни в коей мере не соответствуют этому описанию. Например, нужно исключить человека под номером 6, потому что волосы у него не темные и не вьющиеся, а светлые и прямые, то есть совсем не подходят под имеющееся описание. Аналогично, у человека под номером 5 волосы слишком короткие. У этой подборки есть и другие недостатки, например, человек под номером 1 снят в профиль, в то время как все остальные — анфас. Я могла бы подробно проанализировать эту фотографическую линейку и, скорее всего, пришла бы к выводу, что некоторые фото из нее нужно удалить как не соответствующие описанию.
— Доктор Лофтус, — понизил голос Дугас, чтобы подчеркнуть важность следующего вопроса. — Предположим, что некто видел какого-то человека, а потом извлекает из памяти его имя; вы проводили исследования в этой области?
Дугас имел в виду внезапное появление лица Кларенса фон Уильямса в памяти Салли Блэквелл и ее автоматическое предположение, что это и есть лицо насильника.
— Если с человеком случается страшное событие, — сказала я, — а потом ему приходит на ум конкретное имя или образ конкретного человека, то существует определенная вероятность того, что участник события поверит, что человек, которого он вспомнил, — это именно тот, кто является виновником этого страшного события, хотя на самом деле он может не иметь к этому никакого отношения.
— Вы изучали случаи такого типа, и мне известно, что у вас есть специальное исследование по бессознательному переносу. Имеет ли здесь место бессознательный перенос?
— Да, это может быть вариант бессознательного переноса, — ответила я. — Бессознательный перенос — это ошибочное воспоминание или ошибочное отождествление человека, которого видели в одной ситуации, с человеком, которого тоже видели, но в другой ситуации. Но в данном деле имеет место встраивание образа человека, виденного в некоей ситуации, в совершенно другую ситуацию. И очень важно это отметить. Многие люди не представляют себе, насколько легко совершается бессознательный перенос, то есть насколько легко наш мозг соединяет человека, которого мы видели в некоем контексте, с воспоминанием о другом событии, происшедшем совсем в другое время и в другом месте.
Дугас кивнул и взглянул на присяжных. Он хотел, чтобы они осознали и учли эту информацию.
— У меня последний вопрос, — сказал он через мгновение. — Когда люди попадают в чрезвычайную ситуацию, они потом говорят, как долго она длилась: столько-то секунд, столько-то минут или часов. Можно ли считать, что при этом свидетели тоже склонны преувеличивать свои способности, как и в ситуации с опознанием преступника?
— Одним из наиболее обоснованных общих выводов, касающихся работы с очевидцами, является то, что люди всегда преувеличивают длительность необычного события, — ответила я. — Мы показывали людям имитацию ограбления банка, которое длилось полминуты, но они говорили, что ограбление длилось пять, восемь или даже десять минут. В другом эксперименте людям показывали событие, которое длилось четыре минуты, но они оценили его длительность в десять минут, а некоторые даже в двадцать. Наша память имеет явно выраженную склонность к преувеличению длительности сложных и стрессовых событий; людям почти всегда кажется, что событие длилось дольше, чем это было на самом деле.
— Если человек испытывает сильный страх перед причинением ему телесных повреждений, — продолжал Дугас, — влияет ли это на его восприятие или на способность к опознанию?
— Да, эти способности сильно зависят от фактора стресса, о котором мы говорили. Страх получить телесные повреждения — это сильнейший вид стресса, или, иначе говоря, страх может вызвать сильнейший стресс.
— Влияет ли это или может ли это повлиять на опознание подозреваемого свидетелем?
— Это сильно влияет на качество хранящейся в памяти информации, а также на то, что попадает в память именно в момент события. Если вы восприняли неточную информацию, то потом при попытке вспомнить вы и вызовете из памяти неточную информацию.
— Я отпускаю свидетеля, — сказал мистер Дугас.
— У меня нет вопросов, — сказал прокурор.
Это меня удивило, и по выражению лица Дугаса я поняла, что он тоже озадачен. Не так часто случается, что прокурор не пользуется возможностью нанести мне несколько ударов, но иногда, особенно когда дело полностью держится на показаниях свидетелей, юрист может почувствовать, что спор с экспертом в области, в которой эксперт разбирается гораздо лучше, может завести слишком далеко. Возможно, сказав «у меня нет вопросов», он пытался донести до присяжных мысль, что меня не стоит допрашивать, что он не хочет уделять так называемому эксперту свое время.
— Хорошо, вы можете идти, — сообщил мне судья.
Я быстро взглянула на часы. На свидетельской трибуне я провела всего час, а показалось — часа четыре. Мой самолет улетал через несколько часов, поэтому я направилась в заднюю часть зала суда и заняла место в последнем ряду. Следующим свидетелем была Лоис Уильямс. Я видела, как она провела руками по телу вниз, разглаживая платье, прошла по проходу к секретарю, подняла руку, сказала «я готова» и села на свидетельскую скамью.
Дугас спросил ее о том, где она была в ночь изнасилования, может ли она указать точное время возвращения мужа домой, каким образом она узнала о его возвращении, в котором часу это было, есть ли в спальне часы, обсуждали ли они его позднее возвращение, и так далее, и тому подобное.
Она отвечала короткими жесткими фразами. Вопросы и ответы блуждали вокруг правды, но где на самом деле была правда? Можно ли было локализовать, понять и конкретизировать ее?
Я задалась вопросом, о чем думает Лоис Уильямс, сидя на скамье и глядя на мужа, сидящего за столом защиты. Были ли у нее какие-то сомнения, какие-то мысли о его виновности? Или невиновности? Я вспомнила, что в стенограмме предварительных слушаний говорилось о том, что в ночь изнасилования Уильямс пил в нескольких барах, вернулся домой около 4 утра, а изнасилование началось около 2:30 и закончилось где-то между 4:00 и 4:30 утра.
Насколько крепко спала Лоис Уильямс? Действительно ли она знала точное время возвращения мужа домой? Беспокоил ли ее тот факт, что муж где-то пьянствовал почти до рассвета? Я удивилась странному совпадению, что фон Уильямс в ту ночь выпивал в одиночку и что не было ни одного человека, который мог бы точно сказать, в какое время он ушел из бара и направился домой.
После ее показаний я по телефону-автомату, находившемуся в коридоре, вызвала такси, а затем вышла и стала ждать его. Было жарко и душно, воздух имел привкус пыли. Я сняла пиджак и взглянула на солнце, проглядывавшее сквозь туман в бледно-желтом февральском небе.
Так виновен или не виновен фон Уильямс? Я вспомнила, как он сидел за столом защиты, наклонившись вперед, плотно сложив руки большими пальцами вверх, согнув и прижимая их друг к дружке. Как подсудимый переносит давление этой юридической инквизиции? Даже виновному человеку возникающее напряжение должно казаться невыносимым. Он пытается угадать: «Смогут ли они уличить меня? Что они со мной сделают? Как я буду выживать в тюрьме? Смогу ли я вынести расставание с женой и детьми?»
А если он невиновен… Каково ему тогда сидеть там и ощущать холодные взгляды людей, которые изначально считают его виноватым? Каково это — вынужденно наблюдать страдания потерпевших и знать, что твое лицо присутствует в их кошмарах, лицо, которое они ненавидят? Каково это — беспомощно наблюдать за тем, как твою жизнь рубят под корень? Каково с внезапной силой и ясностью осознать, что никто уже не поверит тебе в этом деле, потому что эти люди для себя все уже решили.
Ты виновен, потому что тебя обвинили!
* * *
В тот же день вечером я улетела в Сиэтл и снова погрузилась в работу. В моем кабинете толпились студенты, коллеги подбрасывали мне доклады разных комиссий, секретари передавали пачки телефонных сообщений. Снова окунувшись в суматоху дел, я старалась поменьше думать о Кларенсе фон Уильямсе.
В начале марта, примерно через две недели после того, как я дала показания в суде, я получила от Луиса Дугаса письмо и несколько газетных вырезок. «Голоса присяжных разделились 9 к 3, — писал Дугас, — и те трое, которые проголосовали против осуждения, сказали, что сделали это, исходя из ваших показаний». Beaumont Enterprise представила факты, как это иногда делают газеты, невыразительно и сухо:
Присяжные не пришли к единому мнению по делу об изнасиловании в округе Ориндж
Во вторник присяжные не пришли к единому мнению в деле Кларенса фон Уильямса, обвиняемого в изнасиловании женщины и ее дочери в Бридж-Сити. Девять присяжных проголосовали за то, чтобы признать Уильямса виновным, а трое за то, чтобы признать его невиновным. В понедельник вечером присяжные собрались без посторонних в гостинице округа Ориндж и совещались более 12 часов, но вынести вердикт так и не смогли.
Все шесть дней, пока шло судебное разбирательство по делу Уильямса, зал суда был битком набит зрителями. В понедельник в 22:30, когда было объявлено, что присяжные удаляются на совещание, зрители все еще толпились в коридорах здания суда, причем многие из них находились здесь с самого утра.
В пятницу известный на общенациональном уровне эксперт по проблемам памяти дал показания, представив веские доводы и поставив под сомнение достоверность показаний свидетелей.
В понедельник вечером присяжные собрались без посторонних в гостинице округа Ориндж и совещались более 12 часов, но вынести вердикт так и не смогли.
Все шесть дней, пока шло судебное разбирательство по делу Уильямса, зал суда был битком набит зрителями. В понедельник в 22:30, когда было объявлено, что присяжные удаляются на совещание, зрители все еще толпились в коридорах здания суда, причем многие из них находились здесь с самого утра.
В пятницу известный на общенациональном уровне эксперт по проблемам памяти дал показания, представив веские доводы и поставив под сомнение достоверность показаний свидетелей.
Я поморщилась. Термин «эксперт по проблемам памяти» заставил меня вспомнить прежних странствующих лекарей, торговавших вразнос секретными лекарствами от всех болезней, от простуды до мозолей.
Прочитав несколько разных статей, я поняла, что прокуратура намерена возобновить дело.
Когда дело будет возобновлено, штат будет судиться с фон Уильямсом по тому же обвинению в изнасиловании при отягчающих обстоятельствах. Изнасилование при отягчающих обстоятельствах карается максимальным наказанием до 99 лет тюремного заключения и максимальным штрафом в размере 10 000 долларов.
Я положила это письмо и статьи в папку с наклейкой «Дугас» сверху. Адвокаты называют свои подборки документов именами клиентов, а я всегда называю свои папки именами людей, с которыми больше всего контактирую, то есть именами адвокатов. Я толкнула выдвижной ящик, и он закрылся, щелкнув, как положено.
Спустя семь месяцев, 9 октября 1981 года, я снова прилетела в Ориндж, Техас, чтобы дать показания на втором судебном процессе по делу фон Уильямса. Сильно уставший Луис Дугас встретил меня в аэропорту и протянул мне экземпляр утренней газеты. Заголовок статьи гласил: «Обвиняемый насильник в суде эмоционально отрицает изнасилование».
— Он сорвался, — сказал Дугас, покачивая головой и плотно сжимая губы. — Бедняга просто на пределе.
Я быстро прочла первые два абзаца статьи.
В четверг на повторном судебном разбирательстве по обвинению в изнасиловании матери и дочери в городе Бридж-Сити Кларенс фон Уильямс в эмоциональном порыве заявил, что ложные обвинения разрушили его жизнь.
— Я не делал этого… Я никогда не был в их [потерпевших] доме. То, что с ними случилось, ужасно, но меня карают на основании ложных обвинений.
Я потерял все, что у меня было.
В суде я увидела, что Уильямс заметно изменился. Его тело стало жестким, напряженным от гнева. Раньше, на первом судебном процессе, я видела человека с поникшими плечами, широко раскрытыми глазами, явно испуганного, но теперь страх, по-видимому, трансформировался в ярость. Страх замыкается в себе, он пожирает вашу душу. А ярость может быть направлена наружу, на других. Мне пришло в голову, что если фон Уильямс невиновен, то ярость ему просто необходима; возможно, она защитит его от страха и разочарования, которые в противном случае сожрут его живьем.
С трибуны я еще раз представила те же самые факты в той же беспристрастной профессиональной манере и через несколько часов уже летела обратно в Сиэтл. Помню, что это была пятница, потому что я с нетерпением дожидалась выходных, чтобы плотно работать с утра до вечера, не отвлекаясь на то и дело появляющихся студентов. В тот вечер мы с мужем Джеффом обедали в новом итальянском ресторане, и я рассказала ему о деле Уильямса.
— Ты думаешь, он невиновен? — спросил меня Джефф.
— Дугас считает, что он невиновен, — ответила я. — Я думаю, может быть, и невиновен.
Я вспомнила, как Дугас сказал мне однажды утром, за завтраком, прежде чем я дала показания: «Я занимаюсь адвокатской практикой уже двадцать пять лет. И за все это время у меня было два клиента, которые были вне всякого сомнения невиновны. Фон Уильямс — один из них».
Утром в понедельник, придя на работу, я обнаружила сообщение от Луиса Дугаса. «Фон Уильямс осужден, — писал он. — Приговорен к 50 годам. Мы подадим апелляцию».
— О господи! — громко простонала я.
Джеральдина, офис-менеджер факультета психологии, посмотрела на меня озабоченно:
— У вас все в порядке, Бет?
— Да. Да, спасибо, все нормально.
Я прошла по коридору, вставила ключ в дверь кабинета, швырнула портфель на пол, повесила плащ. Я открыла шкаф, засунула сообщение в папку «Дугас», закрыла ящик (отметив для себя положенный щелчок) и вздохнула. И посмотрела правде в глаза: я не ожидала вердикта о виновности. Трое присяжных, которые оправдали Уильямса в первом процессе, придали мне уверенность. Что могло случиться на втором процессе, если фон Уильямса признали виновным? Прокурор был более убедительным? Или мое выступление было менее убедительным? Может быть, Уильямс настроил присяжных против себя своими вспышками гнева?
Я представила себе Уильямса, сидящего за столом защиты, слушающего обвинительный приговор, а затем выходящего из зала суда между идущими рядом с ним конвоирами. Итак, Уильямс виновен в глазах закона. Он отправится в тюрьму. Он потерял свободу.
Но виновен ли он на самом деле? Я хлопнула рукой по закрытому ящику с документами. Так, Бет, перестань. Все кончено. Я понимала, что мне нужно выкинуть это дело из головы, убедить себя, что правосудие свершилось. Ну разве можно думать иначе? Двадцать четыре присяжных в двух отдельных судебных процессах выслушали описание всех фактов и мнения всех сторон. Двадцать четыре ума проанализировали свидетельские показания в поисках истины. Первое жюри присяжных не смогло прийти к единому мнению, но девять из двенадцати присяжных сочли Уильямса виновным. Теперь все двенадцать членов второго жюри признали подсудимого виновным. Двадцать один из двадцати четырех человек, рассмотрев все свидетельские показания по этому делу, сочли, что фон Уильямс виновен. Если я хочу остаться в здравом уме, то при таком раскладе мне не следует оспаривать принятое решение.
* * *
Два месяца спустя, 3 декабря 1981 года, я получила от Луиса Дугаса еще одно сообщение: «В 20:45 другой человек дал признательные показания. Фон Уильямс на свободе».
Я сразу же набрала номер Дугаса.
— Луис, что случилось? — закричала я в трубку, даже не представившись.
— Элизабет? Вы не поверите! Вы просто не поверите в это! — Дугас глубоко вздохнул, а потом рассмеялся. — Простите, я просто не могу сдерживать смех. Смеюсь и плачу.
Он рассказал мне о событиях предыдущей недели. Полиция штата Луизиана по наводке задержала тридцатилетнего Джона Симониса по подозрению в том, что он является печально известным «насильником в лыжной маске», изнасиловавшим десятки женщин в Луизиане и соседних штатах. В итоге Симонис признался в семидесяти семи преступлениях, совершенных в семи разных штатах, включая и те изнасилования, за которые был осужден Кларенс фон Уильямс.
— Они записали признания Симониса, — рассказывает Дугас. — Все его признания записаны на пленку. Прокуроры округа Ориндж просмотрели видеозапись и немедленно сняли обвинения против Уильямса. Это невероятно, просто невероятно!
Информационные агентства сразу же распространили информацию об этом необычном случае с неожиданным удачным концом. 6 декабря газета The Seattle Times опубликовала эту историю со ссылкой на Associated Press:
ОБВИНЯЕМОГО ЖДЕТ СВОБОДА, А НЕ ТЮРЬМА
Округ Ориндж, Техас (AP). 42-летний рабочий химического завода, приговоренный к 50 годам тюрьмы за изнасилование, выехал на волю на лимузине под приветственные возгласы друзей после того, как в этом преступлении признался другой человек.
«Я не хотел, чтобы меня признали невиновным, потому что тогда все бы считали, что мне просто удалось нанять хорошего адвоката, — сказал Кларенс фон Уильямс, когда в пятницу на специальном судебном заседании с него сняли обвинения. — Я хотел, чтобы его поймали и он признался. Я очень боялся, что его убьют… и никто никогда не узнает правды».
В этой заметке было еще несколько абзацев, но именно слова «и никто никогда не узнает» преследовали меня еще несколько недель. Действительно, в этом случае правду знал бы только один человек — Кларенс фон Уильямс. И сейчас, если бы полиции штата Луизиана не повезло и она не арестовала Симониса, он сидел бы в тюремной камере, смотрел на бетонные стены и тосковал по жене и детям. Я не могла представить себе более мучительное одиночество и более глубокое отчаяние, чем, сидя в тюрьме по ложному обвинению, знать правду и не иметь никакой возможности убедить в этом других.
Мне не хотелось думать о том, что происходит с душой человека, посаженного в тюремную камеру за преступление, которого он не совершал, проводящего в ней день за днем и в конце каждого дня в очередной раз понимающего, что впереди еще сотни дней, таких же, как тот, который он только что прожил.
* * *
В августе 1988 года, спустя более шести лет после объявления фон Уильямса невиновным и его освобождения, я выступала с речью перед несколькими сотнями адвокатов, собравшихся на симпозиум Северо-Западной юридической школы в Чикаго. После моего выступления ко мне подошел человек из аудитории, пожал мне руку и представился.
— Я был одним из прокуроров, участвовавших в деле Уильямса в Техасе в 1981 году, — сказал он. — У меня есть интересный постскриптум по этому делу, если у вас найдется немного времени.
Мы сидели в первом ряду в пустом лекционном зале, и он рассказал, что произошло в тот день, когда Салли Блэквелл и ее двое детей пришли в окружную прокуратуру, чтобы посмотреть видеозапись признания Симониса.
— В тот момент они не знали, что Симонис признался, — сказал прокурор. — Мы провели их в небольшую комнату, выключили свет и включили видеокассету. Через несколько минут двое детей-подростков посмотрели на мать. По выражениям их лиц было ясно, что они узнали этого человека и находятся в шоке. Но мать старалась не смотреть на них. Она продолжала смотреть на мужчину на записи, а потом начала медленно покачивать головой взад-вперед. «Нет, — сказала она, и ее голос заглушил звук с видеокассеты, — нет, нет, нет, нет!»
— Симонис рассказал о таких деталях, о которых мог знать только сам насильник и о которых за пределами прокуратуры вообще никто не знал, — добавил прокурор. — Жертва не могла заставить себя признать, что это преступление мог совершить не фон Уильямс, а кто-то другой.
Вот оно — реальное, живое доказательство того, что люди могут настолько уверовать в свои воспоминания, что, даже когда возникают очевидные противоречия и расхождения, они отказываются изменить свое мнение. Я вспомнила, что судья Джером Франк написал в своей книге «Невиновен»: «Если вы свидетель, то любые сомнения относительно вашей памяти вызывают у вас возмущение, воспринимаются как посягательство на целостность вашей личности, бесцеремонное вторжение в ваше “я”». Наши воспоминания чрезвычайно ценны для нас, ибо они представляют собой неотъемлемую часть нашей личности: они говорят нам, кто мы такие, какой опыт у нас за плечами и что и как мы должны чувствовать.
Я рассказала прокурору о недавнем исследовании, проведенном в Йеле. Участникам эксперимента показали запись совершения некоего преступления, а потом попросили выбрать «преступника» из двенадцати фотографий, среди которых вообще не было фотографии преступника. Через несколько дней испытуемым вновь предложили выбрать «преступника», но только из шести фотографий, среди которых была фотография настоящего преступника и фотография человека, ошибочно выбранная в прошлый раз. Так вот, 44 % участников эксперимента подтвердили свой первоначальный выбор, хотя настоящий преступник смотрел с фотографии прямо им в лицо.
— В некотором смысле это похоже на то, что произошло в деле Уильямса, — сказала я. — Потерпевшая сделала свой выбор — Кларенс фон Уильямс, и потом, несмотря на то что настоящий преступник смотрел ей в лицо, признаваясь в изнасиловании и рассказывая подробности, которые мог знать только он, она не могла принять это. Она осталась при своем первоначальном мнении, ошибочном мнении о виновности Кларенса фон Уильямса. После того как лицо фон Уильямса слилось с ее воспоминанием о лице насильника и она «привязала» себя к этому воспоминанию, заявив в суде, что ее насиловал именно фон Уильямс, разделить эти два воспоминания стало уже невозможно. Они в буквальном смысле навсегда слились вместе.
Я потом еще долго обдумывала этот разговор. И лабораторные, и иные исследования снова и снова доказывают, что наша память несовершенна. Соответствующие факты описываются в престижных журналах точным научным языком, методология экспериментов безупречна. Но то, что случилось с Кларенсом фон Уильямсом, привлекло внимание к этим научным фактам, облекло их в плоть и вдохнуло в них душу. Дело Уильямса вывело результаты исследований из стен лабораторий и продемонстрировало их достоверность.
Из-за показаний Салли Блэквелл фон Уильямс мог отправиться в тюрьму на пятьдесят лет. Однако женщина так и не смогла признать свою чудовищную ошибку. Когда она в суде, под угрозой наказания за лжесвидетельство, подписала свои письменные показания, в которых указала на человека по имени Кларенс фон Уильямс как на преступника, лицо этого человека вошло в ее память так прочно, что вся прочая информация уже соотносилась с этим воспоминанием. И когда ей предъявили другое лицо, она была вынуждена отвергнуть его просто потому, что оно не соответствовало лицу, хранившемуся в ее памяти.
Память Салли Блэквелл, стойкая и сильная, сейчас неопасна, по крайней мере для фон Уильямса. Но представим себе другой вариант, в котором «насильник в лыжной маске» не был бы задержан полицией Луизианы. Представим, что видеозаписи его исповеди не существует. Тогда одного этого стойкого «воспоминания» Салли Блэквелл оказалось бы достаточно, чтобы держать Кларенса фон Уильямса в тюрьме в течение многих лет.
9. «Иван Грозный». Джон Демьянюк
Это сомнительное опознание, оно заставляет сердце содрогаться — не дай бог, если все это выльется в ужасный фарс.
Хаим Гури, израильский писательБыл холодный и дождливый январский день, начало 1987 года — того самого года, когда одно из дел заслонило собой все остальное. Все началось с телефонного звонка из Нью-Йорка.
— Это доктор Лофтус? Доктор Элизабет Лофтус?
Связь была плохая, и треск на линии раздражал слух.
— Да, это Элизабет Лофтус, — сказала я громче, чем говорю обычно.
— Это Марк О’Коннор из Нью-Йорка, из города Нью-Йорка. Я представляю интересы Джона Демьянюка.
Он произнес это имя медленно, по слогам: Де-мья-нюк.
— Мистер Демьянюк — бывший гражданин США, который был обвинен в военных преступлениях и экстрадирован в Израиль, где его должны судить. Пять свидетелей — оставшиеся в живых узники Треблинки — утверждают, что это украинский охранник, которые совершал чудовищные зверства в этом лагере смерти.
— «Иван Грозный», — медленно произнесла я. — Я слышала о нем.
— Нам нужна ваша помощь, — начал О’Коннор. — Все дело против мистера Демьянюка строится на воспоминаниях этих пяти очевидцев, то есть на воспоминаниях 35-летней давности.
Я без всяких колебаний ответила:
— Благодарю вас за звонок, мистер О’Коннор, но, к сожалению, я не могу взяться за это дело.
— Почему не можете?
Три этих простых слова вместе составляли очень сложный вопрос.
— Я очень занята, — ответила я. — У меня сейчас на руках еще три дела плюс занятия со студентами. И еще: я еврейка.
На самом-то деле я думала: оставь меня в покое!
— Но вы еще и лучший в мире эксперт по воспоминаниям очевидцев, и может случиться так, что без ваших показаний невинный человек будет приговорен к смерти. Доктор Лофтус, пожалуйста, выслушайте меня, это все, что я прошу. Слушайте и постарайтесь быть объективной. Я уверяю вас, я клянусь вам, что Джон Демьянюк невиновен. Злобный маньяк, известный как «Иван Грозный», — это не он!
О’Коннор говорил быстро, как бы заполняя воздух словами и стремясь таким образом предупредить любые возражения.
— Несколько свидетелей, привлекавшихся для опознания сразу после войны, говорили, что тот Иван был убит во время восстания в Треблинке в августе 1943 года. Шесть оставшихся в живых узников Треблинки, увидев фото Демьянюка, не опознали его. А те выжившие, которые опознали его на фотографии, сделали это в ходе напряженного допроса. Если вы только позволите мне встретиться с вами, я представлю вам факты. После этого вы сможете сами решить, стоит ли вам браться за это дело. Но не осуждайте этого человека заранее, пока он даже не предстал перед судом. Он заслуживает справедливого судебного разбирательства, и потому он невиновен, пока его вина не доказана, независимо от того, насколько ужасны преступления. Так гласит закон нашей страны и закон Израиля.
Я до сих пор помню, что ощутила тогда в голосе О’Коннора одновременно настойчивость и безысходность. Он взывал и к моему любопытству (а вдруг Демьянюк действительно невиновен?), и к моей профессиональной этике (как я могу возразить против аргумента, которым пользуюсь сама?). Я замешкалась, и О’Коннор, почувствовав мою неуверенность, снова пошел в атаку.
— Позвольте мне прилететь в Сиэтл и поговорить с вами. Я прилечу в эти выходные.
— Из Нью-Йорка?
— Судебный процесс начнется в течение месяца. У нас не так много времени.
— Я не могу помешать вам прилететь сюда, — сказала я наконец. — Но я ничего вам не обещаю.
— Просто пообещайте мне выслушать меня, — сказал он. — Потому что, поверьте, я сумею убедить вас в его невиновности. Джон Демьянюк — это не «Иван Грозный».
* * *
Марк О’Коннор провел у меня два дня и при этом говорил беспрерывно, с раннего утра и до позднего вечера, расхаживая туда-сюда по моей гостиной, доставая из портфеля документ за документом, читая мораль, умоляя, крича, в общем, использовал все доступные ему способы убеждения, чтобы уговорить меня взяться за это дело.
Он не переставая говорил о «чрезвычайно эмоциональной» атмосфере этого процесса, самого значительного судебного процесса, связанного с военными преступлениями нацистов, в Иерусалиме с тех пор, как 25 лет назад был осужден и повешен Адольф Эйхман. Но Иван не такой, как Эйхман, сказал О’Коннор, понизив голос. Нет, Иван не был чиновником, не был технократом, который подписывает бумаги, звонит по телефону, сидит на совещаниях или прорабатывает в кабинете детали жутких планов Гитлера по полному уничтожению евреев. Иван — это нечто совсем иное, потому что он был там, в лагерях, изо дня в день. Этот человек истязал и калечил узников, избивал их отрезком металлической трубы, пока они шли по «трубе» в газовые камеры.
Этот человек отвечал за работу дизельных двигателей, которые наполняли газовые камеры смертельными выхлопными газами (весь процесс убийства при этом занимал 30-40 минут). Иван запускал эти двигатели сотни, а может быть, и тысячи раз. Не исключено, что этот человек несет личную ответственность за убийство примерно миллиона мужчин, женщин, детей.
— Вы вообще знаете о Треблинке? — спросил меня О’Коннор. — Вы знаете об этом лагере?
Я сидела на своем диване молча, даже не мигая.
— Позвольте мне рассказать вам о нем, — сказал он. — Треблинка — это был ужас из ужасов, худшее из худшего, кошмар из кошмаров. Треблинка — это был лагерь смерти, простой и однозначный, место, оборудованное для «массового производства» смерти, где трупы «перерабатывались» с максимально возможной быстротой и эффективностью.
Большую часть евреев привозили сюда поездами, объяснял О’Коннор. Среднее время между прибытием очередной партии и убийством последнего человека — мужчины, женщины или ребенка — из этой партии составляло час-полтора. Каждая партия — это в среднем шесть тысяч новоприбывших. То есть за один восьмичасовой рабочий день этот человек по имени Иван мог убить тысячи людей.
О’Коннор на мгновение замолчал, и мы посмотрели друг на друга, устыдившись этого акта трансформации человеческих жизней в статистику смертей. Что нам нужно было делать дальше: взять калькулятор и посчитать, сколько человек можно было убить за десять часов, за шестьдесят часов в неделю, за 365 дней в году, с учетом расписания движения поездов, времени, необходимого для выгрузки и раздевания, пропускной способности газовых камер и т. п.? Какой немыслимый ужас скрыт в этой статистике?
— В 1943 году здесь вспыхнуло восстание, — продолжал О’Коннор. — В нем приняли участие примерно двести мужчин и женщин. Из них до конца войны дожили лишь пятьдесят или шестьдесят человек. Всего пятьдесят человек выжило, это почти из миллиона, один выживший на каждые двадцать тысяч убитых!
Попробуйте это себе представить. Поставьте себя на их место, доктор Лофтус. Представьте себе, что вы выжили в этом лагере смерти, что вы — одна из тех самых всего лишь пятидесяти, кому удалось выжить, и вот теперь, спустя тридцать пять лет, вы обнаруживаете, что «Иван Грозный», возможно, все еще жив. Представьте, что вам уже за семьдесят или даже за восемьдесят, вы бабушка или дедушка, а возможно, уже и прабабушка или прадедушка, и вы вдруг получаете возможность указать пальцем на одного из мужчин, ответственных, реально, лично ответственных за пытки, увечья, убийства ваших друзей, родителей, жены или мужа, ваших детей. Вам осталось жить совсем немного. Люди забывают про холокост. Кое-кто утверждает, что его вообще не было. И вдруг появляется шанс вновь оживить воспоминания, вернуться в прошлое и восстановить справедливость — из ИХ пепла! Скоро не останется вообще никого, кто помнит это. Умрут эти пятьдесят человек — и никто уже не будет помнить, никто не будет знать. Подумайте об этом, доктор Лофтус!
О’Коннор перестал ходить туда-сюда и сел на стул напротив меня.
— Теперь подумайте о Джоне Демьянюке, — сказал он, — украинце, который эмигрировал в США в 1952 году и стал натурализованным американцем.
Демьянюк, рассказал О’Коннор, — это человек из воцерковленной семьи, который поселился близ Кливленда, до пенсии работал автомехаником в Ford Motor, дедушка, который любит копаться в своем саду. Ну просто образец солидного, благонамеренного гражданина — до 1976 года, когда правительство США наклеило фотографию с иммиграционной карты Демьянюка 1951 года на лист картона вместе с фотографиями шестнадцати других украинцев, подозреваемых в совершении военных преступлений, и отправило этот лист правительству Израиля. До тех пор пока девять из семнадцати очевидцев, выживших в Треблинке, не опознали Джона Демьянюка как того самого Ивана. До 1980 года, когда Советский Союз представил ксерокопию старого удостоверения, позволяющего «Ивану Демьянюку» находиться в тренировочном лагере Травники в Польше, где СС готовили охранников для лагерей смерти Собибор и Треблинка. До февраля 1981 года, когда Министерство юстиции США провело в Кливленде процедуру денатурализации и лишило Демьянюка американского гражданства, объявив его нацистским военным преступником. До 1986 года, когда после пяти лет отклонения апелляций и отбывания наказания в федеральных тюрьмах Демьянюк был экстрадирован в Израиль, где его должны были судить в Иерусалиме как массового убийцу в рамках самого громкого процесса о военных преступлениях нацистов со времен суда над Адольфом Эйхманом.
— В результате всех этих неоднозначных событий жизнь Джона Демьянюка была разрушена, — сказал О’Коннор, сложив ладони вместе и не сводя с меня глаз. — Он был разорен, заключен в тюрьму, лишен американского гражданства и экстрадирован в Израиль, чтобы предстать там перед судом как одно из самых ужасных воплощений зла. Если Джон Демьянюк — это тот самый «Иван Грозный», он заслужил все это. Более того, он заслуживает худшего, намного худшего, и все мучения и ужасы, которые мы теоретически в силах причинить ему, не могут идти ни в какое сравнение с теми мучениями, которые он причинил своим жертвам за те двенадцать месяцев в Треблинке. Но если он невиновен, значит, совершается страшная несправедливость, столь ужасающая и повергающая в трепет, как и те несправедливости, которые творились почти полвека назад.
О’Коннор предпринял явную попытку успокоиться, сделал несколько глубоких вдохов, поднимая плечи и громко выдыхая. Когда он снова заговорил, его голос уже был спокойным. Мы перешли к теме «алиби». Джон Демьянюк утверждал, что он никогда не был в тренировочном лагере Травники, а о Треблинке и Собиборе впервые услышал уже после войны. Демьянюк утверждал, что он действительно украинец и что он был призван в Красную армию после нападения Гитлера на Советский Союз в июне 1941 года. В мае 1942 года он был захвачен в плен немцами в Крыму и прошел через несколько трудовых лагерей для военнопленных, в конце концов попав в огромный комплекс для заключенных вблизи города Хелм в Польше. В середине 1944 года он был переведен в Австрию и вскоре начал воевать в антисоветском украинском подразделении, в конце концов присоединившемся к армии Власова. В конце войны он перешел на сторону союзников в Баварии.
Министерство юстиции признавало правдивость автобиографии Демьянюка частично — до лета 1942 года, когда он попал в лагерь для военнопленных в Хелме. Они считали, что Демьянюк был переведен из Хелма в тренировочный лагерь Травники, а затем в Треблинку, где находился почти год — с октября 1942-го по сентябрь 1943 года.
— А как же полученное от русских удостоверение личности, подтверждающее его пребывание в Травниках? — спросила я.
— Это фальшивка КГБ, — ответил О’Коннор. — Они слепили это удостоверение, чтобы наказать Демьянюка за то, что в конце войны он вступил в пронацистское украинское подразделение.
Фальшивка КГБ? Я подняла брови. О’Коннор говорит серьезно?
— Как в шпионском романе, да? — сказал О’Коннор, мрачно улыбнувшись.
— Ну что ж, давайте поговорим об этом так называемом удостоверении. В нем на фотографии изображен человек, действительно напоминающий Джона Демьянюка, но значительно моложе, плюс правильно указана дата его рождения, имя его отца и особая примета — шрам на спине. Но эксперты, которых попросили проверить это удостоверение, обнаружили, что в одном слове на нем не хватает умляута — ну и как такая грубая орфографическая ошибка могла появиться в настоящем немецком удостоверении? На нем нет ни даты, ни места выдачи, ни подписи должностного лица; неровные печати позволяют предположить, что имело место совмещение разных документов, да и сама фотография выглядит так, как если бы документ был подделан. По следам от скрепок видно, что до того, как попасть на это удостоверение, она хранилась вместе с какими-то другими документами; некоторые участки на удостоверении зачернены; и, наконец, человек на этом фото одет в русскую гимнастерку. Почему, — спросил О’Коннор, — Джон Демьянюк одет в русскую гимнастерку, если из него действительно готовили охранника СС?
И это не все, — продолжал О’Коннор. — В удостоверении указан рост Ивана — 175 см, а рост Джона Демьянюка примерно 185 см. Разница 10 см. И, — О’Коннор развернул руки ладонями вверх, — у нас же на самом деле нет никакого удостоверения! У нас есть только фотокопия, потому что Советы отказываются передавать оригинал удостоверения в Израиль. Почему? А потому что, если у нас в руках будет оригинал и обнаружится, что это фальшивка КГБ, дело против Демьянюка рассыплется в пух и прах, а русские окажутся лжецами и мошенниками.
— Но даже если это удостоверение — подделка КГБ, — сказала я, готовая признать, что удостоверение не безупречно, — как вы можете объяснить показания очевидцев, утверждающих, что Джон Демьянюк — это и есть тот самый Иван?
— Очевидцы… — спокойно кивнул головой О’Коннор. — Да, это самое трудное, — сказал он чуть погодя, — потому что эти люди действительно были там, и их воспоминания, если можно так выразиться, представляют невероятную ценность. Но поймите, мы же не оспариваем их воспоминания, не говорим, что они там не были или что Иван — это плод их воображения. Мы лишь ищем ответ на вопрос. Является ли Джон Демьянюк тем человеком, которого они называли «Иван Грозный», или нет? И в связи с этим вопросом неминуемо возникает еще один: достаточно ли эти воспоминания остры, ясны и точны, чтобы осудить человека на смерть? Можем мы повесить человека на основании воспоминаний тридцатипятилетней давности? Вам лучше, чем кому-либо другому, известно, что воспоминания — субстанция хрупкая и чувствительная. Позвольте, я расскажу вам о том, как появились эти воспоминания об «Иване Грозном».
В начале 1976 года, после того как правительство США обратилось к израильтянам с просьбой допросить выживших в Треблинке и Собиборе относительно украинцев, подозреваемых в участии в военных преступлениях нацизма, в Израиле начались эти допросы. К своему запросу американцы приложили фотографии трех украинцев, в настоящее время проживающих в США. Под номером 16 числилось иммиграционное фото Джона Демьянюка 1951 года, который подозревался в том, что он был охранником в Собиборе, а рядом с фотографией Демьянюка была наклеена фотография Федора Федоренко, который якобы был охранником в Треблинке.
Израильская полиция опубликовала в газете объявление, обращенное к тем, кому удалось выжить в Треблинке и Собиборе, с просьбой дать о себе знать. — О’Коннор вытащил из папки лист бумаги и прочитал мне это объявление: — «Отдел по расследованию преступлений нацизма проводит расследование в отношении украинцев Ивана Демьянюка и Федора Федоренко».
Я опять подняла брови.
— То есть свидетели знали имена людей, которых им предстояло опознать, еще до начала слушаний?
— Именно так, — сказал О’Коннор. — Теперь давайте посмотрим внимательно на эти удостоверения. Имейте в виду, что, хотя некоторые из этих пятидесяти выживших работали почти рядом с Иваном, они никогда не сталкивались с ним лицом к лицу. Они никогда не говорили с ним и не занимались никакой совместной деятельностью. Более того, они сознательно старались держаться от него подальше и избегать зрительного контакта с ним, потому что любой контакт с «Иваном Грозным» мог закончиться смертью. Они очень хорошо знали это.
Имейте также в виду, что фотография Джона Демьянюка, используемая в большинстве процедур опознания, была сделана в 1951 году, когда он эмигрировал в США, и что тогда ему было тридцать лет, то есть он был на девять лет старше, чем в 1942 году. Получается, что наши свидетели будут пытаться опознать мужчину, которого они знали меньше года, по фотографии, сделанной спустя девять лет после того, как они видели его в последний раз, через тридцать пять лет после того, как они видели его в последний раз.
О’Коннор подробно рассказал о допросах, начавшихся 9 мая 1976 года в 10:00 утра, когда был допрошен первый свидетель. Эуген Туровски, уцелевший в Треблинке, узнал на фото № 17 Федора Федоренко, но не опознал человека на фото № 16 (Ивана), которое на картонном листе для опознания находилось рядом с фото Федоренко. На тот момент следователи думали, что он был охранником в концлагере Собибор.
В тот же день в 13:00 выживший в Треблинке Авраам Гольдфарб заявил, что человек на фото № 16 кажется ему «знакомым». Тогда впервые возникло предположение о связи между Демьянюком и Треблинкой; однако Гольдфарб не упомянул имя Иван. Чуть позже, в 14:30, Гольдфарб сделал второе заявление. Английский перевод с оригинала на идише звучал неестественно и неуклюже. «По этому вопросу: я не помню имена этих украинцев, имени Демьянюка я не помню, — заявил Гольдфарб израильским следователям. — Но я помню украинца по имени Иван. Ему было года 23-24, он был довольно высокого роста, у него было полное круглое лицо. Он носил черную униформу, морскую фуражку, не имел никакого звания, я не видел у него знаков различия».
Из этой части заявления Гольдфарба, сказал О’Коннор, со всей очевидностью следует, что израильские следователи спросили Гольдфарба, помнит ли он имя Иван Демьянюк. Его описание лица Ивана могло быть извлеченным из памяти воспоминанием тридцатипятилетней давности, но может быть, он просто описал фотографию, которую видел всего час назад.
«Мне кажется, я узнаю этого Ивана на фото № 16, — продолжил Гольдфарб. — Человека, представленного на фото № 16, я помню в связи с газовыми камерами. Вместе с немцем-эсэсовцем, “машинистом” газовых камер, имя которого я забыл, он направлял выхлопные газы дизельного двигателя в газовую камеру».
Должно быть, мистер Гольдфарб был потрясен результатом своего предварительного опознания Ивана, пояснил О’Коннор, потому что в мемуарах, опубликованных сразу после войны, он писал, что тот Иван был убит во время восстания в 1943 году. Но он должен был удивить и израильских следователей, потому что правительство США сообщило им, что Иван был в Собиборе, а не в Треблинке.
На следующий день, 10 мая, был еще раз допрошен Эуген Туровски, по-видимому, чтобы проверить неожиданное заявление Гольдфарба. Первым делом следователи спросили Туровски, помнит ли он человека по имени Иван Демьянюк. Туровски ответил: «В ответ на вопрос, знаю ли я украинца по имени Демьянюк Иван, я заявляю следующее: я знаю фамилию Демьянюк, и более того, знаю имя Иван. Для меня он был Иван. Этого украинца я хорошо помню, я был знаком с ним лично, потому что иногда он приходил в мастерскую что-нибудь отремонтировать».
Туровски снова показали семнадцать фотографий, наклеенных на три листа коричневого картона, и на этот раз он сразу обратил внимание на фото № 16. «Это тот самый Иван, — засвидетельствовал он. — Я сразу узнал его и полностью в этом уверен. Он был среднего телосложения, крепко сбитый, с круглым, полным лицом. У него была короткая мощная шея, и даже в то время его волосы выглядели так, как на этой фотографии, высокий лоб с начинающимися залысинами. Он был еще очень молод, не более 23-24 лет».
Почему, спросил меня О’Коннор, Туровски опознал Ивана немедленно и с полной уверенностью, если накануне вообще не узнал его? Разве не логично будет предположить, что, поскольку Гольдфарб и Туровски знали друг друга и поскольку они давали показания в течение нескольких часов друг за другом, они поговорили об этом поразительном открытии: Иван все еще жив!
И вторая загадка — почему Туровски упомянул фамилию Демьянюк? Никто из выживших не знал фамилии Ивана. Они знали его только как Ивана — «Ивана Грозного». Как Туровски узнал имя Демьянюка?
О’Коннор сам же и ответил на собственный вопрос:
— Он узнал его имя из объявления в газете и из вопросов следователей.
Они внедрили это имя в его сознание, поэтому он думал, что вспомнил его. Естественно, возникает вопрос: а что еще удалось внедрить в его сознание?
О’Коннор достал другой документ, на этот раз содержавший сведения об опознании Ивана Элияху Розенбергом. 11 мая мистер Розенберг указал на фото № 16 и сказал: «Этот человек очень похож на украинца Ивана, который работал в лагере № 2 и которого называли “Иваном Грозным”. Тот же тип лица, у него было круглое полное лицо. У него был высокий лоб с начинающимися залысинами, в любом случае очень высокий лоб и очень короткие волосы. У него была короткая, толстая шея, он был плотного телосложения, кожа смуглая. Помню, что уши у него были оттопырены. Однако я не могу опознать его с абсолютной уверенностью. Он был очень молод, может быть, года двадцать два — двадцать три».
Однако за много лет до этого Розенберг, как и Гольдфарб, заявил, что Иван был убит во время восстания. В 1947 году в Вене Розенберг рассказал следователям: «Некоторые люди побежали в казарму, где спали украинцы-охранники, в том числе и Иван, и убили их лопатами. Эти люди пришли с ночной смены и очень устали, поэтому они не смогли проснуться достаточно быстро».
Но после опознания Ивана Розенберг утверждал, что следователь в Вене исказил его слова: это другие люди сказали ему, что Иван погиб, но сам он не видел Ивана мертвым. Все-таки почему Розенберг уверенно опознал Джона Демьянюка как пресловутого Ивана, если в течение тридцати лет он верил, что Иван погиб во время восстания в 1943 году?
— Израильские слушания продолжались все лето 1976 года, — сказал О’Коннор, взяв в руки новый документ. — Два свидетеля, Тейгман и Кудлик, не опознали Демьянюка как Ивана. 4 июля 1976 года Саймон Гринспен опознал Федоренко, но не опознал Демьянюка. Это опознание Федоренко доказывает, что Гринспен был в Треблинке, а также то, что он в состоянии вспоминать лица. Однако, по рассказам всех выживших, Иван в целом был заметнее, чем Федоренко. Почему же тогда Гринспен опознал Федоренко, но не опознал Демьянюка?
О’Коннор пытался использовать опознание Федоренко Гринспеном как доказательство хорошей памяти последнего. Мне пришлось напомнить ему, что опознание подозреваемого очевидцем, ни с положительным, ни с отрицательным результатом, на самом деле ничего не доказывает:
— Положительная идентификация говорит нам только о том, что человек верит, что он узнает лицо, или верит,что данное лицо виновно в том или ином преступлении. Но вера не является несомненным доказательством.
— Да, конечно, вы правы, я не могу получить и то и другое, не так ли?
Мне показалось, что ему не очень понравилось, что я прервала его.
Из других опрошенных в то время свидетелей Ивана не опознали Дов Фрайберг, Шалом Коэн, София Инглмен и Меир Зюсс.
Затем опознания с положительным результатом прошли уже в сентябре и октябре 1976 года, то есть как минимум через четыре месяца после того, как дали показания Туровски, Гольдфарб и Розенберг, и всего через месяц или два после встречи выживших в Треблинке, которая ежегодно проводится в Тель-Авиве в годовщину восстания. Все свидетели, которые опознали Демьянюка, жили в Израиле и присутствовали на этой встрече.
— Я думаю, вполне можно предположить, — сказал О’Коннор, — что Туровски, Гольдфарб и Розенберг говорили с другими выжившими в Треблинке про тот ужасный шок, который они пережили, когда опознали Ивана. Можно представить себе их разговор: «Господи! Иван все еще жив! Я видел его своими глазами!»
21 сентября в 13 часов Йозеф Чарны указал на фотографию № 16 и сказал: «Это Иван, да, это Иван, тот самый Иван. Прошло тридцать лет, но я узнал его с первого взгляда, с полной уверенностью. Мне кажется, я узнаю его даже в темноте. Он был очень высокий, крепко сложен, лицо у него в то время не было таким полным и жирным от обжорства, как на фото. Впрочем, это тот же тип лица, тот же нос, те же глаза и лоб, как в то время. Ошибка исключена».
30 сентября Густав Боракс указал на фото № 16 и сказал: «Это фото Ивана… я узнаю его со стопроцентной уверенностью. Я опознаю его по характерным приметам. Он был тогда моложе, двадцати пяти еще не было, лицо не было таким полным, но у меня нет никаких сомнений, что это он».
О’Коннор объяснил, что Бораксу показывали только восемь фотографий, в то время как большинству других выживших показывали семнадцать. Израильский закон требует, чтобы свидетелю показали не менее десяти фотографий.
— Почему? — спросила я. — В начале 1980-х годов я консультировала Комиссию по правовой реформе Канады на предмет разработки стандартных процедур опознания подозреваемых свидетелями по уголовным делам. В своем отчете мы представили им следующие рекомендации: «Свидетелю необходимо показать подборку фотографий, включив в нее фотографию подозреваемого и еще как минимум одиннадцать фотографий заведомо непричастных людей (дистракторов)». Одиннадцать ни в коей мере не считается магическим числом, но комиссия пришла к единому мнению, что подборка, состоящая менее чем из одиннадцати фотографий, не обеспечивает адекватной проверки способности свидетеля к идентификации подозреваемого. Подборки с небольшим числом фотографий опасны еще и потому, что свидетель зачастую может просто гадать и наугад выбрать подозреваемого.
В ответ на мой вопрос О’Коннор покачал головой, выражая вялый, усталый протест. Впрочем, кто знает.
— Следующее положительное опознание — 3 октября, Авраам Линдвассер, — продолжил О’Коннор. — На данный момент у нас есть шесть опознаний, в диапазоне от чрезвычайно сомнительного до уверенного. Но давайте вернемся к 29 сентября и допросу очередного выжившего по имени Шломо Гельман. Мистер Гельман был в Треблинке с июля 1942 года до августа 1943 года — дольше любого другого из выживших там людей. Ему приходилось участвовать в строительстве газовых камер, и все это время он оставался в лагере № 2 — том, где был Иван. Он работал рядом с Иваном на протяжении многих месяцев и мог видеть его на расстоянии полутора-двух метров.
Гельману показали всего пять фотографий. — О’Коннор развел руками и вздохнул: кто может знать это точно? — Когда он перешел к фотографии Федоренко, он указал на нее со словами: «Этого человека я видел в Треблинке». Но Ивана он не опознал ни на одной из четырех оставшихся фотографий, хотя знал, как это делали другие, что они искали человека по имени Иван Демьянюк. Теперь давайте остановимся на этом чуть подробнее.
О’Коннор сел на диван рядом со мной.
— Мы можем предположить, что с памятью у Шломо Гельмана все в порядке, потому что он вспомнил Федоренко. Но тогда почему он не опознал Ивана? Как он мог забыть ужасного Ивана, но помнить менее известного и менее заметного Федоренко? Он знал, кого он должен искать, но тем не менее не опознал Демьянюка. Почему остальные выжившие в Треблинке так уверены, что Демьянюк — это тот самый Иван, и почему Гельман не заметил и не опознал его на одной из всего четырех оставшихся фотографий? Теперь мы уже никогда не узнаем ответы на эти вопросы, — сказал О’Коннор, — потому что в прошлом году Гельман умер.
Смерть Шломо Гельмана очевидным образом ослабила позиции защиты Демьянюка: свидетельские показания Гельмана произвели бы гораздо большее впечатление, если бы он пришел в суд как свидетель и заявил: «Это не он!» — чем если О’Коннор будет читать его слова по бумажке.
Потом О’Коннор вкратце рассказал о трех остальных успешных опознаниях. 29 марта 1978 года Пинхас Эпштейн указал на фотографию № 16 и сказал: «Это фото очень сильно напоминает мне Ивана. Оно не очень четкое, и возрастные изменения, конечно, сказываются. Форма лица, в особенности выпуклый лоб, укрепляет у меня ощущение, что это тот самый Иван. Характерная особенность — короткая шея на широких плечах. Именно так Иван и выглядел».
27 декабря 1979 года Соня Левкович опознала Джона Демьянюка как «Ивана Грозного», а 12 марта 1980 года в гостиничном номере в Нью-Йорке Чил Меир Райхман опознал Демьянюка, выбрав его фото из предложенных восьми.
Райхман был девятым и последним свидетелем почти за четыре года, который в итоге опознал Ивана. Трое из этих девяти свидетелей — Туровски, Гольдфарб и Линдвассер — после опознания Демьянюка умерли; Левкович в конце концов отказалась от своих показаний.
Тут О’Коннор напомнил мне, что было еще восемь известных очевидцев, которые не опознали Ивана, и не менее пятнадцати других, имена которых не были известны, но которые не опознали Ивана, отвечая на вопросы израильских следователей. Но на суде эти пять выживших свидетелей будут выступать на стороне обвинения. Это Розенберг, Чарны, Боракс, Эпштейн и Райхман.
Потом О’Коннор говорил о суде, и я продолжала делать пометки, задавать вопросы, вставлять замечания. Но мои мысли как будто остановились, и у меня нет цельных воспоминаний об остальной части этого разговора. Я помню только ощущение, что у меня в голове кружатся имена, даты и названия мест, а я пытаюсь найти немного клея, чтобы соединить все части вместе и получить какой-то важный блок информации, который позволил бы собрать все это в единую осмысленную картину. Почему Розенберг уверенно опознал Демьянюка после того, как в течение тридцати лет был уверен, что Иван был убит во время восстания? Почему Шломо Гельман смотрел в упор на фото Ивана и пропустил его? Почему некоторым из выживших израильские следователи показывают по семнадцать фотографий, одному восемь фотографий, а еще одному пять фотографий? Как быть с удостоверением из лагеря Травники с полным именем и фотографией Ивана? Действительно ли его изготовил КГБ, чтобы опозорить украинцев, или это все-таки параноидальный бред, возникший в связи с сильнейшей эмоциональной окраской этого дела? Почему нет свидетелей, способных подтвердить алиби Демьянюка? И кто же все-таки такой этот Джон Демьянюк?
Сидя на своем диване и слушая, как О’Коннор просит меня выступить в этом деле на стороне защиты, я чувствовала себя так, как будто я разрываюсь на части. Снаружи оценивала факты, делала заметки, задавала подробные вопросы доктор Элизабет Лофтус, профессор Вашингтонского университета и эксперт-свидетель в сотнях судебных дел. И она хотела сказать: «Да, конечно, я возьмусь за это дело». Практика допросов в полиции Израиля действительно была несколько сомнительной, и вообще все уголовное преследование строилось на воспоминаниях о событиях тридцатипятилетней давности. Если этим воспоминаниям поверят и Джон Демьянюк будет признан виновным, то он будет приговорен к смертной казни. Именно в таких случаях и зовут эксперта-свидетеля.
Но за те долгие часы, которые я провела, слушая рассказ Марка О’Коннора о лагере смерти Треблинка и старении воспоминаний жертв холокоста, в моей холодной, профессиональной внешней оболочке что-то хрустнуло. И оказалось, что внутри, как в одной из тех русских народных игрушек, из которой, если ее открыть, появляется точно такая же игрушка, только немного меньшего размера, сидит Бет Лофтус, жена Джеффри Лофтуса, лучшая подруга Айлин Бернштейн, племянница дяди Джо Брискина. И эта Бет Лофтус опасалась за свои дружеские связи, понимая, какую личную цену ей придется заплатить, если она даст показания в пользу Джона Демьянюка. Эта Бет Лофтус по-прежнему думала о дяде Джо, пережившем антисемитские погромы в России, единственном еще живом родственнике из поколения ее родителей. «Что скажет дядя Джо, если я возьмусь за это дело? — спрашивала себя снова и снова эта внутренняя Бет Лофтус. — Что скажет Джефф, что скажет Айлин?»
Потом раскрылась вторая «матрешка», и выглянула еще одна Бет — Бет Фишман, дочь Ребекки и Сидни, чьи деды и бабки родились в России и в Румынии. Пятилетняя еврейская девочка Бет Фишман, которая горько плакала, когда соседский мальчик насмехался над ней из-за ее фамилии. И девочка-подросток Бет Фишман, которая, опасаясь, что ее парень бросит ее, потому что она еврейка, попросила своего лучшего друга передать ему, что она «только наполовину еврейка».
Даже сейчас, тридцать лет спустя, я краснею от стыда, вспоминая эту ложь. От кого из родителей я тогда отказалась? Какую половину себя самой я отбросила так буднично, оценив ее так дешево?
О’Коннор смотрел на меня и терпеливо ждал, пока я приму решение. Каким будет мой ответ? Возьмусь ли я за это дело?
Я сделала глубокий вдох и заговорила медленно, взвешивая каждое слово, правильно расставляя акценты, с ровной интонацией. «Вы говорили, что намерены убедить меня в том, что ваш подзащитный невиновен. Пока вам это не удалось. Его опознали девять человек. И хотя прошло уже тридцать пять лет, эти воспоминания могут быть точными. Однако, — сказала я, отметив для себя страдальческое выражение на лице О’Коннора, — вам удалось заронить мне в душу некоторые сомнения. Мне понадобится некоторое время, чтобы разобраться в этом деле. Оставьте мне свои папки, я просмотрю их и дам вам знать о своем решении».
— Процесс начнется уже в следующем месяце, — сказал О’Коннор. — Высока вероятность того, что вы не сможете подняться на свидетельскую трибуну до октября, а то и до ноября. Я могу дать вам время до марта, но не позже.
Два месяца, говорила я сама себе. Смогу ли я принять решение за эти два месяца?
— Первое условие: если я решусь взяться за это дело, мне не нужно никаких денег. Ни пенни. Вы можете возместить мне мои расходы, но я не хочу, чтобы мне оплачивали мое время. Если я соберусь свидетельствовать в пользу Демьянюка, это будет из принципа, а не за деньги.
У двери О’Коннор пожал мне руку.
— Я клянусь вам, что Джон Демьянюк невиновен, — сказал он, сжимая мою руку. — Я верю в это всем сердцем.
Пожимая его руку, а потом глядя на него, когда он спускался по цементной лестнице, я спрашивала себя, осталось ли что-нибудь такое, во что я верила бы всем сердцем.
* * *
Оставленные им документы должны были убедить меня. Дело, основанное на воспоминаниях тридцатипятилетней давности, — этого уже само по себе достаточно. Добавьте к этим угасающим воспоминаниям тот факт, что еще до того, как свидетели посмотрели на фотографии, они уже знали, что у полиции есть подозреваемый, и им даже сообщили имя и фамилию подозреваемого: Иван Демьянюк. Добавьте к этому сценарию то, что израильские следователи спрашивали свидетелей, могут ли они опознать Джона Демьянюка, то есть задавали явно предвзятый и наводящий вопрос. Добавьте к этому тот факт, что свидетели почти наверняка после этих опознаний рассказывали о них другим людям, может быть, и друг другу, «загрязняя» таким образом последующие опознания. Добавьте к этому повторные показы фотографии Джона Демьянюка, так что с каждым разом его лицо становилось все более и более знакомым свидетелям, и они опознавали его все более и более уверенно и убедительно.
Прибавьте ко всему этому сильнейшую эмоциональную окраску дела, поскольку человек, которого эти люди опознавали, был не просто инструментом нацистов и даже не просто тем страшным Иваном, который управлял дизельными двигателями и мучил и калечил узников. Этот человек — если это действительно был тот самый «Иван Грозный» — нес личную ответственность за убийства их матерей, отцов, братьев, сестер, жен, детей.
Доктор Лофтус ограничилась бы представленными ей документами. Она бы суммировала все эти факторы, оценила проблемы, проанализировала самые разные варианты возможных ошибок и ответила бы: «Да, конечно, я буду свидетельствовать и расскажу об общих механизмах памяти и о том, как и почему она может давать сбои».
Но Бет Фишман не могла ограничиться документами. Тридцать лет назад я отвернулась от своего еврейского наследия, сделала вид, что его не существует, что это всего лишь один из признаков, с которыми человек рождается на свет, как родимое пятно, большие стопы или светлые волосы. Жила так, как будто это не имеет значения. Многие годы я не вспоминала про холокост, вытесняя его за пределы своего сознания.
Но однажды зазвонил телефон, и приехал О’Коннор. И ко мне вернулись воспоминания из моего детства, рассказы дедушки о погромах в России в начале ХХ века и рассказы матери и отца о холокосте. Эти скелеты не были просто костями и мелкой сухой пылью, они были ожившими душами, наполненными энергией и эмоциями, со своим сознанием. Эти неотступные воспоминания не оставили мне выбора в отношении дела Демьянюка. Я должна была узнать факты и понять, какие лица и события стоят за этими фактами.
И Бет Фишман пошла шуршать по книжным магазинам и библиотекам в поисках изображений и описаний, которые могли бы облегчить ей принятие решения. Я прочла о Треблинке все, что смогла найти, а потом обратилась к книгам про Освенцим, Собибор, Бухенвальд, Берген-Бельзен. Я снова прочитала Анну Франк, Эли Визеля, Ханну Арендт, Аарона Аппельфельда. Я исследовала книжные полки в поисках ответа на вполне конкретный вопрос: кто такой Иван и что он делал?
Кое-какие ответы я нашла в сборнике рассказов выживших «Лагерь смерти Треблинка». Вот как описал Треблинку Янкель Верник, строительный подрядчик из Варшавы, депортированный в Треблинку 23 августа 1942 года:
Оборудованием газовых камер управляли два украинца. Один из них, Иван, был высоким, и, хотя его глаза казались добрыми и ласковыми, он был садистом. Он наслаждался мучениями своих жертв. Он часто набрасывался на нас, когда мы работали, он прибивал нам уши гвоздями к стенам или заставлял нас ложиться на пол и жестоко избивал нас. Его лицо в это время выражало садистское наслаждение, он смеялся и шутил. Он мог добить или не добить жертву, в зависимости от своего настроения в данный момент. Другого украинца звали Николаем. У него было бледное лицо, а психика такая же, как у Ивана.
В тот день, когда я впервые увидел мужчин, женщин и детей, которых вели в «дом смерти», я чуть не сошел с ума. Я рвал на себе волосы и в отчаянии обливался горькими слезами. Больше всего я страдал, когда смотрел на детей, шедших в сопровождении матерей или самостоятельно и совершенно не понимающих, что через несколько минут их жизнь закончится в ужасных мучениях. Их глаза блестели от страха, но еще больше, наверное, от удивления. Казалось, что на губах у них застыл вопрос: «Что это? Что все это значит?» Но, заметив каменное выражение на лицах старших, они тоже старались вести себя соответственно обстановке. Они стояли неподвижно, плотно прижавшись друг к другу или к родителям, и напряженно ждали приближавшуюся ужасную смерть.
Вдруг входная дверь распахнулась, и оттуда вышли Иван, держащий тяжелую газовую трубу, и Николай, размахивающий саблей. По сигналу они начали загонять узников в камеру, при этом зверски их избивая. Крики женщин, плач детей, вопли горя и отчаяния, мольбы о пощаде и о мести Всевышнего звучат у меня в ушах до сих пор, поэтому я не в силах забыть о тех страданиях, которые мне довелось увидеть.
Я на мгновение закрыла глаза, пытаясь остановить череду изображений, приведенных в движение этими словами, успокоить свой разум, замедлить поток сознания и подумать.
Вот что писал Самуил Райзман, потерявший во времена холокоста семьдесят родственников:
У нас был охранник-украинец, страшный человек. Он имел обыкновение забивать людей до смерти железным прутом. Кто бы ни попал к нему в руки — хрясь! — и человек мертв. И все. Обычно он бил по голове. Если он бил в лицо, это означало, что он выведет и убьет этого человека позже.
Главное для них было мучить людей. Они кладут вас на стол, привязывают к столу ноги и руки и дают 25 ударов плетью. После этих плетей, если вы выжили, вы не можете сидеть недели четыре. Не можете двигаться и не можете сидеть. Как-то утром они нашли у одного заключенного хлеб, изготовленный не в лагере. Вероятно, он купил его у какого-то украинца за кучу долларов. И теперь другой украинец держал его голову в чане с водой, пока он не захлебнулся. Я видел это своими глазами! Пытки они придумывали — это что-то невообразимое!
Это был тот самый Иван? Каждый раз, когда мне встречалось слово «украинец», я думала: «Иван?» Мои глаза воспалились, но я продолжала поиски. Раз войдя в этот дом ужасов, я заходила в каждую комнату и смотрела в глаза всем, кто в ней жил. Мне нужно было узнать их, прикоснуться к ним, постичь их. Как иначе я могла бы принять решение?
Я просмотрела список выживших в конце книги и нашла имена нескольких выживших, которые жили в Израиле и которые указали на Джона Демьянюка и сказали: «Это тот самый Иван».
Густав Боракс, родился в 1901 году, парикмахер в Треблинке, теперь парикмахер в Израиле: «Парикмахерская располагалась в бараке, и женщины здесь должны были раздеться. Здесь было 5 скамеек и 20 парикмахеров. Женщины раздевались в одной комнате, входили в дверь, им отрезали волосы, а потом они выходили через другую дверь в газовую камеру. У нас была всего минута, чтобы схватить волосы, один раз чикнуть ножницами, вот и все».
Йозеф Чарны, родился в 1927 году, теперь профсоюзный работник в Израиле: «Мне было пятнадцать лет, и мы были очень бедны. Вся моя семья умерла от голода… нас поместили в вагоны для перевозки скота, втискивая, как соленую рыбу. Мы пили собственный пот и мочу».
Пинхас Эпштейн, родился в 1925 году, сейчас живет в Израиле: «Меня депортировали из Ченстоховы 22 сентября 1942 года. Мне было тогда 18 лет. В течение одиннадцати месяцев я переносил трупы в лагере № 2. После восстания я сбежал [и вернулся] в свой родной город, раздобыл себе “арийские” документы и отправился как гой на работу в Г ерманию. В Израиль я приехал в июле 1948 года».
Элияху Розенберг, сейчас живет в Израиле. Когда его спросили, думает ли он все еще о Треблинке, Розенберг ответил: «Я не думаю о ней, она во мне, как несмываемая татуировка. Мне было 18, когда я приехал в Треблинку вместе с матерью и тремя сестрами. До дня восстания я не видел ничего, кроме неба и песка, неба и песка, и трупов на земле».
Авраам Линдвассер, который уверенно опознал Ивана, но умер до суда, описывал этот лагерь смерти так:
«Они сделали меня “дантистом”. Я не выдержал, попытался повеситься. Я уже дергался на своем поясе, когда какой-то еврей с бородой — не знаю, как его звали, — подхватил меня, вынул из петли и отчитал.
[Он сказал, что] хоть кто-то должен пережить все это, чтобы потом описать то, что здесь происходило».
* * *
В середине февраля, всего за несколько дней до начала судебного процесса над Демьянюком в Израиле, моя лучшая подруга Айлин заглянула ко мне в офис и пригласила меня пообедать. Мы ехали в наш любимый мексиканский ресторан в машине Айлин. Я помню, как в ветровое стекло хлестал дождь, бешено работали дворники, и Айлин, сощурясь, вглядывалась в густой серый туман и рассказывала о своем новом проекте по исследованию вкусовых аверсий у онкологических больных.
Вкусовые аверсии прямо-таки завораживают психологов, потому что они являют собой пример образования условного рефлекса с первого раза: человек что-то съел, его стошнило, и он больше не хочет есть данное блюдо или продукт. Психологи всегда рассматривают обучение как формирование связей, медленный процесс, в котором награда или наказание следует сразу же за поступком, что позволяет со временем изменять формы поведения. Например, если при нажатии на рычаг крыса получает порцию еды (вознаграждение), она учится нажимать на рычаг. И наоборот, если при нажатии на рычаг крыса получает удар током (наказание), она учится избегать повторных нажатий на рычаг.
Однако при вкусовых аверсиях между употреблением данного блюда или продукта и «наказанием» часто проходит несколько часов или даже дней. Например, вы съели кусок чизкейка, легли спать, а на следующий день вас тошнит от одной мысли о чизкейке. Цель исследования Айлин состоит в проверке теории, гласящей, что вкусовые аверсии у онкологических больных связаны с регулярными сеансами химиотерапии. Пациент съедает какое-то блюдо или продукт, получает дозу химиотерапии, его тошнит, эта тошнота связывается с этим блюдом или продуктом, и желание его есть пропадает.
Я слушала, как Айлин взахлеб говорила о своей работе, и не могла отделаться от мысли: онкологические больные — ну почему я не изучаю онкологических больных?
— Айлин, мне нужен твой совет, — сказала я, когда мы уже сидели в кабинке в дальнем углу ресторана. — Пару недель назад звонил один адвокат и просил меня дать показания на процессе Джона Демьянюка в Израиле.
— Демьянюк… — сказала она, глядя на меня. Ее голос изменился, стал каким-то плоским, без эмоций. — Ты имеешь в виду «Ивана Грозного».
— Его обвиняют в том, что он и есть «Иван Грозный», — сказала я.
— Бет, пожалуйста! Скажи мне, что ты ответила «нет». Скажи, что ты не возьмешься за это дело.
— Этот адвокат приезжал, чтобы увидеться со мной. Он прилетал из Нью-Йорка и провел у меня два дня, пытаясь убедить меня, что это случай ошибочного опознания. Он уверен, что Демьянюк невиновен.
— Этот человек платит ему, разве нет?
— Я сказала ему, что просмотрю документы.
— Как ты могла? — Я почувствовала в этих словах такое презрение, что они камнем легли мне на сердце.
— Айлин, пожалуйста, попытайся понять. Это моя работа. Я обязана отрешиться от эмоций и принимать во внимание только вопросы фактического или юридического характера. Я просто не имею права автоматически считать его виновным.
— Он виновен. Люди, которые были в лагере смерти, люди, которые смотрели на него, которые знали его, указывали на него пальцем и уверенно, без колебаний говорили — это тот самый Иван.
— Вы решили, что он виновен, еще до того, как он предстал перед судом, — сказала я.
— То есть ты сейчас говоришь мне, что ты сможешь взойти на трибуну и назвать этих очевидцев лжецами? Ты говоришь мне, что смогла бы это сделать, Бет?
Мы спорили в течение всего обеда, и, когда мы вошли в здание факультета психологии, чтобы в 13:30 начать свои занятия, Айлин уже не разговаривала со мной. Я смотрела, как она уходила от меня по коридору с прямой и твердой спиной, и понимала, что внутренне она считает, что я предала ее. И хуже того, гораздо хуже: я предала свой народ, своих предков, свое племя. Допустив возможность того, что Джон Демьянюк невиновен, я предала их всех.
* * *
Я позвонила 86-летнему дяде Джо, брату моей матери, единственному оставшемуся в живых родственнику из поколения моих родителей. С тех пор как моя мать по трагической случайности утонула у него дома в Пенсильвании (мне тогда было всего четырнадцать лет), дядя Джо был для меня скорее отцом, нежели просто пожилым родственником.
По телефону я объяснила дяде Джо, что меня попросили дать показания по делу Демьянюка в Израиле. Я рассказала ему все, что знала, об опознаниях, учебном удостоверении из лагеря Травники и теории О’Коннора о русской «подставе». Дядя Джо слушал, вздыхал, а когда я закончила, он сказал: «Бет, дорогая! Я должен это все обдумать. Я позвоню тебе».
Спустя неделю я получила от него письмо. Он писал, что после нашего с ним разговора находится в затруднительном положении, поскольку «поглощен» этим делом и предстоящим судом. Многие из его друзей считают, что я не должна «выступать в качестве свидетеля», написал он. Дядя Джо пытался быть рассудительным. Он предупредил, что я должна думать об Израиле, потому что «польза Израиля превыше всего». Возможно, мне придется свидетельствовать, продолжал он, потому что вдруг О’Коннор нанял какого-нибудь антисемита, который может «использовать бесчестные методы и изводить свидетелей, чтобы в конце концов дискредитировать их»? Возможно, мое свидетельство будет полезным для Израиля, поскольку я сама еврейка, так что мое присутствие на свидетельской трибуне станет подтверждением справедливости и сбалансированного подхода. Но возможно, все будет не так; возможно, меня сочтут Иудой, предательницей соплеменников. «Решение тебе придется принять самой», — заключил он.
Неделю спустя дядя Джо оставил на моем автоответчике такое сообщение:
Помни, дорогая, что это не просто суд над одним человеком; он касается всего мира, в котором совершались эти злодеяния. Мне сложно выразить свои чувства, потому что я до сих пор чувствую себя виноватым в том, что во время холокоста я, как и многие миллионы других евреев, делал слишком мало… Я очень благодарен тебе за то, что ты так серьезно отнеслась к этому делу, но я чувствую, что ты гораздо больше потеряешь, нежели приобретешь, если будешь участвовать в этом процессе, в ходе которого ты можешь сказать нечто такое, о чем потом будешь жалеть всю жизнь. Ты должна учитывать этот риск. Рад поговорить с тобой даже через твой автоответчик. Не пропадай, дорогая! Спокойной ночи!
Суд над Джоном Демьянюком начался 18 февраля 1987 года. Я следила за происходящим по газетным сообщениям. 23 февраля показания давал первый свидетель обвинения 61-летний Пинхас Эпштейн.
— Это он сидит там, — сказал Эпштейн, показывая на Джона Демьянюка (я снова отметила для себя высокопарный перевод слов с идиша, который придавал событию оттенок старомодности). — Годы, конечно, изменили его, но не настолько, чтобы он стал неузнаваемым. Есть некоторые особенности, которые и по прошествии стольких лет остаются в памяти. Я вижу Ивана каждую ночь. Он как будто выгравирован у меня в мозгу. Я не могу избавиться от этих впечатлений.
После того как Эпштейн указал на Демьянюка, многие из пятисот зрителей встали и начали аплодировать.
20 февраля показания давал 65-летний Элияху Розенберг. Розенберг был отправлен в Треблинку из Варшавского гетто вместе с матерью и сестрами и провел там одиннадцать месяцев. С матерью и сестрами его разлучили сразу по прибытии в лагерь, и никого из них он никогда больше не видел. В зале суда Розенберг рассказал, как охранники в Треблинке заставили его убирать трупы других евреев из газовых камер. Сначала они зарывали трупы в братских могилах, но позже нацисты сменили тактику, и его заставляли заталкивать трупы в печи для сжигания. Однажды, рассказал Розенберг, он украл немного хлеба и получил тридцать плетей от охранника по имени Иван, который заставил его считать удары плетью вслух, а в конце экзекуции сказать: «Спасибо!»
— Я помню этого Ивана очень хорошо, — заявил Розенберг в суде. — Я видел его возле газовой камеры с его инструментом для убийства, что-то вроде трубы или плети. Я видел, как он бил своих жертв, орал на них и хлестал их, пока они входили в газовые камеры.
Прокуроры попросили Розенберга подойти к Демьянюку. Демьянюку предложили снять очки, и он снял их и протянул руку Розенбергу, по-видимому, чтобы поздороваться с ним. Розенберг в ужасе отдернул руку. «Иван! — воскликнул он. — У меня нет ни малейших колебаний и сомнений. Человек, на которого я смотрю в данный момент, — это Иван из Треблинки, из газовых камер. Я видел эти глаза, глаза убийцы, и это лицо. Как ты смеешь протягивать мне руку, ты, убийца!»
В пятницу 13 марта на первой странице The New York Times появился заголовок: «Треблинский процесс становится в Израиле навязчивой идеей». Примерно в середине этой длинной статьи помещалось описание дачи показаний 86-летним Густавом Бораксом. О’Коннор подверг этого старика изнурительному перекрестному допросу, пытаясь доказать, что память у него серьезно нарушена. В какой-то момент Боракс признался, что не может вспомнить имя своего младшего сына, который был убит нацистами. Потом неожиданно вспомнил — его звали Иосиф — и сразу же обратился к судье, воскликнув: «Я не забыл!»
Но О’Коннор не отцеплялся от него. Помнит ли мистер Боракс, в каком году он давал показания в США на слушаниях по делу о депортации Демьянюка? «Нет», — ответил Боракс. «Как вы прибыли в Соединенные Штаты из Израиля?» — спросил О’Коннор. «На поезде», — ответил Боракс. После этого ответа весь зал только вздохнул.
Я представляла себе О’Коннора, аккуратно выявляющего дефекты старческой памяти Густава Боракса, вцепившегося и державшего его, как сдутый резиновый мяч, и как бы говорящего с улыбкой победителя: «Видите, какое это старичье? Уже ни на что не годное!» И представляла, как Боракс сидит, побежденный и раздавленный, слышит, как его разум подвергают осмеянию, и испытывает жгучий стыд оттого, что забыл имя своего младшего сына.
Как можно отделить человека от его памяти? Удаляя воспоминания, разве вы при этом не лишаете его прошлого, всех сохранявшихся в его памяти бесценных событий, которые сделали его тем, каков он есть сейчас? Разве, лишившись своих воспоминаний, Густав Боракс не свалится и не умрет, как рушатся строительные леса, лишившись конструкции, на которую они опираются?
Начитавшись газетных сообщений, я подолгу смотрела на фотографии выживших, ища ответы на свои вопросы. Их боль, кажется, отпечаталась на их страдальческих лицах. Вот фотография Элияху Розенберга: он согнулся пополам, прижался лбом к краю свидетельской трибуны, в руке зажат стакан с водой. Вот Пинхас Эпштейн вытянул руку, а его рот широко открыт в крике боли. Выслушайте меня, призывает он с этой фотографии. Вы должны мне верить!
А вот Демьянюк. День за днем я вглядывалась в фотографию этого человека в «клетке»: очки съехали на кончик носа, выступающий подбородок, губы плотно сжаты. Вы можете обнаружить в человеке доброту или жестокость по форме челюсти, по блеску глаз? Я подолгу смотрела на его уши. Некоторые выжившие свидетели говорили о характерной форме его ушей, и я то и дело задавалась вопросом: можно ли приговорить человека к смертной казни на основании воспоминаний тридцатипятилетней давности о форме его ушей?
* * *
Теперь, задним числом, я гадаю, могла бы я несколько месяцев разглядывать опубликованные в газетах фотографии, читать и перечитывать The New York Times, временами чуть не впадая в безумие от всех этих мучительных колебаний, если бы однажды в субботу утром, когда на принятие решения мне оставалось меньше недели, ко мне неожиданно не ввалился мой близкий друг Дэвид Сачер. Пока мы пили кофе в гостиной, я рассказала ему о своей дилемме.
— Если я берусь за это дело, — объяснила я ему так же, как сотни раз проговаривала это самой себе, — получается, что я отказываюсь от своих еврейских корней. Если же я не берусь за это дело, получается, что я отказываюсь от всех своих наработок за последние пятнадцать лет. Если я честно отношусь к своей работе, я должна рассматривать это дело так же, как я рассматривала любое другое дело до сих пор. Если тут есть проблемы с опознанием подсудимого очевидцами, я должна дать соответствующие показания. Ну, чтобы быть последовательной.
— Знаешь, что говорил Эмерсон о последовательности? — спросил Дэвид с ласковой улыбкой. — «Глупая последовательность — суеверие недалеких умов».
— «Суеверие недалеких умов…» — повторила я.
На два дня эта странная фраза стала моей литанией. Я вцепилась в нее, как в спасательный круг, чтобы с ее помощью выбраться из трясины собственной нерешительности. В итоге оказалось, что больше шуму, чем дела. Я просто прогнулась сама под себя. Я не решилась взяться за это дело. Может, просто смелости не хватило.
Я позвонила Марку О’Коннору в его гостиницу в Иерусалиме и сказала ему, что не смогу взяться за это дело.
* * *
Команда защитников Демьянюка сделала еще одну, последнюю попытку побудить меня изменить свое решение. В середине мая я приехала в Брайтон, в Англию, чтобы выступить с докладом о свидетельских показаниях эксперта в Британском психологическом обществе. И как-то вечером, перед ужином, в дверь моего гостиничного номера постучали. Это был Йорам Шефтель, основной израильский адвокат Демьянюка, который прилетел из Иерусалима, чтобы попытаться все-таки уговорить меня выступить. Говорил он с сильным акцентом, отрывистыми фразами, выказывая крайнюю заинтересованность в успехе своей миссии, и представлял мне все факты, противоречащие версии обвинения, выстраивая их то так, то сяк, перемещая акценты, сортируя, перекладывая и непрерывно тасуя колоду юридических карт.
Я была непреклонна. Я не могу свидетельствовать, повторяла я Шефтелю снова и снова. После трех часов непрерывных разговоров он достал из рукава туза — Шломо Гельмана. Шломо Гельман, напомнил мне Шефтель, находился в Треблинке почти на всем протяжении существования этого лагеря смерти. И этот Шломо Гельман не сказал: «Это Иван», не сказал: «Я узнаю этого человека!» Он посмотрел на предъявленную ему фотографию и не опознал Джона Демьянюка. А ведь Шломо Гельман был в Треблинке как минимум на месяц дольше любого из остальных выживших.
Я чувствовала, что меня опять пытаются втянуть во все это, и сопротивлялась мощной магнетической тяге Шефтеля.
— Месяц — это не то, из-за чего я могла бы воспрять, — сказала я. — Другие выжившие пробыли в Треблинке почти так же долго, и они опознали Демьянюка как Ивана. Один месяц ничего не значит.
— Но Гельман был вынужден участвовать в строительстве газовых камер, — продолжал давить Шефтель. — Он работал буквально рядом с Иваном, всего в нескольких метрах от него. Тринадцать месяцев он работал бок о бок с этим человеком! И теперь не узнал его? И дело тут не в провалах в памяти, потому что он уверенно опознал Федоренко. Почему он помнит Федоренко, но не помнит Демьянюка?
— Не знаю, — ответила я. Более правдивых слов я не произносила еще никогда.
— Они показали ему всего пять фотографий, — не отставал Шефтель. — Всего пять. Он опознает Федоренко. Итак, остается четыре, всего четыре фотографии. — Шефтель всплеснул руками. — Он мог вообще сказать наугад и с вероятностью 25 % оказался бы прав. Но он не стал гадать. Ему не нужно было гадать, потому что он не увидел там Ивана. Всего четыре фото оставалось, и он его не увидел!
— Он не опознал Ивана, — сказала я, — но и не сказал, что Ивана там нет. Отсутствие положительного высказывания не есть отрицательное высказывание.
Шефтель улетел обратно в Иерусалим, оставив меня в мучительных размышлениях относительно Шломо Гельмана. Если бы только Гельман был жив! Возможно, он дал бы показания в суде, сказал бы, что Джон Демьянюк не может быть Иваном. Какие он мог бы привести доводы? Глаза слишком широко расставлены, зубы кривоваты, уши слишком выделяются?
А может быть, Шломо Гельман изменил бы свои показания. «Я был неправ, — возможно, сказал бы он теперь, указывая костлявым пальцем на Джона Демьянюка. — Теперь я вижу, что это тот самый Иван».
«Иван Грозный». Иван — кошмар из кошмаров.
* * *
О своем решении в отношении дела Демьянюка я написала статью, которая появилась в журнале Newsweek в колонке «Моя очередь» 29 июня 1987 года. В то лето я получила сотни писем, и в 90 % из них содержалась яростная критика моего решения не давать показаний по делу Демьянюка. Один писатель предложил, чтобы я немедленно отказалась от всех своих ученых степеней и званий и оставила свою профессию. «Вы сами сломали себе карьеру», — написал он. Еще один автор обвинил меня в том, что я «проституировала свои принципы ради дружбы». Если Демьянюк невиновен, но будет признан виновным и казнен за преступления «Ивана Грозного», писал другой автор, я ничем не буду отличаться от реального Ивана, поскольку «совершить убийство и позволить совершить убийство, когда вы можете предотвратить его, — это одно и то же, независимо от того, гибнет при этом одна жертва или тысяча жертв».
Друг Джона Демьянюка описал мытарства Демьянюка в тюрьме Аялон в Израиле, где он был «заперт, как дикий зверь в клетке». Потом друг Демьянюка рассказал о предпринятой им поездке по деревням, находящимся в непосредственной близости от бывшего лагеря смерти Треблинка, чтобы поговорить с другими выжившими в Треблинке, которые были уверены, что Джон Демьянюк и «Иван Грозный» — это «совершенно разные люди»! Эти выжившие узники вспоминали совсем другого Ивана — двухметрового гиганта с маленькой головой, выпученными глазами, шаркающей походкой и «преувеличенно сердитым выражением лица, которое может указывать на тяжелый психоз».
Это письмо восхитило меня. Выжившие люди вспоминали Ивана в точности как творение Франкенштейна: существо с шаркающей походкой, глазами навыкате, маленькой головой и зверским выражением лица. Первоначальный образ Ивана в памяти со временем трансформировался в образ чудовища, в кошмарное воплощение зла.
Были и другие письма, болезненные для меня лично, наполненные ненавистью и ядом. Например, автор одного из таких писем назвал меня «высокомерной, кондовой, либеральной еврейкой, защищающей криминал всеми доступными способами». Автор еще одного письма писал, что, хотя он не испытывает сочувствия к таким людям, как «Иван Грозный», он испытывает сочувствие к Джону Демьянюку, который невиновен, пока не доказана его вина. Далее автор заключал, что, если Демьянюк невиновен, но умрет, потому что я решила не давать показаний, мне придется «гореть в аду».
Я набила сотнями таких писем два больших конверта из оберточной бумаги, спустилась по лестнице в подвал и положила их в тяжелую картонную коробку, стоявшую в углу подвала. Коробка эта была заполнена моими детскими дневниками, альбомами для газетных вырезок и другими памятными предметами, и я потратила несколько минут на то, чтобы переложить все так, чтобы письма-отклики на мою статью в Newsweek оказались в самом низу. Я поднялась назад по лестнице, закрыла дверь и прислонилась к ней спиной. Я слышала урчание и вздохи отопительного котла, а моя спина, прижатая к двери, ощущала его непрерывные вибрации. И вдруг у меня возникло ощущение ужаса, как будто я только что снесла вниз по лестнице живое тело и похоронила его. И может быть, когда я наберусь смелости, чтобы спуститься вниз и заглянуть в эту картонную коробку, оно окажется мертвым.
* * *
В конце августа 1987 года, приехав домой с работы, я обнаружила на пороге коричневый пакет размером с обувную коробку. Я подняла его (успев подумать: боже, какой тяжелый!) и посмотрела имя отправителя: Фонд защиты Джона Демьянюка. На нем было клеймо службы доставки Federal Express, и это удивило меня, потому что обычно грузовик Federal Express оставлял пакеты у моей ближайшей соседки.
Я вставила в дверь ключ и сразу же опустила этот тяжеленный пакет на пол, прямо около входной двери. Я сняла куртку, бросила ее на кресло, пошла на кухню, налила себе стакан сока. Потом вернулась и посмотрела на пакет — помятый бумажный мешок, щедро обмотанный лентой, с надписью черным фломастером. «Фонд защиты Джона Демьянюка». Что за черт?
Я позвонила на работу Джеффу. «Не открывай его, — сказал он. — Я скоро буду».
Что-то в его интонации испугало меня, и я снова подняла трубку, позвонила в полицию Вашингтонского университета и коротко описала пакет.
— Если вы думаете, что это бомба, — сказал полицейский, — обвяжите его веревкой, отойдите метров на десять и потяните за веревку.
— Вы хотите, чтобы я обвязала пакет веревкой, дернула за веревку, и если это бомба, то она взорвется?
— Ну да, верно, — ответил голос в трубке.
— Вы в самом деле хотите, чтобы я это сделала?
— Ну, может, стоит вызвать саперов из Сиэтла, — сказал он и продиктовал мне номер.
Готовая смеяться и плакать одновременно, я снова позвонила в полицию. Двое полицейских приехали через 15 минут. Они выслушали мой рассказ, посмотрели на пакет, потом посмотрели друг на друга. Я принесла из подвала ранее отправленный туда конверт и дала им прочитать некоторые из самых жестких писем.
— Я не собираюсь подходить к этой штуке, — сказал один из них, косясь на пакет. — Давайте вызовем саперов.
Примерно через десять минут приехали еще трое полицейских в бронированном грузовичке. Они походили вокруг пакета, приложились к нему ушами, задали мне несколько вопросов, пошептались между собой. В конце концов они решили все-таки потревожить упаковку. Они велели нам с Джеффом и двум обычным полицейским встать позади кирпичной стены в задней части дома, на случай «если и правда взорвется». Мы ждали, притаившись за стеной и зажав уши руками. Спустя несколько минут один из саперов зашел к нам за стену и вручил мне огромный пакет с документами. «Не думаю, что здесь бомба», — сказал он.
Фонд защиты Джона Демьянюка прислал мне сотни писем, статей, вырезок и личных обращений. Через три месяца после того, как я сообщила адвокатам Демьянюка о своем окончательном решении, его верные сторонники все еще пытались убедить меня, что Джон Демьянюк невиновен.
* * *
В октябре 1987 года я прилетела в Израиль, чтобы послушать своего друга и коллегу Виллема Вагенара, который должен был давать показания на процессе Демьянюка в качестве свидетеля-эксперта со стороны защиты по проблемам памяти. Судебный процесс проходил в огромном переоборудованном театре, и я сидела в одном из передних рядов рядом с Маргрет, женой Вагенара, врачом-педиатром. Виллем и Маргрет живут в Голландии, и у них четверо прекрасных детей: два мальчика и две девочки. Я когда-то гостила у них, и помню, смотрела, как вся семья собралась у фортепиано, дети в пижамках, и все они по очереди играли на фортепиано.
На третий день показаний Виллема, в один из перерывов, Маргрет повернулась ко мне и спросила своим прекрасно поставленным голосом: «А почему вы не даете показания, Бет? Вы здесь, вы смотрите и слушаете, и вы говорили Виллему, что были бы готовы обеспечить защиту, основанную на информации об исследованиях памяти. Почему вы не на трибуне?»
Чтобы подобрать подходящие слова для ответа, мне понадобилось несколько секунд. Оглядев аудиторию, заполненную четырьмя поколениями евреев — маленькие дети, их родители, бабушки и дедушки, прабабушки и прадедушки, — я попыталась объяснить Маргрет, что чувствовала себя так, как если бы все эти люди были моими родственниками и как будто я тоже потеряла кого-то, кого любила, в лагере смерти Треблинка. С такими внутренними ощущениями я не могла так, вдруг, сменить роль и снова стать просто профессионалом, просто экспертом.
Поняла ли меня Маргрет? Не уверена. Но, сидя в этой огромной аудитории, я понимала, что лишь немногие из находящихся сейчас в ней людей сами были там, в концлагерях. Их воспоминания пока живы, это их воспоминания. Но совсем скоро, когда это старшее поколение просто вымрет, подобные воспоминания станут вторичными, чужими, разрозненными обрывками настоящих картин. Время возьмет свое, воспоминания будут постепенно стираться, рассказы о тех событиях утратят свою непосредственность, лишатся плоти и крови (как уместны и страшны эти слова в данном случае!), станут просто аллегорией для обозначения «страшного времени» в середине ХХ века.
Может быть, подумала я, глядя на эти лица, мне и правда просто не хватило смелости дать показания. А может быть, наоборот, отказ от дачи показаний стал самым смелым из моих поступков. Но когда я сидела там и видела, как открыто текут слезы по щекам подростков, мальчиков и девочек, детей, родившихся через тридцать лет после того, как этот ужас закончился, я могла думать только о том, сколь драгоценны воспоминания выживших. Если бы погибло еще всего только пятьдесят человек, может быть, никто вообще не узнал бы правды об ужасах Треблинки.
Я не могла подняться на трибуну и рассказать о ненадежности человеческой памяти, иначе каждый человек в этой аудитории счел бы, что я опровергаю вот эти, конкретные воспоминания выживших. Люди сочли бы, что я отвергаю их воспоминания. Я не могла это сделать. Это было бы столь же просто, сколь и мучительно.
Перерыв кончился, и Виллем снова говорил в микрофон, отвечая на вопрос адвоката. Я тронула руку Маргрет, наклонилась к ней и зашептала ей на ухо. «Может быть, все просто, — сказала я. — Мой разум говорил “да”. А мое сердце говорило “нет”. И на этот раз я послушалась своего сердца».
* * *
В последний день моего пребывания в Израиле я приняла участие в тематической дискуссии в Еврейском университете о роли психолога в зале суда. После этого небольшая группа психологов и студентов обедала в небольшом кафе, и вновь завязалась горячая дискуссия о возможности ошибочного опознания. Я сидела на одном конце длинного стола и вдруг услышала, как Виллем Вагенар на другом конце стола сказал:
— Ну, понимаете, там были свидетели, которые говорили, что Джон Демьянюк — это не Иван.
— Извините, Виллем, — сказала я, прибавив голос, чтобы меня могли слышать на другом конце стола. — Каких свидетелей вы имеете в виду?
— Например, Шломо Гельмана, — сказал Вагенар.
Я питаю к Виллему огромное уважение и восхищаюсь им, но тут я почувствовала, что должна возразить.
— Шломо Гельман никогда не говорил, что Джон Демьянюк — не Иван.
— Он посмотрел на фотографии и никого не опознал, — пояснил Вагенар.
— Да, но это вовсе не значит, что Джон Демьянюк — не Иван.
Мы спорили об этом несколько минут, а потом постепенно переключились на другие темы. Но я провела много времени, размышляя об эффективных методах, позволяющих людям искажать и переиначивать факты. Достаточно лишь чуть-чуть затемнить здесь, слегка намекнуть там, немного сместить акценты — и можно существенно изменить характер восприятия и толкования происшедших событий.
Даже когда я спорила с Виллемом, я сознавала, что, если бы я согласилась взяться за это дело, я могла бы искусно, почти незаметно «передернуть» факты. Шломо Гельман стал бы моим костылем, моим якорем, придал бы вес моей невесомости. Гельман не опознал его. Гельман в упор смотрел на фото, но не увидел на нем Ивана. Гельман сказал, что это не он.
Кем должен быть психолог в суде общей юрисдикции: адвокатом со стороны защиты или беспристрастным педагогом-теоретиком? Для себя я отвечаю на этот вопрос так: если я абсолютно честна, я должна быть и тем и другим. Если я верю, что ответчик невиновен, верю в его невиновность всей душой, то я, вероятно, не смогу ему серьезно помочь, но в какой-то мере стану его адвокатом.
Если бы я появилась на свидетельской трибуне на суде по делу Джона Демьянюка, я фактически стала бы его адвокатом, потому что использовала бы весь свой арсенал тонких психологических инструментов, пытаясь убедительно объяснить, что он, возможно, не виновен, а просто стал жертвой ошибочного опознания. Но, подумала я дальше, как определить, было бы это мое адвокатство продиктовано искренней верой в его невиновность или стремлением убедить себя в его невиновности, чтобы оправдать свое присутствие в суде?
* * *
В понедельник 18 апреля 1988 года коллегия из трех израильских судей вернулась в зал суда и огласила свой вердикт. Джон Демьянюк был признан виновным в военных преступлениях, в преступлениях против человечества, в преступлениях против гонимых и в преступлениях против еврейского народа. Спустя неделю, 25 апреля, Джон Демьянюк был приговорен к смертной казни[12].
* * *
В декабре 1988 года Дов Эйтан, один из израильских адвокатов Демьянюка, спрыгнул с верхнего этажа гостиницы «Иерусалим». Его друзья и родственники утверждают, что его столкнули и что на самом деле это было убийство.
Йорам Шефтель, тот самый адвокат, который приезжал ко мне в Англию и пытался убедить меня свидетельствовать в пользу Демьянюка, присутствовал на похоронах Эйтана. После этого к нему подошел 71-летний Исраэль Иехезкели, который пережил холокост, но потерял в Треблинке всю свою семью. Иехезкели что-то крикнул Шефтелю, а потом с мучительным стоном плеснул ему в лицо кислоту, в результате чего у Шефтеля была обожжена кожа и серьезно поврежден глаз.
Иехезкели был осужден за нападение при отягчающих обстоятельствах, приговорен к пяти годам тюремного заключения (с отсрочкой на два года) и выплате Шефтелю 6000 долларов для оплаты счета офтальмолога и 5300 долларов в качестве компенсации за перенесенные им страдания. После вынесения приговора Иехезкели заявил, что он нисколько не раскаивается в содеянном. Наоборот, сказал он, он гордится тем, что обезобразил этого «суперкапо» — еврея, который предает других евреев.
* * *
Итак, кто виновен, а кто невиновен? Когда я думаю о Джоне Демьянюке и калейдоскопе событий, окружающих его дело, мой разум не может проникнуть в эту тьму. Я вижу только серую зону между справедливостью и несправедливостью, правдой и ложью, прошлым и настоящим.
Когда я думаю о вине или невиновности, я думаю и о детях в лагере смерти Треблинка, стоявших в очереди, не шевелясь, всего за несколько мгновений до смерти. Они, поистине невиновные, стояли и смотрели на тех, кто действительно виновен. Их глаза были открыты. Они все видели.
Если бы можно было сделать только еще один шаг в этот ужас и вообразить, что я могла бы заглянуть в темные омуты этих глаз и, поймав застывшее в них отражение, раз и навсегда узнать, являются ли Джон Демьянюк и «Иван Грозный» одним и тем же лицом или нет…
10. Родимое пятно и заикание. Тайрон Бриггс
Правда пробьет себе дорогу и освободит тебя.
Дороти Харрис, мать Тайрона БриггсаВиновность и невиновность не окрашены изначально в черный или белый цвет. Бывают случаи, когда нам так и не суждено узнать правду.
Ричард Хансен, адвокат по уголовным деламСуществует тонкая грань, на которой я балансирую в качестве судебного психолога. Пока стороны яростно спорят о виновности или невиновности подсудимого, моя задача состоит в том, чтобы разбираться с фактами и представлять их надлежащим образом. При этом факты, с которыми мне как привлеченному свидетелю-эксперту приходится иметь дело, обычно не лежат на поверхности, не фигурируют в заголовках газетных публикаций и не отражаются в полицейских отчетах и судебных протоколах. Я участвую в процессе на стороне защиты; я прочитала описания обвиняемых, составленные потерпевшими; я в курсе грязных интимных подробностей преступлений; я видела представленных для опознания подозреваемых и прослушала аудиозаписи допросов. Однако существуют и такие факты, о которых мне никогда не доведется услышать, и подробности, существующие вне пределов моих знаний и моей компетенции. Сторона защиты сообщает мне лишь то, что считает нужным, подбирая именно и только те факты, которые понадобятся мне для дачи показаний. У меня нет доступа к материалам прокуратуры. Мне редко предоставляют возможность поговорить с ответчиком достаточно долго и подробно. И естественно, я не рискую заходить в совещательную комнату, чтобы послушать секретные, не подлежащие огласке рассуждения присяжных относительно виновности и невиновности подсудимого, в том числе и обоснованные сомнения в его виновности.
Но в деле Тайрона Бриггса я окунулась в факты глубже, чем когда-либо прежде. В этом случае я не имела своего обычного статуса эксперта, и за ходом судебного процесса мне пришлось наблюдать извне — до тех пор, пока один бывший присяжный не подошел ко мне и не обрисовал весь клубок страстей и эмоций, всю темную пучину дела «Штат Вашингтон против Тайрона Бриггса».
* * *
Нападения происходили одно за другим, и ситуация становилась все более пугающей.
В ноябре 1986 года, на следующий день после Дня благодарения, студентка медицинского факультета Университета Сиэтла, совершавшая пробежку вокруг кампуса, заметила мужчину, стоявшего неподалеку от общественного туалета. Она продолжила бег, а когда поравнялась с ним, он окликнул ее: «Подождите минутку, я хочу вас спросить…» Она приостановилась в нерешительности, а он направился к ней, неожиданно набросился на нее и прижал к земле. Рядом с ней упал зазубренный кухонный нож, и она схватила его, ощутив мгновенную боль от удара, после чего мужчина потащил ее за руки в помещение туалета. «Иди сюда!» — сказал он резко и сурово. Она выскользнула из своей футболки, вскочила на ноги и как была, в лифчике, побежала через лужайку к зданию кампуса. «Ты ограбила мою сестру! — крикнул он ей вслед. — Я тебя достану!»
3 декабря примерно в 8 утра сотрудница прокуратуры округа Кинг прогуливалась неподалеку от здания суда, и вдруг неизвестно откуда выскочил человек с зубчатым ножом и сбил ее с ног. «Давай кошелек, — потребовал он, — деньги давай!» Он занес над ней нож. «Давай деньги, а то зарежу тебя!» — повторял он. Он полез рукой ей под юбку, а она потянулась к ножу и порезала руку об острое лезвие. Схватив ее кошелек и спортивную сумку, он бросился бежать.
4 декабря сотрудница социальной службы при больнице Харборвью припарковала свой автомобиль рядом с жилым комплексом «Йеслер-террас» и направилась к зданию больницы. Внезапно из-за угла появился человек, быстро подошел к ней и, находясь в полутора метрах от нее, вытащил небольшой стейковый нож и произнес: «Давай сумку или деньги!» Она закричала, и человек бросился бежать. Эта неожиданная встреча длилась около двадцати секунд.
15 декабря в 8:15 утра еще одна соцработница из Харборвью шла на работу в больницу, и вдруг из кустов выскочил человек с кухонным ножом в руке, схватил ее и приглушенным голосом сказал: «Быстро давай деньги! Или я разобью тебе башку!» Она стала испуганно рыться в кошельке и отдала ему все, что было, — пять долларов. «Это мало!» — сказал он, снова угрожая ударить ее ножом в голову. Когда он схватил ее за юбку, она начала кричать и царапать его руку. «Заткнись и отпусти руку!» — сказал он. Драка, царапанье, крик — в итоге ей удалось вырваться и убежать. Сам нападавший побежал в противоположную сторону.
18 декабря около 8 утра, еще в сумерках, лаборантка радиологического отделения больницы Харборвью шла на работу и заметила человека, стоявшего в темном переулке. Помедлив, она обернулась, еще раз взглянула на него, но затем пошла дальше. Но через пару мгновений она, оглушенная, уже лежала на земле: этот мужчина ударил ее сзади по затылку доской от забора. Потом он несколько раз ударил ее кулаком в лицо, затащил по бетонной лестнице в пустую квартиру, разорвал на ней одежду и попытался ее изнасиловать. Но тут дверь внезапно распахнулась, в помещение ворвался другой человек и крикнул: «Не двигаться! У меня пистолет!»
— Мужик, ты чего на меня прешь? — ответил нападавший. — Она первая на меня набросилась. Мужик, я тебе денег дам!
Парень с пистолетом крикнул с лестницы своей подруге, чтобы она позвонила в полицию. Пострадавшая сделала движение в его сторону, и в этот момент нападавший удрал через черный ход.
* * *
19 декабря департамент полиции Сиэтла провел в больнице Харборвью общее собрание. В зале собралось человек двести-триста. Детектив уголовной полиции Робин Кларк, курировавшая расследование «нападений в Харборвью» (все они происходили в нескольких кварталах одно от другого), признала, что общественность настоятельно требует арестовать злодея, и заверила собравшихся, что полиция приложит для этого все усилия.
Полиция разделила округу на сектора наблюдения и составила список подозреваемых, включив в него от 60 до 75 человек. Специалист по фотороботам поработал с жертвой нападения 15 декабря, и 29 декабря примерный портрет нападавшего появился в СМИ: он был опубликован в местных газетах, показан по местному телевидению, развешан в районе Харборвью, и его даже разносили по квартирам, чтобы облегчить поиск подозреваемого.
20 января 1987 года детектив Кларк постучала в дверь одной из квартир комплекса «Йеслер-террас» и показала фоторобот открывшей ей женщине. «Похоже на парня, который живет этажом ниже, — сказала женщина. — Кажется, его зовут Тайрон».
Детектив Кларк установила, что за Тайроном Бриггсом числится неоплаченный дорожный штраф в целых 56 долларов. И уже в 13 часов того же дня она нашла Бриггса на баскетбольной площадке комплекса «Йеслер-террас».
— Мистер Бриггс! — окликнула она его.
Парень лет девятнадцати с баскетбольным мячом в руках обернулся и посмотрел на нее. Кларк сообщила, что арестовывает его за неуплату штрафа. Она сопроводила его в полицейский участок, запротоколировала задержание, сделала соответствующие фото и стала задавать вопросы относительно нападений в районе Харборвью.
— Что вы ответите, — спросила она, — если я скажу вам, что я думаю, что вы и есть тот самый насильник из Харборвью?
На мгновение Тайрон уставился на нее в недоумении, как бы спрашивая себя: «Она что, говорит серьезно?»
— Ну, — наконец произнес он, сильно заикаясь, — я предполагал, что вы заговорите об этом. Но я не он… то есть это не я.
Спустя несколько часов отец Тайрона пришел в полицейский участок и внес залог за своего девятнадцатилетнего сына.
В тот же вечер Карл Вэнс, человек, наставлявший пистолет на нападавшего 18 декабря, опознал Тайрона Бриггса на одной из двадцати одной предложенных ему для опознания фотографий.
На следующий день, 21 января, в 7 часов вечера детектив Кларк постучалась в квартиру Тайрона Бриггса. Дверь открыла мать Бриггса. «Тайрон пошел к приятелю, — сказала она, — если вы немножко подождете, то дождетесь его». Когда Бриггс вернулся домой, детектив Кларк арестовала его.
22 января в 12:30 в дверь Бриггсов снова постучали: на этот раз прибыла группа детективов и полицейских в форме. Они предъявили матери Тайрона ордер на обыск и приступили к тщательному осмотру квартиры. Семья Бриггс собралась в гостиной и смотрела, как посторонние люди методично осматривали сервант, комод, платяной шкаф. Полиции не удалось обнаружить ничего из украденного имущества, не было также ни подходящих ножей, ни узнаваемой одежды.
Позже в этот же день четверо из пяти потерпевших были доставлены в полицейский участок с целью опознания подозреваемого. Они прождали более часа, а потом дежурный сотрудник объяснил им, что полиции не удалось собрать достаточное число лиц для того, чтобы провести опознание арестованного подозреваемого в соответствии с законом. Поэтому вместо опознания «вживую» им пришлось сделать подборку фотографий. Все четыре жертвы нападения указали на фото № 4 — на Тайрона Бриггса. Неделю спустя пятая жертва нападения тоже указала на фото Тайрона Бриггса в той же подборке.
Еще через несколько недель было проведено опознание подозреваемого в группе статистов. И снова все пять жертв и человек с пистолетом идентифицировали Тайрона Бриггса как нападавшего. Прокуратура округа Кинг предъявила Бриггсу обвинение в нападениях, грабежах и попытках изнасилования, всего семь пунктов. Судебное рассмотрение было назначено на май.
В начале марта мне позвонил адвокат по уголовным делам Ричард Хансен и спросил, не соглашусь ли я выступить в качестве свидетеля-эксперта в деле «Штат Вашингтон против Тайрона Бриггса».
* * *
— Полиция совершила вопиющую ошибку, — сказал Ричард. — Им пришлось искать нападавшего под сильнейшим давлением, нужно было найти хоть кого-нибудь. Ну как же — чернокожий нападал на работающих белых женщин и азиаток, и Тайрон, волею случая, оказался похожим на человека на фотороботе. С этого и началась трагедия ошибок.
Выражение «трагедия ошибок» мне понравилось.
— Тайрону девятнадцать лет, старшеклассник, звезда баскетбола, живет со своей семьей в одной из квартир комплекса «Йеслер-террас». Он самый милый парень, какого только можно себе представить. И при этом он очень сильно заикается. Он самый ужасный заика из всех, кого мне доводилось слышать.
Ричард не стал бы упоминать об этом незначительном обстоятельстве без причины. Я ждала продолжения с напряженным интересом.
— Ни одна из жертв нападения не упомянула о заикании, — продолжал он, — ни одна! Более того, из первоначальных показаний жертв нападений мы знаем, что в речи нападавшего не было никаких запинок. Он был спокоен, не шептал и не кричал, а говорил самым обычным тоном, как всегда разговаривают. Если бы вы слышали, как говорит Тайрон, вы бы сразу поняли, что это не может быть один и тот же человек, ведь у Тайрона, по воспоминаниям его родителей, тяжелейшее заикание с самого раннего детства. Я серьезно говорю: чтобы произнести свое имя и адрес, ему требуется почти минута.
Заикание — пометила я себе на страничке блокнота.
— Но это не единственная закавыка в обвинении. Первоначальные описания нападавшего потерпевшими имеют такой же разброс, как то ружье из поговорки, из которого не попадешь в стену сарая. Одна жертва рассказала, что у нападавшего была короткая прическа «афро» с небольшими залысинами, вес примерно 85 кг. Другая описала его как взрослого человека старше двадцати лет ростом 172-175 см. Наиболее подробное описание представила последняя из пострадавших. Она рассказала, что нападавшему было примерно от двадцати двух до двадцати пяти лет, рост 175-178 см, у него кривые желтые зубы, и между двумя передними зубами щель, густая африканская шевелюра, подкрашенная в рыжий цвет, и нос в форме лыжного трамплина. В то время, когда происходили эти нападения, Тайрону Бриггсу было всего девятнадцать лет, прическа — завитки «джери», как у Майкла Джексона, вес около 70 кг, зубы белые и ровные, очень крупный нос и очень широкие губы, над правой губой хорошо заметное родимое пятно. Ни один из свидетелей об этом пятне не упомянул. Так что единственная деталь, которая совпадает с описаниями, — это то, что Тайрон — афроамериканец. Я передам вам эти материалы с курьером, и мы обсудим их с вами после того, как вы сможете ознакомиться с ними. Мне нужно быть в суде. — Ричард, прижав плечом телефонную трубку, взглянул на часы: — Господи, уже через пять минут! Убегаю. Позвоните мне!
Этот вечер я провела у себя в офисе, просматривая документы по делу Бриггса, оставляя пометочки на полях, записывая свои замечания, просеивая, сортируя и классифицируя факты по категориям. В этом деле меня сразу же насторожили три обстоятельства. Первое, и самое заметное, — это то, что пять пострадавших женщин и мужчина-свидетель идентифицировали Тайрона Бриггса как человека, нападавшего на женщин в Харборвью. Свидетельские показания — далеко не абсолют, но если у вас шесть реальных свидетелей уверенно указывают на одного и того же человека, то даже такой скептик, как я, начинает верить, что это неспроста.
Вторая проблема была связана с условиями освещения во время совершения нападений. При дневном или искусственном освещении наша память может воспринимать больше информации и, соответственно, больше ее выдает, когда нас просят вспомнить данное событие. Несмотря на то что нападения случились в то время, когда в Сиэтле было серо и дождливо, а длительность светового дня была близка к годовому минимуму, теоретически света было как минимум достаточно, чтобы жертвы могли разглядеть нападавшего.
Третье обстоятельство касалось длительности нападений. Чем дольше человеку приходится на что-то смотреть, тем лучше это впечатывается в его память. И только одно из нападений в этой серии может считаться «быстрым». Несколько нападений на женщин длились как минимум одну-две минуты.
Я отпила кофе и посмотрела на листы бумаги, лежавшие на моем столе. Это было не просто одно из дел, которые взывали ко мне, крича о неправосудии. Оно не потрясло меня так, как, например, недавнее дело во Флориде, над которым я работала. Там подростка обвинили в попытке изнасилования и в покушении на убийство после того, как он напал на двадцатичетырехлетнюю женщину и ударил ее в живот двадцатисантиметровым мясницким ножом. В ту же ночь, когда на нее напали, она рассказала детективу, что напал на нее подросток, носивший брекеты. Но позже она опознала восемнадцатилетнего Тодда Нили, который никогда не носил брекеты и у которого было железное алиби, подтвержденное поступлением оплаты с кредитной карты, из чего следовало, что в момент совершения преступления он вместе со своей семьей ужинал в ресторане. Полиция утверждала, что Нили покинул ресторан раньше других (хотя никаких доказательств этого не было). Вдобавок жертва нападения изменила свои показания насчет наличия брекетов у нападавшего. В суде она заявила, что, возможно, она ошибочно приняла за брекеты блики света на его зубах. В результате рассмотрения дела без участия присяжных Нили был приговорен к пятнадцати годам заключения[13].
Когда адвокат из Флориды прислал мне полицейские отчеты и стенограммы предварительных слушаний, я твердо убедилась в том, что Тодд Нили стал жертвой ошибочной идентификации. Но в случае с Тайроном Бриггсом я не была так уверена в этом. Я продолжала размышлять — шестеро очевидцев. Шестеро. Мне были известны случаи, когда шесть, семь и даже четырнадцать свидетелей ошибались, но это были особые, высокорезонансные дела, к тому же разбиравшиеся невесть когда. В большинстве дел, с которыми мне доводилось работать, было по одному-два свидетеля.
Однако я помнила и о том, что если может ошибиться один свидетель, то так же могут ошибиться и пятеро. Конечно, разница большая, но некоторая вероятность ошибки остается. Прежде такое случалось.
И я стала снова, более внимательно, вчитываться в полицейские протоколы, отчеты о происшествии и протоколы опознания, пытаясь найти в них нестыковки. Наши воспоминания, вопреки общепринятому мнению, не сохраняются в мозгу неизменными, застывая во времени. Подобно прочим органическим субстанциям, воспоминания могут «портиться» под действием «загрязняющих» факторов.
Я надела очки и приступила к работе.
Итак, 20 января Тайрон Бриггс был предварительно опознан жительницей «Йеслер-террас» по фотороботу, составленному художником в полиции.
«Похож на него», — сказала она детективу Кларк. Бриггс был взят под арест под предлогом неоплаты дорожного штрафа, его фотография была включена в подборку из 21 фотографии, которую затем показали Карлу Вэнсу — человеку, наставившему пистолет на нападавшего во время инцидента 18 декабря. Вэнс уверенно указал на Бриггса и подписал свои показания.
Сегодня детектив Кларк показала мне коллаж из двадцати одной фотографии. Я определенно указал на фотографию под номером четыре как на фото человека, которого я видел, когда он тащил девушку в квартиру, и которого я остановил, когда он попытался изнасиловать ее. Как только я увидел фотографию, я взял ее в руки и понял, что это тот самый человек. Я абсолютно уверен, что это он.
Опознание было запланировано на утро 23 января, но газетные репортеры и тележурналисты узнали, что полиция арестовала подозреваемого в нападениях в Харборвью, и целой толпой собрались в Центре общественной безопасности с заряженными камерами, готовыми к съемке, этакий видеопленочный орудийный расчет. Четверых из пяти жертв нападения провели в помещение для опознания — в небольшую комнату на пятом этаже здания. В это же время, как отметил Ричард в своих записях, сержант полиции подготовил женщин на предмет возможного шока при виде нападавшего на них человека. «Нет ничего необычного в том, что человек реагирует весьма эмоционально, когда после нападения снова видит подозреваемого, — сказал он. — У разных людей эти чувства проявляются по-разному. У кого-то по спине пробегает холодок, у кого-то урчит живот или учащается сердцебиение, кто-то потеет, кто-то снова испытывает сильный испуг».
Это уже было своего рода засорением памяти. Дело в том, что фактически сержант полиции сказал жертвам нападения, что вскоре они увидят нападавшего на них человека. Он настроил их соответствующим образом, сообщив, что у полиции есть определенный подозреваемый.
После этого сержант вышел из комнаты, а через некоторое время вернулся и извинился за задержку. Он объяснил потерпевшим, что полиция не смогла собрать достаточное количество статистов, чтобы обеспечить содержащемуся под стражей человеку (и это был еще один недвусмысленный намек на то, что у полиции уже есть определенный подозреваемый, ожидающий опознания) беспристрастность процедуры опознания. Поэтому вместо опознания «вживую» полицейским пришлось сделать коллаж.
Свидетели ждали, пока на скорую руку изготовят коллаж. При этом детектив Робин Кларк, которая руководила расследованием, шариковой ручкой подрисовывала на каждой фотографии родимое пятно, стараясь, чтобы по размерам и очертаниям эти пятна были похожи на родимое пятно над правой губой Тайрона Бриггса.
Следует сказать, что в этом таилась особая хитрость. Психологам хорошо известно, что необычные черты или объекты неизбежно привлекают наше внимание. Например, когда люди пытаются вспомнить особенности облика Михаила Горбачева, они часто первым делом упоминают родимое пятно у него на лбу. Обычная полицейская практика при опознании по фото — либо скрыть особо приметную черту лица, либо убедиться, что она есть на всех фотографиях. Если у предполагаемого преступника странноватая прическа, полицейские прикроют головы статистов-«отвлекателей» (дистракторов) шляпами. Если подозреваемый носит брекеты, полиция попросит подозреваемого и остальных держать рты закрытыми. Если у подозреваемого на лице глубокий шрам, он должен быть скрыт или у статистов должны быть похожие шрамы.
Когда детектив Кларк подрисовывала родимое пятно на остальных пяти лицах в подборке, она просто следовала обычной полицейской процедуре защиты подозреваемого от тенденциозного отношения и преюдиции. Но в то же время при этом возникли две существенные и потенциально опасные проблемы. Первая: изначально никто из потерпевших не упомянул о родимом пятне у нападавшего. Но поскольку у каждого лица на фотографиях было родимое пятно, несложно было догадаться, что полиция задержала подозреваемого с родимым пятном. Первоначальные впечатления очевидцев, подвергшихся мощному воздействию постсобытийной информации, могли подвергнуться некоторым изменениям и «загрязнениям». Их память просто бы воспользовалась собственной «ментальной ручкой» и дорисовала бы это пятно на том лице, которое они запомнили. В подобных случаях, хотя мы не сознаем или почти не сознаем этого, наши воспоминания изменяются, включая в себя новую информацию.
Вторая проблема возникла позже, в ходе проведения очного опознания. Если бы Тайрон Бриггс был на этой процедуре единственным человеком с родимым пятном, вся процедура идентификации потеряла бы смысл. После опознания по фото у свидетелей осталось бы в памяти, что у подозреваемого есть родимое пятно. И когда они увидели бы лиц, представленных для опознания, они сразу отметили бы человека с пятном и указали бы на него как на нападавшего, возможно, не потому, что он действительно был нападавшим, а потому, что он — человек с родимым пятном.
Мне хотелось забежать вперед и взглянуть на персональные заявления участников личного опознания и опознания по фотографиям. Но я сдерживалась и заставляла себя действовать неспешно и последовательно, шаг за шагом продвигаясь от доказательства к доказательству и сопоставляя факты.
Наконец я дошла до ксерокопий показаний потерпевших при идентификации по фотографиям. Все пять жертв нападения указали на Тайрона Бриггса как на нападавшего, но в каждом случае потерпевшие выказывали некоторые сомнения и нерешительность. В своих письменных показаниях они отмечали, что к своему выбору они пришли, пользуясь методом исключения.
Студентка Университета Сиэтла, подвергшаяся нападению 28 ноября, написала: «Я выбрала человека на фото № 4, так как он похож на напавшего на меня человека, и, возможно, это он и есть. На фото анфас его губы выглядят толстыми, но как выглядели губы нападавшего, я точно не помню. Остальные черты его лица похожи. И определенно, лицо нападавшего не соответствует ни одной из остальных пяти фотографий».
Жертва ограбления 3 декабря написала: «Я не уверена, что № 4 — это он. Но может быть, это и он. Но номера 1, 2, 3, 5 и 6 — точно не он».
По словам пострадавшей 4 декабря, «это скорее № 4, потому что № 1 не такой большой, а № 4 был менее плотного сложения, и у него более округлые черты лица. И все-таки я не совсем уверена, что это № 4».
Из показаний потерпевшей 15 декабря: «У меня ощущение, что это № 4. Я не помню, что у него было родимое пятно, но также я не помню, что его не было».
А вот слова жертвы нападения 18 декабря: «Это точно не номера 1, 2, 3, 5 и 6. Я уверена, что это № 4. Правда, я не помню, чтобы у него было родимое пятно на лице, но какое-то пятно определенно было».
Каждое из этих заявлений больше походило на предположение, чем на уверенное утверждение. Рассуждения, основанные на догадках, чрезвычайно опасны, потому что, когда свидетель сомневается, догадки и предположения заполняют собой пробелы в структуре изначального представления о событии, так что при этом фактически имеет место изменение изначального воспоминания. Позже, роясь в воспоминаниях, свидетель может воссоздать ошибочные образы, которые прежде были только предположительными, но потом укоренились в памяти. Более того, если изначальное впечатление часто описывается не очень уверенно, то позже, когда на реальное воспоминание в памяти свидетеля уже наложился последующий ошибочный образ, заявления становятся более уверенными. После этого свидетельница уже не может отличить первоначальные факты от последующих наложений, и вся картина, которую она теперь «видит», представляется ей одинаково достоверной. Реальные факты скрепляются между собой домыслами.
Представьте себе память в виде груды разнородных кирпичей (подробности, факты, наблюдения, ощущения), собранных в большую груду. В такой аналогии догадки и предположения играют роль цементного раствора, позволяющего кирпичам стать сплошным, цельным сооружением. Вначале догадка может быть хлипкой и податливой к деформациям, но постепенно она крепнет и перестает поддаваться изменениям. И каждый раз, когда человек вызывает из памяти данное воспоминание, она кажется все более живой, яркой и реалистичной, так что свидетель все больше убеждается в том, что именно так все и было на самом деле.
В реальной уголовной процедуре идентификации полиция и сторона обвинения часто оказывают едва заметное, но глубоко проникающее давление на свидетелей с целью получения более полных и четких показаний, и под действием этого давления догадки быстро крепнут и трансформируются в уверенность. Кроме того, пусть это не покажется странным, свидетели могут и сами давить на себя, поскольку мы вообще не любим выглядеть неуверенными или сбитыми с толку, это просто заложено в человеческой натуре. И если мы выдали свой вариант ответа, мы склонны и дальше его придерживаться, со временем все больше и больше уверяясь в его правильности. Любую попытку заставить нас переосмыслить или подвергнуть сомнению утверждение, которое мы выдвинули, считая соответствующим реальности, мы воспринимаем как выпад против нашего доброго имени и сомнение в нашей честности.
Возможно, выбор Тайрона Бриггса в ходе опознания был обусловлен и еще одним обстоятельством. Дело в том, что трое из потерпевших — представительницы белой расы, еще двое — азиатки, а нападавший — чернокожий. Хорошо известно, что люди лучше распознают лица людей своей расы, чем людей других рас. Это явление, называемое межрасовой идентификацией, наблюдалось в ходе множества психологических экспериментов, однако многие до сих пор не имеют представления о важности этого фактора. В 1977-1978 годах я проводила эксперимент, целью которого была проверка основных представлений о факторах, влияющих на опознание подозреваемых очевидцами. И один из наших гипотетических сценариев был удивительно похож на случай Бриггса.
Две женщины утром идут на занятия, одна азиатка, другая белая. Внезапно у них на пути появляются двое мужчин, темнокожий и белый, и пытаются отнять у них сумочки. Позже женщинам показывают фотографии известных в округе борсеточников. Какое утверждение точнее описывает ваше представление о способности этих женщин идентифицировать грабителя?
а) Обеим женщинам — и азиатке, и белой — труднее идентифицировать белого человека, нежели темнокожего.
б) Белой женщине труднее идентифицировать темнокожего, нежели белого.
в) Азиатке легче идентифицировать обоих мужчин, чем белой женщине.
г) Белой женщине проще опознать темнокожего, чем белого.
55 % испытуемых выбрали правильный ответ — «б»: белой женщине труднее идентифицировать темнокожего, нежели белого. 60 % респондентов полагали, что обеим женщинам будет труднее опознать белого, чем темнокожего. Еще 16 % сочли, что азиатке идентифицировать обоих мужчин проще, чем белой женщине. 13 % ответили, что белой женщине проще опознать темнокожего, нежели белого мужчину. Иными словами, 45 % респондентов в этом опросе понятия не имели о феномене межрасовой идентификации.
Представим на мгновение, что Тайрон Бриггс не совершал инкриминируемого ему преступления. В таком случае именно особенностями межрасовой идентификации можно было бы отчасти объяснить, почему потерпевшие могли спутать лицо Бриггса с лицом реального преступника. Однако опознание Бриггса Карлом Вэнсом нельзя объяснить особенностями межрасовой идентификации. Вэнс, как и Бриггс, афроамериканец. Почему же Вэнс опознал Бриггса, если тот на самом деле был невиновен, и почему он идентифицировал его так уверенно? «Я абсолютно уверен, что это тот самый человек», — сказал он, указывая на фото Тайрона Бриггса.
По словам Ричарда, подружка Карла Вэнса (она же мать Крейга Миллера, лучшего друга Тайрона Бриггса) жила в квартире по соседству с той пустой квартирой, в которой 18 декабря произошло нападение. На протяжении трех лет Вэнс бывал в этой квартире три-пять раз в неделю. Так что в целом, по прикидкам Ричарда, он должен был побывать в квартире лучшего друга Тайрона более 480 раз — в той самой квартире, в которой Тайрон бывал каждый день, а то и по два-три раза в день в течение нескольких лет. Крейг и Тайрон оба помнили, как Карл не единожды проходил мимо них; бывало, они даже перебрасывались несколькими словами. Иначе говоря, Карл Вэнс видел Тайрона Бриггса в этом доме, знал его в лицо и не мог не узнать его на одном из двадцати одного фото, показанных ему в полиции.
Когда Вэнс выбрал фото Бриггса из стопки фотографий и заявил, что он «абсолютно уверен, что это именно тот человек», возможно, это произошло потому, что он действительно прежде видел его лицо, но видел совсем не потому, что это было лицо нападавшего, а потому, что это лицо было ему знакомо как лицо близкого друга сына его подруги, человека, которого он сотни раз видел в окрестностях жилого комплекса «Йеслер-террас».
Я отложила карандаш и оглядела бумаги, разложенные по всему столу. До сих пор у меня было пять основных рубрик: концентрация внимания на оружии (в каждом случае у нападавшего был нож); стресс (нападения, безусловно, были жесткими и стрессогенными); постсобытийная информация; межрасовая идентификация; бессознательный перенос.
Теперь пришло время заняться линейкой опознания, в ходе которого пять жертв нападения и Карл Вэнс в линейке из шести человек уверенно указали на Тайрона Бриггса. После опознания полицейские поняли, что дело сделано и что сторона обвинения должна сообщить адвокату Бриггса, что они выдвигают обвинение против его подзащитного. Если шесть очевидцев уверенно опознают подозреваемого, то дело, наверное, и правда не должно вызывать никаких сомнений.
Но мне все-таки чудилось в этом нечто подозрительное. Что там все-таки с этим родимым пятном? Я изучала глянцевую фотографию 20 х 25 см шестерых мужчин в линейке опознания. Даже на фотографии, на которой Тайрон Бриггс был бы уменьшен до размеров лилипута, я могла бы различить родимое пятно над его правой губой. Я также увидела, что ни у кого из других мужчин такого родимого пятна не было.
Вот — этого я и опасалась! Вот что довело ситуацию до катастрофической. Из фотографий, сделанных пятью неделями ранее, свидетели узнали, что у нападавшего было хорошо заметное родимое пятно, так как на каждом портрете статиста в этой подборке было пятно, подрисованное детективом с помощью шариковой ручки. Но на самом деле такое пятно было только у одного человека из фотоподборки — у Тайрона Бриггса. И позже в группу для личного опознания был включен только один человек из тех, чьи фотографии вошли в подборку для заочного опознания, а именно Тайрон Бриггс.
Большими буквами, жирным курсивом и с двойным подчеркиванием я набрала на своем компьютере «ошибочное опознание под влиянием фотографий». Когда свидетелям показали шесть человек на линейке опознания, то один, чью фотографию они видели раньше, должен был показаться им знакомым. Возможно, и даже вероятно, что это узнавание в их представлении оказалось — ошибочно — связанным с преступлением, а не с тем, что это лицо они просто видели раньше в подборке фотографий. Нетрудно вообразить, что происходило в сознании потерпевших, когда они присутствовали на личном опознании в группе: «При опознании по фотографиям у всех людей на фото было родимое пятно. Я указал на человека, который был на фото № 4, вот он стоит здесь, и у него родимое пятно. Больше ни у кого родимого пятна нет. Получается, что это тот человек, который напал на меня».
И вот тут-то и возникает проблема с убежденностью. С каждой последующей процедурой идентификации (и с теми изменениями, которым подвергается первоначальное воспоминание под влиянием постсобытийной информации!) уверенность свидетелей в своих показаниях возрастает. К тому времени, когда после всех процедур опознания, после повторных изобличений Тайрона Бриггса и мысленных генеральных репетиций они попали в зал суда, они уже были в высшей степени убеждены, что нападал на них именно Бриггс.
И это несмотря на то, что его облик никоим образом не соответствовал первоначальным описаниям, которые они представили полиции, что изначально ни одна из пострадавших не упомянула ни о каком родимом пятне и что по фото потерпевшие сначала опознавали его осторожно и неуверенно.
Кроме того, я обнаружила еще две проблемы, связанные с опознанием. Когда сержант полиции, руководивший опознанием, попросил Тайрона Бриггса повторить определенные фразы, молодой человек заикался. Кстати, одна из потерпевших отметила в своих показаниях, касающихся опознания, что Бриггс заикается, а нападавший на нее человек не заикался. Другая потерпевшая отметила, что Бриггс «производил впечатление невротика и привлекал этим внимание. Чтобы что-то выговорить, ему требовалось довольно много времени». Еще одна потерпевшая написала, что Бриггс был суетлив и казался очень нервозным, говорил с трудом.
При этом в своих первоначальных показаниях ни одна из потерпевших не упоминала о заикании и вообще о каких-либо проблемах с речью. Но здесь был человек с родимым пятном — единственный человек с пятном, который фигурировал и в фотоподборке, и в группе для личного опознания, но который при этом с трудом выговаривал слова, запинался в речи и выглядел очень нервозным. Из их показаний по результатам опознания было ясно, что нервозность и затрудненная речь Бриггса произвели впечатление на свидетелей — они обратили на него внимание, отметили его нервозность и постепенно сфокусировались на нем.
Что могло произойти в их сознании? Вот как выглядит возможный сценарий. В первоначальных воспоминаниях потерпевших о нападавшем не было никаких упоминаний о заикании или каких-либо иных проблемах с речью. Напротив, некоторые из них отметили его «спокойные разговорные интонации». Но подозреваемый, находившийся в группе для опознания, явно нервничал и с трудом выговаривал слова — почему же он так нервничал? «Может быть, потому, что он виновен. Может быть, потому, что он понимает, что будет опознан. Может быть, потому, что это и есть тот, кто напал на меня».
После опознания Бриггса прокурор собрал вместе всех пятерых свидетелей и сообщил им, что они указали на одного и того же человека и что этот человек живет неподалеку от тех мест, где совершались нападения. По существу, прокурор подкрепил их утверждения и как бы поощрил потерпевших, сообщив им, что они сделали правильный выбор и, значит, «поступили хорошо». Такая положительная оценка может повлечь за собой повторение поступка, которое было оценено положительно, а также укрепить уверенность потерпевших в правильности сделанного ими выбора. Ко времени проведения судебного заседания они ощущали бы все большую уверенность, что опознанный ими человек — это действительно тот, кто на них напал. Эта уверенность будет замечена присяжными заседателями, которым их свидетельские показания покажутся совершенно убедительными. Ведь ничто так не убеждает присяжных, как уверенный свидетель.
После этой краткой встречи с прокурором одна из свидетельниц сказала: «Мы все почувствовали себя счастливыми», и четверо потерпевших сообщили, что теперь они абсолютно уверены, что нападал на них именно Бриггс. Только одна из жертв (юрист), подвергшаяся нападению 4 декабря, по-прежнему высказывала некоторые сомнения.
Существовала еще одна проблема, которая не укладывалась четко ни в один из моих «ящичков», этакое гниловатое яблочко, откатившееся далеко от яблони. Одна из жертв предварительно опознала в качестве нападавшего на нее другого человека: 1) соответствовавшего первоначальным описаниям, данным потерпевшими, 2) в точности похожего на полицейский фоторобот, 3) однажды арестованного полицейской засадой, устроенной вблизи «Йеслер-террас», 4) который не жил поблизости и не имел здесь никаких дел.
Этого человека звали Фил Уидмер. Его фото почему-то никогда не показывали ни одной из остальных потерпевших, которые в итоге указали на Тайрона Бриггса. Этот человек также не фигурировал ни в каких процедурах опознания. Когда внимание полиции сфокусировалось на Тайроне Бриггсе, про Уидмера вроде бы забыли, отбросили его, как горячую картофелину. Почему? Об этом я могла только гадать. Было очевидно, что полиция Сиэтла продвигает гипотезу, согласно которой все нападения в Харборвью совершались одним и тем же человеком — ведь все они произошли в одном районе, примерно в одно и то же время суток, и, согласно общим описаниям, это был темнокожий мужчина от двадцати двух до двадцати пяти лет, весом примерно 80-90 кг, с короткой прической «афро» и, возможно, с залысинами.
И хотя Уидмер подходит по это описание по всем пунктам, возможно, у него было железное алиби в случае одного из нападений. Поэтому его исключили из числа претендентов на роль «нападавшего в Харборвью», который, как полиция сама себя убедила, один совершил все пять нападений. С того момента, как Бриггса опознал Карл Вэнс, а потом и несколько потерпевших, интерес к Уидмеру пропал. У полиции уже был «простофиля», которого уверенно опознали шесть свидетелей, так зачем тратить время и силы на кого-то еще?
Я закончила заносить в компьютер свои соображения, закрыла файл и позвонила Ричарду, чтобы сказать, что я буду выступать в суде по этому делу.
— Вы наверняка победите! — сказал он. — Тут дело очевидное, ясное и простое, у Бриггса есть алиби, и доказательств, подтверждающих его вину, очень мало или вообще нет.
— Так мало или нет? — спросила я.
— Бриггс левша, и некоторые из женщин утверждали, что нападавший был левшой. И сумочка одной из жертв была обнаружена в мусорном баке неподалеку от квартиры Бриггса. Это всё.
— И нет вообще никаких вещественных доказательств — отпечатков пальцев, следов обуви, слюны, спермы, волос, волокон одежды?
— Ни-че-го. Полицейские провели в квартире Бриггса тщательный обыск и ушли ни с чем. Не нашли ни соответствующей одежды, ни припрятанных сумочек или кошельков, ни даже ножа для стейка в ящике кухонного стола. Нет ни одного, даже самого незначительного доказательства причастности Тайрона к этому преступлению, кроме указующих жестов свидетелей.
— Шестерых свидетелей, — заметила я.
На другом конце провода возникло замешательство.
— Вы как будто сомневаетесь, Бет. Что случилось?
Я усмехнулась:
— Просто стараюсь действовать профессионально и не спешить с выводами.
Но тут я немного покривила душой. Мне не давало покоя то, что после ареста Тайрона Бриггса в окрестностях Харборвью не случилось ни одного нападения на женщин — по крайней мере, об этом не было сообщений ни в газетах, ни в телевизионных новостях. Беспокоило меня и то, что мне пришлось рыться и что-то подыскивать в моей классификационной системе для того, чтобы как-то объяснить результаты опознаний. Межрасовая идентификация и концентрация внимания на оружии имели отношение к случаям с пятью женщинами (четырьмя белыми и азиаткой), но Карл Вэнс сам темнокожий и сам держал наставленный на нападавшего пистолет в течение нескольких минут в восемь часов утра. Я могла только предполагать, что Вэнс внимательно наблюдал за этим человеком, и я также знала из присланных мне Ричардом материалов, что у них состоялся довольно продолжительный разговор.
Но всегда, всегда существует другая сторона. Первоначально Вэнс описал нападавшего как человека лет двадцати двух — двадцати пяти с короткой прической «афро» и залысинами. Это описание трудно «натянуть» на девятнадцатилетнего парня с полноценной шевелюрой, завитой в длинные кудри. Кроме того, Вэнс никогда не упоминал о заикании и родимом пятне.
Со всей тщательностью я привела в порядок свои замечания, пока отложила их и в следующие четыре недели была занята другими делами.
5 мая судья Дональд Хейли постановил, что имеющихся доказательств, подтверждающих вину подсудимого, достаточно для того, чтобы он, по своему усмотрению, смог обойтись без моих показаний. Другими словами, он не позволил мне явиться в суд в качестве свидетеля-эксперта. Среди приводимых им доказательств было то, что Бриггс в целом соответствует описаниям, предоставленным пострадавшими, что его опознали все пять жертв и очевидец, что Бриггс левша (несколько потерпевших показали, что нападавший был левша); что Бриггс живет в том районе, где совершались преступления, и что поблизости от его квартиры в мусорном баке была найдена сумочка одной из потерпевших.
Ричард Хансен был в бешенстве.
— Только послушайте! — сказал он. — К числу доказательств, подтверждающих вину Бриггса, судья Хейли отнес то, что, когда детективы производили обыск в квартире Бриггса, они ничего не обнаружили! И вот это отсутствие улик он приводит как доказательство того, что Бриггс должен был припрятать оружие, одежду и прочие предметы с места преступления.
Мне вспомнилась сцена, описанная в книге «Фатальное видение» (Fatal Vision), в которой капитан «зеленых беретов» Джеффри Макдональд, обвиненный в убийстве своей беременной жены и двух малолетних детей, радостно метал дротики в фотографию своего обвинителя.
— Ну, давайте посмотрим правде в глаза, — сказал Ричард. — Семейство Тайрона проживает в муниципальном многоквартирном доме, влачит нищенское существование, у них и денег-то нет, чтоб покупать стейковые ножи. Черт побери, у них и на стейки-то денег нет! И при этом судья в своем постановлении опирается на тот факт, что при обыске не обнаружили никаких стейковых ножей — и это якобы указывает на то, что Тайрон их, по-видимому, спрятал! — Ричард выругался себе под нос. — Здесь предвзятость кроется в каждой мелочи, во всех выводах и пробелах в доказательствах, и это ловко составленное судебное решение построено на предубеждении с начала и до конца.
Заголовок в The Seattle Times от 6 мая 1987 года гласил:
Судья наотрез отказал в участии психологу
Вчерашнее постановление судьи, исключающее свидетельство эксперта доктора Элизабет Лофтус, вызвало гнев адвоката девятнадцатилетнего Тайрона Бриггса. Этот молодой человек привлечен к суду за предполагаемые нападения сексуального характера и ограбление пяти потерпевших неподалеку от медицинского центра Харборвью в ноябре и декабре прошлого года.
Адвокат Ричард Хансен заявил судье Дональду Хейли, что, приняв такое решение, тот «совершил серьезную ошибку».
— Я считаю, что вы полностью исключили возможность защиты в этом деле, — заявил Хансен.
Далее он также уведомил судью, что «если Бриггс невиновен и будет осужден ошибочно, причиной этого в значительной степени станет это решение вашей чести».
Процесс продолжался еще пять дней. Заключительные заявления были сделаны 11 и 12 мая, после длившегося семь с половиной часов совещания присяжных, с разбросом голосов 11:1 по одному пункту и 10:2 за полностью оправдательный приговор. В итоге жюри присяжных уведомило судью, что не может согласиться с обвинением. Судебное разбирательство было объявлено неправомерным, и сторона обвинения тут же объявила о запланированном повторном судебном рассмотрении этого дела.
Повторное рассмотрение дела Тайрона Бриггса о нападениях в Харборвью началось 22 июля 1987 года. Ричард снова сделал попытку добиться разрешения на мое выступление в суде, и судья снова отверг его доводы. В то же время стороне обвинения разрешено было представить показания эксперта-свидетеля Джона Сельмара, специалиста по патологии речи, преподававшего в Вашингтонском университете. В ходе первого рассмотрения присяжные были обеспокоены заиканием Тайрона Бриггса — как же можно признать Бриггса нападавшим, если ни одна из жертв не отметила его заикание? Прокурор рассчитывал разрешить эту проблему, получив от эксперта по патологии речи разъяснение, в каких условиях заикание может не проявляться.
Один из задействованных в деле обвинителей задал Сельмару вопрос об особых ситуациях, в которых заикающийся требовал бы что-либо от незнакомого человека: «Вы ожидали бы проявления заикания в такой ситуации?»
«Если в этой ситуации он был в себе уверен, вряд ли ожидал бы, может быть, вообще не ожидал бы заикания в таких обстоятельствах», — ответил Сельмар.
Защита делала попытки опровергнуть показания эксперта-свидетеля, вызывая свидетелей одного за другим для подтверждения того, что у Тайрона Бриггса было сильнейшее заикание, очевидным образом проявляющееся в каждом произносимом слове и в каждом разговоре. Консультант-методист, занимавшийся с Тайроном Бриггсом на индивидуальной основе по часу в день в течение восьми или, может быть, десяти недель, засвидетельствовал, что Тайрон всегда говорил с сильнейшим и очень заметным заиканием.
Педагог-дефектолог со степенью магистра и восьмилетним опытом преподавания засвидетельствовал, что заикание Тайрона было «весьма заметным» и что «он всегда испытывает затруднения в начале каждого высказывания и долго запинается, прежде чем сдвинет наконец предложение с места».
Тренер Тайрона по баскетболу Ларри Уитни утверждал, что Тайрон «постоянно, постоянно заикается… Я бы сказал, что перед началом каждой фразы он выдавливает свое “ы-ы-ыы-ыы…”».
Тайрон Бриггс предстал перед судом для дачи показаний и на вопрос о возрасте ответил: «Ы-ы-ы-ы-ыы-ыы-ы-ды-ды-девятнадцать». Следующий вопрос был о дате его рождения, на это он ответил десятком «ыы», в итоге так и не выговорив полностью ни одного слова. Много раз в ходе процесса в режиме «вопрос — ответ» заикание Тайрона не давало ему возможности ответить на вопрос.
Из сообщений в газетах явствовало, что в ходе второго судебного разбирательства заиканию было уделено особое внимание. Казалось, что свидетельские показания решают дело — шестеро очевидцев его опознали, чего еще надо? Я испытывала неприятное ощущение, словно нахожусь где-то за пределами процесса и не в силах как-то повлиять на происходящее. Явной несправедливостью было и то, что стороне обвинения была предоставлена возможность использования показаний эксперта, а защите в этом было отказано. Хотя бы один этот момент со всей очевидностью демонстрировал предвзятость суда, явно поддерживавшего сторону обвинения. А если несправедлива позиция суда, может ли быть справедливой позиция присяжных?
Мне казалось, что присяжные просто не были информированы о тех фактах, которые привели бы их к принятию справедливого и законного решения. В результате изучения этого дела я убедилась в том, что присяжные имели ложное представление о показаниях очевидцев, но я также знала, что в ходе второго судебного разбирательства жертвы нападений будут еще более уверены в правильности опознания ими подозреваемого. И эта уверенность может произвести сильное впечатление на присяжных и, возможно, убедить их.
17 августа, после почти трехдневного совещания второе жюри присяжных огласило свой вердикт по делу «Штат Вашингтон против Тайрона Бриггса». Тайрон Бриггс был признан виновным по двум пунктам обвинения в грабеже первой степени, двум попыткам изнасилования первой степени, одному вооруженному нападению второй степени и одной попытке грабежа первой степени.
Впоследствии репортеры засыпали присяжных вопросами. Один из присяжных рассказал, что ни у кого из его коллег не осталось никаких сомнений после заключительного слова стороны обвинения и что начиная с самого первого голосования коллегия присяжных, состоявшая из пяти мужчин и семи женщин, была единодушна почти по всем пунктам.
«Шесть человек были полностью уверены в правильности опознания ими Тайрона Бриггса как нападавшего на них человека. Это было весьма и весьма убедительно, — сказал другой присяжный. — Десять человек могут описать лошадь по-разному, но по этим описаниям мы все равно сможем узнать лошадь».
«Может быть, решающую роль сыграло мнение логопеда-дефектолога?» — последовал вопрос. Возможно, это могло как-то повлиять, ответили некоторые присяжные, но даже и без этих показаний они, по всей видимости, проголосовали бы за осуждение, просто на основании показаний очевидцев. «Все жертвы опознали этого парня, плюс Карл Вэнс. Мы полагаем, что девушки были уверены, что это он».
12 декабря 1987 года судья Фейт Эниерт приговорила Тайрона Бриггса к шестнадцати годам и трем месяцам заключения. Ричард Хансен незамедлительно подал апелляцию. В одном из пунктов апелляции он кратко упомянул отказ судьи разрешить мне дать показания, но главным аргументом в апелляции стало ненадлежащее исполнение своих обязанностей присяжными. Несколько ранее, в сентябре-октябре, нанятый семьей Бриггса частный следователь в ходе второго судебного рассмотрения задавал присяжным вопросы относительно заседания совета присяжных. Он выяснил, что один из присяжных в ходе совещания обсуждал свою собственную проблему с речью — заикание, проявлявшееся только в определенных обстоятельствах, которое он умел подавлять. Другой член коллегии присяжных заявил этому частному следователю: «Марк Перри рассказал о том, как ему удается справляться со своим заиканием. Рассуждения Перри о своем заикании и о том, как он с этим справляется, помогли мне понять, как Тайрон Бриггс мог контролировать свое заикание, чтобы никто из жертв его не заметил».
Другой присяжный заявил следующее: «Марк Перри рассказал присяжным об этой проблеме, в том числе и о своем личном опыте заикания, и о том, как человек вроде Тайрона мог совершать преступления, не заикаясь в эти моменты».
В ходе предварительной проверки компетентности присяжных заседателей, когда юристы тестировали присяжных на предмет их квалификации, компетенции и потенциальной пристрастности, Ричард задал вопрос, доводилось ли кому-либо из списка присяжных заикаться самому, контактировать с заикающимся и вообще сталкиваться с какими-либо речевыми проблемами. И тогда Перри промолчал. На скамье присяжных Перри никогда не упоминал о своем дефекте речи. После вынесения вердикта он неохотно сознался, что обсуждал свой дефект речи в ходе совещания присяжных, чтобы помочь им в решении критически важного вопроса относительно заикания. В письменном заявлении после вынесения вердикта Перри признал, что он «рассказал присяжным о том, что испытал сам, в порядке помощи в истолковании свидетельских показаний относительно заикания… Мои познания в отношении этого дефекта речи повлияли на заключение присяжных о том, что Тайрон заикался не всегда».
В июне 1988 года я столкнулась с Ричардом на званом вечере в Западном Сиэтле и спросила его об апелляции по делу Бриггса. Когда он ожидает решения суда?
— Во всяком случае, не раньше чем через полгода, — ответил тот. — А Тайрон тем временем опять в тюрьме. Он был выпущен под залог в ожидании апелляции, но судья использовал какой-то мелкий предлог, чтобы швырнуть его обратно в тюрьму округа Кинг до вынесения судом решения по апелляции. Каждый раз, проезжая мимо тюрьмы, я думаю, что в ней заперт Тайрон, и испытываю тяжелое чувство.
— Вы действительно верите, что он невиновен? — спросила я.
— Это больше чем уверенность, это убежденность, — сказал Ричард. — Невыносимо, совершенно невыносимо знать, что Тайрон невиновен, но присяжные признали его виновным, и его могут надолго посадить в тюрьму. Сейчас самое важное дело в моей жизни — это добиться освобождения Тайрона, но я ничего не могу сделать, кроме как ждать и молиться, чтобы Апелляционный суд посмотрел на это дело так же, как и мы. Я уверен, что так и будет, я никогда еще не был в этом так уверен. Но это ожидание — просто пытка.
* * *
Прошло еще шесть месяцев. В середине марта 1989 года я получила письмо от Джоан Спенсер:
Уважаемая профессор Лофтус!
Как член первого жюри присяжных по делу Тайрона Бриггса, осужденного в Сиэтле как «нападавшего из Харборвью», я обращаюсь к Вам от его имени. Я, как и многие другие, полагаю, что он невиновен и стал жертвой ошибочного опознания…
В настоящее время нас тревожит то, что вот-вот должно начаться рассмотрение апелляции по этому делу. По ходу всех этих мытарств средства массовой информации распространили о нем массу негативной информации. Нам необходима поддержка со стороны СМИ, которая позволила бы общественности свободно получать достоверную информацию по этому вопросу. Он сам и его семья безмерно страдают от вынесенного ему несправедливого приговора. У всех у нас есть ощущение, что шансы добиться справедливого решения достаточно велики.
Джоан Э. Спенсер, глава ассоциации «Правосудие для Тайрона Бриггса»Я прочитала это письмо дважды, почти не веря своей удаче. Более десяти лет я исследовала деятельность присяжных в надежде понять, как они работают, представить себе ход их мыслей и весь процесс принятия решения. Начиная с 1985 года я работала консультантом в Американской ассоциации юристов (ABA) в части изучения восприятия присяжными увиденного и услышанного, анализа и осмысления данных об их функциях и о том, насколько успешно они справляются с разногласиями в трудных для понимания делах. Но основная проблема в этой и в других попытках анализировать деятельность присяжных состоит в том, что, согласно федеральному закону, запись, прослушивание или ведение наблюдения за присяжными в процессе обсуждения дела или голосования является преступлением и карается штрафом или тюремным заключением.
Кроме того, чаще всего присяжным не нравится, когда к ним пристают с аналитическими вопросами и расспросами о деталях: они исполнили свой долг и хотели бы выбросить все это из головы.
Никогда не забуду комментарий присяжного к одному сложному делу: «Быть присяжным — страшное дело. Я не умен и не образован, и я не знаю, правильно ли давать такому человеку, как я, право кого-то судить. Это было ужасно. Мне приходилось напряженно думать, как никогда прежде. Мне пришлось постараться понять смысл таких слов, как правосудие и истина, и…»
Но сейчас у меня в руках было письмо от присяжной заседательницы, которая выполняла свои обязанности в ходе сложного уголовного процесса и теперь нуждалась в моей помощи. Если бы я могла поговорить с ней и узнать ход ее размышлений относительно дела Тайрона Бриггса, я за несколько часов узнала бы больше, чем в ходе формального исследования деятельности незаинтересованных присяжных в течение нескольких месяцев упорной работы.
Но чего хотела от меня Джоан Спенсер? На двух предыдущих слушаниях меня как эксперта-свидетеля не допустили к даче показаний. Если Апелляционный суд не признает, что суд первой инстанции допустил ошибку, не разрешив мне дать показания, на практике это будет означать, что мне и впредь не будет позволено выступать с показаниями в будущих судебных разбирательствах. Может быть, Джоан Спенсер просто хотела задать мне какие-то вопросы? Возможно, она думала, что я смогу использовать свои связи, позвонить кому-то, плеснуть бензина в пламя, которое она пытается разжечь. Или, может быть, ей просто хотелось, чтобы я оказалась на ее стороне и, как и она, поверила в невиновность Тайрона Бриггса.
Я набрала номер, и через десять минут на 11:30 следующего дня был намечен наш совместный ланч с бывшим присяжным заседателем Джоан Спенсер.
* * *
Стоял ветреный мартовский день, все небо было в грозных облаках, тяжело свисавших вниз клочьями ваты грязного чернильного цвета. Перед простеньким сооружением городского яхт-клуба, расположенного на пятачке между озером Юнион и озером Вашингтон, рядом с кампусом Вашингтонского университета, были пришвартованы сотни яхт. Резкий лязг снастей на двенадцатиметровых алюминиевых мачтах, скрип выбираемых фалов толщиной в крепкую мужскую руку — все это просто оглушало.
Джоан Спенсер ждала меня в холле. Ростом она была чуть выше полутора метров, возраст за пятьдесят, энергичная, со звучным ровным голосом. Одета была в костюм шоколадного цвета и бежевую атласную блузку, темные узорчатые чулки и бежево-коричневые туфли на каблуках. Официантка усадила нас за столик около окна, и мы несколько минут поговорили о погоде, ветре и о чудесном виде за окном. Потом Джоан достала из своей большой кожаной сумки увесистую стопку бумаг и положила ее на стол рядом с масленкой.
— Вот, вкратце, — сказала она, похлопывая по документам. — Это наш шанс на спасение. Последняя попытка добиться справедливости. Честно говоря, у меня такое ощущение, что я сейчас набрала 911 и взываю о помощи. И продолжаю взывать в надежде, что кто-нибудь меня услышит.
Я слегка приподняла брови и опять призадумалась: чего же она от меня ожидает, как я могу ей помочь?
— Я просто хочу, чтобы люди знали факты, — сказала она. — Давайте начнем с начала, с первого судебного разбирательства. Я никогда не забуду то жуткое ощущение, когда обвинитель назвал Тайрона Бриггса «нападавшим из Харборвью». У меня дрожь прошла по спине от мысли, что я сижу в одном помещении с тем, на чьей совести эти страшные нападения. Однако я очень серьезно отношусь к обязанностям присяжного, и напомнила сама себе о наказе судьи никогда не делать поспешных выводов и не принимать решений, пока не узнаешь все факты. Судья позволил нам делать конспекты, и мои записи были весьма пространными.
Джоан отпила из своего стакана, оставив на бортике след помады цвета мякоти лосося.
— Не принимай решений, пока не услышишь все доводы, — так учил нас судья. — Знаете, у меня было такое странное ощущение, когда он сказал, что все это совершил именно тот человек. Для меня это выглядело вполне убедительно — ведь все потерпевшие указали на него. Ну да, он выглядел вполне безобидным, но потом я вспомнила о Теде Банди, который тоже выглядел довольно безобидным.
Да, и я знаю про Теда Банди, подумала я.
Джоан продолжала:
— Потерпевшие рассказывали, как все происходило, и я очень жалела их: ведь кто-то действительно все это делал с ними, и это были просто ужасные переживания. С самого начала я думала, что вынесу обвинительный вердикт. У меня две внучки, и я совсем не хочу, чтобы по улицам ходили подобные люди.
Я уже так устала слышать о нападениях на женщин, насилиях, ограблениях, от всего этого. И мне не хочется, чтобы виновные разгуливали на свободе. Кто бы ни совершил такое, он должен быть наказан и не должен оставаться на свободе в обществе. Но день за днем, час за часом по ходу этого судебного разбирательства меня стали посещать мысли: подождите, здесь что-то не так!
Ни первоначальное описание нападавшего, полученное сразу после нападений, ни фоторобот, ни словесный портрет с упоминанием о залысинах — все это не имело ничего общего с внешностью Тайрона Бриггса. У обвиняемого, сидевшего в зале заседания суда, были очень приметные черты, которые почему-то никак не были отмечены потерпевшими. У Тайрона очень широкий нос; как говорит его мать: «Всем известно, что у моего сына нос во все лицо!» Губы у него очень толстые, а рост метр восемьдесят пять. Когда произошли эти нападения, ему только-только исполнилось девятнадцать лет. У него ровные белые зубы, а длинные волосы завиты в кудри «джери». Кстати, в день последнего нападения, в девять тридцать утра он сидел в парикмахерской и ждал, пока его волосы подстригут и должным образом обработают.
Но что могут рассказать жертвы о преступнике через несколько мгновений после нападения? Одна из потерпевших сказала, что в нападавшем было больше 85 кг, волосы короткие, есть залысины. Другая сказала, что ничего особенного в размере и форме его губ не было, что волосы у него были короткие, обычные, а сам он взрослый мужчина лет двадцати пяти. Еще одна потерпевшая заявила, что губы и другие черты лица у него были обычные, волосы короткие, прическа «афро».
— Вы досконально знаете фактический материал, — заметила я любезно.
— Да подождите, вы просто еще ничего не видели, — засмеялась она. — Жертва нападения 18 декабря рассказала о нападавшем, что ему года двадцать четыре (Тайрону на пять лет меньше), что ростом он 173-175 см (у Тайрона 183 см), что зубы у него кривые и между передними зубами щель (у Тайрона абсолютно ровные белые зубы), и еще она сказала, что у него густые волосы в форме «афро», подкрашенные красным цветом (у Тайрона волосы завиты в длинные мягкие кудри, и он никогда их не красил). Она также рассказала полиции, что у нападавшего нос был вздернутый, как лыжный трамплин (у Тайрона нос широкий и плоский). Она заметила, что губы у нападавшего были «некрупные для темнокожего» (у Тайрона губы очень крупные).
Джоан вопросительно поглядела на меня через стол, накрытый белой льняной скатертью. В огромном панорамном окне позади нее были видны покачивавшиеся на ветру мачты яхт.
— Как же такое может быть? — спросила она, мягко постукивая по столу кулаком. Как может описание, полученное через несколько минут после нападения, так сильно отличаться от реального облика? Ни одна деталь не совпадает, ни одна! Полная бессмыслица, картина никак не складывается. Кроме того, у Тайрона Бриггса еще две отличительных черты, которые не отметила ни одна из пострадавших. Первая — у него очень заметное родимое пятно, справа, прямо над губой. А вторая — это его жуткое заикание, он пробуксовывает буквально на каждом слове, которое пытается выговорить. — Она улыбнулась, и голос ее зазвучал мягче. — Иногда Тайрон смеется над своим заиканием. Самое трудное — выговорить первое слово, он называет это «попыткой запустить мотор». Он приятный молодой человек, я еще никогда не встречала такого славного парня. Но я отвлеклась. Давайте-ка пойдем дальше.
И Джоан продолжила свой рассказ:
— Когда Тайрон встал для дачи показаний, я наблюдала за потерпевшими, сидевшими вместе в первом ряду. Они жались друг к другу и явно испытывали ужас при виде этого парня. Но когда Тайрон начал говорить, захлебываясь своими «ы-ы-ы-ы…», у них буквально отвисли челюсти, глаза округлились, они стали переглядываться, присматриваться к нему и снова переглядываться. Они не могли в это поверить, они были ошарашены. Ведь нападавший на них человек не заикался /Конечно, они слышали, как Тайрон заикался на очном опознании, но думали, что тогда это было от волнения. А волновался понятно почему; потому что именно он и совершал нападения на них. Когда они услышали его в суде, услышали, как жутко он заикается, они были просто потрясены, на лицах у них было выражение шока.
— А как отреагировали другие присяжные? — спросила я. Меня интересовало, заметили ли они то же, что заметила Джоан.
Ее даже передернуло.
— Ох, эти переговоры присяжных! — сказала она. — Никогда в жизни я не была так расстроена. Когда мы удалились в совещательную комнату на обсуждение, двое отказались ставить свои подписи, оба мужчины. Один из них потом проголосовал за невиновность по одному из пунктов обвинения (Тайрон обвинялся по семи пунктам), но второй всегда голосовал за виновность, он был непоколебим. Для оправдания ни по одному пункту не получалось прийти к раскладу голосов более чем одиннадцать к одному. Только по одному пункту обвинения получилось добиться соотношения десять к двум.
Официантка принесла заказ, но Джоан отодвинула тарелку, облокотилась на стол и продолжила:
— Вначале у нас было семь к шести, и большинство всегда голосовало за невиновность. Двое мужчин, голосовавших за осуждение, не делали никаких замечаний. Они просто сидели сложа руки и пристально глядя на остальных.
Это было странно, но мы с самого начала выбрали себе места вокруг стола. Те двое, которые были абсолютно уверены в виновности Тайрона, сидели на одном конце, те из нас, кто был уверен в его невиновности, расположились на другом конце стола, а между нами были колеблющиеся. В какой-то момент я сказала этим несогласным: «Докажите мне, что из тех свидетельств, что нам предъявили, следует, что хотя бы один из свидетелей видел лицо Тайрона Бриггса до процедуры опознания, — докажите мне это».
Один из этих мужчин сказал: «Девушки говорили, что это сделал он, и я верю девушкам». Одна из присяжных, убежденных в невиновности Тайрона, операционная медсестра, милая женщина, взглянула на него и с крайним отвращением произнесла: «Ох, помилосердствуйте!» Мы продолжали задавать вопросы тем двоим: почему потерпевшие в показаниях описывают человека, нисколько не похожего на Тайрона Бриггса?
Джоан перегнулась через стол и понизила голос:
— Знаете ли вы, что бедному парню приходилось подходить к каждому из коллегии присяжных и раскрывать рот, чтобы мы могли заглянуть и убедиться, что зубы у него не кривые и желтые, а белые и ровные? Но в совещательной комнате присяжных мы так и не пришли к единому мнению относительно его зубов. Я сказала этим несогласным: «А как же с желтыми кривыми зубами? Как это вы их выпрямили?» И мужчина всерьез ответил: «Ну, я думаю, что его защитник отправил в следственную тюрьму дантиста, и тот подправил зубы».
Джоан опять перегнулась через стол:
— А хуже всех был инженер с «Боинга», который просто сложил ручки и мерзко сверлил нас взглядом. Честно сказать, я была так расстроена и взбешена, что мне казалось, что у меня прямо здесь и сейчас разорвется сердце. Ну как если бы он просто сказал, не морочьте мне голову вашими фактами, я уже все для себя решил. Мне неинтересны все остальные показания, описания, нехватка вещественных доказательств. Девушки сказали, что это сделал он, и для меня этого достаточно. Выходя из комнаты присяжных, я была прямо в бешенстве, просто вне себя. Мы совершенно ничего не могли поделать с этим человеком. Мы обсуждали все это семь с половиной часов. Конечно, это не очень долго, но поверьте, мы так ни на шаг и не продвинулись. Человек, работавший в компании «Боинг», за каждый день в суде получал полную зарплату, и он просто сказал: «Поймите, мне даже не надо никуда ходить, я могу провести здесь весь остаток жизни, и ничто не сможет изменить мою позицию». Вот так. И ничего тут не сделаешь, ни малейшей надежды нет.
Давайте теперь я расскажу вам, что происходило после того, как мы сообщили судье, что зашли в тупик, и он объявил об аннуляции судебного процесса. Прокурор Энн Бремнер, куратор расследования детектив Робин Кларк и представитель стороны защиты Ричард Хансен вошли в совещательную комнату присяжных и спросили, не хотим ли мы с ними побеседовать. Им хотелось знать наше впечатление, что мы обо всем этом думаем. Мы, все двенадцать человек, остались на эту беседу. В какой-то момент детектив Кларк сказала: «Есть несколько фактов, о которых мы не могли сообщить вам в ходе судебного разбирательства. Один из них — то, что после ареста Бриггса все нападения закончились».
Я ответила, что знаю об этом из газет.
— Вы и тысячи других, — произнесла Джоан, недовольно качая головой. — Эта незначимая информация больше, чем что-либо другое, настроила публику против Тайрона Бриггса. Да это попросту неправда: не знаю, в курсе ли детектив Кларк, но теперь нам известно, что после того, как арестовали Тайрона, было еще как минимум одно нападение. Я расскажу вам об этом через минутку, но сначала расскажу еще кое-что, о чем детектив Кларк сообщила нам по секрету в комнате присяжных. «Мистер Бриггс и раньше обвинялся в изнасиловании», — сказала она презрительным тоном. Но и эта информация детектива Кларк оказалась заведомо ложной. На самом деле, когда Тайрону было четырнадцать лет, его привлекли по делу об установлении отцовства. У него взяли анализ крови, который показал, что он не является отцом. Вот это департамент полиции и называет изнасилованием.
— С точки зрения закона, считается, что секс с несовершеннолетней является насилием, — сказала я. — Если это весь перечень его правонарушений, которым располагала детектив Кларк, то да, для нее это выглядело как изнасилование, потому что главных фактов она не знала.
— Да, это я понимаю, — сказала Джоан, — но вы же видите, как эта информация, которую сообщают присяжным, умалчивая при этом о главных фактах, заставляет нас колебаться и сомневаться в наших собственных заключениях? На следующий день после суда мне позвонила другая женщина-заседатель, которая работала операционной сестрой. Она призналась: то, что сообщила детектив Кларк в комнате присяжных, привело ее в замешательство. «Вы думаете, мы ошиблись вчера, когда проголосовали за невиновность?» — спросила она меня. «Нет, — ответила я, — это исключено, он не мог быть тем нападавшим. Описания, данные женщинами, к нему никак не подходят, никто ни разу не упомянул о его огромном родимом пятне, никто не слышал, чтобы он заикался, абсолютно никаких вещественных доказательств нет — как это может быть Тайрон?» — «Да, вы правы, — сказала она. — Я думаю, мы все-таки поступили правильно». Но вы же видели, следователь и прокурор пытались воздействовать на нас там, в комнате присяжных, и, похоже, на некоторых из нас им удалось повлиять, они действительно вселили кое в кого сомнения. Конечно, все это было сделано задним числом и не повлияло на наши дискуссии. Но вот такие кривотолки и инсинуации распространялись насчет Тайрона Бриггса. — Голос Джоан зазвучал жестко. — Теперь я расскажу вам о прокуроре. Сначала мне показалось, что она обаятельная, но она просто акула. Вы знаете, как она начала второе судебное разбирательство? Я смотрела его по телевизору, у меня есть видеозапись. Она заявила, что некоторые люди с заиканием (такими были Мэрилин Монро, Мел Тиллис, Уинстон Черчилль) не заикаются, когда контролируют ситуацию. Потом она сказала, и это ее точные слова: «Мэрилин Монро же не заикается, когда играет. Мел Тиллис не заикается, когда поет. И Тайрон Бриггс во время изнасилований тоже не заикался».
Джоан была возмущена.
— С такого заявления она начала обращение к присяжным, и судья это пропустил, однако Ричард встал и громко заявил протест: «Вы сказали во время изнасилований, хотя на самом деле никаких изнасилований не было». Второе судебное разбирательство с самого начала пошло неудачно. И закончилось оно плохо — в своем заключительном слове Бремнер сказала присяжным, что каждый из свидетелей указал на того же человека, что и все остальные. Да это просто неправда, что все, кто смотрел линейку опознания, указали на Тайрона Бриггса как на нападавшего. Семеро свидетелей, участники подобных происшествий, которых собрали для опознания Тайрона, — все семеро были уверены, что Тайрон не был тем человеком, которого они видели. Все семеро!
— Что? — спросила я.
— Да-да, — сказала Джоан, печально кивнув. — Вы, наверное, и не знали об этом незначительном факте, не так ли? Это отнюдь не та информация, которую полиция хотела бы сделать общеизвестной, это то, что они стараются держать в секрете. Но на самом деле семеро свидетелей прибыли для опознания и не указали на Тайрона Бриггса. Эти очевидцы были готовы свидетельствовать в пользу защиты, но судья в ходе разбирательства исключил все свидетельские показания о сходных инцидентах, в которых свидетели заявили, что Бриггс — не тот человек, которого они тогда видели. Доктор Лофтус, позвольте мне выразиться прямо: если Тайрон Бриггс — тот нападавший из Харборвью, тогда я — Джек-потрошитель.
Я рассмеялась.
— Джоан, — сказала я, — вы ведь упоминали и о другом нападавшем.
— Да. Филипп Уидмер. Жертва четвертого нападения помогла полицейскому художнику составить фоторобот нападавшего, который позже был распространен среди жителей округи. Спустя недолгое время она идентифицировала Уидмера, который очень похож на получившийся фоторобот и к тому же вполне соответствует описаниям, данным потерпевшими. Известно, что Уидмер — любитель кокаина и что он не живет и не имеет никаких дел в районе Харборвью. Его задержали в ходе одной из полицейских проверок в нескольких кварталах от того места, где были совершены четыре из этих нападений.
Сжав губы и наморщив лоб, Джоан взяла свой конспект и стала листать его.
— Вот здесь, страница восемьдесят пять, — начала она читать выдержки из полицейского отчета.
К началу второго судебного разбирательства выяснилось, что мистер Уидмер признал себя виновным и был приговорен к тюремному заключению за кражу дамской сумочки, совершенную 11 апреля 1987 года в Сиэтле… Ответчик сообщил детективу, что прежде он сидел в тюрьме другого штата за ограбление…
Джоан потянулась за стаканом, отпила глоток воды и продолжила чтение своих записей:
По какой-то непонятной причине полиция никогда не показывала фотографию Уидмера никому из других потерпевших. Суд не разрешил дать про него какие-либо показания, кроме того, что одна из жертв неуверенно опознала его и что он был замечен в этом районе. Между тем все эти данные не только имели отношение к делу и могли быть приняты в качестве доказательств, но и были необходимы присяжным для решения вопроса о виновности или невиновности Тайрона Бриггса в этих преступлениях.
— Мне все это непонятно, — сказала Джоан, убирая папку с документами обратно в портфель. — Разве мы печемся не о торжестве справедливости?! Как может полиция просто игнорировать другие версии, как они могли оставить без внимания показания семи свидетелей, которые не опознали Бриггса, как они могли не обратить внимания на полное отсутствие вещественных доказательств? Я была на первом процессе с начала и до конца, и мне стало понятно, что задача этого суда — не установить справедливость, а просто добиться победы. Сторону обвинения, похоже, нисколько не заботило, виновен Тайрон Бриггс или нет. Он присутствовал на суде, они загнали его в угол и сделали все возможное, чтобы ничто не помешало им выиграть дело. Просто выиграть. Когда вы так стремитесь к победе, некогда думать о справедливости.
Я не знала, что сказать. В других судебных процессах бывали случаи, заставлявшие меня задаваться аналогичными вопросами. Я взглянула на часы и поняла, что до начала занятий — до половины второго — у меня остается всего пятнадцать минут.
— Джоан, прошу извинить, к сожалению, я должна бежать, — сказала я.
Джоан проводила меня до машины и, к моему удивлению, крепко обняла меня.
— Спасибо, что выслушали, — сказала она. — Я понимаю, вы спешите, но позвольте мне просто сказать вам еще одну вещь. Я познакомилась с Тайроном Бриггсом. Я вызвалась осуществлять постоянный контроль за ним, когда его освободили из заключения в ожидании апелляции. Я провела с ним сотни часов. Вначале меня заботило установление справедливости, был такой период. Мне очень нужно было добиться справедливости, чтобы душа моя была спокойна.
Но когда я познакомилась с Тайроном и его семьей, я почувствовала, что увязла в этом эмоционально. Он самый чудный, самый милый парень, какого только можно себе представить.
Она так вздохнула, что я даже на мгновение испугалась, что она заплачет.
— Я не знаю, что вы можете для нас сделать, — сказала она, по-прежнему удерживая мою руку. — Мне просто хотелось, чтобы вы знали о распространяемых слухах и целенаправленном вранье, которые расползаются вокруг Тайрона. Но есть и еще одна вещь, — сказала она, порылась в своей сумке и вручила мне лист бумаги. — Я сняла копию с письма, которое Тайрон написал мне из тюрьмы. Можете прочитать его потом, когда будет время.
Я поблагодарила ее за прекрасный ланч и побежала на занятия. Через два часа, когда последний студент покинул аудиторию, я присела на один из столов и стала читать письмо Тайрона Бриггса. Оно было адресовано мистеру и миссис Спенсер.
Я сижу здесь и размышляю обо всем, что со мной происходит. Временами я чувствую, как будто я отключаюсь и улетаю в космос. Я просто сижу, не в состоянии двигаться, глаза широко открыты, как будто я загипнотизирован, а мои друзья… они спрашивают, что случилось, я делаю вид, будто ничего не случилось, но снова и снова спрашиваю себя — почему я? Я в слезах опускаюсь на колени и спрашиваю Бога — почему я? Прошлой ночью мне приснился удивительный сон. я был дома, и все говорили мне, что все закончилось и мне не надо возвращаться обратно. Мне очень страшно закрывать глаза, я стараюсь не засыпать подольше, сколько получится. Меня разбудил громкий шум, я проснулся и встал, дверь оказалась открытой, пора было завтракать. Но есть мне не хотелось, я был совершенно выбит из колеи, и меня снова стало куда-то уносить. Я очень надеюсь скоро оказаться дома. Мне никогда не забыть ту любовь, которую подарила мне ваша семья. Благослови всех вас Господь.
Всегда любящий вас, Тайрон БриггсНаша с Джоан беседа вывела меня из душевного равновесия. Я опасалась попасть под влияние эмоций Джоан и ее явной привязанности к Тайрону Бриггсу и чувствовала, что необходимо смотреть на это дело шире. Я решила позвонить своей близкой подруге Пай Бейтмен. На свете существуют люди (и Пай одна из них), которые считают, что если жертвы какого-либо инцидента указывают на конкретного человека как на виновника, то им следует верить. Шестеро очевидцев идентифицировали Тайрона Бриггса как нападавшего в Харборвью. Пай была бы солидарна с потерпевшими, и мне захотелось услышать, что бы она сказала в этом случае.
Пай — основатель Феминистского союза карате города Сиэтла (у нее черный пояс по карате), она уже восемнадцать лет руководит организацией «Альтернатива страху» и ведет занятия по самообороне для женщин, детей и пожилых людей, стремясь внушить им, что они не беззащитны и способны сами защитить себя в условиях нарастания агрессии в мире. Сама она об этой агрессии знает не понаслышке. Как-то ближе к вечеру, в мае 1986 года в Сиэтле, она пришла домой и застала там грабителя. В течение пятнадцати-двадцати минут эта женщина ростом меньше 160 см и весом 52 кг защищала свою жизнь от человека ростом выше 190 см, вооруженного охотничьим ножом. Он порезал ей руки и лицо, в том числе оба века, и оставил ее в почти бессознательном состоянии на полу комнаты, истекающую кровью.
Нейрохирурги сняли отек и снизили внутричерепное давление, а пластические хирурги, колдуя над ее лицом, восстановили поврежденные глазные ткани и скрыли синюшные шрамы. Но ярость против преступников и мягкого отношения к ним Фемиды прочно поселилась в ее душе. «Когда ты наконец начнешь работать на хороших парней?» — спрашивает она меня. Это стало рефреном в наших разговорах, а наши легкие усмешки просто маскируют существующую между нами напряженность.
Я позвонила Пай и рассказала ей о разговоре с Джоан и о своем смятении чувств в связи с делом Бриггса.
— При чем здесь чувства, Бет? — сказала она тоном, в котором неожиданно явно зазвучал ее гнев. — Не понимаю, как ты позволяешь чувствам оспаривать факты? Пятеро потерпевших и один очевидец опознали его — нападения происходили в дневное время, эти женщины могли рассмотреть его лицо, они разговаривали с ним, они же, господи, одна за другой сказали, что это он. Как ты можешь не доверять им? — Она понизила голос, и в нем появились холодные нотки. — Все, что я слышу, — это так называемая кампания Бриггса, какое-то невероятное проявление общественной поддержки Тайрона Бриггса. А скажи мне, кто воюет на стороне потерпевших? Пять женщин вынуждены были присутствовать на двух судебных разбирательствах и снова и снова повторять свои рассказы. И теперь, возможно, им предстоит снова испытать эту психическую травму, если Апелляционный суд постановит не признавать подсудимого виновным на некоем формально-юридическом основании.
Аргументы, представленные в апелляционных документах, не были формально-юридическими, но у меня не было желания спорить об этом с Пай.
— Как ты можешь отвернуться от этих жертв, Бет? — не отставала она. — Как ты могла допустить, чтобы твое эмоциональное восприятие мешало тебе руководствоваться логикой фактов?
Я стала объяснять Пай, что я как раз старалась анализировать только факты и что этот телефонный разговор был попыткой собрать в общую картину и фактические данные, и переживания другой стороны, понятные ей переживания потерпевших. Я старалась донести до нее, что мое смятение вызвано тем, что этот случай никак не раскладывается по полочкам, что обстоятельства его совсем не отчетливо черные или белые, а похожи на облако тумана, в который я надеялась проникнуть взглядом. Но Пай чувствовала себя преданной и покинутой, и мне так и не удалось достучаться до ее сознания.
По окончании разговора я долго пребывала в раздумьях о том, справедливо ли Пай обвиняет меня в том, что я позволила себе предаться эмоциям. Так ли это? Душевное волнение Джоан, конечно, передалось и мне. И настойчивые уверения Ричарда, что Тайрон невиновен, тоже подействовали на меня. А письмо Тайрона было таким чистым и исполненным такой душевной боли…
Но возможно, Пай права, и я действительно недостаточно внимательно отнеслась к фактам. Будучи исследователем, я не могу допустить, чтобы эмоции брали верх и вмешивались в мое восприятие происходящего, я обязана придерживаться фактов.
Проходили недели, и я постепенно снова смирилась с ролью наблюдателя.
В конце концов, я ничем не могла помочь Тайрону Бриггсу, судья отстранил меня от участия в этом процессе как специалиста, и с моей стороны было бы некорректно выходить за пределы этой роли. Кроме того, у меня были и другие судебные дела и другие заботы. Мне оставалось просто ждать и смотреть, как будут развиваться события.
* * *
Четыре месяца спустя, 31 июля 1989 года, Апелляционный суд штата постановил отменить приговор Тайрону Бриггсу ввиду неправомерного образа действий присяжных. В постановлении было означено: «Подателю апелляции был нанесен ущерб предвзятым отношением присяжных, что воспрепятствовало объективному рассмотрению дела и, следовательно, вынесению справедливого приговора». Третий процесс был намечен на апрель 1990 года.
17 марта 1990 года в The Seattle Times появилось изложение дела Бриггса на трех полосах. На первой были кратко представлены обстоятельства дела, а также две отдельные статьи, посвященные в основном родственникам обвиняемого и родственникам потерпевших. Я прочитала эти материалы и вновь почувствовала себя подавленной и угнетенной. Одна из потерпевших заявила: «Я хочу, чтобы он рассказал мне, почему он сделал это. Я хочу сказать ему: “Посмотри, что ты сделал со мной!”» В статье, представлявшей другую сторону, мать Тайрона Бриггса рассказывала, как полиция постучалась к ним в дверь и арестовала ее сына. «Мама, не дай им увести меня!» — кричал ей Тайрон, когда полицейские надели на него наручники и повели в патрульную машину. «Не уводите моего сына! — кричала она, но несколько полицейских удерживали ее. — Верните его домой! Верните его!»
Неожиданно для себя я сняла трубку и набрала номер Джоан Спенсер.
— Мы только что разговаривали с Тайроном, — сказала она. Мне показалось, что она была рада меня слышать. — Сейчас он отпущен под залог, но я очень боюсь, что они придерутся к какой-нибудь мелочи, чтобы вернуть его обратно в тюрьму. Знаете, у меня появилась шикарная идея — не желаете ли вы с ним встретиться?
Я не знала, что сказать. Да? Или нет? Или «я не должна»?
— У вас это отнимет всего час времени, — сказала она. — Я заеду за вами и привезу вас к нему домой.
Встретиться с ним? Я задумалась. Это было бы неправильно. Приняв чью-то сторону, я нарушила бы диктуемые моей ролью правила. Но подождите, рассуждала я сама с собой, а о какой такой роли речь? Я же не выступаю экспертом в этом процессе, тут я обычный житель Сиэтла, читатель газет, как и прочие жители Сиэтла. Так почему бы мне не повидаться с ним? Часто ли мне выпадает случай встретиться и побеседовать с подзащитным и его семьей?
И я сказала: «Да, я хотела бы встретиться с ним». На следующее утро в девять часов мы с Джоан Спенсер в ее красной двухдверной «хонде» стремительно взлетали на Кэпитол-Хилл, рассуждая о двух противоборствующих сторонах в этой схватке по поводу виновности или невиновности Тайрона Бриггса. Я решила, что стоит рассказать ей о том моем разговоре с подругой, отозвавшейся о ней, Джоан, как о «либерале с кровоточащим сердцем». Я почувствовала, что причинила ей боль, но было уже поздно.
— Именно так они меня и называют, — сказала она, лавируя в пробке между машинами. — Это они так иронизируют, я правильно понимаю? Вот смотрите, я — жена врача, ведущая спокойную жизнь при своих детях и внуках, и вдруг я делаю какие-то вещи, которыми мне прежде и в голову бы не пришло заниматься. Я выступала по телевидению и говорила о невиновности этого парня. Я стала общественным наблюдателем и вскакиваю в три часа ночи, чтобы убедиться, что этот «осужденный преступник» находится дома и в безопасности, а не шныряет по улицам. Я выступала на собрании общины в баптистской церкви, и там все были темнокожие. Я организовывала петиции, письменные информационные бюллетени, я даже организовала шествие к тюрьме — почему? Я в жизни не занималась никакими маршами! Что, люди полагают, что я все это делаю, будучи заинтересованной стороной? — Она раздраженно пережидала красный свет, постукивая пальцами по рулевому колесу. — Не нужно мне никакого процесса, мне нужен отдых. Мой муж нездоров, он замучился ужинать каждый день в разное время, потому что я внезапно убегаю то на митинги, то на встречи с общественностью.
Ее пальцы сжались в кулак, которым она теперь мягко постукивала по пластиковой поверхности руля.
— Но я не сдамся. И дело не в Тайроне. Он для меня как ребенок. Все мое существо нацелено на то, чтобы добиться освобождения Тайрона. А причина, побуждающая меня ко всем этим действиям, — желание справедливости, и с самого начала для меня было важно именно установить справедливость. — Светофор переключился на зеленый, и мы опять поехали, быстро маневрируя между машинами. — Мне нужно довести это до конца, независимо от того, сколько это потребует времени, сколько денег мне придется потратить из своего кармана и чего это будет стоить мне с точки зрения дружеских и личных отношений. Тут дело не только в Тайроне, причина моих действий намного глубже, нежели весь этот процесс, потому что, наблюдая ход этого разбирательства, я поняла, что, в принципе, кого угодно можно обвинить в чем угодно. Поверьте, когда обвиняемого доставляют в суд, он попадает под действие презумпции виновности, а не невиновности. Тайрон Бриггс был осужден на страницах газет еще до начала судебного процесса. И стоит мне только упомянуть имя Тайрона Бриггса, люди просто выходят из себя и начинают орать всякие мерзости — да если бы они знали, какой он на самом деле славный мальчик. Он еще ребенок, ну просто ребенок, а его жизнь уже разрушена.
Она расправила плечи и еле заметно улыбнулась.
— Либерал с кровоточащим сердцем — это звучит. Я не могу остановиться и не остановлюсь, пока Тайрон не выйдет на свободу.
Мы подъехали к дорожке, ведущей к небольшому дому в рабочем районе на Бикон-Хилл, в нескольких милях к востоку от центра города и в нескольких милях к югу от больницы Харборвью и жилого комплекса «Йеслер-террас».
— Его семья перебралась сюда через несколько месяцев после ареста Тайрона, — пояснила Джоан, — они не могли оставаться жить в том доме среди этих ужасных воспоминаний.
Женщина в фартуке вышла на небольшое бетонное крыльцо и жестом пригласила нас войти в дом. Когда мы вышли из машины, она поздоровалась и спросила, не хотим ли мы позавтракать. Блинчики, сосиски, апельсиновый сок?
Джоан засмеялась, приобняв ее:
— Дороти, это Элизабет Лофтус. Элизабет, это мать Тайрона, Дороти Харрис.
Я подошла к крыльцу и собиралась пожать руку Дороти, но та с некоторым смущением отстранила свою руку, державшую кухонную лопаточку:
— Нет-нет, у меня руки все в готовке. Проходите, располагайтесь поудобнее. Я приду через минутку.
В коридоре нам встретились Эрик, старший брат Тайрона, и Фелисия, их двенадцатилетняя сестра. Несколько младших детей сидели вокруг стола в тесной кухне, ели блинчики и смущенно улыбались. Мы решили пока вернуться на улицу и посидеть на крыльце в лучах нечастого в Сиэтле солнца. Эрик присоединился к нам, и мы несколько минут поговорили о его работе с Ларри Дейли, частным детективом, ведущим расследование по делу его брата. Дело вроде бы сдвинулось с места, сообщил Эрик слегка таинственно, появились новые версии, новые свидетели и новые свидетельства.
— Новые свидетели? — переспросила я.
— Я сейчас не могу говорить об этом, — ответил он, — мы должны соблюдать осторожность.
На крыльцо вышел высокий заспанный молодой человек. «Тай, это доктор Лофтус», — сказал Эрик, приобнимая младшего брата. Тайрон улыбнулся и опустил взгляд. «Привет», — сказал он. Он так заикался, что на произнесение этого короткого слова ему потребовалось несколько секунд. Я взглянула на его запястье, на широкую черную ленту с квадратной коробочкой наверху. Он заметил мой взгляд.
— Это большой глаз, — сказал он с улыбкой.
— Это электронный браслет наблюдения, — пояснила Джоан. — Радиоприемник-передатчик, подключенный к телефону в комнате Тайрона. Они отслеживают каждое его движение, звонят ему в любое время дня и ночи.
— Похоже на ошейник и поводок, — сказал Эрик, глядя на браслет одновременно со страхом и отвращением. — Тай на 46-метровом поводке, и, если он выйдет хоть на полшага дальше, в полицию прилетит сигнал, и разверзнется преисподняя.
Словно в доказательство сказанного, в доме зазвонил телефон, и мать Тайрона, все еще держа в руке лопатку для блинов, поспешно вышла к нам и сообщила:
— Тайрон, это твой телефон, давай побыстрее! Хотите взглянуть, как это работает? — предложила она мне. — Пойдемте!
Я последовала в дом за Тайроном через узенький коридор в угловую спальню. Он приложил черную коробочку на своем запястье к розетке подключения телефона, снял трубку и заикаясь проговорил в нее свое имя.
Через минуту он опустил трубку на рычажки аппарата.
— Я чувствую себя собакой, — сказал он мне, глядя на черную коробочку.
И добавил, что терпит это ради своей семьи, чтобы он мог быть с ними; а без этой системы наблюдения он сидел бы в тюрьме в ожидании начала третьего судебного процесса.
Несколько секунд мы смотрели на эту черную коробочку на его запястье, не зная, что теперь сказать.
— У вас есть хоть какая-то надежда? — неожиданно брякнула я.
— Надежда? — Он повторил это слово, словно не совсем понимая его. При этом все усилия его явно были направлены на преодоление заикания.
Я почувствовала, что сама наклонилась к нему, открыла рот и делала движения головой в такт его запинаниям в словах.
— Нет, — ответил он. Слова его были короткими и звучали прерывисто, перебиваемые постоянным неукротимым заиканием. — Надежды у меня нет. Как я могу надеяться? Я не верю в эту систему. У таких бедных людей вроде меня — какая у нас может быть надежда? Если ты там и совершенно один…
Он замолчал и глубоко вздохнул.
— Каждый день мы бьемся изо всех сил. Каждый день я иду на работу и думаю — как мы сможем оплатить вот это? Коробка, браслет — с меня за это по десять долларов в день. Суды. столько денег. — Он молча покачал головой, слов больше не было.
— Расскажите мне про тюрьму, — попросила я.
— Про тюрьму, — повторил он. — Я был в растерянности. Это совсем другой мир. Там нельзя ничего себе позволить. Он постоянно нападает на вас. При закрытых дверях. Я молился каждую ночь, спрашивал, почему я здесь, зачем это нужно, но не находил ответа.
Он взглянул на меня: глаза его были распахнуты и чисты, а руки обращены ладонями вверх. Потом по его лицу промелькнула легкая тень боли и страха, он уронил руки и бессильно сгорбился.
— Зачем кто-то делает со мной такое? Полиция, они смотрят на нас как на людей второго сорта, как на ничтожества.
Я не знала, что сказать. На мгновение мы задержались в коридоре, и оба уставились на зеленый ворсистый ковер.
— Как вам удается держаться? — спросила я, когда молчать стало уже неловко.
— Я молюсь, — просто ответил он. — Я прошу Бога остановить этот мучительный кошмар. Вернуть все, как было прежде и как будто не было этого ужаса. И дать нашей семье силы вернуться в прежнее состояние. Я знаю, что Бог может услышать меня. Сколько еще? Сколько?
Мы снова вышли из дома и сели на кухонные стулья, которые Дороти и Эрик вынесли и поставили полукругом на газоне.
— Дороти, расскажи Элизабет, как к вам домой пришла полиция, — попросила Джоан.
— Ой, это было страшно, просто ужасно! — ответила Дороти. — Несколько месяцев назад кто-то настучал в полицию, что якобы Тайрона видели сидящим посреди ночи напротив отеля в Западном Сиэтле. Шел проливной дождь, время полшестого утра, я услышала звук подъехавшей полицейской машины. Выглянула в окно и подумала: они здесь, они приехали и хотят забрать моего сына. Я подошла к парадной двери и спросила: «Что вам угодно?» — «Тайрон Бриггс здесь?» — спросил человек за дверью. «Да, здесь. Войдите и посмотрите сами». И они вошли со своими большими фонарями, в своих сапожищах и плащах, намочив мне весь пол. Они прошли в мой дом и направили свет в лицо лежавшему в постели Тайрону. Я сама хотела, чтобы они увидели моего ребенка в постели, где ему и надлежит быть в пять тридцать утра. Да, он спит. А не сидит где-нибудь в машине среди ночи под дождем.
Она посмотрела на Тайрона, потом наклонилась поближе ко мне и, понизив голос, сказала:
— Знаете, вот нас с детства воспитывают и готовят к роли матери, потом ты заботишься о своих детях, ты их кормишь, любишь, штопаешь их одежду, утешаешь, если их обижают. А эти полицейские явились и забрали у меня моего Тайрона, они посадили его в тюрьму, они кормили его овсяной кашей, а когда он налил в нее молока, на поверхность всплыли червячки. Он говорит мне: «Мам, они кормят меня овсянкой с червяками!» А я стою здесь беспомощная и ничего не могу поделать. Я в отчаянии, и вся наша семья в отчаянии. И я ничего не могу сделать.
Она взглянула на свои ладони, лежащие на коленях.
— Наша жизнь уже никогда не станет прежней. Мы тоже жертвы, и непонятно почему. Мы не знаем почему. Мне очень жаль тех пострадавших и их семьи, я понимаю, какое это горе. Но вот в газете сын одной из пострадавших сказал, что, если бы он встретил Тайрона на улице, он схватил бы палку и дубасил бы его по голове. Когда я это прочитала, я готова была заплакать. По этим улицам ходит кто-то, кто готов бить по голове моего мальчика. Откуда мне знать, когда это произойдет? Как я могу остановить это? — Она протянула руку ко мне и мягко тронула кайму на рукаве моей блузки. — Я могла бы пришить этот кантик, если бы он оторвался. Матери умеют чинить одежду. Я накормила бы вас, если бы вы были голодны. Я забочусь о своих детях, я люблю их, понимаю их, учу их тому, что правильно и что неправильно. Но я не в силах справиться с тем, что происходит с Тайроном. Я не могу ничего сделать, чтобы помочь ему, и у меня такое чувство, будто я бросаю его в беде.
Иногда просто возникает ощущение, говорят адвокаты, когда я спрашиваю их, почему они думают, что их подзащитный невиновен. Факты впрямую не свидетельствуют о невиновности, но вы просто чувствуете это. Я приучала себя с осторожностью относиться к эмоциям, которые могут искажать реальную картину, старалась быть настолько объективной, насколько это возможно. Но, сидя под весенним солнцем во дворе у дома Бриггсов и ощущая накал эмоций, которые терзают их семью, я едва ли могла оставаться бесстрастной и невозмутимой.
* * *
21 мая 1990 года, в третий раз за четыре года, Тайрон Бриггс занял свое место за столом защиты, лицом к своим обвинителям. Его новые защитники, Джефф Робинсон и Майкл Йариа, выглядели уверенными и приветливо беседовали с представителями обвинения Ребеккой Роэ и Джеффом Ларсоном. Тайрон наблюдал за ними, лицо его выражало замешательство — как они могут быть такими спокойными и беспечными? Ведь на кону стоит его жизнь.
30 мая я прошла по коридору девятого этажа здания суда округа Кинг в зал № 965, где проводились заседания судьи Дональда Хейли, открыла дверь, на которой висело рукописное объявление «Свидетели в зал суда не допускаются», заняла место в первом ряду, рядом с Джоан Спенсер, и шепотом спросила ее: «Как дела?» Она ответила шепотом «Прекрасно!» и написала на листочке: свидетельница Джейн Доу, нападение на которую произошло 24 ноября, сегодня утром заявила, что это определенно был не Тайрон. И у нас есть след окровавленной обуви!
Я выслушала нескольких свидетелей защиты, говоривших о заикании Тайрона и о том, как выглядел нападавший. Одна из свидетельниц, подруга детства Тайрона, несколько лет назад уехавшая в Джорджию, заявила, что она была знакома с Тайроном семь лет и он всегда заикался, всегда. Независимо от того, спокоен он был или взволнован, или в стрессовой ситуации, заикался он всегда.
Я наблюдала за присяжными. О чем они думают? Какое решение они примут? Я смотрела на помощника шерифа, сидевшего в сторонке в углу зала и листавшего свой ежедневник. Сторона защиты взирала на свидетелей, в то время как сторона обвинения что-то яростно черкала в своих блокнотах. Судья Хейли откинулся на спинку стула, держа в руках очки. Это был тот же судья, который не разрешил мне дать показания при первом судебном разбирательстве. А если бы он позволил мне тогда выступить с показаниями… это бы что-нибудь изменило? Сидел бы теперь Тайрон за столом защиты?
В тот день мы с Джоан обедали в закусочной на площади Пионеров, в нескольких кварталах от здания суда. Она рассказала мне о свидетельнице Джейн Доу, нападение на которую совершил человек с кухонным ножом, который требовал у нее кошелек. Нападение произошло в восемь часов утра 24 ноября 1986 года, за четыре дня до того нападения, в котором обвинили Тайрона, и всего в одном квартале от места двух других нападений в Харборвью. В своих показаниях Джейн Доу заявила, что Тайрон Бриггс весьма похож на напавшего на нее человека, но у нападавшего не было родимого пятна, он не носил кудри «джери», был старше и у него были веснушки. Тайрон Бриггс определенно не тот, кто напал на нее.
— Как же защита нашла эту свидетельницу? — спросила я.
— Ларри Дейли, частный детектив, узнал о ней только месяц назад, — сказала Джоан. — Представители защиты получили поручение суда изучить в полицейских компьютерах рабочие журналы и донесения от информаторов. Эрик Бриггс рассказывал мне, что, когда Дейли прибыл в полицейский участок, ему сказали, что у него всего пятнадцать минут на просмотр этих документов и ему не дадут никаких записей. Но он увидел упоминание об этом нападении и запомнил имя и номер телефона этой женщины. Когда он позвонил ей, она сказала: «Я всегда удивлялась, почему полиция ни разу не обратилась ко мне?»
— Какая удача! — воскликнула я.
— А потом у нас появился отпечаток обуви со следами крови, — сказала Джоан. — Это из той квартиры, где произошло нападение 18 декабря, ну когда вбежал Карл Вэнс и наставил на мужчину пистолет. След обуви не принадлежал ни жертве, ни Карлу Вэнсу, а кроме них в этой комнате был только нападавший. Человек из криминалистической лаборатории штата засвидетельствовал, что след оставлен мужской обувью размера 39,5-41. У Тайрона размер обуви 43.
— И никого больше в той комнате не было? — спросила я.
— Это была пустая, свободная квартира. Потом туда заходила полиция, но надо полагать, они-то понимали, что не нужно ступать в лужи крови. — Джоан криво улыбнулась. — Но это меня уже не удивило. Полиция с самого начала работала неумело. Пять преступлений — и они не сумели добыть ни одного, даже малого вещественного доказательства, ни даже отпечатка пальца или нитки от одежды!
— Джоан, — сказала я, стараясь тщательно подбирать слова, — а если и этот состав присяжных вынесет Тайрону обвинительный приговор, изменится ли тогда ваше мнение?
— Нет, абсолютно, — ответила она.
— А что могло бы вас убедить?
Она на миг отвела взгляд в сторону окна, аккуратным наманикюренным ноготком прижала нижнюю губу.
— Если бы у них были какие-либо вещественные, неопровержимые доказательства, я бы изменила свое мнение. Но у них ничего нет, у них не было ничего на первом судебном процессе, и три года спустя у них по-прежнему ничего нет. Считается, что с каждым следующим судебным разбирательством обвинение должно становиться более жестким, так как они изучают стратегию защиты и располагают временем для укрепления своего подхода, но у них ничего нет. Ни-че-го.
— Вы думаете, Тайрон будет оправдан?
Джоан вздохнула:
— У нас новый свидетель и кровавый след обуви. Третья жертва в ходе этого процесса еще более настойчиво заявляла, что в своем опознании Тайрона она не уверена. Но я смотрю на присяжных и вижу такие же выражения лиц, какие были тогда в нашей комнате присяжных… не прислушивающиеся, упертые, заранее считающие подсудимого виновным. Это такой тип людей, которые, скрестив руки на груди, говорят: «Ну, давайте, убеждайте меня в его невиновности!» Но ведь так быть не должно. Эта судебная система как будто бы основана на презумпции невиновности, вину подсудимого необходимо доказать. Но то, что мы повсюду наблюдаем на самом деле, свидетельствует о другом. Подозреваемый только заходит в зал суда, а в сознании людей уже сложилось мнение: «почему он оказался в суде, если он невиновен?» — Она покачала головой. — Боюсь, самое большее, на что мы можем надеяться, — это что состав присяжных не достигнет согласия.
Присяжные приступили к обсуждению в понедельник, 4 июня. А в два часа дня 7 июня Джоан Спенсер позвонила мне и сообщила новости. По результатам пяти дней и двадцати двух часов дискуссий совет присяжных не пришел к единому мнению: десять голосов за оправдательный и два голоса за обвинительный приговор. «Общий расклад такой же, какой был и при нашем составе присяжных», — сказала она. Я спросила, довольна ли она таким решением.
— Это еще не оправдание, но мы его добьемся, — сказала она. — Прокуратура не решится затеять судебное разбирательство по четвертому разу. Я думаю, они незаметно ускользнут и будут зализывать раны.
Она оказалась права. 14 июня прокуратура округа Кинг объявила свое решение о снятии всех обвинений с Тайрона Бриггса. Джоан прислала мне копию ходатайства об отклонении иска, датированного 14 июня 1990 года и подписанного заместителем прокурора Марком Ларсоном.
Это дело рассматривалось присяжными в три захода, причем дважды присяжные не пришли к единому мнению, и обвинительный приговор был отменен по причине ненадлежащего поведения присяжных. Последнее по времени судебное разбирательство завершилось тоже не единодушным, но оправдательным вердиктом присяжных, по всей видимости в соотношении 10:2. Поскольку нет оснований полагать, что четвертое судебное разбирательство позволит принять какое-то иное решение, в интересах правосудия это дело будет прекращено «…в интересах правосудия…».
Послужило ли это дело интересам правосудия? Штат Вашингтон потратил сотни тысяч долларов и тысячи часов рабочего времени в попытках доказать вину Тайрона Бриггса и в конце концов, через сорок один месяц, потерпел неудачу. Гипотетически Тайрон Бриггс невиновен потому, что государство не смогло доказать его виновность. Именно это в нашей судебной системе называется «презумпцией невиновности» — подсудимый считается невиновным, пока его вина не доказана.
Но репутация Тайрона Бриггса подвергалась очернению в течение трех с половиной лет, с того самого момента, когда его обвинили в том, что он — «нападавший из Харборвью». Редакционная статья в газете, опубликованная после окончательного решения суда, напомнила читателям: «Заметьте, что Бриггс не невиновен, а лишь не признан виновным». Даже если будет найден другой подозреваемый, даже если другой человек признает себя виновным, всегда найдутся люди, верящие, что Тайрона Бриггса отпустили из-за несоблюдения каких-то юридических формальностей, что он ускользнул от правосудия, потому что система правосудия слишком «добра» к преступникам.
«Не невиновен, заметьте, а лишь не признан виновным». Если вы не виновны и не признаны виновным — каков ваш статус? В этом случае два минуса не дают плюса, а остаются двумя минусами. И что теперь будет с Тайроном Бриггсом?
Существуют два разных мира, содержащие две разные истины, противоречащие одна другой. Существует мир Тайрона и его семьи, Джоан Спенсер, Ричарда Хансена и всех тех, кто всей душой верит в невиновность Тайрона. И есть мир жертв и их семей, прокуроров и полиции, которые столь же твердо верят, что Тайрон виновен. Каждый мир вбирает в себя приверженцев, безусловно верящих в свою версию «истины».
Три с половиной года нападок, заключения в тюрьму, судебных процессов и неопределенных приговоров что-то да значат в жизни человека. Тайрону не давали покоя боли в животе, он вставал утром и принимал суспензию маалокс. Он страдал от головных болей и кровотечений из носа. Посреди ночи он вскакивал от ночного кошмара — в дверь стучит полиция, проходит через узкую прихожую, и ему в лицо бьет мощный свет полицейских фонарей. Кошмарно то, что его теперешняя жизнь и есть сон.
Кошмары прошлого вторгаются в настоящее. Играя один на один со своим братом Эриком на баскетбольной площадке, Тайрон леденеет, когда рядом хлопает дверь автомобиля. Уже готовый ударить по мячу, он медлит, опасливо оглядываясь через плечо и пережидая испуг.
Звук полицейских сирен заставляет его сердце колотиться. А когда заголовки газет кричат, что где-то изнасилована женщина, подозреваемый арестован и начинается уголовный процесс, — сразу вспышка эмоций из прошлого, яркая и ужасная. Звонит телефон — и он замирает, затаив дыхание. «Ничего страшного», — привычно говорит мать и жестом успокаивает его.
Больше всего он боится оставаться в одиночестве, потому что, когда ты один, у тебя нет свидетелей, нет алиби, никто не сможет подтвердить то, что ты будешь говорить. Адвокаты советуют ему вести дневник и записывать в него все, что он делает, куда он идет, кого он видел.
Разве такой должна быть жизнь невиновного человека? Тайрон начинает ощущать злобу, которая до сих пор была подавлена страхом. Теперь, когда он «свободен», когда государство сняло с него свои оковы и он может уйти от дома дальше чем на 46 метров, — вот теперь у него появилось время и простор для осознания того, что он потерял. Его лучший друг скоро окончит колледж, а у Тайрона из-за обвинений и судебных процессов не было возможности даже нормально закончить школу. Раньше он каждый день играл в баскетбол, но, поскольку из его жизни были выброшены три года, он потерял и навыки игры, и спортивную форму. Он неожиданно с удивлением обнаруживает, что наверстывать упущенное уже слишком поздно, а баскетбольную стипендию будет получать теперь тот, кто помоложе и все эти годы тренировался, и его, Тайрона, это очень огорчает. Вместе с отцом он работает портовым грузчиком на судостроительном заводе, занимается погрузкой и разгрузкой грузовых судов, работает сверхурочно и в выходные, чтобы помогать семье оплачивать горы накопившихся счетов.
За несколько дней до вынесения приговора по делу Бриггса в разделе науки в The New York Times мне попалась статья о том, что тяжелые переживания приводят к необратимым изменениям химических процессов в мозге. Ученые обнаружили, что, если на крыс воздействуют электрошоком, избежать ударов которого они не могут, в некоторых участках их мозга происходят физиологические изменения. Исследователи предположили, что подобные изменения в состоянии мозга являются причиной посттравматического стресса, наблюдаемого у ветеранов вьетнамской войны, мозг которых также мог претерпеть физиологические изменения под воздействием тяжелейшего неконтролируемого стресса в ходе боевых действий.
Даже одна-единственная сцена, вызвавшая непереносимый ужас, может изменить состояние мозга и сделать психику более чувствительной к выбросам адреналина даже по прошествии десятилетий… для того чтобы в мозге произошли эти изменения, человек должен подвергнуться сильному стрессу, критической угрозе жизни или безопасности, которую он не в состоянии контролировать. чем сильнее была психологическая травма и чем дольше она продолжалась, тем больше вероятность развития посттравматического стресса.
The New York Times, 12 июня 1990 г.Основная причина этого явления кроется в памяти. Если бы крыса могла как-то научиться забывать об испытанных ранее воздействиях электрошока, каждое новое воздействие было бы неожиданностью, и мозг испытывал бы шок раз за разом без стойких серьезных изменений. Если бы ветеран Вьетнама мог устранить из памяти все военные воспоминания, то похожий на выстрел громкий хлопок автомобильного глушителя или рокот зависшего вертолета не инициировали бы в его мозгу привычные для военного реакции. Если бы Тайрон Бриггс мог просто взять и стереть из своего сознания последние четыре года, не оставив никаких картин и образов, не удерживая никаких воспоминаний, вот тогда он мог бы действительно стать свободным.
Но страх, бесправие и катастрофический стресс оставили в его сознании свой неизгладимый след. Некоторые впечатления настолько прочно запечатлеваются в нашей памяти и каждое их повторение настолько ужасно, что они остаются в нашей памяти каждым словом и каждым образом на долгие годы. Однажды я услышала рассказ о венесуэльском поэте Али Ламеде, который был заключен в тюрьму в Северной Корее и более шести лет подвергался допросам и пыткам. Когда в конце концов он был освобожден из тюрьмы, он сказал: «Они убили все, кроме моей памяти». Что же он помнил?
Оказалось, что за время своего заключения он сочинил и держал в памяти более трехсот сонетов и четырехсот других стихотворений, каждое из которых было как будто выгравировано в его памяти.
Сколько времени понадобится Тайрону Бриггсу, чтобы все забыть, чтобы его воспоминания истаяли и перестали причинять боль? Сколько времени потребуется Кларенсу фон Уильямсу, Говарду Хаупту, Тимоти Хеннису и Тони Эррересу, чтобы они смогли все забыть? Когда память вбирает в себя год, два года, четыре года жизни, когда обида и мучения продолжаются изо дня в день год за годом — в какой-то момент в сознании образуется глубокий болезненный шрам, который остается навсегда.
Я всегда буду помнить день, когда я опустилась на колени у могилы Стива Тайтуса и прочла надпись на его надгробной плите:
Боролся за то, чтобы его выслушали в суде,
был раздавлен, обманут, предан
и лишен даже посмертной справедливости
Минуло пять лет с тех пор, как умер Тайтус, но горечь и гнев продолжают жить в этих словах. На камне была выгравирована сама память, и те, кто читал эти слова, не смогут забыть эту трагедию.
Так же происходит и с другими, теми, кто оказался в ловушке неправедного судилища. Воспоминания могут истаять, но боль и тоска останутся жить в сердцах тех, кто знал их и был потрясен их судьбой.
Выражение благодарности
Такую книгу невозможно было бы написать без содействия множества людей, лично участвовавших в описываемых авторами событиях. Авторы ощущают себя в огромном долгу перед теми, кто прошел через эти суды в качестве подсудимых, перед их родственниками, адвокатами, следователями, присяжными заседателями и другими людьми, оказавшимися так или иначе вовлеченными в эти трагедии. Особую благодарность мы хотели бы выразить Ричарду Хансену, Дэвиду Аллену, Тому Хиллеру, Лесу Бернсу и Джоан Спенсер. В этой книге приводятся примеры использования результатов фундаментальных психологических исследований в реальных судебных процессах, связанных с убийствами, изнасилованиями и другими тяжкими преступлениями. За поддержку базовых исследований Элизабет Лофтус особенно благодарна Национальному научному фонду и Национальному институту психического здоровья. Мы также чрезвычайно благодарны нашему литературному агенту Кэрол Эйбл, которая помогла превратить эту книгу из мечты в реальность. Кое-кто из друзей и коллег прокомментировал отдельные главы этой книги и предложил ценные идеи в части редактирования. В качестве самых трудолюбивых помощников необходимо отметить Билли Хита, Джину Макменеми, Лори Беккер, Мисси Питерсон и Карен Престон. Большую помощь в проведении исследований оказала Марсия Госсард. И конечно, мы очень благодарны нашим родным и близким друзьям, в особенности Джеффри Лофтусу и Патрику Спенсеру, за их любовь и поддержку. А Кэти Кетчем хотела бы отдельно поблагодарить трех своих детей — Робина, Элисон и Бенджамена — за все, и еще кое за что.
Избранные ссылки
BorchardE. M. Convicting the Innocent. N.Y.: Garden City Pub. Co., 1932.
Buckhout R. Eyewitness Testimony // Scientific American. 1974. 231. P. 23-31.
Ceci S. J. The Suggestibility of Preschoolers’ Recollections // Unpublished manuscript, Cornell University.
Ceci S. J., TogliaM. P. and RossM. (eds.). Children’s Eyewitness Testimony. N. Y.: Springer, 1987. P. 79-91.
Clarke-Stewart A., Thompson W. and Lepore S. Manipulating Children’s Interpretations Through Interrogation // Paper presented at the Society for Research in Child Development, Kansas City, MO, April 1989.
Cutler B. L. and Penrod S. D. Improving the Reliability of Eyewitness Identification: Lineup Construction and Presentation // Journal of Applied Psychology. 1988. 73. P. 281-290.
Dale P. S., Loftus E. F. and Rathbun L. The Influence of the Form of the Question on the Eyewitness Testimony of Preschool Children // Journal of Psycholinguistic Research. 1978. Vol. 7. № 4. P. 269-277.
Donat A. (ed.) The Death Camp Treblinka. N. Y.: Holocaust Library, 1979.
Frank J. Not Guilty. N. Y.: Doubleday, 1957.
Freedman J. L. and Loftus E. F. Retrieval of Words from Long-Term Memory // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1971. 10. P. 107-115.
Goodman G. S. Children’s Testimony in Historical Perspective // Journal of Social Issues. 1984. Vol. 40. № 2. P. 9-31.
Greene E. and Loftus E. F. What’s New in the News? The Influence of Well-Publicized News Events on Psychological Research and Courtroom Trials // Basic and Applied Social Psychology. 1984. 5. P. 211-221.
Hopkins E. H. Fathers on Trial // New York. 1988. January 11. P. 42-49.
Israel M. The Hard Fall // New Jersey Monthly. 1981. October.
Lloyd-Bostock S. and Clifford B. Evaluating Witness Evidence. Chichester, England: Wiley, 1983.
Loftus E. F. Experimental Psychologist as Advocate or Impartial Educator // Law and Human Behavior. 1986. Vol. 10. P. 63-78.
Loftus E. F. Eyewitness Testimony. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1979.
Loftus E. F. Incredible Eyewitness // Psychology Today. 1974. December. P. 117-119.
Loftus E. F. Memory. Reading, MA: Addison-Wesley, 1980.
Loftus E. F. Ten Years in the Life of an Expert Witness // Law and Human Behavior. 1986. Vol. 10. № 3. P. 241-263.
Loftus E. F. and Davies G. M. Distortions in the Memory of Children // Journal of Social Issues. 1984. Vol. 40. № 2. P. 51-67.
Loftus E. F. and Doyle J. M. Eyewitness Testimony: Civil and Criminal. Charlottesville, VA: The Michie Co., 1987.
Loftus E. F. and Freedman J. L. Effect of Category-Name Frequency on the Speed of Naming an Instance of the Category // Journal of Verbal Learning and Verbal Behavior. 1972. Vol. 11. P. 343-347.
Loftus E. F., Greene E. L. and Doyle J. M. The Psychology of Eyewitness Testimony // In: D. C. Raskin (ed.). Psychological Methods in Criminal Investigation and Evidence. N. Y.: Springer, 1989. P. 3-46.
Loftus E. F. and Loftus G. R. On the Permanence of Stored Information in the Human Brain // American Psychologist. 1980. Vol. 35. P. 409-420.
Loftus E. F. and Schneider N. J. Behold with Strange Surprise: Judicial Reactions to Expert Testimony Concerning Eyewitness Reliability // University of Missouri-Kansas City Law Review. 1987. Vol. 56. № 1. P. 1-45.
McCloskey M. and Egeth H. Eyewitness Identification: What Can a Psychologist Tell a Jury? // American Psychologist. 1983. Vol. 38. P. 550-563.
Munsterberg H. On the Witness Stand. N. Y.: Doubleday, 1908.
Nevins W. S. Witchcraft in Salem Village. Salem, MA: Salem Observer Press, 1892.
Nickerson R. S. and Adams M. J. Long Term Memory for a Common Object // Cognitive Psychology. 1979. 11. P. 287-307.
Piaget J. Play, Dreams, and Imitation. N. Y.: Norton, 1962.
Rabinowitz D. From the Mouths of Babes to a Jail Cell // Harper’s. 1990. May. P. 52-63.
Raskin D. C. Science, Competence and Polygraph Techniques // Criminal Defense. 1981. 8. P. 11-18.
Rattner A. Convicted but Innocent: Wrongful Conviction and the Criminal Justice System // Law and Human Behavior. 1988. Vol. 12. № 3. P. 283-293.
Rattner A. Convicting the Innocent: When Justice Goes Wrong // Unpublished doctoral dissertation, Ohio State University, Columbus, OH, 1983.
Rodgers J. E. The Malleable Memory of Eyewitnesses // Science. 1982. June. 82. P. 32-35.
Ryan A. A., Jr. Quiet Neighbors: Prosecuting Nazi War Criminals in America. N. Y.: Harcourt Brace Jovanovich, 1984.
Schooler J. W., Gernard D. and Loftus E. F. Qualities of the Unreal // Journal of Experimental Psychology. 1986. Vol. 12. № 2. P. 171-181.
Sereny Gitta. How Guilty is Ivan? // The Sunday Correspondent. 1990. May 13.
Severance L. J. and Loftus E. F. Improving the Ability of Jurors to Comprehend and Apply Criminal Jury Instructions // Law and Society Review. 1982. Vol. 17. № 1. P. 154-197.
Sheehan P. W. Confidence, Memory and Hypnosis// In: H. M. Pettinati (ed.). Hypnosis and Memory. N. Y.: Guilford Press, 1988. P. 95-127.
Varendonck J. Les temoignages d’enfants dans un proces retentissant // Archives de Psychologie. 1911. 11. P. 129-171.
Wagenaar W. Identifying Ivan. Cambridge, MA: Harvard University Press, 1988. Wells G. L. and Loftus E. F. (eds.). Eyewitness Testimony: Psychological Perspectives (Cambridge, Cambridge University Press, 1984).
Wells G. L. and Turtle J. W. Eyewitness Testimony Research: Current Knowledge and Emergent Controversies // Canadian Journal of Behavioral Science. 1987. 19. P. 363-388.
Примечания
1
Англ. «An Analysis of the Structural Variables that Determine Problem-Solving Difficulty on a Computer-Based Teletype».
(обратно)2
Убийство первой степени — в системе американского правосудия: предумышленное убийство без смягчающих обстоятельств. — Примеч. ред.
(обратно)3
В январе 1990 г. коллегия присяжных оправдала Пегги Макмартин Баки, шестидесяти трех лет, по всем пунктам обвинения; Раймонд Баки, тридцати одного года, был оправдан по всем пунктам обвинения, кроме тринадцати (во время второго судебного разбирательства присяжные не смогли вынести вердикт в отношении оставшихся тринадцати пунктов обвинения против Раймонда Баки, и обвинение решило, что не стоит судить его еще раз). Судебные процессы шли почти три года и обошлись в 15 млн долларов. Мать и сын Баки провели в тюрьме, соответственно, два года и пять лет.
(обратно)4
Пентотал, или тиопентал натрия — психоактивное вещество, использовалось в США, Англии и некоторых других странах в целях ускорения психоанализа. Иногда его называют «сывороткой правды». — Примеч. ред.
(обратно)5
R. S. Nickerson and M. J. Adams. Long-Term Memory for a Common Object // Cognitive Psychology. 1979. 11. P. 287-307.
(обратно)6
Обвинительный приговор Джимми Ландано был отменен 27 июля 1989 г. окружным судьей США Х. Ли Сарокином, который постановил, что прокуроры и следователи скрыли результаты опознания подозреваемого очевидцами, свидетельствующие о том, что Ландано невиновен, а виновен другой человек. Ландано был освобожден под залог. В настоящее время [начало 1990-х гг. — Ред.] штат Нью-Джерси добивается пересмотра дела.
(обратно)7
Табернакль — резиденция Мормонского табернакального хора в Солт-Лейк-Сити. — Примеч. перев.
(обратно)8
В оригинале в рифму: Too bad so sad you’re dead Ted.— Примеч. перев.
(обратно)9
Англ. He bludgeoned the poor girls / all over the head / Now we’re all ecstatic / Ted Bundy is dead.
(обратно)10
1 дюйм = 2,54 см.
(обратно)11
«Сияй, сияй, маленькая звездочка» (англ).
(обратно)12
В 1993 г. этот приговор был отменен Верховным судом Израиля — суд счел недостаточными доказательства того, что Демьянюк на самом деле является «Иваном Грозным», и, проведя семь лет в заключении, он вернулся в США. В начале 2000-х гг. по делу Демьянюка было инициировано еще несколько судебных процессов в США и Германии. Умер Демьянюк в баварском доме престарелых на 92-м году жизни, в 2012 г. — Примеч. ред.
(обратно)13
24 августа 1990 г. обвинения против Тодда Нили были сняты, и он был оправдан после того, как Апелляционный суд постановил, что прокуроры скрыли важные доказательства по этому делу. «Мы никак не можем поверить, что все кончилось, — сказал отчим Нили корреспонденту The Palm Beach Post. — Как будто на поле боя вдруг прекратился обстрел. Тишина просто оглушает». Все эти мытарства длились четыре с половиной года и обошлись семье Нили примерно в 300 000 долларов.
(обратно)
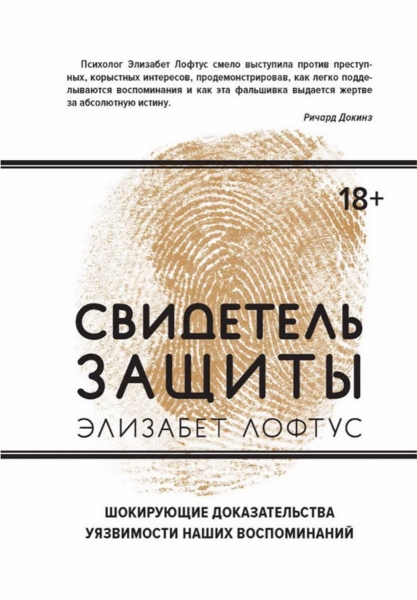






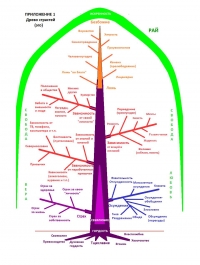
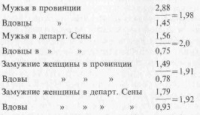

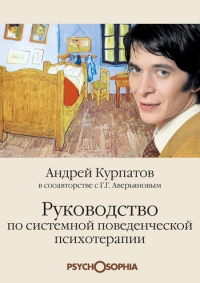
Комментарии к книге «Свидетель защиты. Шокирующие доказательства уязвимости наших воспоминаний», Элизабет Лофтус
Всего 0 комментариев