Предисловие издателя
Первое издание книги Чарльза Маккея в России вышло в конце 1998 года. Это был период хаоса и неопределенности, вызванных дефолтом и экономическим кризисом. Тогда нам казались наиболее актуальными главы, посвященные историям финансовых потрясений, а также глава, содержащая предсказания конца света: грядущий 2000 год вызывал у многих людей апокалиптические настроения. Переиздавая эту книгу позднее, мы обратили внимание, насколько главы с историями про алхимиков созвучны современным увлечениям экстрасенсами и паранормальными явлениями.
Есть книги, которые не устаревают. Это происходит потому, что с течением времени восприятие таких книг меняется, хотя их содержание само по себе остается неизменным. Каждое новое поколение интерпретирует их по своему. Не случайным, например, является появление в последнее время учебников по менеджменту, основанных на работах Клаузевица, Сунь-цзы и других военачальников прошлого. Генри Киссинджер (бывший госсекретарь США) писал: «История — не поваренная книга с проверенными рецептами. Она учит через аналогии, а не через аксиомы. Она может объяснить последствия предпринятых шагов в сходных ситуациях, однако каждое поколение должно само открыть для себя, какие ситуации являются на самом деле сходными». Набор ассоциаций, вызываемых «Безумствами толпы», поистине неисчерпаем. При этом каждому придется искать их самостоятельно, ведь в отличие от современных газет и телевидения свое мнение автор (он умер более ста лет назад) вам не может навязать.
Алексей Ильин,
генеральный директор издательства «Альпина Паблишер»
Предисловие к изданию 1852 года
Изучая историю различных народов, мы приходим к выводу, что у них, как и у отдельных людей, есть свои прихоти и странности, периоды возбуждения и безрассудства, когда они не заботятся о последствиях своих поступков. Мы обнаруживаем, что целые социальные группы внезапно останавливают свои взоры на какой-то одной цели, преследуя которую, сходят с ума; что миллионы людей одновременно попадаются на удочку одной и той же иллюзии и гонятся за ней, пока их внимание не привлечет какая-нибудь новая глупость, более заманчивая, чем первая. Мы видим, как одну нацию, от высшего до низшего сословия, внезапно охватывает неистовое желание военной славы, а другая, столь же внезапно, сходит с ума на религиозной почве, и ни та, ни другая не могут прийти в себя, пока не прольются реки крови и не будут посеяны семена из стонов и слез, плоды которых придется пожинать потомкам. Население Европы эпохи раннего Средневековья потеряло голову из-за Гроба Господня и безумными толпами устремилось в Святую землю; последующие поколения довели себя до помешательства на почве страха перед дьяволом и принесли сотни тысяч людей в жертву ведьмомании. В другой раз многие лишились рассудка на почве философского камня1 и в погоне за ним совершали доселе неслыханные глупости. Было время, когда в очень многих европейских странах считалось простительным убийство врага с помощью медленно действующего яда. Те, кто питал отвращение к физическому устранению неугодных, без угрызений совести подмешивали им в суп отраву. Женщины знатного происхождения со светскими манерами поддавались соблазну отравления, которое при их содействии становилось еще более популярным. Некоторые мании, несмотря на их дурную славу во всем мире, существовали веками, обильно процветая как среди цивилизованных и утонченных народов, так и у древних варваров, которые их породили, — такие, как, например, дуэли и вера в предзнаменования и предсказание будущего, которые, казалось, игнорировали накопленный человечеством опыт, призванный полностью искоренить их в умах людей. И опять же, зачастую причиной массовых психозов были деньги. Рассудительные нации однажды становились отчаянными игроками и рисковали чуть ли не своим существованием ради прибыли от клочка бумаги. Цель этой книги — проследить историю наиболее известных из этих психозов. Люди, как некто удачно выразился, мыслят стадом; вы узнаете, что стадом же они сходят с ума, а в сознание приходят медленно и поодиночке.
Некоторые из описанных случаев могут быть хорошо знакомы читателю, но автор надеется, что существенная новизна деталей будет отмечена последним даже в этих эпизодах, где она призвана сделать изложение более приемлемым; к тому же данными деталями нельзя полностью пренебречь по отношению к предмету повествования, с которым они связаны. Истории безумия «Южных морей» и Миссисипской мании изложены в этой книге полнее и подробнее, чем где бы то ни было; то же самое можно сказать об охоте на ведьм: в посвященной ей главе рассказывается, в частности, о тех ужасающих масштабах, которые она приняла в Германии, — эпизод, сравнительно мало затронутый сэром Вальтером Скоттом в его «Записках о демонологии и колдовстве», наиболее значимой из всех когда-либо изданных книг на эту страшную, но в высшей степени интересную тему.
Массовые психозы появились столь давно, распространились столь широко и длились столь долго, что для того, чтобы рассказать о них подробно, потребовалось бы написать не две или три книги, а все пятьдесят, а то и больше. Данную книгу можно считать скорее сборником рассказов о маниях, нежели историческим трудом, — одной главой огромной и ужасной книги о человеческой глупости, которую еще предстоит написать и которую Порсон, как он однажды пошутил, написал бы в пятистах томах! Читатель узнает и более невинные истории — занятные примеры подражательства и упорства в заблуждениях, а не безрассудства и обмана.
Денежная мания — Миссисипский план
Some in clandestine companies combine;
Erect new stocks to trade beyond the line;
With air and empty names beguile the town,
And raise new credits first, then cry’em down;
Divide the empty nothing into shares,
And set the crowd together by the ears.
— Defoe2.
Жил на свете один человек, личность и карьера которого столь тесно связаны с великим планом 1719 и 1720 годов, что история Миссисипского безумия не заслуживает более подходящего предисловия, чем беглое жизнеописание нашего героя — Джона Ло. Одни историки считают его плутом, другие — безумцем. Обоими эпитетами его щедро награждали при жизни и тогда, когда дурные последствия его проектов все еще давали о себе знать. Тем не менее последующие поколения нашли повод усомниться в справедливости этих обвинений и признать, что Джон Ло не был ни плутом, ни безумцем, а скорее заблуждающимся, нежели вводящим в заблуждение, и больше жертвой грешников, чем одним из них. Он в совершенстве знал философию и законы кредитования. Он разбирался в денежных вопросах лучше, чем кто-либо из его современников, и если его система и потерпела столь ужасающий крах, то виной тому был не столько он сам, сколько люди, среди которых он ее возвел. Он не рассчитывал на алчное безумие целой нации; он не понимал, что доверие, как и недоверие, может быть чуть ли не бесконечным и что надежда — вещь столь же безрассудная, сколь и опасная. Разве мог он предвидеть, что французы, как герой известной сказки, с неистовым рвением убьют его прекрасную гусыню, несущую золотые яйца?
Его судьба сродни той, которая, как можно предположить, постигла первого безрассудного лодочника, собравшегося переплыть из озера Эри в озеро Онтарио. Широкой и спокойной была река, по которой он поплыл, продвижение его было скорым и приятным, и кто мог встать у него на пути? Но увы, впереди лежал водопад! Когда уже было слишком поздно, он осознал, что влекшее его стремительное течение было гибельным; а когда он попытался повернуть назад, то понял, что слишком слаб, чтобы плыть против течения, и что скоро он рухнет в водопад. Упав вниз на острые камни, он и его лодка разбились на куски, а воды, взбаламученные и вспененные бурным водопадом, какое-то время бурлили и пузырились, а затем вновь потекли плавно, как и прежде. Именно это и произошло с Ло и французами. Он был лодочником, а они — водами.
Джон Ло родился в Эдинбурге в 1671 году. Его отец был младшим сыном в семье с древними корнями из Файфа и занимался ювелирным и банковским делом. Он нажил своим ремеслом солидный капитал, достаточный для выполнения весьма распространенного среди его соотечественников желания добавить к своему имени дворянский титул. С этой целью он купил поместья Лористон и Рэндлстон у залива Ферт-оф-Форт, на границе Уэст-Лотиана и Мидлотиана, и с этого времени стал известен как Ло Лористонский. Герой нашего повествования, старший сын в семье, в четырнадцать лет был зачислен в бухгалтерию отца и три года усердно постигал основы банковского дела, которым впоследствии и занялся в Шотландии. Он всегда проявлял большую любовь к арифметике, а его математические способности признавались выдающимися для столь юного возраста. В семнадцать лет он был высоким, сильным и хорошо сложенным, а его лицо, несмотря на глубокие оспины, было приятным. В этом возрасте он начал манкировать своими обязанностями, стал тщеславным и позволял себе экстравагантность в одежде. Он пользовался большим успехом у женщин, которые называли его Щеголь Ло, в то время как мужчины, презирая его за фатовство, дали ему прозвище Жасминный Джон. После смерти отца в 1688 году он больше не садился за опостылевший ему письменный стол; обладая немалым доходом от отцовского поместья Лористон, отправился в Лондон повидать мир.
Он был очень молод, приятной наружности, тщеславен, довольно богат и абсолютно неуправляем. И неудивительно, что по прибытии в столицу начал сорить деньгами. Став вскоре завсегдатаем игорных домов, он, следуя определенной схеме, основанной на некоей загадочной калькуляции шансов на выигрыш, ухитрялся выигрывать значительные суммы. Его удачливости завидовали все игроки, а многие из них пользовались ею, наблюдая за его игрой и делая те же ставки, что и он. Ему одинаково везло и в делах сердечных: самые красивые женщины любезно улыбались симпатичному шотландцу — молодому, богатому, остроумному и обходительному. Но все эти успехи подготавливали почву только для худшего. За девять лет опасных соблазнов беспутной жизни Ло превратился в законченного игрока. Когда его любовь к игре дошла до неистовства, благоразумие покинуло его. Чтобы выплатить огромные долги, приходилось делать еще более высокие ставки, и в один несчастливый день он проиграл больше, чем мог заплатить, не заложив семейное поместье, что он и сделал. Тогда же ему вышла боком его любвеобильность. Была ли это любовная связь или просто легкий флирт с леди Вильерс3, но это вызвало негодование некоего господина Уилсона, который вызвал нашего героя на дуэль. Ло принял вызов и имел несчастье застрелить противника с первого выстрела. В тот же день он был арестован и привлечен к суду по обвинению в убийстве, выдвинутому родственниками господина Уилсона. Позднее он был признан виновным и приговорен к смертной казни. Приговор был заменен штрафом на том основании, что убийство было непредумышленным. Один из братьев покойного подал апелляцию, и Ло был помещен в тюрьму при Суде королевской скамьи4, откуда он каким-то образом (о чем никогда не распространялся) сумел бежать. Против нерадивых тюремщиков возбудили дело, а о беглеце дали объявление в правительственном бюллетене и назначили вознаграждение за его поимку. Он описывался как «земельный магнат Джон Ло, шотландец, двадцати шести лет, очень высокий (более шести футов), смуглый, худощавый, хорошо сложен, на лице крупные оспины, длинноносый; речь громкая, с шотландским акцентом». Поскольку это было скорее карикатурой, нежели его описанием, предполагали, что так было написано с целью упростить ему побег. Джон благополучно добрался до континента, по которому путешествовал три года, уделяя пристальное внимание денежным и банковским операциям стран, через которые проезжал. Несколько месяцев прожил в Амстердаме, понемногу спекулируя государственными ценными бумагами. Утренние часы посвящал изучению финансового дела и принципов торговли, вечерние — игорному дому. Принято считать, что он вернулся в Эдинбург в 1700 году. Точно известно, что в этом городе Ло опубликовал свои «Предложения и доводы относительно учреждения в Шотландии торгового совета». Эта брошюра не привлекла сколько-нибудь значительного внимания.
Некоторое время спустя он издал проект учреждения так называемого Земельного банка5, который выпускал бы в обращение банкноты, номинальная стоимость которых никогда не превышала бы стоимости всех государственных земельных владений или равнялась бы стоимости земли при праве вступления во владение в определенное время. Этот проект вызвал оживленные дискуссии в шотландском парламенте, и одна из нейтральных партий под названием «Эскадрон», сторонником которой являлся Ло, выдвинула предложение учредить такой банк. Парламент в конце концов вынес резолюцию, согласно которой учреждение любых вексельных кредитов для стимулирования деловой активности являлось неприемлемой тактикой для страны.
После провала данного законопроекта и неудачных попыток добиться помилования в деле об убийстве господина Уилсона Джо перебрался на континент и вернулся к привычному занятию — игре. За четырнадцать лет он побывал во Фландрии, Голландии, Германии, Венгрии, Италии и Франции, получил детальное представление о торговле и ресурсах каждой из этих стран и с каждым днем все больше утверждался во мнении, что ни одной из них не добиться процветания без бумажных денег. Все это время он, по-видимому, жил главным образом на деньги от успешной игры. Его знали во всех крупных игорных домах европейских столиц и считали одним из наиболее поднаторевших в хитросплетениях шансов на выигрыш людей своего времени. В книге «Biographie Universelle»6 сообщается, что он был изгнан в судебном порядке сначала из Венеции, а затем из Генуи, где считался слишком опасным для молодежи этих городов визитером. Во время пребывания в Париже впал в немилость у д’Аржансона, генерал-лейтенанта полиции7, приказавшего ему покинуть столицу. Однако это случилось уже после того, как Джо завязал салонное знакомство с герцогом Вандомским, принцем де Конти и бесшабашным герцогом Орлеанским. Последнему впоследствии было суждено в значительной мере повлиять на его судьбу. Герцогу Орлеанскому пришлись по душе живость и ум шотландского искателя приключений, который в свою очередь остался не менее доволен смекалкой и добродушием принца, пообещавшего стать его покровителем. Они часто проводили время в обществе друг друга, и Ло при любой возможности исподволь внушал свои финансовые доктрины герцогу, чья приближенность к престолу сулила ему в не столь отдаленном будущем важный пост в правительстве.
Незадолго до смерти Людовика XIV (по другим данным, в 1708 году) Ло предложил некий финансовый план генерал-контролеру8 Демаре, который в свою очередь показал его королю. Сообщается, что Людовик осведомился, является ли автор проекта католиком, и, получив отрицательный ответ, отказался иметь с ним дело9.
После этого отказа Ло посетил Италию. По-прежнему вынашивая финансовые планы, он предложил Виктору Амедею, герцогу Савойскому, учредить земельный банк в этой стране. Герцог ответил, что его владения слишком ограниченны для реализации столь грандиозного проекта и что власть его слишком слаба и уязвима. Тем не менее он посоветовал Ло еще раз попытать счастья во Франции, ибо был уверен, что если он хоть немного разбирается во французах, то им этот план, не столь новый, сколь внушающий доверие, придется по душе.
В 1715 году Людовик XIV умер, престол унаследовал семилетний ребенок, и герцог Орлеанский по праву регента взял бразды правления в свои руки до достижения наследником совершеннолетия. О лучшем Ло не мог и мечтать. Это было самое удачное время для удовлетворения его амбиций, которое, словно поток воды, должно было вынести его к богатству. Регент был его другом, уже знавшим его теорию и притязания и, более того, склонным помочь ему в любых начинаниях, способных восстановить престиж Франции, сведенный на нет долгим и сумасбродным правлением Людовика XIV.
Едва короля уложили в могилу, как ненависть к нему народа, сдерживаемая до этого десятилетиями, выплеснулась наружу. Людовика, чьи достоинства при жизни приукрашивались до степени, вряд ли имеющей прецедент в мировой истории, теперь проклинали как тирана, деспота и грабителя. Его статуи забрасывали грязью и уродовали, его портреты срывались со стен под проклятия простолюдинов, а имя стало синонимом себялюбия и угнетения. Славные деяния короля были забыты, и все помнили только его провалы, сумасбродство и жестокость.
Финансы страны находились в состоянии предельного хаоса. Монарх, чья расточительность и продажность передались почти всем чиновникам разных рангов, поставил Францию на грань катастрофы. Национальный долг составлял три миллиарда ливров, годовой доход — 145 миллионов, а затраты на содержание правительства — 142 миллиона в год; оставалось всего три миллиона на выплату процентов по национальному долгу. Первой заботой регента стал поиск средств борьбы со столь масштабным злом, и был срочно созван совет для обсуждения данной проблемы. Герцог де Сен-Симон считал, что спасти страну от революции могут только решительные и вместе с тем рискованные меры. Он посоветовал регенту созвать Генеральные штаты10 и объявить страну банкротом. Герцог де Ноаль, приспособленец по натуре и придворный до мозга костей, питавший тотальное отвращение к любым лишениям и дискомфорту, для преодоления которых потребовалась бы определенная изобретательность, выступил против проекта Сен-Симона, использовав все свое влияние. Он охарактеризовал проект как бесчестный и разорительный. Регент придерживался того же мнения, и этот отчаянный план был похоронен.
Принятые в конце концов меры, хоть и выглядели многообещающе, лишь углубили кризис. Первая и самая бесчестная из них не принесла выгоды государству. Было приказано чеканить новую монету, обесценившую национальную валюту на одну пятую. Те, кто принес тысячи золотых и серебряных монет на монетный двор, получили взамен некоторое количество монет той же номинальной стоимости, но в них было только четыре пятых золота или серебра от их массы. В результате казна пополнилась на семьдесят два миллиона ливров, а все коммерческие операции в стране пришли в хаос. Незначительное снижение налогов заглушило ропот недовольных, и за эту малую уступку большое зло было забыто.
Затем была учреждена Судебная камера, призванная расследовать случаи финансовых злоупотреблений среди податных чиновников и генеральных откупщиков11. Сборщики налогов никогда не были особенно популярны ни в одной стране, но во Франции того периода они заслужили всю ту ненависть, что на них выплескивали. Как только их и сонмы подчиненных им агентов, так называемых maltôtiers12, призвали к ответу за их преступления, страну охватила безудержная радость. Судебная камера, созданная главным образом для борьбы с казнокрадством, была наделена самыми широкими полномочиями. Она состояла из президентов и советников Парижского парламента13, судей и ревизоров налогового суда и чиновников счетной палаты. Общее руководство осуществлял министр финансов. Доносчикам обещали одну пятую часть штрафов и конфискованного имущества, тем самым побуждая их давать свидетельские показания против преступников. Десятая часть всего укрываемого имущества, принадлежащего виновным, была обещана тем, кто укажет их местонахождение.
Обнародование указа, узаконившего эти меры, вызвало оцепенение среди тех, кто формально подпадал под его юрисдикцию и мог понести наказание лишь по подозрению в растрате. Но им никто не сочувствовал. Судебные процессы против них оправдывали их ужас. Вскоре Бастилия уже не могла вместить всех заключенных, и тюрьмы по всей стране были битком набиты осужденными и подозреваемыми. Было издано постановление, гласившее, что всем хозяевам постоялых дворов и почтмейстерам запрещается давать лошадей пытающимся спастись бегством; всем без исключения под угрозой крупных штрафов запрещалось укрывать их или помогать им бежать. Одних выставили к позорному столбу, других послали на каторгу, а наименее виновных оштрафовали и посадили в тюрьму. Только один человек — Самуэль Бернар, богатый банкир и генеральный откупщик одной отдаленной провинции, был приговорен к смерти. Нелегальные доходы этого человека, которого считали тираном и угнетателем своего округа, были столь огромны, что за организацию своего побега он предложил шесть миллионов ливров (250 тысяч фунтов стерлингов).
Его взятку не приняли, и он был казнен. Другим же, вероятно, даже более виновным, повезло больше. Конфискации укрываемых преступниками богатств часто приносили меньше денег, чем обычный штраф. Жесткость правительства пошла на убыль, и штрафы за налоговые злоупотребления взимались со всех осужденных без разбора; но все административные департаменты были настолько коррумпированы, что страна извлекла лишь малую выгоду из сумм, таким образом пополнивших казну. Львиная доля этих денег попала в руки придворных, их жен и фавориток. На одного податного чиновника наложили, пропорционально его состоянию и степени вины, штраф в двенадцать миллионов ливров. Один граф, не последний человек в правительстве, навестил его и пообещал освобождение от уплаты в обмен на сто тысяч крон. «Вы опоздали, друг мой, — ответил финансист. — Мы с вашей женой уже сошлись на пятидесяти тысячах»14.
Таким путем было изъято около ста восьмидесяти миллионов ливров, из которых восемьдесят миллионов пошли на уплату долгов правительства, а остальное попало в карманы придворных. Мадам де Ментенон15 пишет об этом следующее: «Мы ежедневно узнаем о новых пожалованиях от регента. Народ ропщет из-за того, что деньгам, изъятым у казнокрадов, найдено такое применение». Народ, который после того, как улеглось первоначальное возмущение, в целом сочувствовал пострадавшим, был возмущен тем, что столь суровые меры привели к столь незначительным результатам. Люди находили несправедливым, что за счет поборов с одних мошенников жиреют другие. Несколько месяцев спустя, когда все наиболее виновные понесли наказание, Судебная камера стала выискивать жертвы среди людей более скромного общественного положения. Как результат щедрых посулов доносчикам против торговцев с незапятнанной репутацией выдвигались обвинения в мошенничестве и назначении грабительских цен. Их заставляли отчитываться об их деятельности перед трибуналом, дабы доказать свою невиновность. Отовсюду раздавались голоса недовольных, и в конце года правительство сочло за лучшее прекратить дальнейшие судебные разбирательства. Судебную камеру упразднили и объявили всеобщую амнистию тем, против кого еще не выдвинули обвинений.
Посреди этой финансовой неразберихи на сцене появился Ло. Никто лучше регента не осознавал всей плачевности положения, в котором оказалась страна, но и никто более него не страшился мужественно и энергично взяться за дело. Он не любил работать, подписывал официальные документы без надлежащего их изучения и доверял другим то, что должен был делать сам. Заботы, неотделимые от его высокого статуса, тяготили его. Он видел, что необходимо что-то предпринять, но ему не хватало для этого энергии и недоставало добродетели, чтобы пожертвовать ради дела праздностью и удовольствиями. И неудивительно, что он, имея такой характер, благосклонно внимал грандиозным и, казалось бы, легко выполнимым планам смышленого авантюриста, которого давно знал и чьи таланты ценил.
Когда Ло появился при дворе, его встретили самым радушным образом. Он представил на рассмотрение регента два ходатайства с описанием бед, обрушившихся на Францию из-за нехватки денег, неоднократно обесценивавшихся. Он утверждал, что монеты без поддержки бумажных денег никоим образом не удовлетворяют потребностям активной в коммерческом отношении страны, ссылаясь при этом, в частности, на Великобританию и Голландию, где бумажные деньги доказали свою состоятельность. Он привел массу весомых аргументов в пользу кредита и в качестве средства его возрождения во Франции предложил разрешить ему учредить в переживавшей упадок стране банк, который регулировал бы поступления в королевскую казну и выпускал бы банкноты, обеспеченные как казной, так и земельными угодьями. По замыслу Ло, банк должен был управляться от имени короля, но при этом контролироваться комиссией, назначаемой Генеральными штатами.
Пока эти ходатайства рассматривались, Ло перевел на французский язык свое сочинение о деньгах и торговле и использовал любые средства, чтобы прославиться на всю страну как финансист. Вскоре о нем заговорили. Наперсники регента восхваляли его повсюду, и все ожидали великих свершений от месье Лаcс16.
5 мая 1716 года был издан королевский указ, в котором Ло вместе с его братом разрешалось учредить банк под вывеской «Ло и Компания», банкноты которого должны были приниматься при уплате налогов. Уставной капитал устанавливался в размере шести миллионов ливров и был разделен на двенадцать тысяч акций по пятьсот ливров каждая, одна четверть которых могла быть куплена за металлические деньги, а остальные — за так называемые billets d’état17. Было решено не предоставлять ему все те привилегии, о которых он просил в ходатайствах, до тех пор, пока предприятие не докажет свою безопасность и выгоду на практике.
Ло находился на прямом пути к богатству. Его тридцатилетняя карьера увенчалась тем, что он стал руководителем собственного банка. Его банкноты при предъявлении подлежали оплате той монетой, которая имела хождение на момент их запуска в обращение. Последнее было умным политическим ходом и сразу же сделало его банкноты более ценными, чем монеты из драгоценных металлов. Последние постоянно обесценивались неразумными действиями правительства. Тысяча серебряных ливров могла в один день иметь одну номинальную стоимость, а на следующий день обесцениться на одну шестую, но банкноты банка Ло сохраняли при этом свою первоначальную стоимость. В то же время Ло публично заявил, что банкир, печатающий недостаточно обеспеченные банкноты, заслуживает смерти. В результате его банкноты моментально выросли в цене и стали приниматься на 1% дороже металлических денег. Это случилось незадолго до начала в стране торгового бума. Хиреющая коммерция начала поднимать голову, налоги платили более регулярно и с меньшим ропотом, и установилась та степень доверия к властям предержащим, которая при условии неизменности выбранного курса неизбежно сделала бы коммерческие операции более прибыльными. В течение года стоимость банкнот Ло выросла на 15%, тогда как billets d’état — облигации, пущенные в обращение правительством как средство платежа по долгам расточительного Людовика XIV, обесценились до 78,5% от номинала. Сравнение было настолько в пользу Ло, что он привлек к себе внимание всего королевства, и его репутация росла день за днем. Филиалы его банка были почти одновременно учреждены в Лионе, Ла-Рошели, Туре, Амьене и Орлеане.
Регент, видимо, был чрезвычайно удивлен успехом Ло и постепенно пришел к мысли, что бумажные деньги, способные до такой степени поддержать металлические, могут полностью их заменить. Его последующие действия основывались на этом фундаментальном заблуждении. Между тем Ло затеял свой знаменитый проект, оставивший о нем память на поколения вперед. Он предложил регенту (который не отказывал ему ни в чем) основать компанию, которая имела бы исключительную привилегию на торговлю в провинции Луизиана, расположенной на западном берегу великой реки Миссисипи. Считалось, что эти земли богаты драгоценными металлами, а компания, поддерживаемая исключительными торговыми льготами, должна была стать единственным сборщиком налогов и чеканщиком монеты. В августе 1717 года компании был выдан регистрационный патент. Капитал поделили на двести тысяч акций по пятьсот ливров каждая, и все они могли быть оплачены в billets d’état по номинальной стоимости, несмотря на то, что на фондовом рынке они стоили не более ста шестидесяти ливров за штуку.
Нацию стала охватывать безумная спекуляция. Дела у банка Ло шли настолько хорошо, что любым обещаниям шотландца верили безоговорочно. Регент ежедневно наделял удачливого финансиста новыми привилегиями. Его банк получил монополию на продажу табака, исключительное право на аффинаж золота и серебра и в конце концов был преобразован в Королевский банк Франции. Среди этого опьянения от успехов и Ло, и регент забыли тот самый принцип, который ранее столь громко провозглашался первым из них: банкир, печатающий банкноты, не обеспеченные необходимыми фондами, достоин смерти. Как только банк из частного учреждения превратился в государственное, регент довел выпуск банкнот до объема один миллиард ливров. Это был первый случай отхода от основополагающих принципов, в котором несправедливо обвиняют Ло. Когда он управлял делами банка, выпуск банкнот никогда не превышал шестидесяти миллионов ливров. Не известно, выступал ли Ло против этого чрезмерного прироста, но в силу того, что последний имел место после преобразования банка в королевское учреждение, справедливее возложить вину за измену принципам на регента.
Ло понимал, что живет при деспотичном правительстве, но все еще не осознавал всей пагубности влияния, которое такое правительство может оказать на столь тонкий процесс, как кредитование. Позднее он узнал это на собственном опыте, но тогда страдал оттого, что регент втягивал его в дела, он сам не одобрял. Со слабостью, достойной наивысшего порицания, он способствовал наводнению страны бумажными деньгами, которые, не имея под собой прочного основания, рано или поздно должны были обесцениться. Тогдашнее исключительное везение ослепило его настолько, что он не почувствовал грядущей опасности при появлении ее признаков. Многих раздражало влияние иностранца, и в первую очередь членов парламента, которые к тому же испытывали серьезные сомнения в безопасности его проектов. По мере того как росло его влияние, увеличивалась их враждебность. Канцлер18 д’Агессо был бесцеремонно уволен регентом за свое противодействие чрезмерному приросту бумажных денег и постоянному обесцениванию золотых и серебряных монет королевства. Это лишь усилило враждебность парламентариев, а когда на вакантную должность был назначен д’Аржансон человек, преданный интересам регента, получивший, помимо того, пост министра финансов, это привело их в ярость. Первая же принятая новым министром мера вызвала дальнейшее обесценивание монеты. Для погашения billets d’état было объявлено, что те, кто принесет на монетный двор четыре тысячи серебряных ливров и одну тысячу ливров в billets d’état, получат обратно монеты с меньшим содержанием серебра на общую сумму в пять тысяч ливров. Д’Аржансон был страшно доволен собой, превратив четыре тысячи старых ливров большего достоинства в пять тысяч новых, меньшего достоинства. Не имея должного представления о принципах торговли и кредитования, он не отдавал себе отчета в том, какой огромный ущерб он наносит и тому и другому.
Парламентарии сразу же поняли неразумность и опасность такой политики и неоднократно заявляли ремонстрации регенту. Последний отказывался принимать их петиции к рассмотрению, и парламент, смело и очень необычно для себя превысив власть, постановил не принимать к оплате никаких денег, кроме старых. Регент созвал lit de justice19 и аннулировал декрет. Парламент воспротивился и издал еще один. Регент вновь воспользовался своей привилегией и аннулировал его, а парламент, став еще более оппозиционным, утвердил новый декрет, датированный 12 августа 1718 года, который запрещал банку Ло каким-либо образом, напрямую или косвенно, участвовать в управлении государственными доходами, а всем иностранцам под угрозой суровых наказаний вмешиваться от своего или чужого имени в руководство государственными финансами. Парламент считал Ло виновником всех зол, и некоторые советники в порыве злобы предлагали привлечь его к суду и в случае признания вины повесить у ворот Дворца правосудия.
Не на шутку встревоженный Ло поспешил в Пале-Рояль20 и бросился искать защиты у регента, умоляя того принудить парламент к повиновению. Регент тоже хотел этого всей душой, как в свете вышеописанных событий, так и из-за диспутов вокруг легитимации герцога Менского и графа Тулузского, сыновей последнего короля. В конечном итоге парламент был усмирен путем ареста его президента и двух советников, которых отправили в отдаленные тюрьмы.
Так была развеяна первая туча, нависшая над планами Ло, и он, свободный от мрачных предчувствий, сосредоточился на своем знаменитом Миссисипском проекте, акции которого стремительно поднимались в цене, несмотря на деятельность парламента. В начале 1719 года был издан указ, даровавший Миссисипской компании исключительную привилегию торговли с Ост-Индией, Китаем и странами южных морей, а также со всеми владениями французской Ост-Индской компании, основанной Кольбером. Вследствие этого серьезного прорыва в деятельности компании она присвоила себе более подобающее своему статусу название — Компания двух Индий и выпустила пятьдесят тысяч новых акций. Планы, вынашиваемые Ло в то время, были самыми грандиозными. Он обещал годовой дивиденд в двести ливров за каждую акцию стоимостью пятьсот ливров, который, поскольку акции оплачивались в billets d’état по номинальной стоимости, но стоили менее 100 ливров, составлял около 120%.
Долго накапливавшийся общественный энтузиазм не смог противостоять столь блестящей перспективе. На покупку пятидесяти тысяч новых акций было подано по меньшей мере триста тысяч заявлений, и дом Ло на улице Кенкампуа с утра до ночи осаждали страждущие просители. Так как было невозможно угодить всем, прошло несколько недель, прежде чем был составлен список новых удачливых держателей капитала; за это время царивший в обществе ажиотаж превратился в безумие. Герцоги, маркизы, графы и их герцогини, маркизы и графини каждый день часами ждали результатов у дома господина Ло. Наконец, дабы избежать толкотни среди толпы простолюдинов, тысячами заполонивших все близлежащие улицы, они сняли меблированные комнаты в прилегающих домах и теперь могли постоянно находиться рядом с заветным домом, откуда новый Плутос21 разбрасывал сокровища. Стоимость акций первого выпуска ежедневно росла, а новые заявки на покупку акций — результат золотых грез целой нации — стали столь многочисленными, что было сочтено целесообразным выпустить не менее трехсот тысяч новых акций по пять тысяч ливров каждая, чтобы регент на волне энтузиазма своих подданных смог выплатить национальный долг. Для этой цели требовалось полтора миллиарда ливров. Рвение нации было настолько велико, что означенная сумма могла бы быть собрана трижды, если бы правительство санкционировало это.
Ло находился в зените процветания, а страна приближалась к зениту своего слепого увлечения. Высшие и низшие классы были в равной степени преисполнены желания несметного богатства. Среди тогдашней аристократии не было ни одной мало-мальски заметной персоны, за исключением герцога Сен-Симона и маршала Виллара, не вовлеченной в куплю-продажу акций. Люди всех возрастов, всякого звания и обоего пола играли на повышение и понижение миссисипских ценных бумаг. Излюбленным местом брокеров была рю де Кенкампуа — узкая, неудобная улочка, на которой постоянно происходили несчастные случаи из-за огромного скопления народа. Аренда домов на этой улице в обычные времена стоила тысячу ливров в год, теперь же — от двенадцати до шестнадцати тысяч. Сапожник, имевший на этой улице прилавок, зарабатывал около двухсот ливров в день, сдавая его напрокат и снабжая брокеров и их клиентов письменными принадлежностями. Предание гласит, что один стоявший на этой улице горбун зарабатывал изрядные суммы, сдавая в аренду энергичным спекулянтам свой горб в качестве письменного стола! Большое скопление людей, собиравшихся, чтобы заниматься коммерцией, привлекало еще бóльшую толпу зевак. Сюда стягивались все воры и аморальные элементы Парижа, здесь постоянно нарушался общественный порядок. С наступлением сумерек часто приходилось высылать отряд солдат для очистки улицы.
Ло, тяготившийся таким соседством, переехал на площадь Вандом, сопровождаемый толпой agioteurs22. Эта просторная площадь вскоре стала столь же многолюдной, что и улица Кенкампуа: с утра до ночи на ней шли торги. Там сооружались палатки и тенты для заключения сделок и продажи напитков и закусок; в самом центре площади устанавливались столы для игры в рулетку, где с толпы собирали золотой, или, скорее, бумажный урожай. Бульвары и скверы были забыты; влюбленные парочки прогуливались преимущественно по площади Вандом, ставшей модным местом отдыха праздного люда и встреч деловых людей. Здесь целыми днями стоял такой несусветный гам, что канцлер, чье ведомство находилось на этой площади, пожаловался регенту и муниципалитету на то, что он не слышит адвокатов. Ло, когда к нему обратились по этому поводу, выразил готовность помочь устранить неудобство, для чего заключил с принцем де Кариньяном договор касательно гостиницы «Отель-де-Суассон», имевшей с задней стороны парк площадью несколько акров. Сделка состоялась, и Ло приобрел отель за огромную цену, а принц сохранил за собой великолепный парк как новый источник дохода. В нем находились прекрасные статуи и несколько фонтанов, и в целом он был спланирован с большим вкусом. Как только Ло обустроился в своей новой резиденции, был издан указ, запрещавший всем без исключения лицам покупать или продавать акции где бы то ни было, кроме парка «Отель-де-Суассон». В центре парка среди деревьев соорудили около пятисот небольших тентов и павильонов для удобства брокеров. Их разноцветье, развевающиеся на них веселые ленты и флаги, оживленные толпы, непрерывно снующие туда-сюда, несмолкаемый гул голосов, шум, музыка, странная смесь деловитости и удовольствия на лицах людей — все вместе это создавало некую волшебную атмосферу, приводившую парижан в полный восторг. Пока продолжалась эта мания, принц де Кариньян получал громадные прибыли. Каждый тент сдавался в аренду за 500 ливров в месяц, и, поскольку их было в парке не менее пяти сотен, месячный доход принца только из этого источника составлял, очевидно, как минимум 250 тысяч ливров (свыше 10 тысяч фунтов стерлингов).
Маршал Виллар, честный старый солдат, был настолько раздражен этим неистовством, охватившим его соотечественников, что никогда не высказывался по данному вопросу спокойно. Проезжая однажды через площадь Вандом в своей карете, этот холерический господин был так раздосадован людской суматохой, что внезапно приказал кучеру остановиться и, высунув голову из окна, добрые полчаса разглагольствовал об «отвратительной алчности» новоявленных коммерсантов. Это было не очень умно с его стороны. Отовсюду раздавались свист и громкий хохот, в адрес маршала летели бесчисленные остроты. Наконец, когда появились очевидные признаки того, что вот-вот в направлении его головы полетит нечто более весомое, маршал счел за благо поехать дальше. Он больше никогда не повторял этот эксперимент.
Двое рассудительных, спокойных и философски настроенных литераторов, месье де ла Мотт и аббат Терразон, поздравили друг друга с тем, что хотя бы они остались в стороне от странного слепого увлечения. Несколькими днями позже, когда достопочтенный аббат выходил из «Отель-де-Суассон», куда он приходил купить акции Миссисипской компании, он увидел не кого иного, как своего друга ла Мотта, входившего внутрь с той же целью. «Ба! — сказал, улыбаясь, аббат. — Это вы?» «Да, — сказал ла Мотт, протискиваясь мимо того так быстро, как только мог. — А неужели это вы?» При следующей встрече двое ученых мужей разговаривали о философии, о науке и о религии, но ни тот, ни другой долго не осмеливались произнести хоть слово о Миссисипской компании. Наконец, когда это произошло, они сошлись на том, что никто и никогда не должен от чего бы то ни было зарекаться и что нет такого безрассудства, от которого был бы застрахован даже умный человек.
Тем временем Ло, этот новый Плутос, вдруг стал самой важной особой в государстве. Придворные забыли о вестибюлях регента. Пэры, судьи и епископы устремились в «Отель-де-Суассон»; офицеров армии и флота, титулованных светских дам и всех, кто в силу унаследованного дворянского титула или высокого служебного положения мог претендовать на первенство, можно было встретить в его вестибюлях, где они ждали своей очереди, с тем чтобы подать прошение о получении доли акционерного капитала Индийской компании. Претендентов было столько, что Ло не мог принять даже десятую их часть, и для получения доступа к нему использовались любые уловки, какие могла подсказать человеческая изобретательность. Пэры, чье звание было бы оскорблено, заставь их регент ждать приема полчаса, были готовы шесть часов ожидать возможности встретиться с месье Ло. Претенденты платили его слугам гигантские суммы, дабы те просто объявляли их имена. С той же целью женщины-аристократки пользовались обольстительностью своих улыбок; но многие из них приходили день за днем в течение двух недель, прежде чем добивались аудиенции. Когда Ло принимал то или иное приглашение, его зачастую окружало такое количество женщин, каждая из которых просила внести ее имя в списки держателей акций нового выпуска, что ему, несмотря на его известную и привычную галантность, приходилось отражать их натиск par force23. Люди прибегали к самым нелепым ухищрениям, дабы получить возможность поговорить с ним. Одна дама, тщетно прилагавшая к этому усилия в течение нескольких дней, в отчаянии отказалась от любых попыток встретиться с ним в его доме, но строго-настрого приказала своему кучеру смотреть в оба всякий раз, когда она едет в карете по улице, и, если он увидит идущего г-на Ло, налететь на столб и опрокинуть карету. Кучер обещал повиноваться, и дама непрестанно колесила по городу три дня, в душе моля Бога дать ей счастливый шанс опрокинуться. Наконец она заметила издалека г-на Ло и, оттянув занавеску, закричала кучеру: «Опрокидывай сейчас же! Бога ради, опрокидывай!» Кучер налетел на столб, женщина завизжала, карета опрокинулась, и Ло, ставший свидетелем несчастного случая, поспешил к месту происшествия для оказания помощи. Хитрая дама была препровождена в «Отель-де-Суассон», где она вскоре сочла благоразумным оправиться от испуга и, извинившись перед г-ном Ло, призналась в своей уловке. Ло улыбнулся и вписал ее в свой реестр как покупательницу некоторого количества акций Индийской компании. В другой раз некая мадам де Буша, узнав, что г-н Ло обедает в конкретном доме, приехала туда в своей карете и объявила пожарную тревогу. Вся компания, включая Ло, бросилась из-за стола, но последний, увидев, что какая-то женщина со всех ног вбежала в дом и устремляется прямо к нему, в то время как все остальные поспешно выбегают наружу, заподозрил обман и удалился в другом направлении.
В книгах приводится множество других анекдотичных эпизодов, от которых, даже если они и слегка приукрашены, все же не стоит открещиваться, ибо они передают атмосферу того необычайного времени24. Однажды в присутствии д’Аржансона, аббата Дюбуа и некоторых других персон регент сказал, что очень хочет поручить какой-нибудь даме, титулом не ниже герцогини, прислуживать его дочери в Модене. «Но, — добавил он, — я не знаю наверняка, где такую найти». «Да нет же! — ответил ему кто-то с притворным удивлением. — Я могу сказать вам, где искать всех герцогинь Франции: вам просто нужно пойти к месье Ло, и вы увидите их всех в его вестибюле».
Месье де Ширак, знаменитый врач, купил акции в неудачное время и очень хотел их продать. Курс акций между тем продолжал падать два или три дня, что его не на шутку встревожило. Врач напряженно думал над этой неурядицей, когда его внезапно вызвали к одной даме, почувствовавшей недомогание. Он приехал, его проводили наверх, и он пощупал у женщины пульс. «Он падает! Он падает! Господи милосердный, он непрерывно падает!» — произнес он с задумчивым видом, а женщина, услыхав это, тревожно взглянула ему в глаза. «О, месье де Ширак, — сказала она, вставая с постели и вызывая колокольчиком прислугу, — я умираю! Я умираю! Он падает! Он падает! Он падает!» «Что падает?!» — спросил изумленный доктор. «Мой пульс! Мой пульс! — сказала женщина. — Должно быть, я умираю». «Не бойтесь, дорогая мадам, — сказал месье де Ширак. — Я говорил о курсе акций. Дело в том, что мне ужасно не повезло, и я так расстроен, что едва ли понимал, чтó говорю».
Однажды цена акций поднялась на 10–20% в течение нескольких часов, и многие люди скромного общественного положения, вставшие утром с постели бедняками, улеглись спать богачами. Один держатель большого пакета акций, заболев, послал слугу продать двести пятьдесят акций по восемь тысяч ливров каждую — по котировке на тот момент. Слуга ушел и по прибытии в «Жарден-де-Суассон» обнаружил, что за это время цена возросла до десяти тысяч ливров. Разницу в две тысячи ливров, помноженную на двадцать акций, то есть 500 тысяч ливров (20 тысяч фунтов стерлингов), он хладнокровно прикарманил и, вернув остаток хозяину, в тот же вечер уехал в другую страну. Кучер Ло за очень короткое время нажил сумму, достаточную для изготовления собственной кареты, и попросил разрешения оставить службу. Ло, ценивший этого человека, попросил его в качестве одолжения перед уходом подыскать себе замену, столь же хорошую, сколь и он сам. Кучер дал согласие, вечером привел двух своих бывших друзей и попросил г-на Ло выбрать одного из них; другого он собирался оставить для себя. Кухаркам-горничным и ливрейным лакеям время от времени улыбалась удача, и они, будучи вне себя от гордости за свое легко нажитое благосостояние, делали нелепейшие ошибки. Смешав язык и манеры своего прежнего сословия с пышным убранством нынешнего, они стали постоянными объектами жалости сочувствующих, презрения черствых и насмешек всех без исключения. Но глупость и низость знати были еще более отвратительны. Презренную алчность, заразившую целое общество, в полной мере демонстрирует один пример, приведенный герцогом де Сен-Симоном. Человек по имени Андре, бесхарактерный и необразованный, путем серии своевременных спекуляций с Миссисипскими ценными бумагами нажил громадное богатство за невероятно малый промежуток времени. Как пишет Сен-Симон, «он скопил золотые горы». Разбогатев, он устыдился низости своего происхождения и возжелал всех атрибутов дворянства. У него была дочь, ребенок трех лет от роду, и он предложил аристократическому, но обедневшему семейству д’Уаз заключить соглашение, согласно которому означенное дитя должно было в будущем при определенных условиях выйти замуж за одного из членов этой семьи. Маркиз д’Уаз, к своему стыду, дал на это согласие и пообещал жениться на ней сам по достижении ею двенадцатилетнего возраста, если ее отец выплатит ему сто тысяч крон и будет выплачивать по двадцать тысяч ливров ежегодно вплоть до бракосочетания. Самому маркизу шел тридцать третий год. Эта позорная сделка была должным образом подписана и скреплена печатью, и спекулянт дополнительно согласился оставить в день свадьбы за дочерью приданое в несколько миллионов ливров. Герцог Бранкасский, глава семейства, был не только в курсе соглашения, но и его полноправным участником. Сен-Симон, трактуя данный случай легкомысленно и считая его невинным курьезом, добавляет, что «люди не обошлись без порицаний сего прелестного брака», и далее сообщает, что «несколькими месяцами позже проект потерпел крах из-за ниспровержения Ло и разорения честолюбивого месье Андре». Представляется, однако, что благородному семейству так и не достало честности вернуть 100 000 крон.
На фоне подобных событий (хоть и крайне унизительных, но большей частью смехотворных) имели место и более серьезные. Ежедневно происходили уличные грабежи как следствие того, что люди носили с собой огромные суммы наличных денег. Убийства из-за угла также были обычным делом. Один такой случай привлек особое внимание всей Франции не только из-за чудовищности преступления, но и в силу титулованности и высоких родственных связей преступника.
Граф д’Орн, младший брат принца д’Орна и родственник благородных семей д’Арамбер, Делинье и Демонморанси, был распущенным молодым человеком, в какой-то степени сумасбродным и беспринципным. Сговорившись с двумя другими, такими же безрассудными, как и он, молодыми людьми — Миллем, землевладельцем из Пьемонта, и неким Дестампом или Лестангом, фламандцем, — он разработал план ограбления одного очень богатого брокера, о котором, к несчастью для него, было известно, что он носит с собой крупные суммы. Граф сделал вид, что хочет купить у него некоторое количество акций Компании двух Индий, для чего назначил ему встречу в кабаре, или, иначе говоря, в низкопробном трактире, по соседству с Вандомской площадью. Ничего не подозревающий брокер вовремя явился в условленное место, где его поджидали граф д’Орн и двое его сообщников, которых он представил как своих близких друзей. После крайне непродолжительного разговора граф д’Орн внезапно набросился на свою жертву и трижды ударил беднягу кинжалом в грудь. Мужчина тяжело упал на пол, и, пока граф обшаривал его портфель, в котором находились ценные бумаги Миссисипской и Индийской компаний на сумму сто тысяч крон, Милль из Пьемонта снова и снова вонзал кинжал в несчастного брокера, чтобы убить его наверняка. Но брокер не сдался без борьбы, и на его крики о помощи сбежались работники и хозяин кабаре. Другой наемный убийца, Лестанг, которого перед этим оставили наблюдать за лестницей, выпрыгнул в окно и убежал, а Милля и графа д’Орна взяли с поличным.
Это злодеяние, совершенное средь бела дня и в таком людном месте, как кабаре, ужаснуло весь Париж. Суд над убийцами начался на следующий день, и улики были настолько явными, что обоих признали виновными и приговорили к колесованию. Знатные родственники графа д’Орна заполонили вестибюли регента, умоляя пощадить заблудшего юношу и утверждая, что он душевнобольной. Регент игнорировал их, пока мог, убежденный, что в случае столь зверского убийства правосудие должно идти своим чередом. Но назойливость этих влиятельных просителей нельзя было преодолеть просто отмалчиваясь, и они наконец предстали перед регентом и принялись умолять его спасти их род от позора публичной казни. Они намекали на то, что принцы д’Орны тесно связаны с известной орлеанской фамилией, и добавляли, что самого регента ждет бесчестье, если его кровный родственник умрет от руки рядового палача. Регент, к его чести, не внял их настойчивым просьбам и ответил на их последний аргумент словами Корнеля: «Le crime fait la honte, et non pas l’echafaud»25 — добавив, что, какой бы позор ни навлекла казнь на его род, он с готовностью разделит его с другими родственниками. День за днем они возобновляли свои мольбы, но всегда с тем же результатом. Наконец им пришло в голову, что если бы им удалось привлечь на свою сторону герцога Сен-Симона — человека, к которому регент питал искреннее уважение, то они, возможно, и добились бы своего. Герцог, аристократ до мозга костей, был так же, как и они, шокирован тем, что убийцу знатного рода ждет та же смерть, что и уголовника-плебея, и заявил регенту, что было бы неразумно наживать врагов в лице столь многочисленного, богатого и влиятельного семейства. Он напирал и на то, что в Германии, где семья д’Арамберов имеет большие владения, существует закон, согласно которому ни один родственник казненного на колесе не может претендовать по праву наследования ни на какое придворное звание или нанимать работников, пока не сменится целое поколение. Поэтому он считал, что колесование осужденного можно заменить обезглавливанием, которое во всей Европе считалось гораздо менее позорным. Этот аргумент задел регента за живое, и он уже почти дал на это согласие, когда Ло, по-своему заинтересованный в судьбе убитого, подтвердил в подоспевшей резолюции свое желание оставить приговор в силе.
После этого родственники д’Орна дошли до крайности. Принц де Робек-Монморанси, отчаявшись добиться своего другими методами, нашел способ проникнуть в темницу, где содержался преступник, и, предложив ему чашу с ядом, заклинал спасти их от бесчестья. Граф д’Орн отвернулся и отказался принять ее. Монморанси повторил просьбу и, потеряв терпение после повторного отказа, развернулся и, воскликнув «Тогда умри, как хочешь, подлый негодяй! Ты недостоин иной участи, кроме смерти от руки палача!», оставил того наедине с судьбой.
Д’Орн сам подавал регенту прошение об обезглавливании, но Ло, имевший большее влияние на последнего, чем кто бы то ни было, за исключением пресловутого аббата Дюбуа26, его учителя, настаивал на том, что он (регент) не должен уступать своекорыстной точке зрения д’Орнов. Регент изначально был того же мнения, и менее чем через неделю после совершения преступления д’Орн и Милль были колесованы на Гревской площади. Третьего убийцу, Лестанга, так и не поймали.
Это скорое и беспощадное правосудие очень обрадовало население Парижа. Даже месье де Кенкампуа, как здесь называли Ло, снискал расположение парижан как человек, заставивший регента не делать никаких поблажек аристократии. Но число грабежей и убийств не уменьшилось, а к ограбленным брокерам не испытывали никакой симпатии. Обычная расплывчатость общественной морали, достаточно очевидная в прежние времена, теперь еще более усилилась из-за ее быстрого распространения среди представителей среднего класса, который до сих пор оставался сравнительно незапятнанным между неприкрытой порочностью высших слоев и скрываемыми преступлениями плебса. Пагубная любовь к азартной игре пропитала общество и нейтрализовала все общественные и почти все личные добродетели, вставшие у нее на пути.
Какое-то время, пока существовало доверие, стимулировалась торговля, что не могло не пойти на пользу стране. Результаты этого были особенно ощутимы в Париже. В столицу отовсюду съезжались иностранцы, стремившиеся не только делать деньги, но и тратить их. Герцогиня Орлеанская, мать регента, пишет, что за это время население Парижа увеличилось на 305 тысяч душ за счет колоссального притока иностранцев со всего мира. Для размещения жильцов домоправительницам приходилось ставить кровати на чердаках, на кухнях и даже в конюшнях; город был настолько заполонен каретами и прочими всевозможными транспортными средствами, что на главных улицах им приходилось двигаться со скоростью пешехода во избежание несчастных случаев. Ткацкие фабрики страны работали с небывалой активностью, поставляя роскошные кружева, шелка, тонкое сукно с шелковистой отделкой и бархат, за которые покупатели расплачивались напечатанными в огромном количестве банкнотами по ценам, выросшим в четыре раза. Общая тенденция к подорожанию затронула и продовольствие. Хлеб, мясо и овощи продавались по ценам, бóльшим чем когда-либо прежде; в той же пропорции выросли заработки. Ремесленник, прежде зарабатывавший пятнадцать су в день, теперь зарабатывал шестьдесят. Повсюду строились новые дома; страна светилась иллюзорным благоденствием, настолько ослепившим целую нацию, что никто не увидел темной тучи на горизонте, предвещавшей бурю, надвигавшуюся слишком быстро.
Сам же Ло, волшебник, чья рука принесла столь удивительные перемены, естественно, разделял всеобщее процветание. Расположения его жены и дочери добивалось высшее дворянство, с ними хотели породниться наследники герцогов и принцев. Он купил два роскошных поместья в разных частях Франции и начал переговоры с семьей герцога де Сюлли о покупке титула маркиза Роснийского. Его вероисповедание было препятствием для восхождения по социальной лестнице, и регент пообещал сделать его генерал-контролером финансов, если он публично примет католичество. Ло, не исповедовавший никакой иной религии, кроме заповедей профессионального игрока, охотно согласился и был конфирмован аббатом де Тенсеном в Меленском кафедральном соборе в присутствии огромной толпы наблюдателей27. На следующий день его избрали почетным церковным старостой прихода Сен-Рош, по случаю чего он пожертвовал церкви пятьсот тысяч ливров. Его благотворительные деяния, всегда величественные, не всегда были столь показными. Он жертвовал огромные суммы частным образом, и ни одна история о реальной нужде не достигала его ушей напрасно.
В ту пору он был намного влиятельнее любого человека в государстве. Герцог Орлеанский настолько верил в его прозорливость и успех его планов, что консультировался с ним по любому текущему делу. Ло не проявлял никакой излишней помпезности в связи со своим тогдашним процветанием, а оставался таким же простодушным, приветливым и здравомыслящим человеком, каким был в не лучшие для него времена. Его галантность, всегда пленявшая ее прелестных объектов, была по своей природе столь любезной, столь приличествующей джентльмену и столь почтительной, что даже влюбленные в объекты его галантности мужчины на нее не обижались. Если же в каком-либо случае он и проявлял признаки надменности, то она относилась к раболепным дворянам, расточавшим ему льстивые похвалы, в которых чувствовалась фальшь. Он часто получал удовольствие, видя, как долго он может заставлять их ходить перед ним на задних лапках ради одной-единственной услуги. Со своими же соотечественниками, посетившими Париж с другой целью и попутно искавшими встречи с ним, он, напротив, был сама вежливость и внимание. Когда Арчибальд Кемпбелл, граф Айлей, впоследствии герцог Аргайл, приехал к нему на площадь Вандом, ему пришлось пройти через вестибюль, заполненный особами высочайшего ранга, которые жаждали встретиться с великим финансистом, дабы тот вписал их первыми в какой-нибудь новый подписной лист. А Ло между тем преспокойно сидел у себя в библиотеке и писал письмо о высаживании кочанной капусты садовнику отцовского поместья Лористон! Граф пробыл у него довольно долго, сыграл с соотечественником партию в пикет28 и уехал, очарованный его непринужденностью, здравым смыслом и хорошими манерами.
Из дворян, наживших за счет тогдашнего людского доверия суммы, достаточные для поправки их пошатнувшихся финансовых дел, можно упомянуть герцогов де Бурбона, де Гиша, де ла Форса29, де Шолне и д’Антена, маршала д’Эстрея, принцев де Рогана, де Пуа и де Лиона. Герцог де Бурбон, сын Людовика XIV от мадам де Монтеспан30, был особенно удачлив в спекуляциях с Миссисипскими ценными бумагами. Он заново отстроил с небывалым великолепием королевскую резиденцию в Шантильи и, будучи страстным любителем лошадей, построил несколько конюшен, которые долго славились на всю Европу. Герцог импортировал сто пятьдесят самых лучших скакунов из Англии для улучшения породы во Франции. Он купил большой кусок земли в Пикардии и стал владельцем почти всех ценных земель между Уазой и Соммой.
Если уж сколачивались такие состояния, то неудивительно, что деятельная часть населения чуть ли не молилась на Ло. Ни одному монарху не льстили так, как ему. Все второстепенные поэты и littérateurs31 того времени пели ему дифирамбы. Согласно им, он был спасителем страны, ангелом-хранителем Франции; ум был в каждом его слове, великодушие — в каждом его взгляде и мудрость — в каждом его деянии. Толпа, следовавшая за его каретой, когда бы он ни выезжал из дому, была так велика, что регент выделил ему кавалерийский отряд в качестве постоянного эскорта для очистки улиц перед его проездом.
В то время отмечали, что в Париже никогда еще не было так много предметов искусства и роскоши. Статуи, картины и гобелены в огромных количествах импортировались из других стран и очень быстро реализовывались. Все те симпатичные безделушки — предметы мебели и украшения, в изготовлении которых французам нет равных и по сей день, больше не были игрушками одной лишь аристократии: их в изобилии можно было обнаружить в домах торговцев и большинства представителей среднего класса. В Париж, как на самый выгодный рынок, свозились самые дорогие ювелирные украшения; среди них был и знаменитый алмаз, который был куплен регентом, назван его именем и еще долго украшал корону французских королей. Он был приобретен за два миллиона ливров при обстоятельствах, свидетельствующих о том, что регент был не таким безудержным стяжателем, как иные его подданные, по инерции скупавшие все подряд. Когда ему впервые предложили этот алмаз, он отказался его покупать (хотя желал иметь его больше всего на свете), сославшись на то, что его долг перед страной, которой он правит, не позволит ему истратить такую сумму народных денег на какой-то камень. Это веское и благородное оправдание вызвало панику у всех придворных дам, которые несколько дней кряду судачили о том, что будет жаль, если столь редкой драгоценности позволят покинуть пределы Франции только потому, что не нашлось человека достаточно богатого, чтобы его купить. Регента непрерывно умоляли сделать это, но все было напрасно, пока герцог де Сен-Симон, который при всех его положительных качествах и способностях был краснобаем, не взвалил тяжкое бремя уговоров на себя. После того как его умоляющие просьбы поддержал Ло, регент благосклонно дал согласие на покупку, позволив изобретательному Ло найти способ оплатить камень. Его владельцу была дана гарантия на выплату в течение оговоренного срока суммы в два миллиона ливров, 5% от которой он получил сразу, и разрешено забрать все ценные осколки после огранки камня. Сен-Симон в своих «Воспоминаниях» с немалым удовольствием описывает свое участие в этой сделке. Он пишет, что камень был таким же большим, как ренклод32, почти круглой формы, идеально прозрачным, не имел дефектов и весил более пятисот гран33. Довольный собой, Сен-Симон подытоживает свой рассказ сообщением, что с его стороны «было весьма похвально убедить регента сделать столь знаменитую покупку». Другими словами, он гордился тем, что убедил регента пожертвовать своим долгом и купить себе безумно дорогую безделушку за народные деньги.
Это безмятежное процветание длилось до 1720 года. Предупреждения парламента о том, что запуск в обращение слишком большого количества бумажных денег рано или поздно приведет страну к банкротству, игнорировались. Регент, не имевший ни малейшего понятия о философии финансовых отношений, считал, что система, однажды принесшая хорошие результаты, не может развалиться. Если пятьсот бумажных миллионов обеспечили такую выгоду, рассуждал он, то еще пятьсот миллионов обеспечат еще бóльшую выгоду. Это было величайшее заблуждение регента, которое Ло не пытался развеять. Небывалая жадность людей подпитывала эту иллюзию, и чем выше был курс Индийских и Миссисипских акций, тем больше печатали billets de banque34 ему вдогонку. Возведенную таким образом пирамиду можно без натяжки сравнить с помпезным дворцом, построенным Потемкиным, этим русским князем-варваром, чтобы удивить императрицу и угодить ей. Огромные ледяные блоки громоздили один на другой; выполненные во всех деталях ледяные ионические колонны образовывали величественный портик; купол из того же материала сиял на солнце, которое могло лишь позолотить, но не растопить его своими лучами. Дворец блестел издалека, словно сделанный из хрусталя и алмазов; но однажды подул теплый южный ветерок, и величавое строение растаяло. В конце концов никто не смог даже подобрать его фрагменты. То же самое произошло с Ло и его системой бумажных денег. Как только ее коснулось дуновение народного недоверия, она обратилась в руины, и никто не мог воздвигнуть ее вновь.
Первый легкий сигнал тревоги прозвучал в начале 1720 года. Принц де Конти, оскорбленный тем, что Ло отказался продать ему новые акции Индийской компании по их номинальной стоимости, послал слуг в банк с требованием обменять на металлические деньги такое огромное количество банкнот, что для их доставки потребовалось три телеги. Ло пожаловался регенту, обратив особое внимание последнего на зло, которое может произойти, если такой пример найдет множество подражателей. Регент, вполне отдавая себе в этом отчет, послал за принцем де Конти и велел ему под угрозой сильной немилости вернуть банку две трети монет, которые он оттуда вывез. Принц был вынужден подчиниться деспотичному приказу. К счастью для Ло, де Конти был непопулярной персоной: все осуждали его за подлость и алчность и соглашались, что он обошелся с Ло несправедливо. Странно, однако, что это, если можно так выразиться, бегство от банкнот не заставило ни Ло, ни регента прекратить их выпуск. Скоро нашлись такие, кто на почве недоверия повторил поступок де Конти, совершенный им из мстительности. Все больше сообразительных маклеров справедливо полагали, что рост курса акций и количества банкнот в обращении не может быть бесконечным. Бурдон и Ла Ришардье, известные спекулянты, спокойно и постепенно конвертировали свои банкноты в металлические деньги и перевели их в банки других стран. Кроме того, они постоянно в больших количествах скупали столовое серебро и ювелирные изделия и тайно пересылали их в Англию и Голландию. Брокер Вермале, почуяв надвигавшуюся бурю, скопил золотых и серебряных монет почти на миллион ливров, сложил их в крестьянскую телегу и накрыл сеном и коровьим навозом. Затем он переоделся в грязный крестьянский рабочий халат, или blouse, и благополучно вывез свой драгоценный груз в Бельгию, где вскоре нашел способ переправить его в Амстердам.
До той поры каждый мог без труда достать металлические деньги. Однако эта система не могла культивироваться долго, не провоцируя их дефицита. Отовсюду слышались голоса недовольных, и совет, созванный для анализа ситуации, вскоре выявил указанную причину недовольства. Советники долго обсуждали возможные пути исправления положения, и Ло, к которому обратились за советом, предложил издать указ о девальвации металлических денег на 5% по сравнению с бумажными. Указ был издан, но вскоре заменен новым, согласно которому монеты обесценивались уже на 10%. Вместе с тем были ограничены единовременные банковские выплаты монетами: до ста ливров золотом и до тысячи серебром. Все эти меры были не в состоянии вернуть доверие к бумажным деньгам, несмотря на то, что ограничение наличных платежей до столь узких рамок поддерживало кредитоспособность банка.
Вопреки всем усилиям, благородные металлы продолжали переправляться в Англию и Голландию. Все оставшиеся в стране монеты берегли как зеницу ока или прятали, и в итоге их дефицит стал настолько ощутимым, что больше не могли осуществляться торговые операции. Тогда Ло отважился на дерзкий эксперимент — он решил вообще запретить хождение металлических денег. В феврале 1720 года был обнародован указ, который, вместо того чтобы в соответствии со своим предназначением восстановить кредитоспособность банкнот, нанес им смертельный удар и поставил страну на грань революции. Этим пресловутым указом любому человеку запрещалось иметь в своем распоряжении более пятисот ливров (20 фунтов стерлингов) в монетах под угрозой крупного штрафа и конфискации найденных сумм. Было также запрещено скупать ювелирные изделия, серебряную и золотую посуду, а также драгоценные камни; доносчиков поощряли искать нарушителей, обещая им половину суммы, обнаруженной при их содействии. Вся страна взвыла в отчаянии от этой неслыханной тирании. Ежедневно имели место самые вопиющие гонения. Семейное уединение нарушалось вторжением доносчиков и провокаторов. Самых добродетельных и честных обвиняли в преступлении из-за имевшегося у них одного луидора. Слуги предавали хозяев, сосед шпионил за соседом, а аресты и конфискации стали столь частыми, что суды трещали по швам от непомерного количества заводимых дел. Стоило доносчику сообщить, что он подозревает кого-либо в укрывании денег в собственном доме, как тут же выписывался ордер на обыск. Лорд Стейр, тогдашний английский посол, пишет, что теперь уже невозможно было усомниться в искренности принятия Ло католичества, ибо тот учредил самую настоящую инквизицию, перед этим в высшей степени наглядно подтвердив свою веру в пресуществление путем превращения золота в бумагу.
На головы регента и незадачливого Ло сыпались все эпитеты, какие только могла придумать народная ненависть. Монеты на сумму более пятисот ливров были незаконным платежным средством, а банкноты не хотел принимать никто, если мог этого избежать. Никто не знал сегодня, сколько его банкноты будут стоить завтра. «Никогда прежде, — пишет Дюкло в «Тайных мемуарах о регентстве», — правительство не было более своенравным, и никогда прежде не было более неистовой тирании, осуществляемой руками менее твердыми. Те, кто был свидетелем ужасов того времени, сегодня вспоминают его как страшный сон и не могут понять, почему вдруг не разразилась революция и почему Ло и регент не умерли страшной смертью. Они оба испытывали ужас, но народ не зашел дальше жалоб; всеми овладели угрюмая и робкая безысходность и тупое оцепенение, а помыслы людей были слишком низменны, чтобы отважиться на дерзкое преступление во имя общества». Однажды, по-видимому, была сделана попытка организовать народное движение. Написанные от руки мятежные прокламации расклеивались по стенам и, вложенные в рекламные листки, рассылались по домам наиболее известных людей. Одна из них, приведенная в «Mémoires Secrets de la Régence», была следующего содержания: «Сударь и сударыня, cим уведомляем вас, что, если дела пойдут так и дальше, в субботу и воскресенье повторится день св. Варфоломея35. Советуем не выходить из дому ни вам, ни вашей прислуге. Храни вас Господь от огня! Предупредите соседей. Написано в субботу, 25 мая 1720 года». Огромное число шпионов, наводнивших город, вызвало у людей взаимное недоверие, и после нескольких незначительных беспорядков, устроенных вечером группой неопознанных лиц, которых быстро разогнали, покою жителей столицы больше ничто не угрожало.
Курс Миссисипских, или, как их еще называли, Луизианских, акций очень резко упал, и на самом деле уже мало кто верил рассказам о несметных богатствах этого региона. Поэтому была предпринята последняя попытка вернуть доверие народа к Миссисипскому проекту. С этой целью в Париже постановлением правительства была объявлена всеобщая мобилизация бродяг. Как во время войны, было насильно завербовано свыше шести тысяч самых отвратительных отбросов общества, которым выдали одежду и инструменты, с тем чтобы отправить их на кораблях в Новый Орлеан для разработки якобы имеющихся там в большом количестве месторождений золота. День за днем их с кирками и лопатами проводили строем по улицам города, а затем небольшими партиями отправляли во внешние порты для отплытия в Америку. Две трети из них так никогда и не прибыли к месту назначения, а рассеялись по стране, продали свои инструменты за сколько смогли и вернулись к прежнему образу жизни. Менее чем через три недели половина из них снова оказалась в Париже. Тем не менее этот маневр вызвал незначительное повышение курса Миссисипских акций. Многие чересчур легковерные люди поверили, что их действительно ожидает новая Голконда36 и во Францию вновь потекут золотые и серебряные самородки.
В условиях конституционной монархии можно было найти более надежные средства возвращения народного доверия. В Англии в несколько более поздний период, когда похожая мания привела к аналогичному бедствию, для искоренения зла применялись совсем другие меры; но во Франции, к несчастью, они принимались теми, кто это зло породил. Своеволие регента, пытавшегося вывести страну из кризиса, лишь еще больше затянуло ее в трясину. Было приказано осуществлять все платежи бумажными деньгами, и с 1 февраля до конца мая было напечатано банкнот на сумму свыше 1 500 000 000 ливров (60 000 000 фунтов стерлингов). Но сигнал тревоги уже прозвучал, и никакие ухищрения не могли заставить людей хоть в малейшей степени доверять бумажным деньгам, не подлежащим обмену на металлические. Месье Аламбер, президент Парижского парламента, сказал регенту прямо в лицо, что он скорее хотел бы иметь сто тысяч ливров в золоте или серебре, чем пять миллионов в его банкнотах. Поскольку подобные настроения царили повсеместно, запуск в обращение огромной бумажной денежной массы только увеличил существующее зло, сделав еще больше и без того гигантскую несоразмерность между металлическими и бумажными деньгами. Монеты, которые регент стремился обесценить, росли в цене при каждой новой попытке это сделать. В феврале было сочтено целесообразным включить Королевский банк в состав Компании двух Индий. Парламент издал и ратифицировал соответствующий указ. Государство по-прежнему выступало гарантом банкнот банка, которые больше нельзя было печатать без правительственного декрета. Все доходы банка с того момента, как он перестал быть собственностью Ло, став государственным учреждением, были переданы регентом Компании двух Индий. Эта мера возымела эффект кратковременного повышения курса Луизианских и других акций компании, но не смогла восстановить доверие народа в полной мере.
В начале мая состоялось заседание государственного совета, на котором присутствовали Ло, д’Аржансон (его коллега по управлению финансами) и все министры. Было подсчитано, что всего в обращении находится банкнот на сумму 2,6 миллиарда ливров, тогда как суммарное достоинство всех монет в стране не составляло и половины этой цифры. Для большинства членов совета было очевидно, что для выравнивания денежного обращения нужно принять какой-нибудь план. Одни предлагали девальвировать банкноты до номинальной стоимости металлических денег, другие — поднимать номинальную стоимость монет до тех пор, пока она не сравняется с номинальной стоимостью бумажных денег. Сообщается, что Ло выступил против обоих проектов, однако, поскольку других предложений не последовало, было решено обесценить банкноты наполовину. 21 мая вышел соответствующий указ, согласно которому акции Компании двух Индий и банкноты банка подлежали постепенной девальвации до снижения их номинальной стоимости наполовину к концу года. Парламент отказался ратифицировать данный указ, шумно опротестовав его, и состояние страны стало настолько тревожным, что в качестве единственного способа сохранить спокойствие Совету регентства пришлось аннулировать собственное решение: менее чем через неделю был издан другой указ, возвращающий банкнотам их первоначальную номинальную стоимость.
В тот же день (27 мая) банк приостановил платежи в металлических деньгах. Ло и д’Аржансон были уволены из министерства. Слабовольный, нерешительный и трусливый регент возложил всю вину за сложившуюся плачевную ситуацию на Ло, которому по прибытии в Пале-Рояль было отказано в приеме. Однако с наступлением сумерек за ним послали и провели во дворец через потайную дверь37; регент попытался его утешить и всячески извинялся за ту суровость, с которой был вынужден обращаться с ним на людях. Поведение регента было столь непоследовательным, что два дня спустя он прилюдно взял Ло с собой в оперу, где тот сидел в королевской ложе рядом с регентом, который на глазах у всех обращался с ним подчеркнуто предупредительно. Но ненависть к Ло была настолько сильна, что этот эксперимент едва не оказался для него фатальным. Вооруженная камнями толпа напала на его карету, когда он въезжал на территорию своей резиденции; и если бы кучер сразу же не проехал во внутренний двор, а прислуга немедленно не закрыла ворота, его, по всей вероятности, вытащили бы из кареты и разорвали на куски. На следующий день его жена и дочь были также атакованы толпой, когда возвращались в своей карете со скачек. Когда регенту сообщили об этих инцидентах, он отрядил к Ло мощный отряд швейцарских гвардейцев, которые денно и нощно несли караул во дворе его резиденции. Но в конце концов массовое негодование усилилось настолько, что Ло, посчитав свой дом, даже столь хорошо охраняемый, небезопасным, нашел убежище в Пале-Рояль — резиденции регента.
Бывшего канцлера д’Агессо, уволенного в 1718 году за противодействие проектам Ло, теперь призвали обратно, дабы он помог восстановить утраченную репутацию оных. Регент слишком поздно осознал, что он непростительно грубо и недоверчиво обошелся с одним из способнейших и, вероятно, единственным честным государственным деятелем того продажного времени. После позорной отставки тот удалился в свое поместье во Френэ, где среди непростых, но милых его сердцу философских изысканий позабыл об интригах презренного двора. Сам Ло и шевалье де Конфлан, придворный регента, были отправлены в дилижансе с приказом доставить экс-канцлера в Париж. Д’Агессо согласился оказать посильное содействие вопреки советам друзей, полагавших, что ему не следует принимать никакие призывы вернуться в учреждение, посланником которого является Ло. По его прибытии в Париж было решено присвоить пятерым парламентским советникам звание интенданта финансов, а 1 июня вышло распоряжение об отмене закона, запрещавшего накапливать монеты на сумму более пятисот ливров. Всем разрешили иметь сколь угодно много металлических денег. Для того чтобы изъять из обращения старые банкноты, было напечатано двадцать пять миллионов ливров в новых, обеспеченных доходными статьями города Парижа. Старые банкноты принимали в среднем за 25% от номинала38. Изъятые банкноты были публично сожжены перед «Отель-де-Вилль»39. Большинство новых банкнот были десятиливровыми, и 10 июня банк открылся вновь, имея в резерве серебряные монеты в количестве, достаточном для их обмена.
Эти меры существенно разрядили ситуацию. Все парижане устремились в банк, чтобы обратить свои оскудевшие сбережения в монету, и, поскольку серебра стало не хватать, им платили медью. Мало кто жаловался, что такая ноша слишком тяжела, и можно было постоянно наблюдать, как эти бедняги с трудом тащятся, потея, по улицам, нагруженные сверх меры монетами, обменянными на пятьдесят ливров. Толпы, окружавшие банк, были столь огромны, что чуть ли не каждый день кто-нибудь погибал в давке. 9 июля собралось столько народу и стоял такой гвалт, что гвардейцы, охранявшие вход в парк Мазарен, в какой-то момент закрыли ворота, отказавшись впустить кого-либо еще. Толпа пришла в ярость и стала забрасывать солдат камнями сквозь ограду. Солдаты, разъярившись, пригрозили открыть огонь. В этот момент в одного из них попал камень, и он, вскинув ружье, выстрелил в толпу. Один человек был убит на месте, еще один — тяжело ранен. В любую секунду мог начаться штурм банка; но ворота в парк Мазарен были открыты перед толпой, которая, увидев целый отряд солдат со штыками, примкнутыми к ружьям, довольствовалась тем, что выразила негодование стенаниями и свистом.
Восемь дней спустя народу собралось столько, что пятнадцать человек задавили у дверей банка. Люди были настолько возмущены, что положили три трупа на носилки и в количестве семи или восьми тысяч отправились в парк Пале-Рояль, дабы продемонстрироваать регенту те несчастья, которые он и Ло навлекли на страну. Кучер Ло, сидевший на козлах кареты во внутреннем дворе дворца, проявил скорее рвение, нежели благоразумие: недовольный тем, что толпа оскорбляет его хозяина, он сказал достаточно громко для того, чтобы его нечаянно услышали несколько человек, что все они мерзавцы и заслуживают виселицы. Толпа немедленно напала на него и, думая, что Ло находится в карете, разломала ее на куски. Опрометчивый кучер еле унес ноги. Больше никаких бесчинств не было. Появились войска, и толпа мирно разошлась после заверений регента в том, что три тела, представленные на его обозрение, будут должным образом похоронены за его счет. Во время этой смуты проходило заседание парламента, и его президент вызвался пойти и посмотреть, в чем дело. Вернувшись, он сообщил заседающим, что карета Ло разломана толпой. Все одновременно вскочили и громко закричали от радости, а один советник, более пылкий в своей ненависти, чем остальные, воскликнул: «А самого Ло разорвали на части?»40
Многое, несомненно, зависело от репутации Компании двух Индий, задолжавшей нации огромную сумму. В связи с этим на министерском совете была высказана мысль, что любые привилегии, даруемые компании, чтобы та смогла рассчитаться по своим обязательствам, должны быть максимально эффективными. В свете этого было предложено закрепить за ней исключительное право на всю морскую торговлю, и был издан соответствующий указ. Но при этом, к сожалению, забыли, что такая мера разорит всех купцов страны. Нация в целом отвергала идею столь огромной привилегии, и в парламент подавалась петиция за петицией с требованием не ратифицировать указ. Парламент так и сделал, и регент, заметив, что тем самым парламентарии лишь раздули пламя антиправительственной агитации, выслал их в Блуа. По ходатайству д’Агессо место ссылки было заменено на Понтуаз, куда парламентарии и направились, полные решимости бросить регенту вызов. Они приложили все усилия к тому, чтобы их временная ссылка была как можно более приятной. Президент давал самые изысканные ужины, на которые приглашал всех самых веселых и остроумных людей Парижа. Каждый вечер давался концерт и бал для дам. Обычно степенные и чопорные судьи и советники предавались карточной игре и прочим развлечениям и несколько недель кутили напропалую с одной лишь целью — показать регенту, насколько несущественным они считают собственное изгнание, и дать понять, что они, если бы захотели, предпочли бы Понтуаз Парижу.
Из всех народов мира французы наиболее известны как выразители недовольства в песнях. Об этой стране с определенной долей истины говорят, что всю ее историю можно проследить по песням ее народа. Когда Ло, с треском провалив свои лучезарные планы, впал у людей в немилость, он, естественно, стал объектом сатиры, и пока во всех заведениях появлялись карикатуры на него, улицы оглашались песнями, не щадившими ни его, ни регента. Многие из этих песен были далеки от приличия, а одна из них, в частности, советовала использовать все его банкноты по тому самому неприглядному назначению, по которому можно использовать бумагу. Но нижеприведенная песня, дошедшая до нас в записках герцогини Орлеанской, была самой лучшей и самой популярной — ее месяцами распевали на всех carrefours41 Парижа. Достаточно удачно используется припев:
Aussitôt que Lass arriva
Dans notre bonne ville,
Monsieur le Régent publia
Que Lass serait utile
Pour rétablir la nation.
La faridondaine! la faridondon!
Mais il nous a tous enrichi,
Biribi!
A la faсon de Barbari,
Mon ami
Ce parpaillot, pour attirer
Tout l’argent de la France,
Songea d’abord á s’assurer
De notre confiance.
Il fit son abjuration,
La faridondaine! la faridondon!
Mais le fourbe s’est converti,
Biribi!
A la faсon de Barbari,
Mon ami!
Lass, le fils ainé de Satan
Nous met tous á l’aum1ne,
Il nous a pris tout notre argent
Et n’en rend á personne.
Mais le Régent, humain et bon,
La faridondaine! la faridondon!
Nous rendra ce qu’on nous a pris,
Biribi!
A la faсon de Barbari,
Mon ami42.
Тогда же бытовала следующая эпиграмма:
Lundi, j’achetai des actions;
Mardi, je gagnai des millions;
Mercredi, j’arrangeai mon ménage;
Jeudi, je pris un équipage;
Vendredi, je m’en fus au bal,
Et Samedi, á l’hôpital*.
Среди множества опубликованных в тот период карикатур, явно свидетельствующих о том, что нация осознала всю серьезность положения, в котором она оказалась по собственному недомыслию, была одна, факсимиле которой сохранилось в «Мемуарах о регентстве». Подпись автора под карикатурой гласит: «Богиня Акций в своей триумфальной колеснице, которой правит богиня Глупости. В колесницу впряжены воплощения Миссисипской компании (с деревянной ногой), Компании южных морей, Английского банка, Компании Западного Сенегала и различных страховых компаний. Чтобы колесница катилась достаточно быстро, агенты этих компаний, которых можно узнать по их длинным лисьим хвостам и коварным взглядам, вращают спицы колес, на которых написаны названия ценных бумаг и их стоимость, меняющаяся в зависимости от поворотов колес. По земле разбросаны товары, бухгалтерские журналы и торговые гроссбухи, раздавленные колесницей Глупости. На заднем плане — огромная толпа людей обоего пола, всех возрастов и общественных положений, шумно требующих Фортуну и дерущихся друг с другом за долю акций, которые она щедро им раздает. В облаках сидит демон, выдувающий мыльные пузыри, также являющиеся объектами восхищения и алчности людей, запрыгивающих друг другу на спины, чтобы дотянуться до них, пока они не лопнули. Справа на пути колесницы, загораживая проезд, стоит большое здание с тремя дверями, через одну из которых она должна проехать, если проследует дальше, а вместе с ней и вся толпа. Над первой дверью написано “Hopital des Foux”43, над второй — “Hopital des Malades”44, а над третьей — “Hopital des Gueux”»45. На другой карикатуре Ло сидит в большом котле, варящемся на огне народного безумия и окруженном бурлящей толпой людей, бросающих в него все свое золото и серебро и радостно получающих взамен бумажки, которые Ло раздает им пригоршнями.
Пока длилось это волнение, Ло тщательно позаботился о том, чтобы не появляться в городе без охраны. Сидя взаперти в апартаментах регента, он был защищен от любого нападения; когда же он отваживался их покинуть, он либо делал это инкогнито, либо выезжал в одной из королевских карет под усиленной охраной. Современники зафиксировали забавный эпизод, характеризующий то омерзение, которое к нему питали люди, и то дурное обращение, которому он бы подвергся, попадись он им в руки. Некий господин Бурсель проезжал в своей карете по улице Сент-Антуан, и вдруг ему пришлось остановиться из-за загородившего дорогу наемного экипажа. Слуга месье Бурселя нетерпеливо окликнул кучера наемного экипажа, требуя освободить дорогу, и, получив отказ, нанес ему удар в лицо. Скоро на месте происшествия собралась толпа, и месье Бурсель вышел из кареты, чтобы восстановить порядок. Кучер наемного экипажа, вообразив, что у него появился еще один противник, придумал, как избавиться от обоих, и закричал что есть мочи: «Помогите! Помогите! Убивают! Убивают! Ло и его слуга собираются меня убить! Помогите! Помогите!» На этот крик из лавок повыбегали люди, вооруженные палками и другими предметами, а толпа принялась собирать камни, дабы коллективно отомстить мнимому финансисту. К счастью для месье Бурселя и его слуги, дверь церкви иезуитов была открыта настежь, и они, испуганные не на шутку, помчались туда со всех ног. Преследуемые толпой, они добежали до алтаря, и им пришлось бы несладко, если бы они, увидев открытую дверь, ведущую в ризницу, не вбежали туда и не заперлись. После этого встревоженные и негодующие священники уговорили толпу покинуть церковь, и люди, обнаружив все еще стоявшую на улице карету месье Бурселя, выместили свою враждебность на ней, нанеся ей серьезные повреждения.
Двадцать пять миллионов ливров, обеспеченные муниципальными доходными статьями города Парижа со столь невыгодным коэффициентом обмена, были не слишком популярны среди держателей крупных пакетов Миссисипских акций. По этой причине конверсия новых банкнот была задачей большой сложности, и многие предпочитали держать обесценивавшиеся акции компании Ло в надежде на благоприятный поворот. 15 августа для ускорения конверсии был издан указ, гласивший, что все банкноты на сумму от одной до десяти тысяч ливров не должны находиться в обращении, за исключением случаев покупки ежегодной ренты, взносов на банковские счета или выплаты за пакеты акций, приобретенные в рассрочку.
В октябре вышел еще один указ, лишавший эти банкноты всякой цены после ноября месяца. Управление монетным двором, сбор налогов и все прочие преимущества и привилегии Индийской, или Миссисипской, компании были у нее отобраны, и она стала обычной частной компанией. Это был смертельный удар для целой системы, которая отныне находилась в руках ее врагов. Ло утратил все свое влияние в Совете Франции, а компания, лишенная льгот, не могла больше даже надеятся на то, что сумеет рассчитаться по своим обязательствам. Всех, кто подозревался в получении нелегальных доходов во время кульминации массового психоза, разыскали и наказали крупными штрафами. Перед этим было приказано составить список первоначальных собственников, которые как лица, еще располагающие акциями, должны были вернуть их компании, а те, кто по той или иной причине не успел оплатить акции, на которые подписался, должны были теперь выкупить их у компании по 13 500 ливров за каждую акцию стоимостью 500 ливров. Не дожидаясь, пока их заставят выплатить эту огромную сумму за фактически обесценившиеся акции, их держатели собрали свои пожитки и попытались найти убежище в других странах. Официальным лицам в портах и на границах немедленно приказали схватить всех путешественников, пытающихся покинуть королевство, и держать их под стражей, пока не будет удостоверено отсутствие у них золотой и серебряной посуды или ювелирных изделий либо доказана их непричастность к биржевой игре в известный период. Те немногие, кому удалось бежать, были приговорены к смертной казни, а против тех, кто остался, были начаты самые жестокие судебные преследования.
Сам Ло в момент отчаяния решил покинуть страну, где его жизни отныне угрожала опасность. Сначала он лишь настоятельно попросил разрешения уехать из Парижа в одно из своих поместий, на что регент легко согласился. Последний был немало взволнован тем несчастливым оборотом, который приняли дела, но его вера в правильность и эффективность финансовой системы Ло осталась непоколебленной. Он видел только свои собственные ошибки и на протяжении немногих оставшихся ему лет жизни постоянно искал возможность вновь учредить эту систему на более безопасной основе. Сообщается, что Ло во время своей последней беседы с принцем сказал: «Я признаю, что совершил много ошибок. Я совершил их, потому что я человек, а людям свойственно ошибаться; но я заявляю вам со всей серьезностью, что ни одна из них не была продиктована безнравственными или бесчестными мотивами и что ничего подобного нельзя обнаружить ни в одном моем деянии».
Через два или три дня после его отъезда регент послал ему весьма любезное письмо, в котором разрешал покинуть королевство в любое удобное для него время и сообщал, что велел подготовить ему паспорта. Кроме того, он предлагал любую сумму денег, какую бы тот ни пожелал. Ло почтительно отказался от денег и отбыл в Брюссель в дилижансе, принадлежавшем мадам де При, фаворитке герцога Бурбонского, под охраной шести конных гвардейцев. Оттуда он проследовал в Венецию, где прожил несколько месяцев, являясь объектом величайшего любопытства горожан, считавших его владельцем несметного богатства. Однако ни одно мнение не могло быть более ошибочным. С благородством бóльшим, чем можно было ожидать от человека, который бóльшую часть жизни был отъявленным авантюристом, он отказался от собственного обогащения за счет разоренной нации. В разгар массовой неистовой охоты за Миссисипскими акциями он ни на секунду не сомневался в конечном успехе своих проектов, призванных превратить Францию в богатейшую и могущественнейшую страну Европы. Все свои доходы он вложил в покупку земельной собственности во Франции, что является надежным доказательством его веры в незыблемость собственных предприятий. Он не запасся столовым серебром или ювелирными изделиями и не перевел, в отличие от бесчестных маклеров, никаких денег за границу. Все его состояние, кроме одного алмаза стоимостью порядка пяти-шести тысяч фунтов стерлингов, было вложено во французские земельные угодья; и когда он покинул эту страну, то сделал это почти нищим. Один этот факт должен был спасти память о нем от обвинений в мошенничестве, столь часто и столь несправедливо выдвигаемых против него.
Как только стало известно об его отъезде, все его поместья и его ценная библиотека были конфискованы. Среди прочего он потерял право на ежегодную ренту на имя жены и детей в размере 200 тысяч ливров (8000 фунтов стерлингов), купленную им за пять миллионов ливров, несмотря на то, что соответствующий специальный указ, изданный в дни его процветания, гласил, что она не подлежит конфискации ни по какой причине. Люди были очень недовольны тем, что Ло позволили сбежать. Народ и парламент предпочли бы видеть его повешенным. Те немногие, кто не пострадал от коммерческой революции, радовались тому, что шарлатан покинул страну; но все те (а таких было большинство), чьи богатства были в эту революцию вовлечены, сожалели, что его личная причастность к постигшей страну беде и причинам оной не получила более приличествующего ей воздаяния.
На заседании Совета по делам финансов и Генерального совета регентства на стол легли документы, из которых явствовало, что всего в обращении находится банкнот на сумму два миллиона семьсот тысяч ливров. От регента потребовали объяснить, как могло появиться несоответствие между датами их выпусков и датами указов на эти выпуски. Он мог бы, ничем не рискуя, взять всю вину на себя, но предпочел разделить ее с отсутствующим лицом, для чего заявил, что Ло по собственной инициативе в разное время организовал выпуск банкнот на сумму 1 200 000 ливров и что он (регент), понимая необратимость содеянного, прикрыл Ло, подписав задним числом указы совета, санкционировавшие этот прирост. Он выглядел бы более достойно, если бы сказал в своей речи всю правду и признал, что главным образом его собственные несдержанность и нетерпение заставили Ло переступить границы безопасной спекуляции. Было также установлено, что национальный долг на 1 января 1721 года составил свыше 3 100 000 000 ливров, или более 124 000 000 фунтов стерлингов, а проценты по нему — 3 196 000 фунтов стерлингов. Немедленно была назначена комиссия, так называемая виза, для проверки всех ценных бумаг государственных кредиторов, которых разделили на пять категорий: первые четыре охватывали тех, кто купил ценные бумаги на законном основании, а пятая — тех, кто не мог доказать, что заключенные ими сделки являются законными и добросовестными. Ценные бумаги последних было приказано уничтожить, а ценные бумаги первых четырех категорий подлежали самой строгой и ревностной инспекции. Результатом деятельности визы явился доклад, где рекомендовалось снизить проценты по этим ценным бумагам до пятидесяти шести миллионов ливров. Данная рекомендация аргументировалась описанием выявленных актов казнокрадства и вымогательства, и с целью ее выполнения парламенты королевства издали и должным образом ратифицировали соответствующий указ.
Позднее был учрежден еще один трибунал под названием Chambre de l’Arsenal46, рассматривавший все случаи присвоения общественных или государственных сумм в финансовых департаментах правительства в недавний злополучный период. Член Камеры заявок47 Талуэ вместе с аббатом Клеманом и двумя их подчиненными были уличены в растратах на общую сумму более чем миллион ливров. Первых двоих приговорили к отсечению головы, а остальных — к повешению, но впоследствии заменили всем казнь пожизненным заключением в Бастилии. Было вскрыто множество других случаев мошенничества; виновных приговорили к штрафам и тюремному заключению.
Д’Аржансон разделил с Ло и регентом непопулярность, постигшую всех вдохновителей «Миссисипского безумия». Он был смещен с поста канцлера (его место занял д’Агессо), но сохранил за собой титул хранителя печати, и ему было дозволено присутствовать на заседаниях советов, когда бы он того ни пожелал. Тем не менее он счел за лучшее уехать из Парижа и какое-то время пожить в одиночестве в своем имении. Но д’Артансон не был создан для уединенной жизни; у него, все больше впадавшего в уныние и озлобленность, обострилась болезнь, от которой он уже долгое время страдал, и менее чем через год он умер. Парижане ненавидели его настолько, что свою ненависть донесли даже до его могилы. Когда похоронная процессия подошла к церкви Сен-Николя-дю-Шардонере, на кладбище которой были погребены члены его семьи, ей преградила путь негодующая толпа. Двое его сыновей, бывшие распорядителями на похоронах, были вынуждены во избежание расправы со всех ног спасаться бегством через один из ближайших переулков.
Что же до Ло, то он какое-то время тешил себя надеждой, что Франция позовет его обратно, дабы он помог ей подвести под кредитование более прочную базу. Смерть регента в 1723 году, который скоропостижно скончался, сидя у камина и беседуя со своей фавориткой, герцогиней де Фалари, лишила его этой надежды, и ему пришлось вернуться к прежней жизни игрока. Ему не раз приходилось закладывать свой алмаз — единственный отголосок некогда огромного богатства, но успешная игра обычно позволяла ему выкупать камень. Спасаясь от преследования кредиторов в Риме, он переехал в Копенгаген, где получил разрешение английского министерства юстиции на проживание на родине; прощение за убийство господина Уилсона было даровано ему в 1719 году. Его привезли домой на адмиральском корабле — обстоятельство, давшее повод для непродолжительных дебатов в палате лордов. Граф Конингсби был недоволен тем, что с человеком, отрекшимся от своей страны и религии, обращаются столь почтительно, и выразил убежденность, что присутствие последнего в Англии в то время, когда люди настолько сбиты с толку бесчестными происками директоров Компании южных морей, связано с немалым риском. Он предложил выдворить Ло из страны, но событиям было предоставлено идти своим чередом: никто больше из членов палаты ни в малейшей степени не разделял страхов его светлости. Ло прожил в Англии четыре года, а затем перебрался в Венецию, где умер в 1729 году в крайней нужде. На это была сочинена следующая эпитафия:
Ci git cet Ecossais celebre,
Ce calculateur sans egal,
Qui, par les regles de lalgebre,
A mis la France a lhopital48.
Его брат, Уильям Ло, деливший с ним бразды правления как банком, так и Луизианской компанией, был заключен в Бастилию по обвинению в присвоении государственных денег, но ничего доказать так и не удалось. Через год и три месяца он был освобожден и положил начало роду, до сих пор известному во Франции под титулом маркизов де Лористон.
В следующей главе рассказывается о безумии, охватившем население Англии примерно в то же время и при весьма схожих обстоятельствах, но благодаря усилиям и здравому смыслу конституционной монархии, имевшем последствия гораздо менее катастрофические, нежели французский кризис.
«Мыльный пузырь» южных морей
At length corruption, like a general flood,
Did deluge all; and avarice creeping on,
Spread, like a low-born mist, and hid the sun.
Statesmen and patriots plied alike the stocks,
Peeress and butler shared alike the box;
And judges jobbed, and bishops bit the town.
And mighty dukes packed cards for half-a-crown:
Britain was sunk in lucre’s sordid charms.
— Pope49.
Компания южных морей была основана знаменитым Харли, графом Оксфордским, в 1711 году с целью возрождения национальной кредитной системы, пошатнувшейся в результате отставки кабинета министров партии вигов. Государству было необходимо срочно обеспечить погашение долговых обязательств армии и флоту и некоторых других статей текущей задолженности, составлявшей около десяти миллионов фунтов стерлингов. Одна купеческая компания, тогда еще не имевшая названия, взяла этот долг на себя, а правительство, в свою очередь, согласилось в течение определенного периода гарантировать ей вознаграждение в 6% в год. Для обеспечения выплаты указанной суммы, составлявшей 600 000 фунтов, было решено использовать поступления от пошлин на вина, уксус, товары из Индии, обработанные шелка, табак, китовый ус и некоторые другие статьи. Компании была дарована монополия на торговлю в южных морях, и она, зарегистрированная парламентским постановлением, присвоила себе соответствующее название, под которым была известна в дальнейшем. Вышеупомянутый Харли своим участием в данной сделке завоевал себе солидную репутацию, и льстецы называли это предприятие «шедевром графа Оксфордского».
В тот период английское общество было одержимо самыми фантастическими идеями разработки огромных залежей драгоценных металлов на западном побережье Южной Америки. Все узнали о золотых и серебряных месторождениях Перу и Мексики; все поверили в их неисчерпаемость и в то, что стоит лишь отправить туда английских старателей, как это стократно окупится слитками чистого золота и серебра. Настойчиво муссируемое сообщение о том, что Испания намерена открыть для торговцев четыре порта на побережьях Чили и Перу, вызвало всеобщую эйфорию, и акции Компании южных морей высоко котировались много лет подряд.
Между тем Филипп V Испанский никогда не имел ни малейшего намерения разрешить англичанам свободно торговать в портах Латинской Америки. Переговоры об этом велись, но их единственным результатом стал договор assiento — привилегия на поставку в колонии негров-рабов в течение тридцати лет и на отправку один раз в год корабля, ограниченного и по тоннажу и по стоимости груза, для торговли с Мексикой, Перу или Чили. Да и то, означенное разрешение давалось при жестком условии, согласно которому король Испании получал четверть всех доходов и 5% стоимости непроданного товара. Это явилось большим разочарованием для графа Оксфордского и его окружения, которым гораздо чаще, чем им того хотелось, напоминали, что «Parturiunt montes, nascitur ridiculus mus»50. Но доверие народа к Компании южных морей осталось непоколебленным. Граф Оксфорд заявил, что Испания позволит двум кораблям сверх одного ежегодного осуществлять торговлю в течение первого года, и был опубликован перечень всех портов и гаваней этих берегов, которые напыщенно объявлялись открытыми для торговли с Великобританией. Первое плавание ежегодного корабля состоялось только в 1717 году, а в следующем году торговля была прекращена из-за разрыва дипломатических отношений с Испанией.
Речь короля на открытии парламентской сессии 1717 года содержала недвусмысленную оценку состояния национальной кредитной системы и рекомендацию принятия должных мер для уменьшения национального долга. 20 мая следующего года две крупнейшие денежные корпорации — Компания южных морей и Английский банк — внесли свои предложения в парламент. Компания южных морей предлагала, чтобы ее акционерный капитал в десять миллионов был увеличен до двенадцати за счет подписки или иным образом, и соглашалась снизить свое вознаграждение за обслуживание государственных долгов с 6 до 50% в год. Банк внес столь же выгодные предложения. Парламент какое-то время их обсуждал, и наконец было издано три постановления — Постановление о Компании южных морей, Постановление об Английском банке и Постановление о Генеральном фонде. Первым из них принимались предложения Компании южных морей и декларировалась ее готовность ссудить государству два миллиона фунтов для погашения основной суммы и процентов по долгам четырех лотерейных фондов девятого и десятого годов правления королевы Анны. Согласно второму постановлению Английский банк соглашался снизить процентную ставку на сумму 1 775 027 фунтов 15 шиллингов государственного долга банку и погасить государственные казначейские векселя в количестве, соответствующем двум миллионам фунтов, в обмен на ежегодную ренту в сто тысяч фунтов. От обеих финансовых корпораций также требовалась готовность при необходимости ссудить сумму, не превышающую 2 500 000 фунтов, под ставку 5%, подлежащую оплате парламентом. В Постановлении о Генеральном фонде перечислялись различные дефициты, которые должны были быть ликвидированы путем использования средств, полученных из вышеупомянутых источников.
После этого Компания южных морей постоянно была у всех на слуху. Хотя ее торговля со странами Южной Америки почти или вовсе не принесла ей прибыли, она продолжала процветать как денежная корпорация. Ее акции пользовались хорошим спросом, а ее директора, подбодренные успехом, начали искать новые средства расширения ее влияния. Миссисипский план Джона Ло, столь ослепивший и увлекший французский народ, внушил им мысль, что они могут реализовать ту же самую схему в Англии. Ожидаемый провал его планов не заставил их отказаться от этого намерения. Умные в своих собственных глазах, они воображали, что им удастся избежать его ошибок, осуществлять свои замыслы сколь угодно долго и натянуть веревку кредитной системы до предельного напряжения, не разорвав ее на части.
В то время, когда план Ло находился на пике популярности, когда французы тысячами устремлялись на улицу Кенкампуа и разоряли сами себя с неистовым рвением, руководство Компании южных морей представило на рассмотрение парламента свой знаменитый план выплаты национального долга. Перед глазами народов двух самых могущественных стран Европы проплывали видéния несметного богатства. Англичане впали в сумасбродный авантюризм несколько позже французов, но, как только их охватило исступление, они оказались в нем непревзойденными. 22 января 1720 года палата общин объявила себя парламентским комитетом, чтобы принять к рассмотрению ту часть выступления короля на открытии сессии, которая касалась государственных долгов, и предложение Компании южных морей по их погашению. В этом предложении подробно и в нескольких разделах перечислялись долги государства, составлявшие 30 981 712 фунтов, которые компания стремилась взять на себя за ежегодное вознаграждение в 5%, гарантируемое ей до середины лета 1727 года, после чего все они подлежали погашению по желанию законодательной власти при снижении ставки до 4%51. Предложение было принято с большим перевесом, но у Английского банка было много сторонников в палате общин, желавших, чтобы он получил свою долю доходов, которые, вероятно, должны были быть немалыми. От имени означенной корпорации было заявлено, что она оказала государству значительные и выдающиеся услуги в самые трудные времена и заслуживает по меньшей мере какой-то выгоды от подобной сделки на государственном уровне и что предпочтение должно быть отдано ей, а не компании, пока не сделавшей для страны ровным счетом ничего. В результате дальнейшее рассмотрение вопроса отложили на пять дней. Тем временем правление банка составило собственное предложение. Компания южных морей, опасаясь, что банк предложит правительству более выгодные условия, нежели она, пересмотрела свое предыдущее предложение и внесла в него поправки, которые, как она надеялась, делали его более привлекательным. Принципиальным новшеством было условие, что правительство сможет погасить свои долги по истечении четырех лет, а не семи, как предлагалось вначале. Банк решил остаться непревзойденным в этом своеобразном аукционе, и его правление также пересмотрело свое первоначальное предложение и подало новое.
Таким образом, от каждой корпорации было получено по два предложения, которые парламент начал обсуждать. Г-н Роберт Уолпол был главным оратором в пользу банка, а г-н Айлеби, канцлер казначейства52, — главным защитником интересов Компании южных морей. 2 февраля было решено, что предложения последней являются наиболее выгодными для страны. Они, соответственно, были приняты, и было дано разрешение внести законопроект об их реализации.
Иксчендж-эли53 пребывала в лихорадочном возбуждении. Акции компании, еще вчера стоившие сто тридцать фунтов, постепенно подорожали до трехсот, и этот процесс продолжался с удивительной быстротой все то время, пока шло поэтапное обсуждение законопроекта. Г-н Уолпол был едва ли не единственным государственным деятелем в палате общин, твердо выступавшим против его принятия. Он выразительно и пафосно предвосхищал пагубные последствия такого шага. Он сказал, что этот план поощряет «опасную практику биржевых спекуляций и отвлечет дух нации от торговли и промышленности. Он вызовет опасный соблазн завлечь и разорить легковерных, принеся их сбережения в жертву перспективе иллюзорного богатства. Основной принцип этого проекта — первостатейное зло; он призван искусственно повысить цену акций за счет возбуждения и поддержания массового слепого ажиотажа, а также за счет обещаний выплат дивидендов от фондов, недостаточных для этого в принципе». С воодушевлением пророка он добавил, что если этот план удастся, то директора компании станут в правительстве хозяевами, сформируют в королевстве новую и самовластную аристократию и возьмут под свой контроль решения законодательной власти. Если же он потерпит фиаско, в чем Уолпол был убежден, то страну ожидают массовые беспорядки и разорение. Люди будут настолько оболванены, что, когда настанут черные дни (а они обязательно настанут), они очнутся как ото сна и спросят себя, было ли все это на самом деле. Все его красноречие пропало даром. Его или считали лжепророком, или сравнивали с хриплым вороном, накаркивающим беду. Однако его друзья сравнивали его с Кассандрой, предсказывающей несчастья, в которые поверят лишь тогда, когда они войдут в дома людей и взглянут им в лицо за их собственными столами. Несмотря на то что прежде палата с величайшим вниманием прислушивалась к каждому его слову, теперь скамьи пустели, когда выяснялось, что он собирается говорить о Компании южных морей.
Законопроект подготавливался палатой общин два месяца. За это время директора компании и их сторонники, особенно председатель правления, знаменитый сэр Джон Блант, приложили все усилия к тому, чтобы повысить цену акций. Ходили самые нелепые слухи. Говорили о соглашениях между Англией и Испанией, в соответствии с которыми последняя должна была дать согласие на свободную торговлю со всеми своими колониями, а ценное содержимое месторождения Потоси-ла-Пас54 должно было поступать в Англию до тех пор, пока серебра в ней не стало бы почти так же много, как железа. За изделия из хлопка и шерсти, которые Англия могла в изобилии поставлять, жители Мексики должны были опорожнить свои месторождения золота. Компания купцов, торгующая со странами южных морей, стала бы богатейшей компанией за всю историю человечества, а каждые сто фунтов, вложенные в нее, приносили бы держателю ее акций несколько сотен ежегодно. Эти домыслы принесли свои плоды: в конце концов акции поднялись в цене почти до четырехсот фунтов, но после значительных колебаний курса остановились на отметке триста тридцать фунтов и оставались на ней, когда законопроект был принят палатой общин 172 голосами против 55.
Поэтапное рассмотрение законопроекта в палате лордов прошло с беспрецедентной быстротой: 4 апреля он прошел первое чтение, 5 апреля — второе, 6 апреля он был передан в комиссию, а 7 апреля — принят в третьем чтении и утвержден.
Некоторые пэры были решительно настроены против этого плана, но их предостережения пропустили мимо ушей. Азарт спекуляции обуял государственных мужей так же, как и простолюдинов. Лорд Норт-энд-Грей сказал, что данный законопроект несправедлив по своей природе и может иметь фатальные последствия, ибо направлен на обогащение немногих и обнищание многих. Герцог Уортонский разделял его позицию, но, так как он просто повторил аргументы, столь красноречиво высказанные Уолполом в нижней палате, его выслушали с куда меньшим вниманием, чем лорда Норт-энд-Грея. Граф Каупер был на их стороне и сравнил законопроект с пресловутым троянским конем, который также был внесен и встречен с большой помпой и радостью, но нес в себе вероломство и гибель. Граф Сандерлендский постарался ответить на все возражения; и после того, как вопрос был поставлен на голосование, только семнадцать пэров были против, а восемьдесят три — за принятие законопроекта. В тот же самый день, когда он был принят палатой лордов, он получил королевскую санкцию и стал законом страны.
В то время казалось, что целая нация превратилась в биржевых спекулянтов. Иксчендж-эли ежедневно наводняли толпы людей, а Корнхилл был непроезжим из-за большого числа карет. Все приходили покупать акции. «Каждый дурак стремился стать мошенником». Как гласила написанная в то время и распеваемая на улицах баллада55,
Then stars and garters did appear
Among the meaner rabble;
To buy and sell, to see and hear
The Jews and Gentiles squabble.
The greatest ladies thither came,
And plied in chariots daily,
Or pawned their jewels for a sum
To venture in the Alley56.
Необычайную жажду наживы, охватившую все общественные слои, не могла утолить одна лишь Компания южных морей. Появились и другие, самого экстравагантного типа. Поспешно заполнялись курсовые бюллетени, и шла крупномасштабная торговля акциями; при этом, разумеется, в ход шли любые средства искуственной накрутки их цены на рынке.
Вопреки всем ожиданиям, после получения законопроектом королевской санкции курс акций Компании южных морей снизился. 7 апреля акции котировались на уровне трехсот десяти фунтов, а на следующий день — двухсот девяноста фунтов. Руководство компании уже ощутило выгодность своего предприятия, и едва ли можно было ожидать, что оно просто так даст цене акций упасть до естественного уровня, не попытавшись ее поднять. Эмиссары компании немедленно взялись за дело. Все, кто был заинтересован в успехе проекта, старались собрать вокруг себя кучку слушателей, которым они сообщали о сокровищах южноамериканских морей. Такие группки людей заполонили Иксчендж-эли. Один слух, пересказываемый с величайшим доверием, оказал немедленное воздействие на котировку акций. Говорили, что граф Стенхоп получил во Франции от испанского правительства предложение обменять Гибралтар и Порт-Магон на ряд территорий на побережье Перу под гарантию обеспечения и расширения торговли под эгидой Компании южных морей. Вместо одного ежегодного корабля, торгующего в этих портах, и отчисления королю Испании 25% доходов от торговли компания-де получала право строить и фрахтовать столько судов, сколько пожелает, и не выплачивать никаких процентов никакому иностранному монарху. «Видéния слитков танцевали у них перед глазами», и курс акций быстро повысился. 12 апреля, через пять дней после того, как законопроект получил силу закона, руководство компании объявило подписку на акции на сумму один миллион фунтов по номиналу при ставке дохода 300 фунтов на каждые вложенные 100 фунтов. Число людей всякого звания, желавших подписаться на акции, было столь велико, что первая подписка охватила акции на сумму свыше двух миллионов по номиналу. Доход подлежал пятикратной выплате частями, по 60 фунтов на каждую акцию номиналом 100 фунтов. Через несколько дней курс акций на вторичном рынке поднялся до трехсот сорока фунтов, и подписанная цена увеличилась вдвое по сравнению с первоначальной. Чтобы еще больше повысить курс, 21 апреля на общем совете директоров было объявлено, что дивиденд середины лета возрос на 10% и распространяется на все подписанные акции. Эти резолюции сделали свое дело, и руководство компании, дабы еще больше разжечь страсти среди состоятельных граждан, объявило вторую подписку на акции на сумму в один миллион по номиналу при ставке дохода в четыреста фунтов. Неистовое желание представителей всех социальных слоев спекулировать этими акциями было настолько велико, что в течение нескольких часов было подписано акций как минимум на полтора миллиона под ту же ставку дохода.
Тем временем повсюду учреждались бесчисленные акционерные компании. Вскоре их прозвали «мыльными пузырями» — наиболее подходящим словосочетанием, какое смогло предложить воображение. Смекалка простого народа часто выражается в даваемых им прозвищах. В данном случае определение «мыльные пузыри» было максимально точным. Некоторые из них просуществовали неделю-другую, и больше о них никто не слышал; другие не смогли продержаться даже столько. Каждый вечер приносил новые планы, а каждое утро — новые проекты. Высочайшая аристократия стремилась к наживе с рвением самого трудолюбивого корнхиллского маклера. Владельцем одной такой компании стал принц Уэльский, который, как сообщается, в результате своих спекуляций получил 40 000 фунтов чистой прибыли57. Герцог Бриджуотер основал предприятие по благоустройству Лондона и Вестминстера, а герцог Чендос — другое предприятие. Существовало около сотни различных проектов, один нелепее и обманчивее другого. Они, как написано в книге «Государство и политика», «организовывались и рекламировались хитрыми плутами, затем осаждались полчищами алчных глупцов и в конечном счете оказывались тем, на что указывало их простонародное название, — дутыми предприятиями и обычным надувательством». Было подсчитано, что в результате этих афер одни приобрели, а другие потеряли около полутора миллионов фунтов, что привело к обнищанию множества простофиль и обогащению множества жуликов.
Некоторые из этих предприятий были вполне благовидными и, будь они затеяны в период общественного спокойствия, могли бы пойти на пользу всем, имеющим к ним отношение. Однако они были учреждены с одной-единственной целью — спекулировать акциями на фондовом рынке. Учредители использовали первую же благоприятную возможность выгодной продажи акций, и на следующее утро предприятие переставало существовать. Мейтленд в «Истории Лондона» со всей серьезностью сообщает нам, что один из таких проектов, получивший большую поддержку, предусматривал основание компании «по изготовлению дильса58 из опилок». Это, несомненно, шутка, но есть масса достоверных примеров того, как десятки предприятий, едва ли хоть на йоту более благоразумных, прожили свой недолгий век, разорив сотни людей, прежде чем рухнуть. Целью одного из них было создание вечного двигателя (капитал — миллион), другого — «поощрение разведения лошадей в Англии, благоустройство церковных земель, ремонт и перестройка домов приходских священников и викариев». То, что духовенство, заинтересованное главным образом в двух последних пунктах, проявило такой большой интерес к первому, может объясняться лишь предположением, что это предприятие было задумано группой пасторов, любивших охоту на лис — обычное развлечение в Англии того времени. На акции означенной компании шла активная подписка. Но наиболее противоречащим здравому смыслу было предприятие, полнее и нагляднее остальных продемонстрировавшее полное безумие людей, как один пошедших на поводу у неизвестного авантюриста, получившее название «Компания по получению стабильно высокой прибыли из источника, не подлежащего разглашению». Если бы этот факт не был подтвержден множеством заслуживающих доверия свидетелей, было бы невозможно поверить, что кого-либо можно одурачить подобным проектом. Гениальный аферист, предпринявший это дерзкое и успешное посягательство на людскую доверчивость, просто написал в своем проспекте, что необходимый капитал составляет полмиллиона фунтов в пяти тысячах акций по сто фунтов каждая, а задаток — 2 фунта за акцию. Каждый подписчик, внеся задаток, якобы получал право на годовой дивиденд в 100 фунтов за акцию. Тогда этот человек не счел нужным сообщить потенциальным подписчикам, как именно будет получен сей несметный доход, но пообещал, что через месяц будет должным образом опубликован подробный отчет и будут затребованы остальные 98 фунтов за каждую подписанную акцию. На следующее утро, в девять часов, этот великий человек открыл контору в Корнхилле. Вход мигом осадила толпа, и когда он закрылся в три часа пополудни, то обнаружил, что подписано не менее тысячи акций, за которые внесены задатки. Таким образом, через шесть часов он стал счастливым обладателем 2000 фунтов. Он был в достаточной степени философом, чтобы удовлетвориться результатом своей авантюры, и в тот же вечер отбыл на континент. Больше о нем никто ничего не слышал.
Свифт удачно сравнил Чендж-эли59 с водоворотом в «южных морях»:
Subscribers here by thousands float,
And jostle one another down,
Each paddling in his leaky boat,
And here they fish for gold and drown.
Now buried in the depths below,
Now mounted up to heaven again,
They reel and stagger to and fro,
At their wits’ end, like drunken men.
Meantime, secure on Garraway cliffs,
A savage race, by shipwrecks fed,
Lie waiting for the foundered skiffs,
And strip the bodies of the dead60.
Еще одним чрезвычайно успешным мошенничеством были так назывемые «Пропуска в “Глоб”». Они представляли собой не что иное, как квадратные кусочки игральных карт, на которых стояла восковая печать — эмблема закусочной «Глоб Таверн», расположенной по соседству с Иксчендж-эли, с надписью «Пропуск на парусинную мануфактуру». Преимущество их обладателей заключалось лишь в том, что они имели право в будущем подписаться на акции новой парусинной мануфактуры — детища того, кто в ту пору был известен как богач, но впоследствии оказался вовлеченным в казнокрадство руководства Компании южных морей и понес наказание. Эти пропуска продавались на Аллее за целых шестьдесят гиней.
В эти дутые предприятия были глубоко вовлечена знать обоего пола: мужчины ходили встречаться со своими брокерами в закусочные и кафе, а женщины с той же целью часто посещали ателье и галантерейные магазины. Это отнюдь не означает, что все эти люди верили в осуществимость предприятий, на акции которых они подписывались; им было достаточно, чтобы их акции благодаря искусной биржевой спекуляции вскоре поднялись в цене, дабы их можно было незамедлительно перепродать действительно легковерным. В толпе на Аллее царила такая неразбериха, что акции одного и того же «мыльного пузыря» в одно и то же время на одном конце Аллеи стоили на десять процентов дороже, чем на другом. Те, кто мыслил здраво, смотрели на необычайное слепое увлечение соотечественников с печалью и тревогой. И в парламенте, и вне его были те, кто отчетливо предвидел надвигающийся крах. Г-н Уолпол непрестанно выдавал свои мрачные прогнозы. Его страхи разделяло все здравомыслящее меньшинство, всеми силами пытавшееся убедить в своей точке зрения правительство. 11 июня, в день, когда закрылась сессия парламента, король выступил с декларацией, в которой объявил, что все эти противозаконные предприятия должны считаться нарушениями общественного порядка и, соответственно, преследоваться по закону, и под угрозой штрафа пятьсот фунтов запретил всем брокерам покупать и продавать их акции. Несмотря на это, жуликоватые спекулянты продолжали свою деятельность, а обманутые люди по-прежнему им потворствовали. 12 июля был издан приказ тайного совета лордов-судей, отклонявший все поданные прошения об исключительных правах и привилегиях и распускавший все дутые предприятия. Приведенная ниже копия приказа их светлостей, содержащая перечень всех этих бесчестных проектов, небезынтересна и в наши дни, когда в общественном сознании периодически усиливается опасная тенденция потворствования подобного рода деятельности:
«СОВЕЩАТЕЛЬНАЯ ПАЛАТА, УАЙТХОЛЛ, 12 ИЮЛЯ 1720 г.
Присутствуют: совет их превосходительств лордов-судей.
Совет их превосходительств лордов-судей принял во внимание многочисленные беспокойства общественного сознания, являющиеся результатом некоторых проектов, организованных для накопления акционерного капитала с различными целями, и то, что большое число подданных Его Величества вовлечено в них, чтобы расстаться со своими деньгами под предлогом заверений организаторов проектов в том, что их прошения об исключительных правах и привилегиях для осуществления их планов будут удовлетворены. Дабы предотвратить этот обман, их превосходительства сегодня приказали представить на их рассмотрение вышеупомянутые прошения наряду с отчетами по ним министерства торговли, генерального атторнея Его Величества и генерального солиситора61, полученными позднее, и после тщательного их обсуждения решили в соответствии с рекомендацией тайного совета Его Величества отклонить следующие вышеупомянутые прошения:
1. Прошение нескольких лиц о пожаловании прав на рыбную ловлю под названием Главная рыболовная компания Великобритании.
2. Прошение Королевской рыболовной компании Англии о пожаловании прав на такие дополнительные полномочия, которые эффективно способствовали бы ее деятельности.
3. Прошение Джорджа Джеймса от его собственного имени и от имени некоторых знатных персон, имеющих отношение к национальному рыболовству, о пожаловании прав на объединение в компанию для ведения означенного промысла.
4. Прошение нескольких купцов, торговцев и других лиц, подписавшихся под ним, об объединении в компанию для возобновления и ведения китобойного промысла у побережья Гренландии и в иных местах.
5. Прошение сэра Джона Ламберта и других лиц, подписавшихся под ним, от имени их самих и от имени большого числа купцов об объединении в компанию для ведения промысла у побережья Гренландии, особенно китобойного промысла в проливе Дейвиса.
6. Еще одно прошение о ведении промысла у побережья Гренландии.
7. Прошение нескольких купцов, дворян и горожан об объединении в компанию для покупки и строительства кораблей для сдачи внаем или фрахтования.
8. Прошение Сэмюела Антрима и других лиц о пожаловании прав на сев конопли и льна.
9. Прошение нескольких купцов, капитанов торговых судов, мастеров по изготовлению парусов и изготовителей парусины о привилегии на объединение в компанию для создания и развития парусинной мануфактуры посредством акционерного капитала.
10. Прошение Томаса Бойда и нескольких сотен купцов, владельцев и капитанов торговых судов, мастеров по изготовлению парусов, ткачей и других ремесленников о привилегии на объединение в компанию, позволяющей им занимать деньги для покупки земель с целью изготовления парусины и тонкого холста.
11. Прошение от имени нескольких лиц, заинтересованных в реализации привилегии, пожалованной ныне покойными королем Вильгельмом и королевой Марией, на изготовление льняного полотна и парусины, о том, чтобы право на изготовление парусины не предоставлялось кому бы то ни было еще, а имеющаяся привилегия была подтверждена и дополнена полномочиями на открытие хлопковой и хлопково-шелковой мануфактур.
12. Прошение нескольких горожан, купцов и торговцев из Лондона и ряда других лиц — подписчиков британских акций на всеобщее страхование от пожара в любой части Англии — об объединении в компанию для осуществления означенной деятельности.
13. Прошение нескольких верноподданных Его Величества из города Лондона и других районов Великобритании об объединении в компанию для осуществления всеобщего страхования от лишений в результате пожаров на территории английского королевства.
14. Прошение Томаса Бёрджеса и других подданных Его Величества, подписавшихся под ним, от имени их самих и других лиц, подписчиков на капитал в 1 200 000 фунтов для ведения торговли с доминионами Его Величества в Северном море, об объединении в компанию под названием Харбургская компания.
15. Прошение Эдварда Джонса, торговца лесоматериалами, от его собственного имени и от имени других лиц об объединении в компанию для импорта лесоматериалов из Германии.
16. Прошение нескольких купцов из Лондона о пожаловании права на объединение в компанию для открытия солеварни.
17. Прошение магната Макфедриса из Лондона, купца, от его собственного имени и от имени нескольких купцов, портных, шляпников, красильщиков и других ремесленников о пожаловании привилегии на объединение в компанию, позволяющей им собрать сумму денег, достаточную для покупки земель для посадки и выращивания растения марена с целью производства красителя.
18. Прошение Джозефа Галендо из Лондона, производителя нюхательного табака, о пожаловании прав на выращивание и заготовку виргинского нюхательного табака в Виргинии и во всех доминионах его величества».
СПИСОК ДУТЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Тем же приказом объявлялись незаконными и, соответственно, упразднялись следующие дутые предприятия:
1. По импорту шведского чугуна.
2. По снабжению Лондона битумным углем. Капитал — три миллиона.
3. По строительству и перестройке домов на всей территории Англии. Капитал — три миллиона.
4. По производству муслина.
5. По открытию и усовершенствованию британских алюминиевых заводов.
6. По эффективному заселению острова Бланко-энд-Сол-Тартагус.
7. По снабжению города Дила пресной водой.
8. По импорту фландрских кружев.
9. По благоустройству земель в Великобритании. Капитал — четыре миллиона.
10. По поощрению разведения лошадей в Англии, благоустройству церковных земель, ремонту и перестройке домов приходских священников и викариев.
11. По выплавке железа и стали в Великобритании.
12. По благоустройству земель в графстве Флинт. Капитал — один миллион.
13. По покупке земель для постройки домов. Капитал — два миллиона.
14. По торговле шерстью.
15. По строительству солеварен на острове Холи-Айленд. Капитал — два миллиона.
16. По купле-продаже поместий и ипотечному кредитованию.
17. По получению стабильно высокой прибыли из источника, не подлежащего разглашению.
18. По мощению улиц Лондона. Капитал — два миллиона.
19. По обустройству похорон в любой части Великобритании.
20. По купле-продаже земель и предоставлению денежных ссуд под проценты. Капитал — пять миллионов.
21. По ведению королевского рыбного промысла. Капитал — десять миллионов.
22. По обеспечению гарантированных выплат заработной платы морякам.
23. По строительству кредитных учреждений для содействия производству и его поощрения. Капитал — два миллиона.
24. По покупке и благоустройству земель, пригодных для сдачи в аренду. Капитал — четыре миллиона.
25. По импорту смолы и дегтя, а также другой продукции для флота из Северной Британии и Америки.
26. По торговле сукном, войлоком и желобчатой черепицей.
27. По покупке и благоустройству поместья и королевских владений в Эссексе.
28. По страхованию лошадей. Капитал — два миллиона.
29. По экспорту изделий из шерсти и импорту меди, латуни и чугуна. Капитал — четыре миллиона.
30. По открытию большой бесплатной аптеки для бедняков. Капитал — три миллиона.
31. По возведению мельниц и покупке месторождений свинца. Капитал — два миллиона.
32. По усовершенствованию мыловарения.
33. По заселению острова Санта-Крус.
34. По проходке шахт и выплавке свинца в Дербишире.
35. По изготовлению стеклянных бутылок и другой стеклянной посуды.
36. По созданию вечного двигателя. Капитал — один миллион.
37. По благоустройству садов.
38. По страхованию и увеличению денежных средств детей.
39. По регистрации и погрузке товаров на таможне и по совершению торговых сделок для купцов.
40. По производству шерстяных изделий на севере Англии.
41. По импорту ореховых деревьев из Виргинии. Капитал — два миллиона.
42. По изготовлению манчестерских тканей из нити и хлопка.
43. По изготовлению йоппского и кастильского мыла.
44. По усовершенствованию производства железа и стали в королевстве. Капитал — четыре миллиона.
45. По торговле кружевами, холстами, льняным батистом, батистом и т.п. Капитал — два миллиона.
46. По торговле и повышению качества определенных товаров, производимых в королевстве, и пр. Капитал — три миллиона.
47. По поставке крупного рогатого скота на лондонские рынки.
48. По изготовлению зеркал, оконных стекол для карет и т.п. Капитал — два миллиона.
49. По разработке месторождений олова и свинца в Корнуолле и Дербишире.
50. По производству рапсового масла.
51. По импорту бобрового меха. Капитал — два миллиона.
52. По производству картона и упаковочной бумаги.
53. По импорту масел и других материалов, используемых в производстве шерстяных изделий.
54. По усовершенствованию и расширению производства шелковых изделий.
55. По предоставлению займов на покупку акций, ежегодных рент, товаров в кредит и т.п.
56. По выплате пенсий вдовам и другим лицам с малой скидкой. Капитал — два миллиона.
57. По улучшению солодовых спиртных напитков. Капитал — четыре миллиона.
58. По крупномасштабной рыбной ловле в водах Америки.
59. По приобретению и благоустройству заболоченныых земель в Линкольншире. Капитал — два миллиона.
60. По усовершенствованию производства бумаги в Великобритании.
61. По закладыванию судов или их грузов.
62. По сушке солода горячим воздухом.
63. По ведению торговли на реке Ориноко.
64. По более эффективному изготовлению байки в Колчестере и других районах Великобритании.
65. По закупке товаров для флота, поставке продовольствия и выплате заработной платы рабочим.
66. По трудоустройству бедных ремесленников и предоставлению купцам и другим лицам сторожей.
67. По усовершенствованию обработки почвы и разведения рогатого скота.
68. Еще одно предприятие по поощрению разведения лошадей.
69. Еще одно предприятие по страхованию лошадей.
70. По ведению торговли зерном на территории Великобритании.
71. По страхованию всех господ и дам от убытков, которые они могут понести по вине прислуги. Капитал — три миллиона.
72. По строительству домов или больниц для приема и ухода за незаконнорожденными детьми. Капитал — два миллиона.
73. По отбеливанию крупнозернистого сахара без использования огня или потери продукта.
74. По строительству в Великобритании дорожных застав и пристаней.
75. По страхованию от краж и ограблений.
76. По извлечению серебра из свинца.
77. По изготовлению изделий из фарфора и делфтского фаянса. Капитал — один миллион.
78. По импорту табака и его реэкспорту в Швецию и другие страны Северной Европы. Капитал — четыре миллиона.
79. По производству чугуна с использованием добытого в шахтах угля.
80. По снабжению Лондона и Вестминстера сеном и соломой. Капитал — три миллиона.
81. По строительству в Ирландии мануфактуры по производству парусины и упаковочного холста.
82. По нагружению балластом.
83. По закупке и экипировке кораблей для борьбы с пиратами.
84. По импорту лесоматериалов из Уэльса. Капитал — два миллиона.
85. По добыче каменной соли.
86. По превращению ртути в ковкий чистый металл.
ИГРАЛЬНЫЕ КАРТЫ «ДУТЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ»
Опрометчивые глупцы стремглав кидаются в воды южных морей,
А предусмотрительные осторожно переходят их вброд.
Первые тонут, а умные остаются в живых,
Не осмеливаясь зайти глубже, чем по колено или по пояс.
Карикатура-дерево
Наряду с этими дутыми предприятиями ежедневно, несмотря на решение правительства и осмеяние здравомыслящей частью общества, возникало множество других. Типографии изобиловали карикатурами, а газеты — эпиграммами и насмешками над широко распространенным безрассудством. Один изобретательный фабрикант игральных карт напечатал колоду, посвященную Компании южных морей, которая сегодня является исключительной редкостью. Каждая ее карта, помимо обычных изображений очень маленького размера в одном углу, содержала карикатуру на то или иное дутое предприятие с соответствующей стихотворной подписью. Одним из самых знаменитых «мыльных пузырей» была «Компания по изготовлению машины Пакла», которая должна была стрелять круглыми и прямоугольными пушечными ядрами и пулями и совершить тотальную революцию в военном искусстве. Ее претензии на благосклонность публики были следующим образом резюмированы на восьмерке пик:
A rare invention to destroy the crowd
Of fools at home instead of fools abroad.
Fear not, my friends, this terrible machine,
They’re only wounded who have shared therein62.
На девятке червей была карикатура на Английскую медную и латунную компанию со следующей эпиграммой:
The headlong fool that wants to be a swopper
Of gold and silver coin for English copper,
May, in Change Alley, prove himself an ass,
And give rich metal for adultrate brass63.
Восьмерка бубен «прославляла» компанию по колонизации Акейдии64 следующими виршами:
He that is rich and wants to fool away
A good round sum in North America,
Let him subscribe himself a headlong sharer,
And asses’ ears shall honour him or bearer65.
В подобном стиле каждая карта колоды разоблачала какое-нибудь мошенническое предприятие и высмеивала тех, кто оказался его жертвой. Было подсчитано, что всего в эти проекты предусматривалось вложить свыше трехсот миллионов фунтов.
Пора, однако, вернуться к великому водовороту «южных морей», поглотившему состояния многих тысяч алчных и легковерных. 29 апреля курс акций вырос аж до пятисот фунтов, и примерно две трети лиц, получавших ежегодную государственную ренту, обменяли государственные ценные бумаги на акции Компании южных морей. В течение всего мая курс акций продолжал расти и 28-го числа достиг отметки в пятьсот пятьдесят фунтов. Четыре дня спустя он сделал огромный скачок, и акции, стоившие пятьсот пятьдесят фунтов, сразу же подорожали до восьмисот девяноста. Воцарилось мнение, что котировка акций не сможет подняться выше, и многие использовали эту счастливую возможность их продажи с целью получения дохода. Множество дворян, людей из свиты короля и тех, кто собирался сопровождать его в Ганновер66, также стремилось продать свои акции. 3 июня на Аллее было так много продавцов и так мало покупателей, что котировка немедленно упала с восьмисот девяноста до шестисот сорока фунтов. Встревоженные директора компании приказали своим агентам скупать акции. Их усилия увенчались успехом. Ближе к вечеру доверие было восстановлено, и акции подорожали до семисот пятидесяти фунтов. С небольшими колебаниями они оставались на этой отметке до закрытия компанией подписки на них 22 июня.
Не нужно, да и неинтересно углубляться в подробности различных ухищрений, к которым прибегало руководство компании для поддержания цены акций. Достаточно сказать, что в конце концов они подорожали до тысячи фунтов. На этом уровне они котировались в начале августа. «Мыльный пузырь» был раздут до предела и начал дрожать и трястись, готовясь лопнуть.
Многие получатели государственной ренты выражали недовольство директорами компании, обвиняя их в пристрастном составлении списка акционеров каждого выпуска. Беспокойство усилилось, когда все узнали, что сэр Джон Блант, председатель правления компании, и некоторые другие лица продали свои акции. На протяжении всего августа котировки акций падали, и 2 сентября они стоили всего семьсот фунтов.
Положение стало угрожающим. Стараясь предотвратить полную потерю народного доверия к своей деятельности, директора созвали общее собрание всей корпорации, состоявшееся 8 сентября в Мёрчент-Тейлорз-Холле. К девяти часам утра в зале было не продохнуть; Чипсайд был запружен толпой тех, кто не мог попасть в здание, и царило величайшее возбуждение. Собралось множество директоров и их сторонников. Председательствовал сэр Джон Феллоуз, помощник управляющего. Он ознакомил присутствующих с причиной собрания, зачитал им несколько резолюций совета директоров и отчитался перед ними о деятельности руководства компании: о привлечении кредитов, размере доходов и вкладах по подписке. После этого г-н секретарь Крэгс выступил с краткой речью, в которой одобрил действия директоров и убеждал присутствующих в том, что ничто не сможет более эффективно способствовать успеху предприятия, чем их общие усилия. В заключение он поблагодарил совет директоров за благоразумное и умелое руководство, а также за их желание действовать наиболее сообразно интересам и выгоде корпорации. Г-н Хангерфорд, обративший на себя самое пристальное внимание в палате общин усердной защитой интересов Компании южных морей и не без оснований подозреваемый в том, что он, воспользовавшись моментом, весьма выгодно продал свои акции, был весьма высокопарен в своем выступлении. Он сказал, что видел взлеты и падения, распад и воссоздание множества подобных объединений, но что, по его мнению, ни одно из них не добилось столь замечательных результатов за столь короткое время, как Компания южных морей. Она, добавил он, сделала больше, чем могли сделать королевская власть, проповедники или судьи. Она примирила все враждующие стороны одним общим интересом; она утихомирила, если не полностью погасила, все разногласия и ссоры внутри страны. Благодаря росту курса ее акций богатые люди значительно приумножили свои богатства, а мелкопоместное дворянство удвоило и утроило стоимость своих земельных владений. В то же самое время она облагодетельствовала всю церковь, а не только нескольких преподобных, наживших значительные суммы посредством данного проекта. Короче говоря, она обогатила целую нацию. Г-н Хангерфорд выразил надежду, что себя компания тоже не забыла. Последнее замечание вызвало свист, да и вся его речь, полная чрезмерных восхвалений, скорее напоминала сатиру; но директора и их сторонники, а также все оставшиеся в выигрыше от биржевых спекуляций неистово аплодировали. Герцог Портлендский высказался примерно в том же духе и чрезвычайно удивился тому, что вообще нашлись недовольные деятельностью компании; он, разумеется, нажился в результате своих спекуляций и сильно смахивал на толстого олдермена67 из «Шуток» Джо Миллера, который после всякого сытного обеда складывал руки на пузе и выражал сомнение в том, что в мире есть хоть один голодный человек.
На этом собрании было принято несколько резолюций, но они не возымели действия на публику. В тот же вечер курс акций упал до шестисот сорока, а на следующий день — до пятисот сорока фунтов. День за днем он продолжал падать и наконец достиг отметки всего в четыреста фунтов. В письме г-на Бродрика, члена парламента, лорд-канцлеру68 Мидлтону, датированном 13 сентября и приведенном в «Уолполе» Кокса, есть такие строки: «Существуют различные предположения относительно того, почему у директоров Компании южных морей так быстро возникли проблемы. Я никогда не сомневался, что так и будет, понимая, на что они делают ставку. Они увеличили объем эмиссии акций настолько больше допустимой величины, что металлических денег для поддержания их оборота оказалось недостаточно. Лидеры компании, страхуя себя за счет денег обманутых вкладчиков, затянули в свои сети огромное число беспечных, чей рассудок победили жадность и надежда сделать из мухи слона. Тысячи семей будут доведены до нищеты. Ужас людей невыразим, ярость их неописуема, и ситуация в целом настолько отчаянная, что я не вижу никакого плана или схемы хороших настолько, чтобы отвести от людей этот удар, и даже не могу предположить, что надо делать дальше». Десять дней спустя, когда курс акций все еще падал, он писал: «Компания еще не пришла ни к какому решению, ибо залезла в такие дебри, что не знает, куда повернуть. Из разговоров нескольких недавно прибывших в город мелких дворян я понял, что к Компании южных морей относятся с растущим отвращением во всех провинциях. Очень многие ювелиры уже разорены, и еще больше разорятся в ближайшее время. Я задаюсь вопросом, сможет ли хотя бы треть, нет, четверть их выдержать все это. С самого начала я, глядя на всю эту затею, полагал очевидным, что всей находящейся в обращении наличности недостаточно для обеспечения оборота выпущенных акций. Из этого я делаю вывод, сколь бы он ни был сомнителен, что данное обстоятельство явится причиной того, что величественное здание нашего государства неминуемо рухнет».
12 сентября по настойчивой просьбе г-на секретаря Крэгса было проведено несколько совещаний между директорами Компании южных морей и Английского банка. Распространились слухи о том, что последние согласились на выпуск Компанией южных морей облигаций на шесть миллионов фунтов, что вызвало повышение курса акций до шестисот семидесяти фунтов; но после полудня, как только эти слухи оказались безосновательными, он опять упал до пятисот восьмидесяти, на следующий день — до пятисот семидесяти, а в последующие дни плавно опустился до четырехсот69.
Кабинет министров был не на шутку встревожен таким положением дел. Ни одно появление директоров компании на улицах города не обходилось без оскорблений; в любой момент могли начаться беспорядки. Находившемуся в Ганновере королю были отправлены депеши с призывами немедленно вернуться в Англию. За г-ном Уолполом, находившимся в своем поместье, послали, чтобы он использовал свое известное влияние на директоров Английского банка и убедил их принять предложение Компании южных морей о запуске в обращение некоторого числа ее облигаций.
Банк очень не хотел оказаться замешанным в дела компании; его директора боялись втягиваться в бедствия, которых они не могли предотвратить, и встречали все инициативы компании с явным скепсисом. Но вся страна в один голос призывала банк прийти ей на помощь. Всех выдающихся коммерсантов попросили предложить путь выхода из кризиса. В итоге за основу дальнейших переговоров был взят черновик договора, составленный г-ном Уолполом, и общественное смятение несколько улеглось.
На следующий день, 20 сентября, в Мёрчент-Тейлорз-Холле состоялось общее собрание Компании южных морей, на котором были приняты резолюции, давшие ее директорам полномочия заключить соглашение с Английским банком или любыми другими лицами о запуске в обращение облигаций компании или любое другое соглашение с Английским банком, какое они сочтут нужным. Один из ораторов, некий г-н Палтни, сказал, что он в высшей степени удивлен той странной паникой, в которую впал народ. Люди носились туда-сюда в смятении и ужасе, их воображение рисовало картину большой беды, о форме и размерах которой никто не имел представления:
Black it stood as night —
Fierce as ten furies — terrible as hell70.
На общем собрании Английского банка, состоявшемся два дня спустя, управляющий сообщил присутствующим о нескольких заседаниях, проведенных в связи с деятельностью Компании южных морей, и добавил, что директора еще не пришли ни к какому решению по данному вопросу. Затем была предложена и единогласно принята резолюция, уполномочившая директоров банка заключить с директорами Компании южных морей соглашение о запуске в обращение ее облигаций на ту сумму, на тех условиях и на тот срок, какие они сочтут нужными.
Таким образом, обе стороны теперь могли свободно предпринимать действия, максимально, с их точки зрения, выгодные обществу. Банк объявил подписку на облигации на сумму три миллиона фунтов для поддержания национальной кредитной системы. Условия были обычными: задаток — 15 фунтов на сотню, надбавка — 3 фунта на сотню, доход — 5 фунтов. Ранним утром собралось так много людей, которым не терпелось вложить свои деньги, что подписка, казалось, должна была растянуться на весь день; но к полудню поток желающих иссяк. Несмотря на все принятые меры, курс ценных бумаг Компании южных морей быстро падал. Ее облигации обесценились настолько, что среди виднейших ювелиров и банкиров началась паника; некоторые из них, ранее ссудив огромные суммы под залог ценных бумаг Компании южных морей, были вынуждены закрыть свои лавки и конторы и скрыться. Компания-изготовитель клинков, которая до сих пор была главным кассиром Компании южных морей, приостановила платежи. Это событие, расцененное как начало катастрофы, повлекло за собой массовое изъятие вкладов из Английского банка, который теперь был вынужден выплачивать деньги гораздо быстрее, чем они поступали по утренней подписке. Следующий день (29 сентября) был выходным, и банк получил небольшую передышку. Он поплыл против ветра, но его прежний конкурент, Компания южных морей, при этом потерпела крушение. Котировка ее акций упала до ста пятидесяти фунтов и постепенно, после ряда колебаний, снизилась до ста тридцати пяти.
Директора банка, поняв, что им не под силу вернуть доверие народа и предотвратить крах, не подвергая себя риску пойти ко дну вместе с теми, кого они намеревались спасти, отказались выполнять соглашение, участниками которого являлись. Они сложили с себя всякую ответственность за его дальнейшее выполнение, заявив, что так называемый договор — не более чем черновик соглашения, в котором есть несколько серьезных пробелов и которое не предусматривает никакого наказания за выход из него Английского банка. «Таким образом, — гласит «История парламента», — за восемь месяцев мы были свидетелями взлета, прогресса и падения этого могущественного сооружения, которое, будучи вознесенным некими тайными мотивами до заоблачных высот, приковало к себе взгляды и ожидания всей Европы, но фундамент которого, будучи замешенным на обмане, иллюзии, легковерии и безрассудстве, рухнул, как только вскрылись ухищрения его директоров».
В самый разгар активности компании, на пике этого опасного слепого ажиотажа, нравы народа заметно упали. Парламентское расследование, начатое для выявления виновных, вскрыло позорные эпизоды, в равной степени пятнающие как мораль самих правонарушителей, так и интеллект людей, поддавшихся на их посулы. Изучение всех тех зол, что явились результатом описываемой аферы, чрезвычайно интересно. Нации, как и индивидуумы, не могут становиться безрассудными аферистами безнаказанно. Рано или поздно их постигает кара. Один знаменитый писатель71 совершенно не прав, утверждая, что «эпоха, подобная этой, — самая неприятная для историка; никакого читателя, обладающего чувствительностью и воображением, нельзя развлечь или заинтересовать детальным описанием подобных сделок, не допускающим ни эмоций, ни колорита, ни приукрашивания, — описанием, демонстрирующим лишь унылую картину безвкусного порока и низменного вырождения». Напротив (и Смоллетт бы это обнаружил, если бы захотел), эта тема способна вызвать настолько большой интерес, что за нее с радостью ухватился бы даже какой-нибудь писатель-романист. Разве нет эмоций в отчаянии ограбленных людей, нет жизни и живости в картине несчастий сотен доведенных до нищеты и разоренных семей, в том, как вчерашние богачи сегодня становятся нищими, как могущественные и влиятельные превращаются в отверженных и изгоев, как самопорицания и проклятия звучат в каждом уголке страны? Разве скучна или непоучительна картина того, как целый народ внезапно стряхивает с себя оковы здравого смысла и без оглядки гонится за золотым миражом, упрямо отказываясь поверить в его призрачность до тех пор, пока, словно введенный в заблуждение крестьянин, бегущий за ignis fatuus72, не оказывается в болоте? Но в таком ложном ключе история писалась слишком часто. Летописи содержат пространные описания интриг недостойных придворных с целью добиться благосклонности еще более недостойных королей или нескончаемые рассказы о кровопролитных баталиях и осадах, красноречивые и захватывающие, тогда как обстоятельства, оказавшие решающее влияние на моральное состояние и благоденствие людей описываются лишь мельком, как скучные и неинтересные, не заслуживающие ни эмоций, ни колорита.
Пока разрастался этот знаменитый «мыльный пузырь», Англия являла собой в высшей степени необычное зрелище. Общественное сознание пребывало в состоянии нездорового возбуждения. Людей больше не удовлетворяли медленно растущие, но гарантированные доходы от вкладов. Упование на получение несметного богатства завтра делало их глупыми и сумасбродными сегодня. Тяга к неслыханной роскоши неизбежно влекла за собой размытость моральных устоев. Повелительное высокомерие невежд, внезапно разбогатевших в результате удачных спекуляций, заставляло людей действительно утонченных и воспитанных краснеть оттого, что обладание золотом позволяло недостойным подниматься по социальной лестнице. Надменность некоторых этих «счетоводов с улицы», как их назвал сэр Ричард Стил, вышла им боком в их черные дни. В результате парламентского расследования многие директора больше пострадали за свое оскорбительное высокомерие, чем за казнокрадство. Один из них, возгордившийся богатый невежда, однажды заявивший, что он будет кормить свою лошадь золотом, был посажен чуть ли не на хлеб и воду. Им припомнили каждый высокомерный взгляд, каждую надменную речь и стократно отплатили бедностью и унижением.
Положение дел в стране было настолько тревожным, что Георг I сократил свое запланированное пребывание в Ганновере и со всей поспешностью вернулся в Англию. Он прибыл 11 ноября, и на 8 декабря было назначено заседание парламента. Тем временем во всех крупных городах империи прошли общественные митинги, на которых были приняты петиции, призывавшие законодательную власть отомстить директорам Компании южных морей, которые своей мошеннической деятельностью поставили страну на грань разорения. Никто, казалось, не понимал, что сам народ виновен в случившемся в той же степени, что и Компания южных морей. Никто не обвинял людей в легковерии и алчности — в низменной жажде наживы, поглотившей все лучшие качества национального характера, или в безрассудстве, заставившем толпу бежать с неистовым рвением в сеть, расставленную для нее расчетливыми прожектерами. Об этом никогда не упоминалось. Бытовало мнение, что те, кто попался в эту сеть, — простые, честные, работящие люди, разоренные шайкой грабителей, которых следует повесить, выпотрошить и четвертовать без всякой жалости.
Так считала почти вся страна. Обе палаты парламента не являлись исключением. Вина директоров Компании южных морей еще не была установлена, а парламентарии уже жаждали их крови. Король в своей тронной речи выразил надежду, что они вспомнят о благоразумии, успокоятся и вынесут необходимую резолюцию о поиске и принятии должных мер для нормализации обстановки. В ответных прениях некоторые ораторы не скупились на самые яростные выпады в адрес директоров компании. Особенно неистовствовал лорд Молсуорт.
«Некоторые говорили, что нет такого закона, согласно которому можно было бы наказать директоров Компании южных морей, коих справедливо считали виновниками бед, обрушившихся на государство. По его мнению, это был тот случай, когда следовало бы взять пример с древних римлян, которые, не имея закона против отцеубийства из-за того, что их законодатели полагали, что ни один сын не может быть столь противоестественно злобен, чтобы обагрить руки кровью отца, ввели закон, предусматривавший наказание за это гнусное преступление сразу же по его совершении. Признанного виновным негодяя зашивали в мешок и живьем бросали в Тибр. Он считал авторов и исполнителей злодейского плана “южных морей” отцеубийцами своей страны и сказал, что с удовольствием посмотрел бы на то, как их подобным же образом завяжут в мешок и бросят в Темзу»73. Другие члены парламента высказывались столь же запальчиво и неблагоразумно. Г-н Уолпол был более сдержанным. Он посоветовал парламентариям в первую очередь позаботиться о возрождении национальной кредитной системы: «Если бы город Лондон горел, все умные люди, прежде чем искать поджигателей, бросились бы помогать тушить пожар и предотвращать распространение огня. Национальная кредитная система получила серьезную рану и лежит, истекая кровью, и им следовало бы быстро остановить кровотечение. С наказанием убийцы можно и подождать». 9 декабря в ответ на речь Его Величества было (после поправки, принятой без голосования) утверждено обращение, суть которого сводилась к тому, что палата общин по-прежнему полна решимости не только избавить страну от бед, но и покарать их инициаторов.
Расследование шло быстро. Директорам было приказано представить палате общин полный отчет об их деятельности. Были приняты резолюции, содержание которых сводилось к тому, что основной причиной бедствия являются низменные ухищрения биржевых спекулянтов и что восстановлению национальной кредитной системы более всего способствовало бы принятие закона, не допукающего подобной позорной практики. Тогда г-н Уолпол встал и сказал, что, как он давал понять ранее, он затратил некоторое время на разработку плана возрождения национальной кредитной системы, но, так как его выполнение зависит от позиции, которая ранее была принята за основу, он, прежде чем изложить свой план, считает целесообразным узнать, может ли он полагаться на эту основу. Он хотел знать, останутся ли принятие на себя государственных долгов и обязательств с обеспечением имуществом, приобретение ценных бумаг по подписке и другие контракты, заключенные с Компанией южных морей, в своем нынешнем виде. Этот вопрос вызвал оживленные дебаты. В итоге 259 голосами против 117 было решено, что все эти контракты останутся в силе до тех пор, пока не будут изменены с целью оказания помощи пайщикам общим собранием Компании южных морей или аннулированы надлежащей правовой процедурой. На следующий день г-н Уолпол представил на заседании парламентского комитета свой план возрождения национальной кредитной системы, суть которого заключалась в передаче на определенных условиях девяти миллионов акционерного капитала Компании южных морей Английскому банку и такой же суммы — Ост-Индской компании74. План был благосклонно принят палатой общин. После немногочисленных возражений было предписано принять соответствующие предложения двух финансовых корпораций. Обе компании были не расположены идти навстречу парламенту, и план встретил активное, хотя и бесплодное, противодействие на их общих собраниях, созванных для его обсуждения. Их тем не менее полностью устроили условия, на которых им предлагалось согласиться ввести в обращение облигации Компании южных морей, и они представили комитету свой отчет, после чего под контролем г-на Уолпола был внесен законопроект, который был благополучно принят обеими палатами парламента.
Одновременно был внесен законопроект о запрещении директорам, управляющему, помощнику управляющего, казначею, кассиру и клеркам Компании южных морей покидать королевство в течение года, об описи их движимого и недвижимого имущества и предотвращении его перевозки или отчуждения. Все наиболее влиятельные члены палаты общин поддержали законопроект. Г-н Шиппен, видя, что г-н секретарь Крэгс присутствует на заседании, и веря оскорбительным слухам о руководящей роли этого министра в деятельности Компании южных морей, решил задеть его за живое. Он сказал, что рад видеть, как британская палата общин обретает былую силу и дух и столь единодушно действует на благо общества. Необходимо, продолжал он, арестовать самих директоров компании, ее служащих и их имущество. «Но, — добавил он, пристально глядя на г-на Крэгса, — есть и другие высокопоставленные лица, чьи имена я, как только придет время, не побоюсь назвать и чья вина не уступает вине директоров компании». Разгневанный г-н Крэгс встал и сказал, что если эти инсинуации направлены против него, то он готов принять вызов от кого угодно в стенах палаты или за ее пределами. Немедленно отовсюду раздались громкие призывы к порядку. Посреди этой суматохи встал лорд Молсуорт и выразил удивление дерзостью г-на Крэгса, бросившего вызов всей палате общин. Хотя лорд Молсуорт был довольно пожилым человеком (ему было за шестьдесят), он ответил бы г-ну Крэгсу в стенах палаты, независимо от того, что ему пришлось бы при этом сказать, и он верил, что найдется немало молодых людей, которые не побоятся встретиться с г-ном Крэгсом лицом к лицу снаружи. Призывы к порядку прозвучали вновь, парламентарии одновременно встали и, казалось, заголосили все разом. Спикер тщетно призывал их к порядку. Замешательство длилось несколько минут, в течение которых лорд Молсуорт и г-н Крэгс были едва ли не единственными членами палаты, сидящими на своих местах. Наконец призывы, обращенные к г-ну Крэгсу, стали настолько требовательными, что он счел нужным подчиниться всеобщему настроению палаты и объяснить свое непарламентское выражение. Он сказал, что под принятием вызова от тех, кто ставит под сомнение его деятельность в этой палате, он имел в виду не дуэль, а лишь желание отчитаться о своих действиях. На этом инцидент был исчерпан, и палата продолжила обсуждение того, каким образом ей следует вести расследование деятельности Компании южных морей — в виде большого или же особого комитета. В конечном счете был назначен тайный комитет из тринадцати человек, уполномоченный посылать за людьми, документами и записями.
Палата лордов была столь же рьяной и резкой в своих суждениях, что и палата общин. Епископ Рочестерский сказал, что это предприятие было подобно эпидемии. Герцог Уортонский заявил, что палате не следует выказывать никакого уважения к виновным и что он, со своей стороны, отвернулся бы от лучшего друга, окажись тот вовлеченным в эту аферу. Он добавил, что нация была ограблена самым позорным и вопиющим образом и что он, как и любой на его месте, не остановился бы перед самым суровым наказанием негодяев. Лорд Стенхоп сказал, что каждый фартинг, принадлежащий преступникам, будь они директорами или нет, следует конфисковать для возмещения понесенных народом убытков.
Все это время общественное возбуждение находилось на пределе. Из «Уолпола» Кокса мы узнаéм, что имя кого-либо из директоров Компании южных морей само по себе считалось синонимом всякого рода обмана и злодейства. Из графств, больших и малых городов по всей территории королевства шли петиции, взывавшие от имени оскорбленной нации о свершении правосудия в отношении подлых расхитителей. Тех сдержанных людей, которые не приветствовали крайность ни в чем, даже в наказании виновных, обвиняли в соучастии преступникам, всячески оскорбляли и сулили им как в анонимных письмах, так и в публичных обращениях скорую месть униженного народа. Обвинения против г-на Айлеби, канцлера казначейства, и г-на Крэгса, еще одного члена кабинета министров, звучали столь громко, что палата лордов приняла решение провести в отношении них расследование. 21 января всем брокерам, участвовавшим в предприятии «южных морей», было приказано представить палате отчет по подписанным акциям, купленным или проданным ими для кого-либо из чиновников казначейства либо их доверенных лиц с Михайлова дня75 1719 года. Когда данный отчет был представлен, выяснилось, что большое количество ценных бумаг было переведено на г-на Айлеби. Было приказано передать церемониймейстеру с черной булавой76 пятерых директоров Компании южных морей, включая г-на Эдварда Гиббона, деда знаменитого историка. По предложению графа Стенхопа было единогласно решено, что взятие или предоставление кредита на покупку ценных бумаг или их покупка, совершенная любым директором или агентом Компании южных морей для любого члена правительства или парламента до вынесения последним решения по законопроекту о Компании южных морей, является разновидностью взяточничества и коррупции. Несколько дней спустя была утверждена еще одна резолюция, согласно которой несколько директоров и служащих компании, тайно продавшие свои собственные ценные бумаги, признавались виновными в мошенничестве и злоупотреблении доверием, в силу чего считались главными виновниками того неблагоприятного поворота событий, что столь сильно пошатнул национальную кредитную систему. Г-н Айлеби отказался от должности канцлера казначейства и отсутствовал на заседаниях парламента, пока законодательная власть вела формальное расследование на предмет установления его личной вины.
Тем временем Найт, казначей компании, посвященный во все опасные секреты бесчестных директоров, упаковал свои бухгалтерские книги и документы и сбежал из страны. Изменив внешность, он уплыл по реке в маленькой лодке и, поднявшись на корабль, нанятый для побега, был благополучно переправлен в Кале. Тайный комитет поставил палату общин в известность о случившемся, и было единогласно решено представить на рассмотрение короля два обращения: в первом короля просили издать прокламацию с объявлением награды за поимку Найта, а во втором — немедленно приказать закрыть порты и принять на побережьях эффективные меры по предотвращению побега из королевства означенного Найта или любых других служащих Компании южных морей. Едва на этих обращениях высохли чернила, как они были доставлены королю г-ном Мэтьюэном, делегированным для этого палатой. В тот же вечер была издана королевская прокламация, объявлявшая награду в две тысячи фунтов за поимку Найта. Палата общин приказала запереть свои двери и положить ключи на стол. Генерал Росс, один из членов тайного комитета, сообщил присутствующим, что комитет уже обнаружил ряд самых изощренных злодейств и обманов, какие только мог придумать нечистый для разорения той или иной нации, о которых палата узнает в должное время. Пока же для проведения дальнейшего расследования комитет считал в высшей степени необходимым взять под стражу некоторых директоров и старших должностных лиц компании и наложить арест на их документацию. Поступившее на этот счет предложение было принято единогласно. Сэра Роберта Чаплина, сэра Теодора Янсена, г-на Собриджа и г-на Ф. Эйлза, членов палаты и директоров Компании южных морей, призвали откликнуться со своих мест и ответить за свои злоупотребления. Сэр Теодор Янсен и г-н Собридж отозвались на свои имена и постарались себя реабилитировать. Палата терпеливо их выслушала и приказала им удалиться. После этого было внесено и nemine contradicente77 принято предложение признать их виновными в злоупотреблении доверием, повлекшем за собой значительные убытки большого числа подданных Его Величества и нанесшем большой ущерб национальной кредитной системе. Далее было предписано исключить их за их преступление из состава палаты и передать парламентскому приставу. Сэр Роберт Чаплин и г-н Эйлз, присутствовавшие в палате четыре дня спустя, также были исключены из ее состава. Одновременно было решено обратиться к королю, с тем чтобы он отдал директивы своим посланникам в других странах объявить розыск Найта для передачи его английским властям на случай, если тот нашел убежище в одной из них. Король немедленно согласился, и той же ночью во все части континента были отправлены гонцы.
Среди директоров, заключенных под стражу, был сэр Джон Блант, которого считали вдохновителем и отцом пресловутого предприятия. Этот человек, как сообщает нам Поп в своем «Послании Аллану, лорду Батерсту», был самым фанатичным раскольником под личиной правоверного78. Он постоянно выступал против роскоши и коррупции того времени, пристрастности парламента и бедности партийного духа. Особенно красноречиво он клеймил алчность высокопоставленных и титулованных персон. Он начинал как ростовщик и впоследствии стал не просто директором, а самым активным руководителем Компании южных морей. Начал ли он выступать против жадности сильных мира сего именно на данном этапе своей карьеры, нам не известно. Он определенно был свидетелем ее проявлений в количестве, оправдывавшем самую суровую анафему с его стороны, но если бы сей проповедник сам был свободен от осуждаемого им порока, его обличения возымели бы больший эффект. Его под конвоем привели к барьеру палаты лордов79 и подвергли длительному допросу. Он отказался отвечать на некоторые важные вопросы. Он сказал, что его уже допрашивал комитет палаты общин и, поскольку он не помнит своих ответов и может противоречить сам себе, он отказывается отвечать перед другим трибуналом. Это заявление, само по себе явившееся косвенным доказательством его вины, вызвало в палате негодующий ропот. Бланта вновь без околичностей спросили, продавал ли он когда-нибудь какое бы то ни было количество ценных бумаг кому-либо из членов правительства или любой из палат парламента для облегчения принятия законопроекта. Он опять отказался отвечать, заявив, что очень хочет относиться к палате со всем возможным уважением, но считает несправедливым, что его принуждают свидетельствовать против самого себя. После нескольких безуспешных попыток освежить его память ему было приказано удалиться. Последовала яростная дискуссия между сторонниками и оппонентами кабинета министров. Утверждали, что правительству удобна неразговорчивость сэра Джона Бланта. Герцог Уортонский бросил тень подозрения на графа Стенхопа, что привело последнего в негодование. Он выступал в сильном возбуждении, и эта горячность вызвала у него внезапный прилив крови к голове. Он почувствовал себя так плохо, что был вынужден покинуть палату и уехать домой. Ему немедленно поставили банки, а на следующее утро пустили кровь, но это принесло лишь незначительное облегчение. Никто не ожидал летального исхода. Ближе к вечеру он впал в забытье и, изменившись в лице, скончался. Внезапная смерть этого государственного деятеля вызвала в стране великую скорбь. Георг I был безмерно потрясен и на несколько часов заперся в личных апартаментах, безутешный в своей утрате.
Найт, казначей компании, был арестован в местечке Тирльмонт, неподалеку от Льежа, одним из секретарей г-на Ледеса, британского дипломатического представителя в Брюсселе, и заточен в Антверпенскую крепость. Австрийскому эрц-герцогскому двору неоднократно посылались прошения о его выдаче, но тщетно. Найт отдался на милость правосудия Брабанта и потребовал рассмотрения своего дела местным судом. Существовала привилегия, дарованная Брабанту одной из статей Joyeuse Entrée, согласно которой все преступники, задержанные в Брабанте, подлежали суду в этой провинции. Последняя настаивала на своей привилегии и отказывалась выдать Найта английским властям. Те не переставали слать ходатайства, но тем временем Найт сбежал из крепости.
16 февраля тайный комитет представил свой первый отчет палате общин. В нем говорилось, что расследование сопровождалось многочисленными трудностями и помехами; все, кого допрашивали члены комитета, пытались по мере возможности пустить правосудие по ложному следу. В некоторых предъявленных комитету бухгалтерских книгах были сделаны фиктивные записи; в другие были вписаны суммы денег, а имена держателей акций отсутствовали. В книгах были многочисленные подчистки и изменения, из некоторых были вырваны листы. Также было обнаружено, что некоторые книги особой важности были вообще уничтожены, а некоторые изъяты или спрятаны. В самом начале расследования члены комитета заметили, что переданные на их рассмотрение материалы были самого разного содержания и объема. Многим лицам было поручено исполнение различных частей закона, и под видом этого они действовали недопустимым образом, распоряжаясь имуществом тысяч людей стоимостью миллионы фунтов. Члены комитета обнаружили, что еще до того, как было принято Постановление о Компании южных морей, в ее бухгалтерских книгах была сделана запись о сумме 1 259 325 фунтов на счете по акциям, которые значились проданными за 574 500 фунтов. Эти акции были абсолютно фиктивными и были проданы с целью содействия принятию законопроекта. Они значились проданными в разные дни и по разным ценам, от 150 до 325 фунтов. Пораженный тем, что акции на такую большую сумму были проданы тогда, когда компания еще не имела права наращивать свой капитал путем их продажи, комитет принял решение провести самое тщательное расследование всех ее деловых операций. Перед ним предстали и были строго допрошены управляющий, помощник управляющего и несколько директоров. Было установлено, что во время внесения этих записей компания не являлась владельцем ценных бумаг на такую большую сумму, имея в пределах своих полномочий их количество не более чем на тридцать тысяч фунтов. Продолжив расследование, комитет обнаружил, что эти акции принимались в расчет или удерживались компанией в пользу мнимых покупателей, хотя не было заключено никаких договоров на их передачу или оплату в определенное время. Не было никаких выплат наличными, предполагаемые покупатели не вносили на счета компании абсолютно никаких задатков или залогов; таким образом, если бы курс акций упал, чего можно было бы ожидать, не будь постановление принято, покупатели не понесли бы никаких убытков. И наоборот, если бы котировка акций поднялась (что и произошло, так как план удался), разница за счет роста котировки принесла бы их владельцам прибыль. Таким образом, после принятия постановления г-н Найт составил и подправил счет по акциям, а компания выплатила мнимым покупателям разницу наличными. Эти фиктивные акции, находившиеся главным образом в распоряжении сэра Джона Бланта, г-на Гиббона и г-на Найта, были распределены среди нескольких членов правительства и близких им людей посредством взяток для содействия принятию законопроекта. Графу Сандерлендскому были переданы акции на сумму 50 000, герцогине Кендалской — 10 000, графине Плейтенской — 10 000, двум ее племянницам — 10 000, г-ну секретарю Крэгсу — 30 000, г-ну Чарльзу Стенхопу (одному из секретарей казначейства) — 10 000, компании-изготовителю клинков — 50 000 фунтов. Выяснилось также, что г-н Стенхоп получил гигантскую сумму в 250 000 фунтов как разницу цены акций при посредничестве «Тёрнер, Кэсуолл энд Ко.»; при этом его фамилия была частично подчищена в бухгалтерских книгах фирмы и изменена на Стенгейп. Айлеби, канцлер казначейства, извлек доходы еще более отвратительные. У него был счет на 794 415 фунтов в фирме, владельцами которой являлись директора Компании южных морей. Кроме того, он посоветовал компании увеличить совокупную цену акций второй подписки до полутора миллионов фунтов вместо одного безо всякого на то предписания свыше, руководствуясь исключительно собственной инициативой. Третья подписка была проведена столь же бесчестным образом. Г-н Айлеби подписался на 70 000, г-н Крэгс-старший — на 659 000, граф Сандерленд — на 160 000 и г-н Стенхоп — на 47 000 фунтов. В отчете упоминалось еще шесть человек, менее высокопоставленных. В конце концов комитет объявил, что из-за отсутствия Найта, являвшегося ключевым звеном аферы, расследование было решено приостановить.
Первый отчет было приказано напечатать и принять к рассмотрению через день. После весьма гневных и оживленных дебатов было утверждено несколько резолюций, осуждающих действия директоров и связанных с ними членов парламента и правительства и объявляющих, что те должны, все без исключения, своим собственным имуществом возместить ущерб, нанесенный ими народу. Их деятельность была названа продажной, позорной и опасной, и было приказано внести законопроект, призванный помочь несчастным пострадавшим.
Г-н Чарльз Стенхоп был первым, кого призвали отчитаться о своем участии в данной афере. Защищая себя, он настаивал, что в течение нескольких лет он отдавал все свои деньги на хранение г-ну Найту и что, какие бы ценные бумаги ни приобретал для него г-н Найт, он расплатился за них сполна. Что же касается ценных бумаг, купленных для него фирмой «Тёрнер, Кэсуолл энд Ко.», то он сказал, что ничего об этом не знает. Все, что было сделано в этой связи, было сделано-де без его санкции, и он не может нести за это ответственность. «Тёрнер, Кэсуолл энд Ко.» взяла ответственность на себя, но для всякого беспристрастного, непредубежденного лица было очевидно, что г-н Стенхоп стал богаче на 250 000 фунтов, находившихся в руках этой фирмы и предназначенных ему. Тем не менее его оправдали с перевесом всего в три голоса. Для его оправдания были приложены величайшие усилия. Лорд Стенхоп, сын графа Честерфилда, по очереди обходил колеблющихся парламентариев, используя все свое красноречие, дабы убедить их либо проголосовать за оправдание, либо отлучиться из палаты. Многих недалеких депутатов из числа мелкопоместных дворян его увещевания сбили с толку, что и привело к известному результату. Оправдание вызвало величайшее недовольство по всей стране. В разных районах Лондона собирались озлобленные толпы; повсюду опасались, что начнутся беспорядки, особенно потому, что многие ожидали подобного исхода от допросов более виновных. Г-н Айлеби, высокая должность и большая ответственность которого подразумевали априорную честность, будь он даже недостаточно честен с рождения, в данной ситуации весьма справедливо считался наиболее вероятным преступником номер один. Его дело было принято к рассмотрению на следующий день после оправдания г-на Стенхопа. Царило сильное возбуждение; кулуары и коридоры палаты заполонили толпы людей, с нетерпением ожидавших результата. Дебаты продолжались весь день. Г-ну Айлеби мало кто сочувствовал; его вина была настолько очевидной и ужасной, что никто не отважился выступить в его защиту. Наконец было единогласно решено, что г-н Айлеби, поощрявший и содействовавший претворению в жизнь губительного плана «южных морей» с целью собственного непомерного обогащения, наравне с директорами компании участвовавший в их пагубной деятельности, приведшей к краху национальной торговли и кредитной системы королевства, в наказание за свои преступления подлежит изгнанию с позором из палаты общин и тюремному заключению в лондонском Тауэре под особой охраной; кроме того, ему было запрещено покидать королевство в течение года (до окончания следующей парламентской сессии) и приказано составить правдивый отчет обо всем его имуществе, с тем чтобы употребить его на пользу тех, кто пострадал от его противозаконных действий.
Этот вердикт вызвал величайшую радость. Несмотря на то что он был вынесен в половине первого ночи, известие о нем скоро облетело весь город. Некоторые люди в знак радости устроили иллюминацию своих домов. На следующий день, когда г-на Айлеби везли в Тауэр, на Тауэрском холме собралась толпа намеревавшихся освистать осужденного и забросать его камнями. Не преуспев в этом, они развели большой костер и плясали вокруг него, переполняемые весельем. Костры были разведены и в других местах; в Лондоне царила праздничная атмосфера, и люди поздравляли друг друга, словно они только что избежали великого бедствия. Ярость, вызванная оправданием г-на Стенхопа, разрослась до таких масштабов, что никто не знал, чем бы все кончилось, удостойся г-н Айлеби той же милости.
Радости людям прибавило то, что сэр Джордж Кэсуолл, один из совладельцев «Тёрнер, Кэсуолл энд Ко.», на следующий день был исключен из состава палаты общин, приговорен к заключению в Тауэр и штрафу в 250 000 фунтов.
Далее была рассмотрена та часть отчета тайного комитета, что касалась графа Сандерлендского. Предпринимались все усилия, чтобы снять обвинения с его светлости. В силу того, что заведенное против него дело основывалось главным образом на свидетельских показаниях, полученных от сэра Джона Бланта, были приложены все усилия к тому, чтобы поставить под сомнение слова сэра Джона, особенно в свете ущерба, наносимого ими чести пэра и члена тайного совета. Графа защищали все без исключения сторонники кабинета министров; высказывалось мнение, что обвинительный приговор приведет к власти кабинет министров партии тори. В конце концов граф был оправдан 233 голосами против 172, но страна была убеждена в его виновности. Повсеместно выражалось сильнейшее негодование, а в Лондоне вновь собирались озлобленные толпы. К счастью, никаких беспорядков не произошло.
Это было в тот день, когда умер г-н Крэгс-старший. Следующий день был посвящен обсуждению этого события. Все считали, что он отравился. Представляется, однако, что на самом деле он просто не смог пережить потерю сына, одного из секретарей казначейства, который умер от оспы несколькими неделями ранее. Ради этого сына, которого он очень любил, он скопил огромное состояние бесчестным путем; теперь же человека, ради которого он поступился честью и запятнал свою репутацию, больше не было в живых. Страх перед дальнейшими разоблачениями еще больше помутил его рассудок и в конце концов вызвал апоплексический удар, от которого он скончался. Он оставил после себя состояние в полтора миллиона фунтов, которое впоследствии было конфисковано в пользу пострадавших от плачевной аферы, в осуществлении которой он принял столь деятельное участие.
Дела, заведенные на всех директоров компании, одно за другим принимались к рассмотрению. Для возмещения причиненного ими ущерба у них было конфисковано имущество на сумму два миллиона четырнадцать тысяч фунтов; каждому из них пропорционально степени участия в афере и в соответствии с обстоятельствами была оставлена определенная его часть, позволяющая начать новую жизнь. Сэру Джону Бланту досталось всего 5000 фунтов от его состояния более чем в 183 000 фунтов, сэру Джону Феллоузу — 10 000 от 243 000 фунтов, сэру Теодору Янсену — 50 000 от 243 000 фунтов, г-ну Эдварду Гиббону — 10 000 от 106 000 фунтов, сэру Джону Ламберту — 5000 от 72 000 фунтов. С другими, менее вовлеченными в аферу, обошлись гораздо либеральнее. Историк Гиббон, чьим дедом был столь сурово оштрафованный г-н Эдвард Гиббон, в книге «Моя жизнь и сочинения» интересно рассказал о парламентских процессах того времени. Он признает, что не является беспристрастным свидетелем, но в силу того, что все писатели, из книг которых можно получить хоть какую-то информацию о судебных процессах тех бедственных лет, были пристрастны с другой стороны, версия изложения событий знаменитого историка приобретает дополнительную ценность, если, конечно, рассматривать ее, руководствуясь принципом audi alteram partem80. «В 1716 году, — пишет он, — моего деда избрали одним из директоров Компании южных морей. Из его конторских книг достоверно явствует, что еще до принятия этой фатальной должности он самостоятельно нажил состояние в 60 000 фунтов. Но его богатство было сметено катастрофой 1720 года, и труды тридцати лет пошли насмарку в один день. Судить об отсутствии или наличии злоупотреблений в деятельности компании, виновности или невиновности моего деда и его коллег-директоров я не могу, ибо не являюсь ни полноправным, ни беспристрастным судьей. Однако непредвзятость дней сегодняшних должна осудить надуманные и деспотические судебные процессы, позорящие правосудие и делающие несправедливость еще более отвратительной. Страна очнулась от золотых грез не раньше, чем возмущенное общество, а вслед за ним и парламент потребовали жертв; но все признавали, что директора, пусть даже виновные, не подпадают под действие ни одного из существующих законов страны. Несдержанным призывам лорда Молсуорта не последовали буквально, но внесли на рассмотрение законопроект о наказаниях и взысканиях — закон с обратной силой, карающий за преступления, неподсудные во время их совершения. Законодательная власть подвергла директоров заключению, приставила к ним непомерную охрану и поспешила заклеймить их позором. Их заставили объявить под присягой точную стоимость своего имущества и лишили возможности передавать или отчуждать какую бы то ни было его часть. Вопреки тому или иному законопроекту о наказаниях и взысканиях, каждый человек, находящийся на скамье подсудимых, имеет право быть выслушанным. Они просили, чтобы их выслушали. Их просьбы были встречены отказом: их притеснители, которым не требовались никакие показания, не стали бы выслушивать никаких оправданий. Сначала было предложено оставить директорам на будущее одну восьмую часть их имущества, но при этом было специально оговорено, что в зависимости от состоятельности и степени вины такая пропорция может оказаться для многих чересчур милосердной, а для некоторых — чересчур суровой. Репутация и деятельность каждого из подсудимых оценивалась отдельно, но вместо беспристрастного судебного следствия по всей форме богатство и честь тридцати трех англичан стали темой торопливого разговора, забавой не подчиняющегося законам большинства, когда самый недостойный член комитета мог злобным высказыванием или тайным голосованием дать волю своему общему раздражению или личной враждебности. Расследование отягощалось оскорблениями, а оскорбления усугублялись насмешками. Директорам издевательски оставляли как 20 фунтов, так и 1 шиллинг. Неопределенное сообщение о том, что кто-либо из директоров был ранее вовлечен в другой проект, в результате которого некое число неизвестных лиц лишилось своих денег, признавалось доказательством его нынешней вины. Один человек был разорен из-за того, что обронил глупую фразу о том, что его лошади должны питаться золотом; другой — потому, что был настолько горд, что однажды, находясь в казначействе, невежливо ответил персонам гораздо более высокопоставленным. Всех директоров заочно приговорили к огромным штрафам и конфискациям, унесшим львиную долю их имущества. Парламенту при всем его могуществе вряд ли под силу оправдать столь бесстыдный гнет. Мой дед не мог рассчитывать, что с ним обойдутся милосерднее, нежели с его компаньонами. Его приверженность принципам партии тори и связи делали его неудобным для властей предержащих. К нему относились с затаенным подозрением. Его общеизвестные способности не позволяли ему добиваться оправдания в силу неведения или ошибки. На первых процессах против директоров Компании южных морей г-н Гиббон был заключен под стражу одним из первых, а объявленный в окончательном приговоре размер штрафа указывал на то, что его сочли одним из наиболее виновных директоров. Общая стоимость его имущества, объявленная им под присягой в палате общин, составляла за вычетом прошлых актов распоряжения имуществом 106 543 фунта 5 шиллингов и 6 пенсов. Было предложено оставить г-ну Гиббону 15 000 или 10 000 фунтов, и после того, как вопрос был поставлен на голосование, было единогласно решено остановиться на меньшей из указанных сумм. Понеся столь значительные убытки, но сохранив навыки и доверие, которых парламент был не в состоянии его лишить, мой дед уже в зрелом возрасте возвел здание нового богатства. Труды шестнадцати лет были щедро вознаграждены, и у меня есть основания полагать, что состояние, накопленное во второй раз, ненамного меньше накопленного в первый».
После того как директора были наказаны, законодательная власть приступила к восстановлению кредитной системы страны. План Уолпола был признан неудовлетворительным и приобрел дурную славу. В конце 1720 года был произведен подсчет совокупного акционерного капитала Компании южных морей. Он равнялся тридцати семи миллионам восьмистам тысячам фунтов, из которых на долю акционеров приходилось только двадцать четыре миллиона пятьсот тысяч. Остаток в тринадцать миллионов триста тысяч фунтов принадлежал компании в целом и представлял собой доход, полученный ею в результате аферы национального масштаба. У компании были изъяты акции на сумму свыше восьми миллионов, распределенные впоследствии между всеми пайщиками и подписчиками, что принесло им дивиденд примерно в 33 фунта 6 шиллингов и 8 пенсов на сотню. Это стало для них большим облегчением. Далее было решено, что те, кто занял у Компании южных морей деньги под залог ее ценных бумаг, фактически во время одалживания переданных и заложенных компании или в ее пользу, освобождаются от всех обязательств после выплаты 10% от сумм, занятых указанным образом. Таким путем компания ссудила под проценты около одиннадцати миллионов в то время, когда ее ценные бумаги стоили неестественно дорого; теперь же, когда цены опустились до обычного уровня, она получила обратно один миллион сто тысяч фунтов.
Но до полного возрождения национальной кредитной системы было еще далеко. Предприимчивость, подобно Икару, поднялась слишком высоко, и воск ее крыльев расплавился, после чего она, как и Икар, упала в море и, барахтаясь в волнах, уяснила, что ее необходимым составляющим было прочное связующее. С тех пор она никогда не пыталась взлететь на такую большую высоту.
Позднее, во времена процветания торговли, тенденция к сверхспекуляции возникала еще несколько раз. Успех одного проекта обычно приводит к появлению других, похожих на него. В коммерчески активном обществе склонность людей к подражанию всегда будет инициировать появление подобных «успешных» предприятий и втягивать слишком охочих до денег в бездну, выбраться из которой довольно трудно. Дутые предприятия, аналогичные возникшим по примеру Компании южных морей, прожили свой недолгий век во время знаменитой паники 1825 года. Тогда, как и в 1720 году, мошенники собрали богатый урожай с корыстолюбивых, однако и те и другие пострадали, когда настал час расплаты. Предприятия 1836 года поначалу предвещали столь же катастрофические результаты, но их, к счастью, удалось предотвратить, прежде чем стало слишком поздно81.
Тюльпаномания
Quis furor, o cives!
— Lucan82.
Тюльпан, название которого, как считается, произошло от турецкого слова, означающего «тюрбан», появился в Западной Европе примерно в середине XVI века. Претендующий на роль популяризатора этого цветка Конрад Геснер83, даже не предполагая о том смятении, которое оному было суждено вскоре вызвать в мире, пишет, что вперые увидел его в одном из садов города Аугсбурга, принадлежавшем ученому советнику Герварту, весьма известному в свое время коллекционеру экзотических редкостей. Луковицы тюльпана этому джентльмену прислал его друг из Константинополя, где этот цветок уже долгое время был одним из самых популярных. В течение десяти-одиннадцати лет после этого тюльпаны имели большой успех у состоятельных людей, особенно в Голландии и Германии. Амстердамские богачи посылали за луковицами прямо в Константинополь и платили за них баснословные деньги. Первые луковицы, высаженные в Англии, были завезены из Вены в 1600 году. До 1634 года репутация тюльпанов неуклонно росла, и в конце концов отсутствие у всякого богатого человека их коллекции стало считаться признаком дурного вкуса. Многие ученые мужи, включая Помпея де Ангелиса и знаменитого Липсиуса Лейденского, автора трактата «De Constantia»84, были страстными поклонниками тюльпанов. Вскоре стремление обладать ими охватило представителей среднего класса: купцы и лавочники, даже с умеренными доходами, начали состязаться друг с другом, стремясь собрать как можно больше редких сортов этих цветов и покупая их по безумным ценам. Известно, что один торговец из Харлема заплатил за одну-единственную луковицу половину своего состояния, не собираясь перепродавать ее с выгодой для себя, — он хотел посадить ее в своей оранжерее, дабы произвести впечатление на знакомых.
Можно предположить, что у этого цветка было какое-то очень хорошее качество, делавшее его столь ценным в глазах такого бережливого народа, как голландцы; ведь он не обладает ни красотой, ни ароматом розы и едва ли так же радует глаз, как «душистый, душистый горошек», у него нет живучести ни того, ни другого растения. Каули же поет ему дифирамбы. Он пишет:
The tulip next appeared, all over gay,
But wanton, full of pride, and full of play;
The world can’t show a dye but here has place;
Nay, by new mixtures, she can change her face;
Purple and gold are both beneath her care,
The richest needlework she loves to wear;
Her only study is to please the eye,
And to outshine the rest in finery85.
Это, хотя и не очень поэтичное, описание, данное поэтом. Бекманн в «Истории изобретений» описывает в прозе этот цветок точнее и увлекательнее, нежели Каули в своем стихотворении. Он пишет: «На свете найдется немного растений, которые в результате случайности, слабости или болезни приобретают так много разных цветов и оттенков, как тюльпан. Некультивированный, растущий в дикой природе, он имеет почти одноцветные лепестки, крупные листья и чрезвычайно длинный стебель. Ослабляемый культивированием, он становится более приятным глазу цветовода. Лепестки бледнеют, уменьшаются и приобретают более разнообразную цветовую гамму, а листья приобретают более мягкий зеленый цвет. Таким образом, чем красивее становится этот шедевр культивирования, тем он делается слабее — слабее настолько, что лишь самый опытный и внимательный цветовод может, да и то с большим трудом, пересадить его или даже сохранить ему жизнь».
Многие люди сильно привязываются к тому, что доставляет им массу проблем, — так мать часто любит свое вечно хворое дитя больше, чем своего более здорового отпрыска. Мы должны объяснять причину незаслуженных панегириков, которые расточались этим хрупким цветам, исходя из того же принципа. В 1634 году желание голландцев обладать ими было столь страстным, что обычные отрасли промышленности страны были заброшены, а ее население, вплоть до самых низменных отбросов общества, принялось торговать тюльпанами. По мере разрастания этой мании поднимались цены, и в 1635 году стало известно, что многие вложили в покупку сорока луковиц по 100 000 флоринов. Тогда возникла необходимость продавать их на вес, измеряемый в перитах — единице массы, меньшей, чем гран86. Тюльпан сорта «адмирал Лифкен» весом 400 перитов стоил 4400 флоринов, «адмирал Ван дер Эйк» весом 446 перитов — 1260 флоринов, «чилдер» весом 106 перитов — 1615 флоринов, «вице-король» весом 400 перитов — 3000 флоринов, а самый дорогой, «Семпер Август» весом 200 перитов считался очень дешевым, если стоил 5500 флоринов. Последний пользовался большим спросом, и даже плохую его луковицу можно было продать за 2000 флоринов. Пишут, что одно время, в начале 1636 года, во всей Голландии было всего две луковицы этого сорта, причем не самых лучших. Одной владел торговец из Амстердама, другой — из Харлема. Спекулянты так сильно хотели их заполучить, что один из них предложил за харлемский тюльпан двенадцать акров87 земли для застройки. Амстердамский тюльпан был куплен за 4600 флоринов, новую карету, пару серых лошадей и полный комплект сбруи. Мантинг, плодовитый автор той поры, написавший о тюльпаномании фолиант объемом в тысячу страниц, сохранил для потомков перечень, приведенный далее, различных предметов и их цен, за которые была куплена одна-единственная луковица редкого сорта «вице-король».
Люди, в свое время покинувшие Голландию и вернувшиеся в нее в период кульминации тюльпаномании, иногда по неведению попадали в затруднительное положение. В «Путешествиях» Блейнвилла приводится забавный пример такого рода. Один богатый купец, немало гордившийся своими редкими тюльпанами, однажды получил очень ценную партию товаров для Леванта88. Весть о ее прибытии ему принес один моряк, который явился к нему в бухгалтерию, где находились кипы самых разных товаров. Купец решил наградить его за хорошую новость и сделал ему необычайно щедрый подарок — крупную копченую селедку на завтрак. Моряк, похоже, очень любил репчатый лук: увидев лежавшую на конторке великодушного торговца луковицу, очень похожую на луковицу лука, и нисколько не сомневаясь в том, что ей не место среди шелков и бархата, он улучил момент и сунул ее в карман в качестве закуски к селедке. Он вышел со своим трофеем на улицу и проследовал к набережной, где собирался съесть свой завтрак. Едва он ушел, как купец обнаружил пропажу драгоценного «Семпера Августа» стоимостью три тысячи флоринов, или около 280 фунтов стерлингов. Все его домашние были немедленно подняты на ноги, драгоценную луковицу искали повсюду, но тщетно. Горю купца не было предела. Поиски были возобновлены, но и на сей раз не увенчались успехом. Наконец кто-то заподозрил моряка.
Цена во флоринах
Два ласта89 пшеницы
448
Четыре ласта ржи
558
Четыре откормленных быка
480
Восемь откормленных свиней
240
Двенадцать откормленных овец
120
Два хогсхеда90 вина
70
Четыре бочки91 пива
32
Две бочки сливочного масла
192
Тысяча фунтов92 сыра
120
Кровать с постельными принадлежностями
100
Мужской костюм
80
Серебряная чаша
60
Итого:
2500
Как только было высказано это предположение, незадачливый купец выскочил на улицу. Его встревоженные домочадцы последовали за ним. Моряк же, простая душа, и не думал прятаться. Его обнаружили мирно сидящим на бухтах каната и пережевывающим последний кусочек «лука». Он и не думал, что ест завтрак, на деньги от продажи которого можно было кормить экипаж целого корабля в течение года или, как выразился по этому поводу сам ограбленный купец, «можно было устроить роскошный пир для принца Оранского и целого двора штатгальтера93». Антоний выпил за здоровье Клеопатры вино с жемчужинами, сэр Ричард Уиттингтон сделал эту величественную глупость на приеме у короля Генриха V, а сэр Томас Грешэм выпил вино, в котором находился алмаз, за здоровье королевы Елизаветы, когда она открыла здание лондонской биржи, но завтрак этого жуликоватого голландца был не менее роскошен. К тому же он имел одно преимущество над своими расточительными предшественниками: их драгоценности не улучшили вкус или полезность вина, а его тюльпан был довольно вкусен в сочетании с копченой селедкой. Самым неприятным для него в этой истории явилось то, что он провел несколько месяцев в тюрьме по обвинению в краже, выдвинутому против него купцом.
Другая история, едва ли менее трагикомичная, повествует об одном английском путешественнике. Сей джентльмен, ботаник-любитель, увидел луковицу тюльпана, лежавшую в теплице одного состоятельного голландца. Не подозревая о ее ценности, он, намереваясь провести на ней ряд опытов, вынул перочинный нож и стал снимать с нее слой за слоем. Когда она таким образом уменьшилась наполовину, он разрезал ее пополам, сопровождая все свои манипуляции многочисленными учеными замечаниями о необычном строении странной луковицы. Внезапно на него набросился ее владелец и с яростью во взгляде спросил, знает ли тот, что делает. «Исследую в высшей степени необычную луковицу», — ответил естествоиспытатель. «Hundert tausend duyvel!94 — вскричал голландец. — Это же “адмирал Ван дер Эйк”!» «Спасибо, — ответил путешественник, вынимая записную книжку, чтобы зафиксировать полученную информацию. — И много в вашей стране таких “адмиралов”?» «Черт тебя побери! — завопил голландец, хватая изумленного ученого мужа за воротник. — Предстань перед синдиком95 и узнаешь!» Путешественника, невзирая на его протесты, провели по улицам в сопровождении толпы. Когда он предстал перед судьей, то к своему ужасу узнал, что луковица, на которой он экспериментировал, стоила четыре тысячи флоринов, после чего, несмотря на все его оправдания, его продержали в тюрьме до тех пор, пока он не предоставил гарантии выплаты этой суммы.
В 1636 году спрос на тюльпаны редких сортов вырос настолько, что для их продажи были открыты постоянно действующие рынки: на фондовой бирже Амстердама, в Роттердаме, Харлеме, Лейдене, Алкмаре, Хорне и других городах. Признаки очередной биржевой игры впервые стали очевидными. Маклеры, всегда находившиеся в ожидании новой спекуляции, поставили торговлю тюльпанами на широкую ногу, используя все известные им приемы, чтобы вызвать колебания цен. Поначалу, что характерно для всех спекулятивных маний, доверие было максимальным, и в выигрыше оставались все. Тюльпанные маклеры играли на повышение и понижение цен на тюльпаны и получали большие прибыли от покупки тюльпанов во время падения цен и продажи во время их роста. Многие внезапно разбогатели. Перед людьми замаячила соблазнительная золотая приманка, и они один за другим устремились на тюльпанные рынки, как мухи на мед. Все думали, что мода на тюльпаны будет длиться вечно, что богачи со всего света пошлют в Голландию за ними своих людей, которые заплатят за них любые деньги, что богатства со всей Европы сконцентрируются на берегах Зёйдер-Зе и нужда будет изгнана из благодатного климата Голландии. Тюльпанами занимались дворяне, горожане, фермеры, мастеровые, мореплаватели, ливрейные лакеи, служанки и даже трубочисты и старьевщики. Люди всех рангов конвертировали свою собственность в наличные деньги и вложили их в цветы. Дома и земли выставлялись на продажу по разорительно низким ценам или передавались в собственность других лиц как плата по сделкам, заключенным на тюльпанных рынках. Это безумие охватило и иностранцев, и деньги потекли в Голландию со всех сторон. Одновременно постепенно росли цены на предметы первой необходимости; дома и земли, лошади и кареты, а также всевозможные предметы роскоши дорожали вместе с ними, и несколько месяцев Голландия являла собой самую настоящую прихожую Плутоса. Торговые операции стали настолько обширными и запутанными, что было признано необходимым принять кодекс законов, регламентирующих деятельность торговцев. Эти законы распространялись также на нотариусов и клерков, посвятивших себя исключительно интересам торговли. В некоторых городах предназначение обычного нотариуса было почти забыто, так как его место было узурпировано «тюльпанным» нотариусом. В тех городках, где не было фондовой биржи, в качестве «демонстрационного зала» обычно выбиралась главная таверна, где люди всякого звания торговали тюльпанами и подкрепляли заключенные сделки обильным чревоугодием. На этих обедах иногда присутствовало двести-триста человек, а на столах и буфетах для удовольствия трапезничающих были через регулярные интервалы расставлены вазы с тюльпанами в цвету.
Однако более благоразумные начали наконец понимать, что это безрассудство не может продолжаться вечно. Богачи больше не покупали цветы, чтобы держать их у себя в саду, а делали это исключительно с целью их перепродажи с выгодой для себя. Было ясно, что в конце концов кто-то обязательно с треском разорится. По мере того как уверенность в этом овладевала все большим числом людей, цены падали и больше не поднимались. Доверию пришел конец, и торговцев охватила всеобщая паника. А договаривался с Б о покупке у последнего десяти «Семперов Августов» по четыре тысячи флоринов каждый через шесть недель после подписания договора. Б был готов продать цветы в назначенный срок, но к тому времени цена падала до трехсот-четырехсот флоринов, и А отказывался либо выплачивать разницу, либо приобретать тюльпаны вообще. Сообщения о лицах, не выполняющих своих обязательств по договорам, появлялись день за днем во всех городах Голландии. Сотни тех, кто еще несколько месяцев назад начал сомневаться, что в стране есть такая вещь, как бедность, вдруг обнаружили, что являются обладателями нескольких луковиц, которые никто не хочет покупать, несмотря на то, что они хотят продать их за четверть цены, которую сами за них заплатили. Повсюду раздавались крики страдания, и каждый винил в своих бедах соседа. Те немногие, кто ухитрился разбогатеть, утаиваили свое богатство от сограждан и вкладывали его в английские или другие государственные ценные бумаги. Многие из тех, кто на непродолжительное время поднялся по социальной лестнице, теперь погрузились в прежнюю безвестность. Состоятельные купцы были доведены чуть ли не до нищеты, а многие столпы дворянства окончательно и бесповоротно разорились.
Когда первоначальное смятение несколько улеглось, владельцы тюльпанов провели в ряде городов общественные собрания, дабы выяснить, чтó следует предпринять для возрождения популярности этих цветов. Повсеместно было решено отправить отовсюду делегатов в Амстердам для консультации с правительством на предмет отыскания способа исправления существующего зла. Правительство сначала отказалось вмешиваться, но посоветовало владельцам тюльпанов самим выработать какой-нибудь план. С этой целью провели несколько собраний, но было невозможно придумать какую-либо меру, способную удовлетворить обманутых людей или возместить хотя бы малую часть причиненного им ущерба. Каждый высказывал недовольство и осуждение, и все эти собрания проходили в высшей степени бурно. Однако в конечном итоге, после многочисленных перебранок и враждебных выпадов, собравшиеся в Амстердаме делегаты пришли к соглашению, согласно которому все договоры, заключенные в разгар мании, то есть до ноября месяца 1636 года, объявлялись потерявшими законную силу, а в тех, что были заключены позднее, покупатели освобождались от своих обязательств после выплаты продавцам 10%. Это решение не удовлетворило никого. Продавцы, у которых на руках были тюльпаны, были, разумеется, недовольны, а те, кто обязался их купить, считали, что с ними обошлись несправедливо. Тюльпаны, стоившие в свое время шесть тысяч флоринов, теперь продавались по пятьсот; таким образом, 10% составляли сумму, на сто флоринов бóльшую действительной стоимости. Во все суды страны подавались иски о нарушении контрактов, но судьи отказывались принимать к рассмотрению спекулятивные сделки.
В конце концов вопрос был передан на рассмотрение Совета по делам провинций в Гааге, и все с уверенностью ожидали, что мудрость данного органа подскажет какую-нибудь меру, способную переломить ситуацию к лучшему. Воцарилось напряженное ожидание его решения, но оное так и не последовало. Члены совета совещались неделю за неделей и наконец, после трехмесячных дебатов, объявили, что не могут принять окончательное решение, не имея достаточной информации. Тем не менее они порекомендовали всем продавцам до принятия советом окончательного решения предложить покупателям в присутствии свидетелей приобрести тюльпаны по ранее согласованной цене. Если последние откажутся это делать, тюльпаны можно будет продать с аукциона, а ответственность за разницу между фактической и оговоренной ценами ляжет при этом на покупателя. Эта рекомендация и стала планом, предложенным делегатами и оказавшимся абсолютно бесполезным. В Голландии не было суда, который мог бы заставить покупателей платить за тюльпаны. Вопрос был поднят в Амстердаме, но судьи единодушно отказались вмешиваться на том основании, что долги по спекулятивным договорам незаконны.
На этом все и кончилось. Правительство было не в силах найти панацею от беды. Тем, кто имел несчастье иметь запасы тюльпанов во время стремительного падения цен, оставалось по возможности философски переживать свое разорение; тем, кто извлек доходы, позволили их сохранить; но коммерция страны находилась в состоянии глубокого шока, от которого оправилась лишь много лет спустя.
Примеру голландцев до некоторой степени последовали в Англии. В 1636 году тюльпаны открыто продавались на Лондонской бирже, и маклеры лезли из кожи вон, чтобы взвинтить их цену до амстердамской. Маклеры Парижа также старались создать тюльпаноманию. В обоих городах они преуспели лишь частично. Несмотря на это, сила примера сделала эти цветы чрезвычайно популярными, и среди людей определенной прослойки тюльпаны с тех пор ценятся гораздо выше, нежели любые другие полевые цветы. Голландцы до сих пор хорошо известны своим пристрастием к ним и продолжают платить за них больше, чем любой другой народ. Если богатый англичанин хвалится своими чистокровными скакунами или старинными картинами, то состоятельный голландец точно так же превозносит свои тюльпаны.
Может показаться странным, но в наши дни в Англии тюльпан приносит больший доход, чем дуб. Если бы удалось найти rara in terris96 тюльпан, черный, как лебедь Ювенала, он стоил бы столько же, сколько дюжина акров хлеба на корню. В Шотландии к концу XVII столетия самая высокая цена тюльпана, согласно приложению к третьему изданию «Британской энциклопедии», равнялась десяти гинеям. С тех пор, похоже, она снижалась до 1769 года, когда двумя самыми ценными сортами в Англии были «дон Куэведо» и «Валентиньер», первый из которых стоил две, а второй — две с половиной гинеи. Ниже эти цены, по-видимому, не опускались. В 1800 году единая цена одной луковицы равнялась пятнадцати гинеям. В 1835 году луковица сорта «мисс Фанни Кимбл» была продана с аукциона в Лондоне за семьдесят пять фунтов. Еще более удивительной была цена тюльпана, которым владел один садовод на Кингс-роуд, Челси: в его прейскурантах значилась сумма в двести гиней.
Алхимики, или Искатели философского камня и живой воды
Mercury (loquitur). The mischief a secret any of them know, above the consuming of coals and drawing of usquebaugh! howsoever they may pretend, under the specious names of Geber, Arnold, Lulli, or Bombast of Hohenheim, to commit miracles in art, and treason against nature! As if the title of philosopher, that creature of glory, were to be fetched out of a furnace! I am their crude and their sublimate, their precipitate and their unctions; their male and their female, sometimes their hermaphrodite — what they list to style me! They will calcine you a grave matron, as it might be a mother of the maids, and spring up a young virgin out of her ashes, as fresh as a phoenix; lay you an old courtier on the coals, like a sausage or a bloat-herring, and, after they have broiled him enough, blow a soul into him with a pair of bellows! See, they begin to muster again, and draw their forces out against me! The genius of the place defend me! — Ben Johnson’s Masque: Mercury vindicated from the Alchymists97.
Неудовлетворенность своей судьбой является, видимо, чертой характера человека во все времена и в любой обстановке. Тем не менее до сих пор она была не злом, как можно предположить вначале, а великим цивилизатором рода человеческого и, как ничто другое, способствовала нашему выходу из животного состояния. Но то же самое недовольство, что было источником любого прогресса, породило немало глупостей и нелепостей, рассказ о которых и является целью настоящего повествования. Его предмет, кажущийся столь обширным, легко поддается сужению до пределов, в которых он будет всеобъемлющим, не нагоняя на читателя скуку, а его исследование станет поучительным и занятным одновременно.
Недовольство людей было вызвано тремя основными причинами, которые, побуждая нас искать средство избавления от неизбывного, заводили в лабиринт безумия и заблуждения. Это смерть, тяжелый труд и незнание будущего — то, на что человек обречен с рождения и к чему он выражает антипатию своей любовью к жизни, стремлением к богатству и страстным желанием проникнуть в тайны дней грядущих. Первая привела многих к мысли, что они смогут найти средство, позволяющее избежать смерти, или, не преуспев в этом, смогут продлить жизнь настолько, чтобы та исчислялась столетиями. Это послужило началом долгих и все еще не прекращенных поисков elixir vitae, или эликсира жизни, в которых участвовали тысячи и в благополучный исход которых верили миллионы. Вторая положила начало поискам философского камня, который должен был приносить его обладателю богатство, превращая любой металл в золото; третья породила лженауки: астрологию и гадание, а также их разновидности — некромантию, хиромантию и ауспиции вместе со всеми сопутствующими им символами, приметами и предзнаменованиями.
Прежде чем начать рассказ о заблуждавшихся философах или сознательно шедших на обман самозванцах, поощрявших людскую доверчивость или злоупотреблявших ею, для упрощения и большей ясности повествования представляется целесообразным разделить их на три категории: в первую входят алхимики, или все, кто посвятил себя поискам философского камня и живой воды; во вторую — астрологи, некроманты, колдуны, геоманты и прочие предсказатели будущего; а в третью — торговцы магическими формулами, амулетами, приворотными зельями, универсальной панацеей и средствами от сглаза, «седьмые сыновья седьмого сына», составители симпатических порошков, гомеопаты, магнетизеры и вся пестрая компания знахарей, целителей и шарлатанов.
Читатель, однако, узнает, что многие из них сочетали в своей деятельности несколько, а то и все вышеупомянутые функции, что алхимик был одновременно предсказателем будущего, а некромант объявлял, что может исцелять от всех недугов прикосновениями или заклинаниями и творить всевозможные чудеса. Это весьма характерно для раннего европейского средневековья. Но даже обратив внимание на более поздние времена, мы обнаружим исключительную разносторонность занятий этих людей. Алхимик редко ограничивался своей лженаукой, а колдуны, некроманты и знахари-шарлатаны — своими мнимыми искусствами. Некоторая путаница в категориях, начиная с алхимиков, неизбежна, но устранима по мере прочтения этой и последующих глав.
Давайте не будем, гордясь своими исключительными познаниями, презрительно отворачиваться от недомыслия наших предков. Изучение заблуждений, в которые впадали величайшие умы в поисках истины, всегда поучительно. Как человек, оглядывающийся на дни своего детства и юности, воскрешая в памяти странные понятия и ложные мнения, управлявшие в то время его поступками, может им удивляться, так и общество должно в назидание себе вспоминать взгляды и воззрения, которыми руководствовались люди минувших эпох. Презирая таковые и отказываясь даже слышать о них просто потому, что они абсурдны, люди мыслят поверхностно. Ни один человек не умен настолько, чтобы ему нечему было научиться на своих прошлых ошибках, выражавшихся в мыслях или поступках, и ни одно общество не является настолько передовым, чтобы не поддаваться усовершенствованию, глядя на свое былое безрассудство и легковерие. Такое исследование не только поучительно: тот, кто читает книги исключительно ради развлечения, не найдет в анналах памяти человечества главы более занимательной, чем эта. Она охватывает целую область вымысла — необузданного, причудливого и удивительного — и превеликое множество вещей, «которых нет и быть не может, но существование которых предполагают и в которые верят».
Свыше тысячи лет искусство алхимии пленяло многие замечательные умы, и в нее верили миллионы. Ее истоки затерялись во мраке веков. Одни ее приверженцы утверждают, что она появилась в глубокой древности, на заре человечества; другие же считают, что она зародилась не раньше времен Ноя. А Винсент де Бове настаивает даже на том, что все родившиеся до Всемирного потопа должны были обладать познаниями в области алхимии, аргументируя это тем, что, если бы Ной не знал elixir vitae, он не дожил бы до столь невероятного возраста и не породил бы более пятисот детей. Лагле дю Френуа в своей «Истории герметической98философии» пишет: «Большинство из них ссылалось на то, что Шем99, или Хем, сын Ноя, был адептом этого искусства, и считало весьма вероятным, что слова химия и алхимия произошли от его имени». Другие полагают, что это искусство произошло от египтян, среди которых его основоположником был Гермес Трисмегист. Моисей, которого считают первоклассным алхимиком, учился ему в Египте, но он не поделился его знанием с другими и не посвятил сынов Израилевых в его таинства. Все авторы алхимических трудов торжествующе ссылаются на историю золотого тельца из 32-й главы Исхода, чтобы доказать, что этот великий законодатель в совершенстве владел алхимическими приемами и мог по собственной прихоти создавать или уничтожать золото. Согласно этой истории, Моисей был так разгневан идолопоклонством израильтян, что «взял тельца, которого они сделали, и сжег его в огне, и стер в прах, и рассыпал по воде, и дал ее пить сынам Израилевым». Этого, как утверждают алхимики, он никогда не смог бы сделать, если бы не владел философским камнем; никакими иными средствами он не смог бы заставить золотой порошок держаться на поверхности воды. Но мы должны оставить сей трудный вопрос на рассмотрение знатоков алхимии, буде таковые найдутся, и перейти к более современным периодам ее истории. Отец Мартини, иезуит, в своей книге «Historia Sinica»100 пишет, что китайцы занимались алхимией за две с половиной тысячи лет до рождества Христова, но его ничем не подкрепленное утверждение ничего не стоит. Известно, однако, что люди, претендовавшие на владение искусством злато- и среброделания, жили в Древнем Риме в первых столетиях христианской эры и что они, будучи выявленными, подлежали наказанию как мошенники и самозванцы. В IV веке в Константинополе в превращение металлов верили практически все, и многие греческие священнослужители написали трактаты по этому вопросу. Их имена и обозрение их трудов приведены в третьем томе «Истории герметической философии» Лагле дю Френуа. Они считали, что все металлы состоят из двух субстанций: металлической основы и красного горючего вещества, которое они называли серой. Чистое соединение этих субстанций образует золото, а другие металлы являются смесью золота с различными загрязняющими его ингредиентами. Искомый философский камень должен был растворять или уничтожать все эти ингредиенты, и с его помощью можно было бы превращать железо, свинец, медь и все остальные металлы в первоначальное золото. Многие ученые и талантливые люди тратили время, здоровье и энергию на эти напрасные поиски, но на протяжении нескольких столетий это не оказывало большого влияния на умы. История этого заблуждения имеет своего рода период затишья, заканчивающийся в VIII веке, когда оно появилось среди арабов. Начиная с этого времени его развитие прослеживается легче. Тогда появился один выдающийся мастер алхимии, которого долго считали ее основоположником и чье имя неразрывно связано с ней.
ГЕБЕР
Об этом философе, посвятившем свою жизнь изучению алхимии, известно немногое. Считается, что он жил около 730 года. Его настоящее имя было Абу-Муса-Джафар101, к которому добавлялось прозвище аль-Софи, или «мудрый». Он родился в Хуране, в Месопотамии102. Одни считают его греком, другие — испанцем, а третьи — индийским раджой; но из всех ошибок в отношении его национальности самой нелепой является сделанная французским переводчиком «Истории медицины» Шпренгера, который по звучанию его имени решил, что он был немцем, и перевел его как Donateur, или Даритель. Подробности его жизни неизвестны, но утверждают, что он написал более пятисот трудов о философском камне и живой воде. Он был великим энтузиастом своего дела и сравнивал тех, кто относился к его занятиям скептически, с малыми детьми, которые, будучи наглухо замурованными в маленькой комнате и не видя ничего за ее пределами, отрицают существование самой Земли. Он верил, что философский камень можно будет использовать не только для златоделания, но и для лечения от всех болезней, причем не только человека, но и животных и растений. Он также полагал, что все металлы больны, за исключением золота, которое отличается идеальным здоровьем. Он утверждал, что тайна философского камня была неоднократно раскрыта в прошлом, но древние мудрецы, которым это удалось, так никогда и не передали устно или письменно свое открытие людям из-за их недостойности и неверия103. Но жизнь Гебера, хоть и растраченная на погоню за химерой, все же не прошла даром. Он делал открытия, к которым не стремился; наука обязана ему первым упоминанием сулемы, красной окиси ртути, азотной кислоты и нитрата серебра104.
На протяжении более чем двухсот лет после смерти Гебера арабские философы целиком отдавались изучению алхимии, соединяя ее с астрологией. Самым знаменитым из них был
АЛЬ-ФАРАБИ
Аль-Фараби жил в начале X века и пользовался репутацией одного из самых образованных людей своего времени. Он прожил жизнь, путешествуя из страны в страну, с тем чтобы собрать воедино воззрения различных философов на великие тайны природы. Его не пугали опасности и не тяготил тяжелый труд. Многие монархи пытались удержать его при дворе, но он отказывался остаться, мотивируя это тем, что еще не достиг величайшей цели своей жизни — продления ее на века и изготовления золота в любом нужном ему количестве. В конечном итоге жизнь скитальца оказалась для него роковой. Посетив Мекку, не столько с религиозными, сколько с философскими целями, и возвращаясь домой через Сирию, он остановился при дворе султана Сейфеддулета, известного покровителя наук. Аль-Фараби появился перед этим монархом и его придворными в одежде странника и без приглашения дерзко сел на диван рядом с султаном. Придворные и мудрецы были возмущены, а султан, не знавший незваного гостя, сперва также выразил недовольство. Он повернулся к одному из своих сановников и приказал ему выгнать нахального незнакомца из комнаты; но аль-Фараби, не шелохнувшись, позволил себя схватить и, спокойно обратившись к султану, сказал, что тот не знает, кто его гость, иначе он обращался бы с ним почтительно, а не прибегал бы к насилию. Султан же, вместо того чтобы еще больше разозлиться, как сделали бы на его месте многие правители, восхитился хладнокровием незнакомца и, попросив того сесть на диван поближе к нему, вступил с ним в долгую беседу о науке и богословии. Все придворные были очарованы чужестранцем. По всем предложенным для обсуждения темам он демонстрировал исключительные познания. Он убеждал в своей правоте всех, кто отваживался с ним поспорить, и так красноречиво говорил об алхимии, что его сразу же признали единственно вторым после самогó великого Гебера. Один из присутствовавших ученых мужей поинтересовался, знаком ли человек, знающий так много наук, с музыкой. Аль-Фараби ничего не ответил, а просто попросил принести ему лютню. Лютню принесли, и он заиграл столь восхитительную и нежную мелодию, что все придворные растрогались до слез. Затем он, сменив тему, заиграл такой веселый мотив, что степенные философы, султан и все придворные затанцевали настолько быстро, насколько позволяли ноги. Далее он вновь охладил их пыл печальной мелодией, заставив их рыдать и вздыхать, как убитые горем. Султан, восхищенный его способностями, умолял его остаться, суля все, что могут дать богатство, власть и сан, но алхимик решительно отказался, заявив, что ему предначертано судьбой не давать себе отдыха до тех пор, пока он не откроет философский камень. В тот же вечер Аль-Фараби отправился в путь и был убит разбойниками в Сирийской пустыне. Его биографы не сообщают больше никаких подробностей его жизни, упоминая лишь о том, что он написал несколько важных трактатов по своему искусству, ни один из которых, однако, не сохранился. Его смерть пришлась на 954 год.
АВИЦЕННА
Авиценна, настоящее имя которого было Ибн Сина, еще один великий алхимик, родился в Бухаре в 980 году. Его репутация врача и человека, сведущего во всех науках, была столь велика, что султан Магдал Дулет решил испытать его способности в великой науке управления страной. Он стал великим визирем этого монарха и правил государством с пользой для последнего, но в науке еще более трудной потерпел полный провал. Он не мог управлять своими страстями, увлекался вином и женщинами и вел бесстыдный и распутный образ жизни. Среди многочисленных дел и удовольствий он тем не менее нашел время для написания семи трактатов о философском камне, которые на протяжении многих столетий очень высоко ценились среди алхимиков. Удивительно, что выдающийся врач, каким, очевидно, был Авиценна, столь интенсивно предавался чувственным наслаждениям. За несколько лет он настолько погряз в разврате, что был уволен со своей высокой должности и вскоре после этого умер от преждевременной старости и осложнений болезней, вызванных невоздержанностью. Его смерть имела место в 1036 году. После Авиценны лишь немногие арабские философы приобрели известность на поприще алхимии, но вскоре она привлекла повышенное внимание Европы. Ученые мужи Франции, Англии, Испании и Италии выражали веру в эту науку, и многие из них отдали ей все свои силы. Особенно популярной она была в XII и XIII веках, и с ней связано несколько ярчайших имен этого периода. Одними из наиболее знаменитых были
АЛЬБЕРТ ВЕЛИКИЙ И ФОМА АКВИНСКИЙ
Первый из этих философов родился в 1193 году в одном из знатных семейств Лавингена, что в герцогстве Нойбург, на Дунае. Первые тридцать лет жизни он был исключительно глуп, и все опасались, что от него не будет никакого толку. В раннем возрасте Альберт Великий вступил в доминиканский монастырь, но настолько мало преуспел в занятиях, что в отчаянии не раз порывался их бросить, однако не сделал этого, ибо был наделен недюжинным упорством. Когда он достиг среднего возраста, его разум будто очнулся ото сна, и он усваивал все предметы, за изучение которых брался, с чрезвычайной легкостью. Столь поразительную перемену в таком возрасте не могли объяснить иначе, как чудом. Утверждали и верили, что Дева Мария, тронутая его страстным желанием стать ученым и знаменитым, сжалилась над его ущербностью, явилась ему под сводами монастыря, где он сидел, почти отчаявшийся, и спросила его, в какой из наук он хочет преуспеть — в философии или теологии. Он, к разочарованию Девы Марии, выбрал философию, и она мягко и печально упрекнула его за сделанный выбор, однако согласилась сделать его самым выдающимся философом своего времени, но, к его огорчению, сказала, что, когда достигнет пика своей славы, он снова станет ни на что не годным и бестолковым. Альберт никогда не старался опровергнуть эту молву, но продолжил свои исследования со столь неослабным рвением, что о нем скоро заговорили по всей Европе. В 1244 году его учеником стал прославленный Фома Аквинский. Об учителе и его ученике рассказывают множество удивительных историй. Уделяя должное внимание другим отраслям науки, они никогда не прекращали поисков философского камня и elixir vitae. Хотя они не открыли ни того, ни другого, люди верили, что Альберту удалось получить энную порцию эликсира жизни, посредством коего он оживил медную статую, на создание которой при благоприятном положении планет потратил многие годы. Он и Фома Аквинский собрали ее, наделили даром речи и заставили выполнять функции домашней прислуги. В этом качестве она была чрезвычайно полезной, но из-за несовершенства механизма болтала намного больше, чем того хотелось обоим философам. Они испробовали различные средства, чтобы избавить ее от излишней словоохотливости, но ничто не помогло; и однажды Фома Аквинский был настолько взбешен шумом, создаваемым ею в тот момент, когда он бился над решением математической задачи, что схватил увесистый молот и разбил ее на куски105. Впоследствии он сожалел о содеянном и с пониманием отнесся к выговору, который учитель устроил ему за то, что он дал выход своему гневу, столь неподобающему философу. Они не делали попыток вернуть статую к жизни.
Подобные истории отражают дух той эпохи. Каждый великий человек, пытавшийся постичь тайны природы, считался волшебником; и не стоит удивляться тому, что, когда сами философы претендовали на открытие некоего эликсира, дарующего бессмертие, или красного камня, призванного создавать несметные богатства, общественное мнение преувеличивало их претензии и наделяло их еще более сверхъестественными способностями. Люди верили, что Альберту Великому под силу менять времена года, что многие полагали менее сложным, нежели открытие великого эликсира. Альберт очень хотел заполучить участок земли в окрестностях Кёльна под строительство монастыря. Земля принадлежала Вильгельму, графу Голландскому и Зеландскому, по какой-то причине не желавшему с ней расставаться. Сообщается, что Альберт заполучил ее следующим необычайным способом. Он пригласил графа, когда тот проезжал через Кёльн, на роскошный обед, приготовленный для него и всего его двора. Граф принял приглашение и вместе со своей пышной свитой направился в резиденцию мудреца. Это случилось в середине зимы, Рейн был скован льдом, и было так холодно, что едущие верхом рыцари рисковали отморозить пальцы на ногах. И каково же было их удивление, когда по прибытии в дом Альберта они увидели, что стол накрыт в саду, где лежит снег глубиной несколько футов. Глубоко возмущенный граф снова сел на коня, но Альберт все же уговорил его сесть за стол. Не успел граф это сделать, как темные тучи рассеялись, засияло теплое солнце, холодный северный ветер внезапно исчез, и подул ласковый ветерок с юга, снег и лед растаяли, деревья покрылись зеленой листвой и плодами, под ногами у собравшихся распустились цветы, а на всех деревьях запели жаворонки, соловьи, черные дрозды, кукушки, дрозды и прочие благозвучные певчие птицы. Граф и его спутники были несказанно удивлены, но отобедали, и в награду за это Альберт получил участок земли под строительство монастыря. Он, однако, еще не показал им всего своего могущества. Как только трапеза была закончена, Альберт произнес нужное слово, и темные тучи окружили солнце, крупными хлопьями посыпался снег, певчие птицы упали замертво, листья осыпались с деревьев, а подувший ветер был таким холодным и завывал так зловеще, что гости закутались в свои плотные плащи и удалились в дом погреться на кухне у огня106.
Фома Аквинский мог творить чудеса не хуже своего учителя. Сообщается, что он временно проживал на одной из улиц Кёльна, где ему сильно досаждал непрекращающийся стук копыт лошадей, которых конюхи ежедневно прогоняли по ней для тренировки. Философ умолял последних выбрать какое-нибудь другое место, где бы они его не беспокоили, но конюхи оставались глухи к его настойчивым просьбам. Попав в столь незавидное положение, он прибегнул к помощи магии. Фома изготовил небольшую бронзовую лошадь, на которой начертал определенные кабалистические107 символы, и в полночь закопал ее на середине улицы. Наутро конюхи, как обычно, ехали верхом по улице; но как только лошади достигли места, где была закопана волшебная лошадь, они встали на дыбы и неистово шарахнулись — их ноздри раздулись от ужаса, гривы встали дыбом, и по бокам потек пот. Напрасно всадники использовали шпоры, напрасно они понукали лошадей и угрожали им: животные ни в какую не хотели проходить через это место. На следующий день результат был тот же. В конце концов конюхам пришлось подыскать другое место для тренировки лошадей, и Фому Аквинского оставили в покое108.
В 1259 году Альберт Великий был возведен в сан епископа Регенсбургского, но четыре года спустя сложил его с себя на том основании, что его обязанности отнимают слишком много времени, которое он стремился посвятить философии. Альберт умер в Кёльне в 1280 году в почтенном возрасте восьмидесяти семи лет. Писатели-доминиканцы отрицают, что он когда-либо искал философский камень, но его трактат о минералах является достаточным доказательством обратного.
АРТЕФИЙ
Артефий, имя которого внесено в анналы алхимии, родился в начале XII века. Им было написано два знаменитых трактата: один — о философском камне, а другой — об искусстве продления человеческой жизни. В последнем он превозносит свое высочайшее право обучать человечество этому искусству, утверждая, что ему (Артефию) одна тысяча двадцать четыре полных года! У него было много последователей, веривших этому и пытавшихся доказать, что он является жившим вскоре после пришествия Иисуса Христа Аполлонием Тианским109, подробности жизни которого и якобы сотворенные им чудеса столь полно описаны Филостратом. Сам Артефий не опровергал эту гипотезу, значительно увеличивавшую власть, которую он жаждал иметь над своими сторонниками — простыми смертными. При любом удобном случае он похвалялся своей уникальностью; обладая же превосходной памятью, богатым воображением и доскональным знанием истории, Артефий мог ответить на любой вопрос о внешности, манерах или характере великих людей древности. Он также заявлял, что нашел философский камень, и утверждал, что в поисках оного спускался в ад, где видел дьявола, сидящего на золотом троне в окружении легиона бесов и демонов. Его труды по алхимии были переведены на французский язык и изданы в Париже в 1609 или 1610 году.
АЛЕН ДЕ ЛИЛЬ
Современником Альберта Великого был Ален де Лиль Фландрский, которого за выдающиеся познания прозвали «универсальным доктором». Считалось, что он сведущ во всех науках и, подобно Артефию, открыл elixir vitae. Ален стал одним из монахов аббатства Сито и умер в 1298 году в возрасте примерно ста десяти лет110. Утверждали, что на пятидесятом году жизни он был при смерти, но счастливое открытие эликсира позволило ему добавить к своей жизни шестьдесят лет. Его перу принадлежит комментарий пророчеств Мерлина.
АРНАЛЬДО ДЕ ВИЛАНОВА
Репутация этого философа гораздо солиднее. Он родился в 1245 году и с большим успехом изучал медицину в Парижском университете. После этого он двадцать лет путешествовал по Италии и Германии, где познакомился с Пьетро д’Апоне, человеком, близким ему по характеру и с теми же устремлениями. Арнальдо при жизни считали самым способным врачом, какого когда-либо видел мир. Как и все ученые мужи своего времени, занимался астрологией и алхимией, и считалось, что он сделал несметное количество золота из свинца и меди. Когда Пьетро д’Апоне был арестован в Италии и привлечен к суду как колдун, против Арнальдо было выдвинуто аналогичное обвинение, но ему удалось вовремя покинуть страну и избежать судьбы своего несчастного друга. Он частично утратил к себе доверие, предсказав несостоявшийся конец света, но впоследствии обрел его вновь. Точная дата его смерти неизвестна, но это, должно быть, случилось до 1311 года, когда папа Климент V написал циркулярное письмо всем находившимся у него в подчинении духовным лицам Европы, в котором просил их приложить все усилия к тому, чтобы разыскать знаменитый трактат Арнальдо «Медицинская практика». Автор оного, еще будучи в живых, пообещал подарить этот труд святейшему престолу, но умер, не выполнив своего обещания.
В весьма любопытном труде месье Лонгвиля Аркуэ, озаглавленном «История людей, проживших несколько столетий и вновь помолодевших», есть один рецепт, который, по словам автора, принадлежит Арнальдо де Виланове и посредством которого любой человек может продлить себе жизнь на несколько сотен лет или около того. Перво-наперво, пишут Арнальдо и месье Аркуэ, «желающий означенным образом продлить себе жизнь должен два-три раза в неделю хорошенько натираться соком или сердцевиной кассии. Каждый вечер перед отходом ко сну он должен накладывать на сердце пластырь, состоящий из определенного количества восточного шафрана, листьев красной розы, сандалового дерева, алоэ и янтаря, смешанных с розовым маслом и самым лучшим белым воском. По утрам он должен его снимать и аккуратно прятать в свинцовую шкатулку до следующего вечера, когда его нужно накладывать вновь. Если он сангвиник, ему потребуется шестнадцать, если флегматик — двадцать пять, а если меланхолик — тридцать кур, коих ему надлежит выпустить во двор, где воздух и вода чистые. Ими он должен питаться, съедая по одной в день; но перед этим кур нужно откормить особым образом, дабы их мясо приобрело свойства, придающие долголетие тому, кто их ест. Их необходимо лишить всякого питания, пока они не окажутся на грани голодной смерти, а затем кормить бульоном, приготовленным из змей и уксуса и заправленным пшеницей и отрубями». В процессе приготовления этой болтушки необходимо выполнить разные обряды, которые в книге месье Аркуэ могут найти те, кому это интересно. Данным продуктом кур следует кормить два месяца, после чего их нужно готовить и есть, запивая умеренным количеством хорошего белого вина или кларета. Регулярно соблюдая эту диету через каждые семь лет, можно достичь долголетия Мафусаила! Справедливости ради следует отметить, что у месье Аркуэ нет веских оснований приписывать сию изощренную рецептуру Арнальдо де Виланове. В собрании сочинений этого философа ее нет; впервые она была обнародована в начале XVI века неким месье Пуарье, утверждавшим, что он обнаружил ее в манускрипте, написанном, несомненно, рукой Арнальдо.
ПЬЕТРО Д’АПОНЕ
Этот несчастливый ученый муж родился в селении Апоне, неподалеку от Падуи, в 1250 году. Как и его друг Арнальдо де Виланова, он был выдающимся врачом, занимаясь при этом астрологией и алхимией. Много лет практиковал в Париже и скопил огромное состояние, избавляя людей от боли и страданий, а также предсказывая будущее. Когда для него настали черные дни, он вернулся на родину, имея репутацию первостатейного мага. Все верили, что Арнальдо вызвал из преисподней семь злых духов и держал их взаперти в семи хрустальных вазах, а когда ему требовались их услуги, посылал их в разные концы земли для исполнения его желаний. Первый дух специализировался на философии, второй — на алхимии, третий — на астрологии, четвертый — на медицине, пятый — на поэзии, шестой — на музыке, седьмой — на живописи; и всякий раз, когда Пьетро хотел получить информацию по какому-либо из этих искусств, ему было достаточно подойти к соответствующей вазе и высвободить нужного духа. Таким образом он немедленно узнавал все секреты мастерства и мог, если бы захотел, превзойти Гомера в поэзии, Апеллеса — в живописи или самого Пифагора — в философии. Про него говорили, что хотя он и умеет делать золото из меди, но почти не пользуется этой способностью, а постоянно добывает деньги другим, менее похвальным способом. Всякий раз, когда он платил золотом, он бормотал известное ему одному заклинание, и на следующее утро золото возвращалось к нему целым и невредимым. Торговцы, которым он его отдавал, могли запирать его в сейф и приставлять к оному вооруженную охрану, но заколдованный металл неизменно возвращался к прежнему владельцу. Даже если бы он был зарыт в землю или брошен в море, следующая утренняя заря застала бы его в карманах Пьетро. В результате мало кому нравилось продавать что-либо такому человеку, особенно за золото. Некоторые, наиболее смелые, торговцы думали, что его колдовская сила не распространяется на серебро; но, когда они провели соответствующий эксперимент, поняли, что ошибались. Засовы не смогли удержать серебро, иногда оно становилось невидимым в их собственных руках и уносилось по воздуху в кошель волшебника. Пьетро, как и следовало ожидать, приобрел весьма скверную репутацию и, позволив себе некоторые высказывания о религии, в корне противоречившие каноническому вероучению, предстал перед судом инквизиции по обвинению в ереси и колдовстве. Он громогласно отстаивал свою невиновность даже на дыбе, где его подвергли невыносимым пыткам. Пьетро д’Апоне умер в тюрьме до завершения суда, но впоследствии был признан виновным. Было приказано выкопать и публично сжечь его останки. Кроме того, на улицах Падуи были сожжены его изображения.
РАЙМУНД ЛУЛЛИЙ
В то время, когда Арнальдо де Виланова и Пьетро д’Апоне жили во Франции и Италии, адепт, более знаменитый, нежели и тот и другой, появился в Испании. Это был Раймунд Луллий, один из наиболее выдающихся алхимиков. В отличие от многих его предшественников он не претендовал на лавры астролога или некроманта, но, выбрав Гебера в качестве примера для подражания, тщательно изучал природу и химический состав металлов безотносительно к заклинаниям, колдовству и всевозможным нелепым обрядам. Более того, он начал постигать искусство алхимии, будучи уже немолодым человеком. Его юношеские и зрелые годы прошли довольно необычно, да и вся его жизнь была воплощением романтики. Он родился в 1235 году в известном семействе на Мальорке. Когда этот остров в 1230 году был отвоеван у сарацин Хайме I, королем Арагона, отец Раймунда, который был родом из Каталонии, поселился на нем и получил от короля важный пост. Раймунд рано женился и, будучи любителем наслаждений, покинул опостылевший ему уединенный остров и перебрался с женой в Испанию. Ему был пожалован пост гранд-сенешала111 при дворе Хайме, и несколько лет он вел беспутную жизнь. Неверный жене, Луллий сменил множество красавиц, пока наконец его сердце не пленила очаровательная, но недоступная Амбросия де Кастелло. Эта дама, как и ее обожатель, состояла в браке, но в отличие от него хранила супружескую верность и с презрением отвергала его домогательства. Раймунд был настолько влюблен, что отпор только распалил его страсть; он проводил ночи под ее окнами, писал страстные стихи с восхвалениями в ее адрес, забросил свои дела и стал посмешищем всех придворных. Однажды, наблюдая за ней через решетчатую ограду дома, он случайно, когда ветер откинул в сторону ее шейный платок, увидел ее грудь под платьем. В порыве вдохновения он сочинил по этому поводу несколько нежных строф и послал их даме. Прекрасная Амбросия никогда прежде не удостаивала его письма ответом, но на это она ответила. Она писала, что никогда не сможет ответить ему взаимностью, что негоже благоразумному человеку сосредоточивать свои помыслы, как это сделал он, на чем-то ином, кроме Господа, и умоляла его посвятить себя религии и обуздать недостойную страсть, коей он позволил себя снедать. Она тем не менее выразила готовность показать ему, если он того пожелает, открытую грудь, что так его пленила. Раймунд был восхищен. Он думал, что вторая часть этого послания едва ли согласуется с первой и что Амбросия, невзирая на данный ею хороший совет, в конце концов смягчилась и сделает его настолько счастливым, насколько он того захочет. Он следовал за ней повсюду, упрашивая выполнить свое обещание, но Амбросия по-прежнему была холодна, со слезами на глазах заклинала его больше ей не докучать и говорила, что не может принадлежать ему и что это было бы невозможно даже в случае ее развода. «Что же тогда означает ваше письмо?» — спросил в отчаянии влюбленный. «Сейчас увидите!» — ответила Амбросия, которая тут же опустила лиф платья и представила на обозрение объятого ужасом вздыхателя большую раковую опухоль, поразившую обе груди. Видя его потрясение, она протянула ему руку и еще раз попросила его вести богоугодную жизнь и стремиться к Создателю, а не к созданию. Раймунд ушел домой другим человеком. На следующий день он оставил высокий пост при дворе, разошелся с женой и попрощался с детьми, предварительно разделив между ними половину своего немалого состояния. Другую половину он поделил между бедняками. Затем бросился к подножию распятия и посвятил себя служению Всевышнему, поклявшись потратить остаток своих дней на обращение мусульман в христианство и искупить таким, наиболее приемлемым для себя способом свои грехи. Во снах он видел Иисуса Христа, говорившего ему: «Раймунд! Раймунд! Следуй за мной!» Видение повторилось трижды, и Раймунд укрепился в мысли, что это прямое указание небес. Уладив свои дела, он совершил паломничество к усыпальнице св. Иакова из Компостелло и впоследствии прожил десять лет в безлюдном месте в Арандских горах. Там он, дабы подготовиться к своей миссии обращения магометан, выучил арабский язык. Луллий также изучил разные науки по трудам ученых мужей Востока и впервые познакомился с сочинениями Гебера, которым было суждено оказать очень сильное влияние на его последующую жизнь.
Успешно выдержав это испытание, он в возрасте тридцати девяти лет сменил уединение на более активную жизнь. На остатки от своего состояния, сохраненные за время затворничества, основал частную школу с преподаванием арабского языка, что было одобрено папой, похвалившим его за рвение и набожность. Тогда он едва избежал смерти от руки юноши-араба, которого взял к себе в услужение. В порыве фанатизма Раймунд молил Бога сделать его мучеником в его святом деле. Его молитву нечаянно услышал слуга, который, будучи столь же фанатичным, как и хозяин, решил удовлетворить желание последнего и одновременно наказать его за непрестанные проклятия а адрес Магомета и всех, кто в него верит, заколов его в сердце. Для этого он однажды бросился с ножом на сидящего за столом хозяина, но проснувшийся в том инстинкт самосохранения пересилил стремление к мученичеству: Раймунд вступил в схватку с противником и победил его. Он не унизился до убийства, а сдал юношу городским властям, посадившим преступника в тюрьму, где его позднее нашли мертвым.
После этого приключения Раймунд отправился в Париж, где прожил какое-то время и свел знакомство с Арнальдо де Вилановой. От него он, по-видимому, заразился желанием найти философский камень, так как с этого времени стал уделять все меньше внимания религии, и все больше — изучению алхимии. Однако он не отказался от главной цели своей жизни — обращения магометан в христианство — и проследовал в Рим, чтобы лично встретиться с папой Иоанном XXI и заручиться его высочайшей поддержкой. Папа на словах одобрил его затею, но не предоставил ему никаких помощников для осуществления задуманного предприятия. Поэтому Раймунд в одиночестве отправился в Тунис, где был радушно встречен многими арабскими философами, до которых дошла его слава как алхимика. Если бы он занимался в этой стране алхимией, с ним не случилось бы ничего дурного, но он начал проклинать Магомета и навлек на себя большие неприятности. Когда он проповедовал христианские доктрины на большом базаре в городе Тунисе, его арестовали и бросили в тюрьму. Вскоре он предстал перед судом и был приговорен к смерти. Некоторые его друзья-философы ходатайствовали за него, и он был помилован при условии, что немедленно покинет Африку и больше никогда не ступит на ее землю. Если же его здесь обнаружат, то независимо от цели его пребывания и срока давности первоначальный приговор будет приведен в исполнение. Когда жизни Раймунда стала угрожать реальная опасность, он понял, что совсем не хочет быть мучеником, с радостью принял поставленные условия и покинул Тунис, намереваясь проследовать в Рим. Потом его планы изменились, и он обосновался в Милане, где какое-то время весьма успешно занимался алхимией и, по утверждению некоторых, астрологией.
Большинство писателей, веривших в таинства алхимии и рассказывавших о жизни Раймунда Луллия, утверждают, что во время пребывания в Милане он получал письма от английского короля Эдуарда, в которых тот приглашал ученого поселиться в его владениях. Они добавляют, что Луллий с удовольствием принял приглашение и поселился в выделенных ему апартаментах в Лондонском Тауэре, где очищал золото в больших количествах, руководил чеканкой роуз-ноблей112 и сделал золото из железа, ртути, свинца и сплава олова со свинцом на общую сумму шесть миллионов фунтов. Авторы «Всеобщей биографии», люди исключительно авторитетные, отрицают, что Раймунд когда-либо был в Англии, и пишут, что во всех этих историях о его необычайных алхимических способностях его путают с другим Раймундом, иудеем из Таррагоны. Ноде в своей «Защите» пишет, что «Раймунд Луллий принес королю Эдуарду шесть миллионов для ведения войны против турок и прочих неверных», но не превращал неблагородные металлы в золото, а посоветовал Эдуарду, далее добавляет автор, ввести налог на шерсть, что и принесло нужную сумму. Чтобы доказать, что Раймунд посещал Англию, его почитатели цитируют один из приписываемых ему трудов, «De Transmutatione Animae Metallorum»113, в котором он пишет, что был в Англии при посредничестве короля114. Авторы-герметисты расходятся во мнениях, был ли это Эдуард I или же Эдуард II, но, датируя его путешествие 1312 годом, они тем самым указывают на Эдуарда II. Эдмонд Дикенсон в труде «Сущность философских воззрений» пишет, что Раймунд работал в Вестминстерском аббатстве, где много лет спустя после его отъезда в келье, которую он занимал, было найдено огромное количество золотой пыли, принесшее зодчим немалый доход. В приведенном Лагле биографическом очерке о Джоне Кремере, аббате Вестминстерском, говорится, что Раймунд прибыл в Англию в основном благодаря его содействию. Кремер сам тридцать лет занимался тщетными поисками философского камня, когда случайно познакомился с Раймундом в Италии и попытался убедить его открыть великий секрет. Раймунд сказал Кремеру, что тот должен найти его сам, как это сделали до него все великие алхимики. Вернувшись в Англию, Кремер восторженно рассказал королю Эдуарду об удивительных знаниях философа, и тому было тотчас отправлено пригласительное письмо. Роберт Константин в книге «Nomenclator Scriptorum Medicorum»115, изданной в 1515 году, пишет, что после длительных изысканий он обнаружил, что Раймунд Луллий какое-то время жил в Лондоне и действительно делал в Тауэре золото посредством философского камня и что он видел золотые монеты его чеканки, до сих пор называемые в Англии ноблями Раймунда, или роуз-ноблями. Луллий сам хвалился златоделанием: в своем известном труде «Testamentum»116 он утверждает, что суммарная масса золота, полученного им из ртути, свинца и сплава олова со свинцом, составляет не менее пятидесяти тысяч фунтов117. Представляется весьма вероятным, что английский король, поверив в необычайные способности алхимика, пригласил его в Англию, дабы испытать их на практике, и что тот занимался аффинажем золота и чеканкой монеты. Кемден118, которого не назовешь легковерным в подобных вопросах, с доверием относится к истории о чеканке ноблей и пишет, что нет ничего удивительного в том, что человек, известный как знаток металлов, был занят на такой работе. Раймунд, которому в то время было семьдесят шесть лет, в какой-то мере страдал старческим слабоумием. Ему хотелось верить, что он открыл великий секрет, и он поддерживал соответствующий слух, а не опровергал его. Он пробыл в Англии недолго и вернулся в Рим для осуществления проектов, более близких его сердцу, чем ремесло алхимика. Ранее Луллий предлагал их нескольким сменившим друг друга папам, но почти безуспешно. Первый представлял собой план введения обязательного преподавания восточных языков во всех монастырях Европы, второй — объединения всех существующих боевых порядков в один с целью повышения эффективности боевых действий против сарацин, а третий — запрещения понтификом изучения трудов Аверроэса119 как более симпатизирующего магометанству, нежели христианству. Папа принял старого ученого без особой сердечности, и после примерно двухлетнего пребывания в Риме тот снова отправился в Африку, одинокий и беззащитный, проповедовать Евангелие. Он высадился в Боне в 1314 году и так разгневал магометан проклятиями в адрес их пророка, что они побили его камнями и оставили умирать на берегу моря. Несколько часов спустя его нашла группа генуэзских купцов, которые отнесли его на борт своего корабля и отплыли к Мальорке. Несчастный проповедник все еще дышал, но не мог членораздельно говорить. В этом состоянии он медленно умирал несколько дней и испустил дух, когда на горизонте показались его родные берега. Его тело с большой пышностью перенесли в церковь св. Эвлалии в Пальме, где в его честь были устроены общественные похороны. Впоследствии говорили, что на его могиле творятся чудеса.
Так закончилась жизнь Раймунда Луллия, одного из наиболее выдающихся людей своего времени; и, если не принимать во внимание его хвастовство шестью миллионами золотом, он менее других алхимиков заслуживает прозвище шарлатана. Он написал очень много трудов — около пятисот томов по грамматике, риторике, этике, теологии, политике, гражданскому и каноническому праву, физике, метафизике, астрономии, медицине и химии.
РОДЖЕР БЭКОН
В плен алхимического заблуждения однажды попал ум еще более великий, чем Раймунд Луллий. Роджер Бэкон твердо верил в философский камень и потратил много времени на его поиски. Его пример укрепил веру всех ученых мужей того времени в целесообразность этих поисков и добавил им уверенности в своих силах. Он родился в Илчестере, что в графстве Сомерсет, в 1214 году. Некоторое время учился в Оксфордском, а затем в Парижском университете, где получил степень доктора богословия. Вернувшись в Англию в 1240 году, он стал монахом ордена св. Франциска. Он был самым образованным человеком своего времени; его знания настолько превосходили знания его современников, что те неизбежно предполагали, что им он обязан дьяволу. Уместно вспомнить слова Вольтера, который, рассказывая о Бэконе, писал: «De l’or encroutй de toutes les ordures de son siиcle»120; но суеверие, окутывавшее его могучий интеллект, могло лишь затуманить, но не затмить яркость его гения. Очевидно, что только ему среди всех пытливых умов того времени были известны свойства вогнутых и выпуклых линз. Он также изобрел волшебный фонарь121, эту прелестную игрушку современности, которая создала ему репутацию, отравлявшую его существование. Имя этого великого человека нельзя не включить в историю алхимии, хотя в отличие от многих других, о ком мы будем говорить, для него она всегда была вторичной по отношению к иным занятиям. Наполнявшая его разум любовь к универсальному знанию не позволяла ему пренебречь одной из отраслей науки, об абсурдности которой ни он, ни остальной мир знать тогда не могли. Впустую потраченное на нее время он с избытком компенсировал познаниями в физике и знакомством с астрономией. Телескоп, зажигательные стекла и черный порох — этих его открытий вполне достаточно, чтобы о нем помнили в самом отдаленном будущем безотносительно к единственному недомыслию, являющемуся диагнозом эпохи, в которую он жил, и обстоятельств, которые его окружали. Его трактат «Замечательная способность искусства и природы к получению философского камня» был переведен на французский язык Жераром де Торме и издан в Лионе в 1557 году. Его «Зеркало алхимии» было также издано на французском языке в том же и в 1612 году в Париже с дополнениями из трудов Раймунда Луллия. Полный список всех опубликованных трактатов на эту тему можно найти у Лагле дю Френуа.
ПАПА ИОАНН XXII
Этого прелата считают другом и учеником Арнальдо де Вилановы, посвятившего его во все секреты алхимии. Предание гласит, что он делал золото в больших количествах и умер богатым, как Крез. Он родился в Каоре, что в провинции Гиень, в 1244 году. Он был очень красноречивым проповедником и быстро достиг высот церковной иерархии. Он написал труд по превращению металлов и имел прекрасную лабораторию в Авиньоне. Он издал две буллы против претендентов на владение искусством алхимии, во множестве появившихся во всех частях христианского мира, из которых можно сделать вывод, что его самого это заблуждение не коснулось. Алхимики, однако, называют его одним из самых выдающихся и удачливых мастеров их искусства и пишут, что его буллы были направлены не против истинных адептов, а против самозванцев. Они придают особое значение следующим словам его буллы: «Spondent, quas non exhibent, divitias, pauperes alchymistae»122. Эти слова, по их мнению, могут относиться лишь к бедным и, следовательно, самозваным алхимикам. Он умер в 1344 году, оставив в своих сундуках восемнадцать миллионов флоринов. Бытовало поверие, что он не скопил означенное сокровище, а изготовил его; алхимики же самодовольно считают это обстоятельство доказательством того, что философский камень — не такая уж химера, как заявляют скептики. Они считают не требующим доказательств, что Иоанн действительно оставил эти деньги, и задаются вопросом, каким образом он мог скопить такую сумму. Отвечая на свой собственный вопрос, они с ликованием пишут: «Его книга свидетельствует, что в этом ему помогла алхимия, секреты коей он узнал от Арнальдо де Вилановы и Раймунда Луллия. Но он, как и все остальные герметические философы, был благоразумен. Всякий, кто попытается узнать секрет из его книги, потратит время впустую; папа хорошо позаботился о сохранении тайны». К несчастью для их собственной репутации, все эти златоделатели находятся в одном и том же затруднительном положении: их «великий секрет» при попытке его рассказать напрочь теряет ценность, потому они и держат его в тайне. Быть может, они думали, что если все смогут превращать металлы в золото, то последнего станет так много, что оно утратит свою ценность и возникнет потребность в новом искусстве превращения его обратно в сталь и чугун. Если так, то общество у них в большом долгу за их выдержку.
ЖАН ДЕ МЁН
В то время «искусством» занимались представители всех сословий и занятий. Последний упомянутый нами был римским папой, герой же нынешнего повествования был поэтом. Жан де Мён, прославленный автор «Романа о розе», родился в 1279 или 1280 году и был заметной фигурой при дворах Людовика X, Филиппа Длинного, Карла IV и Филиппа де Валуа. Его знаменитая поэма «Роман о розе», повествующая обо всем, что было тогда в моде, неизбежно и широко затрагивает алхимию. Жан твердо верил в силу «искусства» и, помимо «Романа», написал две более короткие поэмы — «Увещевание природы странствующему алхимику» и «Ответ алхимика природе». Поэзия и алхимия были его усладой, а священники и женщины — объектами его отвращения. О нем и женщинах при дворе Карла IV рассказывают забавную историю. Он написал о прекрасном поле следующий клеветнический куплет:
Toutes etes, serez, ou futes,
De fait ou de volonte, putains;
Et qui tres bien vous chercherait,
Toutes putains vous trouverait123.
Это, разумеется, было чрезвычайно оскорбительно, и когда однажды это услышали несколько дам, дожидавшихся аудиенции в вестибюле королевского дворца, они решили наказать автора. Десять-двенадцать женщин вооружились палками и прутьями и, окружив незадачливого поэта, призвали присутствующих джентльменов раздеть его догола, дабы отомстить ему по справедливости и прогнать его, избивая, по улицам города. Некоторые из синьоров, не вняв голосу разума, решили последовать призыву ради низменной потехи. Но Жана де Мёна их угрозы не испугали, и он, спокойно стоя среди них, попросил сперва выслушать его, а затем, если их не удовлетворят его объяснения, делать с ним все что угодно. Когда тишина была восстановлена, он встал на стул и начал речь в свою защиту. Он признал, что является автором оскорбительных стихов, но отрицал, что они относятся ко всем женщинам. Он сказал, что имел в виду лишь порочных и распутных, тогда как те женщины, которых он видит вокруг себя, — суть воплощения добродетели, красоты и благопристойности. Если же, невзирая на все вышесказанное, какая-либо из присутствующих дам чувствует себя оскорбленной, он готов дать себя раздеть и позволить ей бить его до тех пор, пока у нее не устанут руки. Сообщается, что гнев прекрасных дам немедленно утих и Жан таким образом избежал порки. Тем не менее присутствовавшие при этом джентльмены придерживались мнения, что, если бы все женщины в зале, уязвленные его стихами, поймали поэта на слове, его, по всей вероятности, забили бы насмерть. На протяжении всей своей жизни он выказывал сильную враждебность в отношении священнослужителей, и его знаменитая поэма изобилует фрагментами, изобличающими их алчность, жестокость и аморальность. Находясь при смерти, он оставил большой сундук, наполненный чем-то тяжелым, который он завещал кордельерам124 в качестве искупительной жертвы за те оскорбления, что он расточал в их адрес. Поскольку его занятия алхимией были хорошо известны, кордельеры решили, что сундук наполнен золотом и серебром, и поздравляли друг друга с ценным приобретением. Когда сундук был открыт, они к своему ужасу обнаружили, что он наполнен исключительно грифельными досками, на которых нацарапаны иероглифические и кабалистические символы. Оскорбленные монахи решили отказать ему в христианском погребении на том основании, что он колдун. Несмотря на это, жена де Мёна с почестями похоронили в Париже в присутствии всего королевского двора.
НИКОЛАЙ ФЛАМЕЛЬ
В истории этого алхимика, переданной из поколения в поколение и дошедшей до нас на страницах книги Лагле дю Френуа, нет ничего необычного. Он родился в Понтуазе в бедной, но уважаемой семье в конце XIII или начале XIV века. Не имея родового имения, он в раннем возрасте отправился в Париж попытать счастья как переписчик. К тому времени он получил хорошее образование, весьма преуспел в изучении языков и был превосходным писцом. Став вскоре письмовником и переписчиком, он, бывало, сидел на углу улицы Мариво и зазывал клиентов, но на заработанные деньги едва сводил концы с концами. Чтобы зарабатывать больше, он пробовал писать стихи, но на этом поприще преуспел еще меньше. Как переписчик он зарабатывал по меньшей мере на хлеб и сыр, но своими виршами не смог заработать даже на корку хлеба. Тогда он попробовал себя в живописи, но со столь же малым успехом, после чего ухватился за последнюю возможность выкарабкаться из нужды, занявшись поисками философского камня и предсказанием будущего. Это была более удачная мысль. Вскоре его благосостояние возросло, и у него появились деньги на более или менее комфортную жизнь. Воспользовавшись этим, он взял в жены девушку по имени Петронелла и начал откладывать деньги, но внешне оставался таким же бедным и убогим, как и прежде. За несколько лет он стал фанатичным приверженцем алхимии и уже не думал ни о чем, кроме философского камня, эликсира жизни и алкагеста125. В 1357 году он случайно купил за два флорина старинную книгу, ставшую вскоре его единственным предметом изучения. Она была написана неким стальным инструментом на древесной коре и состояла из двадцати одного, или, как он сам всегда говорил, из трижды семи листов. Книга была написана на латыни в весьма изящной манере. На каждом седьмом листе был рисунок без текста. На первом был изображен змей, заглатывающий прутья, на втором — крест с распятым змеем, а на третьем — пустыня, посреди которой бьет фонтан и туда-сюда ползают змеи. Автор книги величал себя не иначе, как «Авраам, родоначальник евреев, правитель, философ, жрец, левит и астролог», и проклинал всякого, кто на нее взглянет, не являясь при этом «жрецом или писцом». Николай Фламель не счел странным, что Авраам знал латынь, и был убежден, что попавшая к нему книга действительно написана рукой великого родоначальника. Поначалу он боялся читать ее, памятуя о содержащемся в ней проклятии, но затем преодолел это препятствие, вспомнив, что хоть он никакой и не жрец, но прежде был писцом. Прочтя книгу, он пришел в восторг и счел ее идеальным трактатом о превращении металлов. В ней четко описывались все процессы, указывались сосуды, реторты, смеси, а также необходимые для проведения экспериментов временные интервалы и времена года. Но вот незадача: при этом изначально подразумевалось наличие у экспериментатора основного реагента — философского камня. Это было непреодолимой трудностью, сродни тому, как если бы умирающему от голода объяснили, как приготовить бифштекс, вместо того чтобы дать денег на его покупку. Но Николай не отчаялся и приступил к изучению иероглифических и аллегорических изображений, коими изобиловала книга. Вскоре он убедил себя, что когда-то это была одна из священных книг евреев, изъятая из иерусалимского храма после его разрушения Титом. Логическая цепочка, приведшая его к данному умозаключению, нам не известна.
Из текста трактата он узнал, что аллегорические рисунки на четвертом и пятом листах таят в себе секрет философского камня, без знания которого все написанные изящной латынью директивы были абсолютно бесполезны. Он пригласил всех алхимиков и ученых мужей Парижа прийти и изучить рисунки, но их визит не прояснил ровным счетом ничего. Никто не узнал ничего вразумительного ни от Николая, ни из его рисунков, а некоторые визитеры даже позволили себе утверждение, что его бесценная книга не стоит ломаного гроша. Этого Николай вынести не мог и решил открыть великий секрет самостоятельно, не беспокоя философов. На первой странице четвертого листа он нашел рисунок, где был изображен Меркурий, атакуемый старцем, похожим на Сатурна, или Кроноса126. У последнего на голове были песочные часы, а в руках — коса, которой он нацеливался нанести Меркурию удар по ногам. На обороте было изображено цветущее растение на вершине горы, неистово теребимое ветром. Его стебель был синим, цветки — красными и белыми, а листья — из чистого золота. Вокруг него было великое множество драконов и грифонов. На первой странице пятого листа был изображен прекрасный сад, посреди которого растет розовое дерево в полном цвету, подпираемое стволом гигантского дуба. У его подножия бьет фонтан воды, похожей на молоко, которая, образуя неширокий поток, течет через сад и теряется в песках. На второй странице был нарисован король с мечом в руке, командующий отрядом солдат, которые, выполняя его приказ, убивают великое множество малолетних детей, с презрением игнорируя мольбы и ужас матерей, пытающихся уберечь их от гибели. Кровь детей тщательно собирается другим отрядом солдат и переливается в большой сосуд, в котором купаются две аллегорические фигуры солнца и луны.
Бедный Николай потратил на изучение этих рисунков двадцать один год, но их смысл так и остался для него загадкой. В конце концов его жена Петронелла уговорила его поискать какого-нибудь ученого раввина, но в Париже не было достаточно образованного раввина, способного хоть как-то ему помочь. У евреев не было ни малейшего стимула оседать во Франции, и все наиболее видные представители этого народа на территории Европы жили в Испании. И тогда Николай Фламель отправился в Испанию. Он оставил книгу в Париже — возможно, из опасения, что ее могут украсть по дороге, — и, сказав соседям, что отправляется в паломничество к усыпальнице св. Иакова из Компостелло, ушел пешком в Мадрид на поиски раввина. Он прожил в Испании два года и познакомился с огромным количеством евреев — потомков тех, кто был изгнан из Франции в царствование Филиппа Августа. Апологеты философского камня сообщают о его приключениях следующее. Они пишут, что в Леоне он свел знакомство с новообращенным иудеем Коше, весьма эрудированным врачом, которому он сообщил заглавие и содержание книги. Как только доктор услышал ее название, он, не помня себя от радости, тут же решил отправиться с Николаем в Париж, чтобы ее увидеть. По дороге доктор развлекал своего спутника рассказом о его книге, которая при условии ее подлинности, согласно некогда услышанному им ее описанию, была написана рукой самого Авраама и принадлежала таким выдающимся личностям, как Моисей, Иисус, Соломон и Ездра. Она содержала все секреты алхимии и многих других наук и была наиболее ценной из всех книг, когда-либо существовавших в этом мире. Сам доктор превосходно разбирался в алхимии, и Николай многое почерпнул из его рассуждений, пока они в одеяниях бедных пилигримов шли в Париж, убежденные в своей способности превратить все старые лопаты столицы Франции в чистое золото. Но, к несчастью, когда они достигли Орлеана, доктор серьезно заболел. Николай дежурил у его постели, будучи одновременно врачом и сиделкой; но несколько дней спустя тот умер, на последнем издыхании сокрушаясь, что не прожил достаточно долго, чтобы увидеть драгоценный том. Николай воздал его телу последние почести, после чего со скорбным сердцем и без единого су в кармане проследовал домой, к своей жене Петронелле. По возвращении он немедленно возобновил исследование рисунков, но на протяжении двух лет ни на йоту не приблизился к разгадке. И наконец, на третьем году изысканий, на него снизошло озарение. Он вспомнил некоторые суждения своего друга-доктора, которые до сих пор не всплывали в его памяти, и пришел к выводу, что все предыдущие эксперименты осуществлялись на основании ложных посылок. Теперь он возобновил их с прежним энтузиазмом и в конце года имел счастье быть вознагражденным за все свои труды. Лагле пишет, что 13 января 1382 года он получил из ртути некоторое количество серебра высшей пробы. 25 апреля он превратил большое количество ртути в золото, овладев таким образом великим секретом.
В это время Николаю было около восьмидесяти лет, и он, несмотря на почтенный возраст, оставался крепким и бодрым. Его почитатели пишут, что, открыв одновременно с философским камнем эликсир жизни, он нашел способ продлить жизнь еще на четверть века и умер в 1415 году в возрасте 116 лет. За это время он сделал несметное количество золота, хотя по всем внешним признакам оставался беден, как церковная мышь. В начальный период златоделания он, как человек достойный, посовещался со своей старой женой Петронеллой на предмет наилучшего применения его богатству. Петронелла сказала, что, поскольку у них, к сожалению, нет детей, то лучшее, что он может сделать, — пожертвовать его на строительство больниц и содержание церквей. Николай был того же мнения, особенно когда начал понимать, что его эликсир не убережет его от смерти и что сей неумолимый враг скоро его настигнет. Он пожертвовал солидный капитал на содержание церкви Сен-Жак-де-ла-Бушери рядом с улицей Мариво, где прожил всю жизнь, и семи других церквей в разных частях королевства. Кроме того, на его деньги содержались четырнадцать больниц и были построены три часовни.
Слава о его огромном богатстве и необычайно щедрых пожертвованиях быстро разнеслась по всей стране, и его посетили, среди прочих, такие выдающиеся ученые той поры, как Жан Жерсон, Жан де Куртекюс и Пьер д’Эйи. Когда они вошли в его скромную обитель, он, бедно одетый, ел овсяную кашу из глиняной посудины. Подобно всем своим предшественникам в алхимии, он не пожелал выдавать свой секрет. Молва о нем достигла ушей Карла VI, который отправил месье де Крамуази, королевского сборщика податей, выяснить, действительно ли Николай открыл философский камень. Но визит месье де Крамуази оказался безрезультатным: все его попытки разговорить алхимика были тщетны, и он вернулся к своему повелителю ни с чем. Это было в 1414 году, когда Николай потерял свою верную Петронеллу. Он пережил ее ненамного, умерев в следующем году. Благодарные священники прихода Сен-Жак-де-ла-Бушери устроили ему пышные похороны.
Огромное богатство Николая Фламеля несомненно, о чем свидетельствуют регистрационные книги нескольких церквей и больниц Франции. То, что он занимался алхимией, также неоспоримо, потому что он оставил после себя несколько трудов по этому предмету. Те, кто хорошо его знал и не верил, что он нашел философский камень, дают приемлемую разгадку тайны его богатства. Они пишут, что он всегда был скрягой и ростовщиком; что путешествие в Испанию он предпринял, руководствуясь мотивами, весьма отличными от тех, на которые ссылаются алхимики; что на самом деле он побывал там с целью взыскания с тамошних евреев долгов, причитавшихся их парижским собратьям, и брал при этом стопроцентные комиссионные, принимая во внимание проблематичность взыскания и опасности, подстерегавшие его в пути; что, владея тысячами, он жил на гроши и был главным ростовщиком, ссужавшим деньги под огромные проценты всем беспутным молодым людям при дворе французского короля.
Среди написанных Николаем Фламелем трудов по алхимии есть поэма «Сумма философии», переизданная в 1735 году как приложение к третьему тому «Романа о розе». Кроме того, он написал три трактата по натурфилософии127 и алхимическую аллегорию «Le Désir désiré»128. В «Bibliotheque des Philosophies Chimiques»129 Сальмона приведены факсимиле записей, сделанных его рукой, и рисунков из его книги Авраама. Автор статьи «Фламель» из «Всеобщей биографии» пишет, что на протяжении ста лет после смерти Фламеля многие адепты алхимии верили, что он все еще жив и проживет до более чем шестисот лет. Дом на углу улицы Мариво, в котором он жил, часто снимали легковерные любители легкой наживы, обыскивавшие его сверху донизу в надежде найти золото. Незадолго до наступления 1816 года по Парижу прошел слух, что жильцы этого дома нашли в подвале несколько банок, наполненных темным тяжелым веществом. На этом основании один человек, веривший во все удивительные истории о Николае Фламеле, купил означеный дом и едва не развалил его на куски, ища золото в стенах и стенных панелях. Его старания, однако, не увенчались успехом, и ему пришлось выложить круглую сумму за устранение причиненных разрушений.
ДЖОРДЖ РИПЛИ
В период интенсивного развития алхимии на европейском континенте о ней не забывали и на Британских островах. Со времен Роджера Бэкона она пленяла воображение многих английских исследователей. В 1404 году было принято парламентское постановление, объявившее изготовление золота и серебра тяжким уголовным преступлением. В то время серьезно опасались, что тот или иной алхимик, преуспев в своих изысканиях, сможет погубить государство, снабдив несметным богатством какого-нибудь злокозненного тирана, который использует его для порабощения страны. Эта тревога, видимо, вскоре пошла на убыль, ибо в 1455 году король Генрих VI по рекомендации своего совета и парламента предоставил нескольким рыцарям, лондонским горожанам, химикам, монахам, священникам и другим лицам четыре последовательных патента и доверенности на отыскание философского камня и эликсира «к великой пользе», говорилось в патенте, «королевства и обеспечения королю возможности выплатить все долги короны настоящим золотом и серебром». Принн, касаясь этого эпизода в книге «Aurum Reginae»130, замечает, что свое решение предоставить патент священнослужителям король аргументировал тем, что «раз им так хорошо удается превращать хлеб и вино в святое причастие, то они тем более смогут превратить неблагородные металлы в благородные». Никакого золота, разумеется, получить не удалось; и в следующем году король, сильно сомневаясь в осуществимости этой затеи, принял к сведению еще одну рекомендацию и назначил комиссию из десяти ученых мужей и известных людей, призванную решить и доложить ему, осуществимо ли превращение металлов или нет. Отчиталась ли комиссия когда-либо перед королем, не известно.
Во время правления следующего короля появился алхимик, претендовавший на открытие тайны. Это был Джордж Рипли, каноник из Бридлингтона, Йоркшир. Он двадцать лет обучался в университетах Италии и был любимцем папы Иннокентия VIII, который сделал его одним из придворных капелланов и церемониймейстером. Вернувшись в Англию в 1477 году, он посвятил королю Эдуарду IV свой знаменитый труд «Руководство по алхимии, или Двенадцать врат, ведущих к открытию философского камня». Этими вратами он считал прокаливание, растворение, разделение, соединение, разложение, затвердевание, перегонку, возгонку, брожение, усиление, размножение и поверхностный контакт, к которым он, возможно, добавлял беспокойство — самый важный процесс из всех. Он был очень богат и позволял людям верить, что может делать золото из железа. Фуллер в своей книге «Знаменитости Англии» пишет, что один заслуживающий доверия английский джентльмен сообщает, что во время путешествий за границу он видел на острове Мальта документ, гласивший, что Рипли ежегодно передавал рыцарям этого острова и острова Родос громадную сумму сто тысяч фунтов стерлингов, дабы те могли продолжать войну против турок. Состарившись, он поселился в уединенном месте неподалеку от Бостона131 и написал двадцать пять томов по алхимии, наиболее значительным из которых является вышеупомянутый «Duodecim Partarum»132. Есть основания полагать, что перед смертью он признал, что впустую потратил жизнь на тщетные изыскания, и просил всех, кому попадутся на глаза его книги, сжигать их или не верить тому, что в них написано, так как их содержание основано лишь на его домыслах, потерпевших в результате проведенных им опытов полное фиаско133.
ВАСИЛИЙ ВАЛЕНТИН
Германия XV столетия также породила множество прославленных алхимиков, наибольшего внимания из которых заслуживают Василий Валентин, Бернард Трирский и аббат Тритемий. Василий Валентин родился в Майнце и около 1414 года стал настоятелем монастыря св. Петра в Эрфурте. При жизни он был известен как усердный искатель философского камня и автор нескольких трудов о процессе трансмутации134. Оные много лет считались утерянными, но после его смерти были найдены замурованными в каменной кладке одной из колонн аббатства. Их количество равняется двадцати одному, и они полностью приведены в третьем томе «Истории герметической философии» Лагле дю Френуа. Алхимики утверждали, что самим небесам было угодно донести сии выдающиеся труды до людей, что колонну, в которую они были замурованы, чудесным образом расколол удар молнии и что, как только манускрипты были освобождены, колонна сама по себе сложилась вновь!
БЕРНАРД ТРИРСКИЙ
Жизнь этого философа являет собой выдающийся пример таланта и упорства, использованных не по назначению. В поисках химеры он не боялся ничего. Неоднократное разочарование не ослабляло его надежд, и с четырнадцати до восьмидесяти пяти лет он непрестанно трудился в своей лаборатории среди снадобий и печей, растрачивая жизнь впустую с целью ее продления и доводя себя до нищеты в надежде разбогатеть.
Он родился или в Трире, или в Падуе в 1406 году. Одни считают, что его отец был врачом в Падуе, другие — что он был маркграфом Трирским и одним из богатейших дворян Германии. Кем бы он ни был, дворянином или доктором, он был состоятельным человеком и оставил сыну богатое имение. В четырнадцать лет Бернард страстно увлекся алхимией и читал книги арабских авторов на языке оригинала. Он оставил после себя в высшей степени интересный отчет о своих изысканиях и путешествиях, из которого можно выделить главным образом следующее. Первая попавшая ему в руки книга была написана арабским философом Разесом135. Прочитав ее, он вообразил, что узнал способ стократного увеличения количества золота. Четыре года он проработал в своей лаборатории, постоянно сверяясь с книгой Разеса. В итоге он обнаружил, что истратил на эксперимент не менее восьмисот крон, не получив за свои старания ничего, кроме огня и дыма. Разуверившись в Разесе, он обратился к трудам Гебера. Он прилежно штудировал их два года и, будучи молодым, богатым и доверчивым, был окружен всеми алхимиками города, которые любезно помогали ему тратить его деньги. Он не переставал верить в Гебера и терпеть своих голодных ассистентов, пока не лишился двух тысяч крон — суммы по тем временам весьма значительной.
Среди всей толпы окружавших его псевдоученых был только один человек, столь же увлеченный и бескорыстный, как и он сам. С этим человеком, который был монахом ордена св. Франциска, он завязал близкую дружбу и проводил почти все свое время. Прочитав несколько туманных трактатов Рупекиссы и Сакробоско, они пришли к убеждению, что винный спирт высокой степени очистки и есть тот самый алкагест, или универсальный растворитель, который окажет им неоценимую помощь в осуществлении процесса трансмутации. Они очищали спирт тридцать раз, пока он не стал таким крепким, что начал разъедать стенки сосудов, в которых находился. Проработав над этим три года и истратив на спиртное триста крон, они обнаружили, что находятся на неверном пути. Засим они взялись за квасцы и железный купорос, но великая тайна и на сей раз ускользнула от них. Далее они вообразили, что все экскременты, особенно человеческие, обладают чудодейственной силой, и целых два года ставили на них опыты с использованием ртути, поваренной соли и расплавленного свинца! И вновь к Бернарду из дальних и ближних мест потянулись адепты, стремившиеся помочь своими советами. Он принимал их всех радушно и столь щедро и безоглядно делился с ними своим богатством, что они прозвали его «добрым трирцем». Под этим прозвищем он и поныне часто упоминается в трудах, затрагивающих тему алхимии. Так он прожил двенадцать лет, каждый день экспериментируя с какой-нибудь новой субстанцией и денно и нощно моля Бога помочь ему разгадать секрет превращения.
В тот период он потерял своего друга-монаха и объединил усилия с одним мировым судьей города Трира, таким же страстным алхимиком, как и он сам. Его новый знакомый считал, что океан является матерью золота и морская соль способна превращать свинец или железо в драгоценные металлы. Бернард решил апробировать сей тезис на практике и, перенеся лабораторию на побережье Балтийского моря, проработал с солью больше года: растворял, возгонял, кристаллизовал и время от времени пил ее ради других экспериментов. Неудачи не обескураживали странного энтузиаста: провал одного опыта лишь еще сильнее побуждал его провести другой.
Ему должно было вскоре исполниться пятьдесят лет, а он еще не повидал мир. Дабы восполнить этот пробел, он решил совершить путешествие по Германии, Италии, Франции и Испании. Где бы он ни останавливался, он интересовался, есть ли поблизости алхимики. Алхимики находились повсюду, и, если они были бедны, он помогал им деньгами, а если богаты — поддерживал их морально. В Сито он познакомился с неким Жоффруа Лёвье, тамошним монахом, который убеждал его, что экстракт яичной скорлупы является ценным ингредиентом. Он поставил соответствующий опыт, который, закончившись ничем, лишь отсрочил начало другого, длившегося год или два эксперимента, призванного подтвердить или опровергнуть мнение одного юриста из Бергхема во Фландрии, утверждавшего, что великий секрет кроется в уксусе и железном купоросе. Бернард не был убежден в абсурдности этой идеи до тех пор, пока чуть не отравился. Прожив во Франции около пяти лет, он случайно узнал, что магистр Генрих, духовник императора Фридриха III, открыл философский камень, и отправился в Германию нанести ему визит. Его, как обычно, окружали голодные нахлебники, часть которых вызвалась сопровождать его. Ему не хватило духу им отказать, и он прибыл в Вену с пятерыми из них. Бернард послал духовнику любезное приглашение и устроил в его честь роскошный прием, который посетили почти все алхимики Вены. Магистр Генрих искренне признался, что не открыл философского камня, но всю жизнь занимался его поисками, которые будет продолжать до тех пор, пока не найдет искомое или не умрет. Этот человек пришелся Бернарду по душе, и они дали друг другу обет вечной дружбы. За ужином было решено, что все присутствующие алхимики должны пожертвовать определенную сумму на накопление сорока двух золотых марок, которые через пять дней, уверял магистр Генрих, увеличатся в его печи в пять раз. Бернард, как самый богатый из присутствующих, внес львиную долю — десять золотых марок, магистр Генрих — пять, а остальные — по одной или две (иждивенцам Бернарда пришлось занять свою долю у покровителя). Великий эксперимент был должным образом проведен: золотые марки поместили в тигель вместе с некоторым количеством поваренной соли, железного купороса, концентрированной азотной кислоты, яичной скорлупы, ртути, свинца и навоза. Алхимики наблюдали за сим драгоценным месивом с живым интересом, ожидая, что оно превратится в один большой кусок чистого золота. По прошествии трех недель они отказались от эксперимента на том основании, что то ли тигель недостаточно жаропрочен, то ли отсутствует некий необходимый ингредиент. Не известно, лазил ли в тигель вор, но утверждают, что золото, найденное в нем по завершении эксперимента, стоило всего шестнадцать марок вместо сорока двух, помещенных в него вначале.
Бернард не сделал в Вене никакого золота, а напротив, лишился очень большого его количества. Он переживал эту потерю столь остро, что поклялся навсегда выбросить философский камень из головы. Этого мудрого решения он придерживался два месяца, но был при этом несчастен. Он находился в положении игрока, который, проигрывая, но, будучи не в силах сопротивляться соблазну выигрыша, ставит на кон оставшиеся в карманах деньги, пока есть надежда отыграться. Он вновь вернулся к своим любимым тиглям и решил продолжить путешествие в поисках философа, который уже узнал великий секрет и сообщил бы его столь усердному и упорному адепту, как он. Из Вены он отправился в Рим, а из Рима — в Мадрид. Сев на корабль в Гибралтаре, он проследовал в Мессину, из Мессины — на Кипр, с Кипра — в Грецию, из Греции — в Константинополь, а оттуда — в Египет, Палестину и Персию. На эти странствия он потратил около восьми лет. Из Персии он отправился обратно в Мессину, а оттуда — во Францию. Впоследствии в поисках своей великой химеры он перебрался в Англию. Данный этап его странствий занял свыше четырех лет. Он старел и беднел: ему исполнилось шестьдесят два года, и для покрытия своих расходов он был вынужден продать значительную часть своего наследства. Путешествие в Персию стоило ему более тринадцати тысяч крон, примерно половина которых безвозвратно расплавилась и перемешалась в его всепоглощающих печах; другую половину он раздал льстецам, которых нанимал к себе в ассистенты в каждом городе, где останавливался.
Вернувшись в Трир, он пришел к прискорбному выводу, что если он еще и не нищий, то его положение немногим лучше. Родственники считали его сумасшедшим и отказывались даже видеть его. Слишком гордый, чтобы просить кого-либо об одолжении, и все еще веривший, что настанет день, когда он станет обладателем несметного богатства, он принял решение удалиться на остров Родос, где мог бы на время укрыть свою бедность от людских глаз. Здесь он мог бы жить в блаженной безвестности, но на свою беду случайно встретил монаха, столь же помешанного на превращении металлов. Однако они оба были настолько бедны, что не могли позволить себе купить необходимые материалы для опытов. Они поддерживали дух друг друга учеными рассуждениями о герметической философии и чтением всех великих авторов, писавших на эту тему. Так они лелеяли свое безрассудство, как добрая жена Тэма О’Шентера136— свой гнев, чтобы не дать ему остыть. После того как Бернард прожил на Родосе около года, один купец, знавший его семью, ссудил ему восемь тысяч флоринов под гарантию последних акров, оставшихся от его некогда большого имения. Будучи снова при деньгах, он возобновил свои труды с рвением и энтузиазмом юноши. Три года он почти не выходил из лаборатории: там он ел, спал и даже не давал себе времени на мытье рук и бритье — настолько велико было его усердие. Печально, что столь удивительное упорство было растрачено на столь бесполезные поиски и что усилиям столь титаническим не нашлось более достойного применения. Даже когда у него кончились деньги и не осталось ничего, чтобы в будущем уберечь свою старость от голодной смерти, надежда не покидала его. Он, седой восьмидесятилетний старик, по-прежнему грезил об удаче и перечитывал всех авторов-герметистов — от Гебера до своих современников, дабы наконец постичь процесс, который было еще не слишком поздно возобновить. Алхимики пишут, что в конце концов удача ему улыбнулась и на восемьдесят втором году жизни он открыл секрет превращения. Они добавляют, что после этого он прожил три года, наслаждаясь своим богатством. Он действительно дожил до столь преклонного возраста и сделал одно ценное открытие — более ценное, нежели золото или самоцветы. По его собственным словам, на пороге восьмидесятидвухлетия он понял, что великая тайна философии — это удовлетворенность своей судьбой. Как бы он был счастлив, если бы понял это раньше, прежде чем стать дряхлым и нищим изгоем!
Бернард Таирский умер на Родосе в 1490 году, и все алхимики Европы пели по нему элегии, восславляя «доброго трирца». Он написал несколько трактатов о своей химере, главными из которых являются «Книга о химии», «Verbum dimissum»137 и эссе «De Natura Ovi»138.
ТРИТЕМИЙ
Имя этого выдающегося человека высоко котируется в анналах алхимии, хотя он сделал очень немногое, чтобы удостоиться столь сомнительной чести. Родился он в 1462 году в селении Триттгейм в курфюршестве Трир. Его отцом был зажиточный винодел Иоганн Гейденберг, который, умерев, когда сыну было всего семь лет, оставил его на попечение матери. Последняя очень скоро вновь вышла замуж и перестала заботиться о бедном мальчике, отпрыске от первого брака. В пятнадцать лет он все еще не знал грамоты, вел полуголодное существование и подвергался дурному обращению со стороны отчима, но в сердце несчастного юноши жила любовь к познанию, и он учился читать в доме соседа. Отчим поручил ему работу на виноградниках, занимавшую все светлое время суток; но по ночам он был свободен. Пока все домашние крепко спали, он часто незаметно ускользал из дому, уходил в поле и занимался при свете луны. Так он самостоятельно выучил латынь и основы греческого. Домочадцам его тяга к знаниям была не по душе, и они обращались с ним так скверно, что подросток решил уйти из дома. Вытребовав наследство, оставленное ему отцом, он отправился в Трир, где, приняв образованное от названия родного селения имя Тритемий, прожил несколько месяцев, обучаясь у видных преподавателей, которые подготовили его к поступлению в университет. В возрасте двадцати лет он решил, что ему следует повидать мать, и с этой целью отправился из отдаленного университета пешком в родные края. Когда однажды на исходе пасмурного зимнего дня он уже был близко от Шпангейма, пошел такой сильный снег, что он не смог продолжать путь до этого городка и остановился на ночь в одном из близлежащих монастырей. Однако снежная буря длилась несколько дней, дороги стали непроходимыми, и гостеприимные монахи не желали даже слышать об его уходе. Ему так полюбились они и их образ жизни, что он неожиданно для себя решил поселиться среди них и отказаться от мирских забот. Им он понравился не меньше, и они с радостью приняли его как брата. По прошествии двух лет они, невзирая на его юный возраст, единодушно избрали его своим аббатом. Финансовые дела монастыря находились в крайнем запустении, стены построек обветшали донельзя, повсюду царил беспорядок. Тритемий проявил себя как талантливый руководитель и последовательный организатор, реформировав все статьи расходов обители. Монастырь был отремонтирован, и ежегодная прибыль вместо убытков вознаградила Тритемия за труды. Ему не нравилось праздное существование монахов, занятых исключительно обязательными молитвами да игрой в шахматы в часы отдыха. Поэтому он поручил им перепись сочинений знаменитых авторов. Они трудились настолько усердно, что в течение нескольких лет их библиотека, прежде состоявшая из примерно сорока томов, пополнилась несколькими сотнями ценных манускриптов, охватывающих труды авторов, писавших на классической латыни, сочинения их предков и ведущих историков и философов более позднего периода. Тритемий удерживал сан аббата Шпангеймского двадцать один год, после чего монахи, уставшие от насаждаемой им жесткой дисциплины, восстали против него и выбрали другого аббата. Позднее Тритемий был избран аббатом монастыря св. Иакова в Вюрцбурге, где и скончался в 1516 году.
В часы досуга в Шпангеймском монастыре этот ученый муж написал несколько трудов по оккультным наукам, из которых следует выделить следующие сочинения: первое — о геомантии, или гадании по линиям и кругам на земле, второе — о колдовстве, третье — об алхимии и четвертое, в 1647 году переведенное на английский и изданное знаменитым Уильямом Лилли, — о том, что миром правят ангелы.
Апологеты превращения металлов утверждают, что Шпангеймское аббатство под управлением Тритемия было обязано своим процветанием скорее философскому камню, нежели благоразумной экономии. Тритемия вкупе со многими другими учеными мужами обвиняют в занятии магией. Рассказывают удивительную историю о том, как он вызвал из могилы призрак Марии Бургундской по просьбе императора Священной Римской империи Максимилиана, ее мужа-вдовца. О его труде о стеганографии, или кабалистических письменах, пфальцграфу Фридриху II донесли как о сочинении магическом и дьявольском, после чего тот снял оное с полки своей библиотеки и бросил в огонь. Тритемия считают первым автором, упомянувшим об удивительной истории дьявола и доктора Фауста, в правдивости которой он нисколько не сомневался. Кроме того, он подробно описывает капризы привидения по имени Худекин, кое по временам ему досаждало139.
МАРШАЛ ДЕ РЕ
Одним из наиболее страстно увлеченных сторонников алхимии в XV столетии был Жиль де Лаваль, барон де Ре и маршал Франции. Его деяния на государственном поприще малоизвестны, но в анналах преступлений и безумств вряд ли можно найти персону более выдающуюся и одиозную. Никакой художественный вымысел не изобрел ничего более дикого и ужасного, чем жизненный путь этого реально существовавшего человека. Для описания его жизни более чем достаточно фактов, неоспоримость которых в полной мере подтверждают юридические и другие документы, — фактов, которые любитель романтической литературы легко счел бы призванным пощекотать ему нервы плодом богатого воображения, а не достоянием истории.
Жиль де Лаваль родился около 1420 года в одном из самых благородных семейств Бретани. Когда ему исполнилось одиннадцать лет, его отец умер, и он в столь раннем возрасте вступил в бесконтрольное владение богатством, которому могли позавидовать короли Франции. Он был близким родственником семей Монморанси, Ронси и Краон, владел пятнадцатью роскошными имениями и имел годовой доход примерно триста тысяч ливров. Кроме того, он был красив, образован и храбр. Он сильно отличился в войнах Карла VII, и этот монарх пожаловал ему звание маршала Франции. Но он вел расточительную и беспутную жизнь, сызмальства привыкнув к удовлетворению всех своих желаний и страстей, и это в итоге вело его от порока к пороку и от преступления к преступлению, пока его имя не стало абсолютной персонификацией всех человеческих зол.
В своем замке Шамптосэ он жил с роскошью восточного халифа. У него был отряд из двухсот всадников, сопровождавших его повсюду; его поездки на охоту с соколами и гончими изумляли всю округу роскошью убранства коней и одежд его вассалов и слуг. Круглый год, днем и ночью, его замок был открыт для гостей любого звания. Он взял за правило угощать гипокрасом140 даже самого последнего нищего. Каждый день на его просторных кухнях зажаривали целого быка, а также овец, свиней и домашних птиц в количестве, достаточном, чтобы накормить пятьсот человек. Он был столь же помпезен в своей набожности. Его капелла в Шамптосэ была самой красивой во Франции, намного красивее капелл Собора Парижской богоматери и соборов Амьена, Бове и Руана. Она была украшена золотой парчой и дорогим бархатом. Все люстры были из чистого золота с затейливой инкрустацией серебром. Огромное распятие над алтарем было сделано из чистого серебра, а потиры и кадила — из чистого золота. Помимо этого, у него был внушительных размеров орган, который по его приказу переносился из одного замка в другой на плечах шести человек всякий раз, когда он менял резиденцию. Он держал хор из двадцати пяти малолетних детей обоего пола, которых учили пению лучшие капельмейстеры того времени. Главного священника своей капеллы он величал епископом. Епископу подчинялись деканы, архидиаконы и викарии; все они получали огромное жалованье: епископ — четыреста крон в год, остальные — пропорционально сану.
Он также держал целую актерскую труппу, включавшую десять танцовщиц, столько же менестрелей, а также исполнителей костюмированных танцев, жонглеров и шутов всех мастей. Театр, на подмостках которого они играли, был отделан без оглядки на затраты, и актеры каждый вечер разыгрывали мистерии или исполняли костюмированные танцы, развлекая хозяина дворца, дворцовую челядь и пришлых людей, пользовавшихся гостеприимством и щедростью барона.
В двадцать три года он женился на Катрин, богатой наследнице из рода Туаров, ради которой заново обставил замок мебелью стоимостью сто тысяч крон. Его брак послужил поводом для новой расточительности, и он сорил деньгами пуще прежнего, выписывая лучших певцов и знаменитых танцоров из-за границы, дабы позабавить себя и супругу, и устраивая почти каждую неделю на своем огромном внутреннем дворе турниры для всех рыцарей и дворян провинции Бретань. Двор герцога Бретонского не обладал и половиной роскоши двора маршала де Ре. Полное равнодушие последнего к своему богатству было настолько хорошо известно, что цены на все, что он покупал, завышались продавцами втрое. Его замок кишел нищенствующими тунеядцами и угодниками, получавшими от него щедрое вознаграждение. Но в конце концов обычный набор утех опостылел ему; он стал заметно воздержаннее в еде и игнорировал прелестных танцовщиц, коим ранее уделял немало внимания. Порой он бывал мрачен и замкнут, а его взгляд был неестественно дик, что свидетельствовало о зарождающемся безумии. Вместе с тем его рассуждения оставались здравыми, его любезность по отношению к гостям, стекавшимся в Шамптосэ отовсюду, не уменьшалась, а ученые священники, разговаривая с ним, приходили к выводу, что во Франции найдется мало дворян, столь же образованных, как Жиль де Лаваль. Но по округе поползли зловещие слухи; намекали на убийства и, возможно, еще более зверские деяния; было замечено внезапное и бесследное исчезновение множества маленьких детей обоего пола. Видели, как один или два ребенка вошли в замок Шамптосэ, но никто не видел, чтобы они оттуда выходили. Однако никто не осмеливался открыто обвинять в их пропаже столь могущественную персону, как маршал де Ре. Всякий раз, когда в его присутствии упоминали о пропавших детях, он выражал величайшее удивление их таинственной судьбой и негодование в отношении возможных похитителей. Но обмануть людей было не так-то просто, и дети стали бояться его, словно прожорливого великана-людоеда из сказок; их учили никогда не проходить под башенками замка Шамптосэ, а обходить его за милю.
За несколько лет безрассудного мотовства маршал лишился всех своих денег и был вынужден выставить некоторые свои поместья на продажу. Герцог Бретонский заключил с ним договор о вступлении во владение богатым имением в Инграде, но наследники Жиля умоляли Карла VII вмешаться и приостановить продажу. Карл незамедлительно издал эдикт, ратифицированный парламентом провинции Бретань и запрещавший барону отчуждать свои родовые поместья. Жилю оставалось лишь подчиниться. На поддержание его расточительства у него не осталось ничего, кроме дохода от звания маршала Франции, не покрывавшего и десятой части его расходов. Человек с его привычками и характером не мог урезать свои неэкономные траты и жить по средствам; ему претила сама мысль о том, чтобы избавиться от всадников, шутов, танцоров, хористов и нищих угодников или оказывать гостеприимство лишь тем, кто в нем действительно нуждался. Несмотря на истощившиеся ресурсы, он решил вести прежнюю жизнь и стать алхимиком, с тем чтобы делать золото из железа и по-прежнему оставаться самым богатым и величественным среди дворян Бретани.
Во исполнение этого решения он послал в Париж, Италию, Германию и Испанию своих людей с поручением пригласить всех адептов алхимии нанести ему визит в Шамптосэ. Для этой миссии он отрядил двоих своих самых нуждающихся и беспринципных подданных — Жиля де Силье и Роже де Бриквиля. Последнему, подобострастному пособнику его наиболее тайным и отвратительным усладам, он доверил воспитание его лишенной матери дочери, ребенка всего пяти лет от роду, разрешив ему выдать ее в надлежащее время замуж за любого человека, которого он выберет, или жениться на ней самому, если он того пожелает. Этот человек воспринял новые планы своего хозяина с большим энтузиазмом и познакомил его с неким Прелати, алхимиком из Падуи, и с врачом из провинции Пуату, имевшим то же пристрастие.
Маршал велел оборудовать роскошную лабораторию, и троица приступила к поискам философского камня. Вскоре к ним присоединился еще один мнимый философ по имени Антонио Палермо, помогавший им в их изысканиях более года. Все они жили в роскоши за счет маршала, тратя его деньги и изо дня в день внушая ему надежду на конечный успех их поисков. Время от времени в его замок прибывали новые честолюбцы, и у него месяцами трудились свыше двадцати алхимиков, пытавшихся превратить медь в золото и растрачивавших все еще имевшееся у него золото на снадобья и эликсиры.
Однако барон де Ре был не тем человеком, чтобы сколь угодно долго дожидаться завершения их затянувшихся экспериментов. Довольные своим комфортабельным существованием, они продолжали работать день за днем и, получи они на то разрешение, делали бы это годами. Но он неожиданно прогнал их всех, за исключением итальянца Прелати и доктора из Пуату. Этих двоих он оставил, дабы они помогли ему открыть тайну философского камня более дерзновенным методом. Доктор убедил его, что хранителем означенной и всех прочих тайн является дьявол и что он (доктор) вызовет его перед Жилем, который в свою очередь сможет заключить с ним любую сделку. Жиль выразил готовность пойти на это и пообещал отдать дьяволу все что угодно, кроме своей души, или совершить любое деяние, какое бы заклятый враг рода человеческого ему ни поручил. Сопровождаемый только врачом, он в полночь отправился в укромное место в близлежащем лесу, где его спутник начертил на траве вокруг них двоих магический круг и полчаса бормотал заклинание, приказывая злому духу восстать из ада и открыть секреты алхимии. Жиль наблюдал за происходящим с живым интересом, ожидая, что земля вот-вот разверзнется и явит его взору князя тьмы. Наконец доктор уставился в одну точку, волосы у него встали дыбом, и он заговорил так, словно обращался к дьяволу. Но Жиль не видел никого, кроме своего компаньона. В конце концов доктор упал на траву, будто потеряв сознание. Через несколько минут он встал и спросил барона, видел ли тот, каким разгневанным выглядел дьявол. Жиль ответил, что ничего не видел, после чего его компаньон сообщил, что Вельзевул явился в обличье свирепо рычащего дикого леопарда и не произнес ни слова, а маршал не видел и не слышал его потому, что мысленно не решался полностью посвятить себя служению Зверю. Де Ре признал, что его действительно терзали дурные предчувствия, и спросил, что нужно сделать, чтобы заставить дьявола заговорить и открыть его секрет. Врач ответил, что кто-нибудь должен посетить Испанию и Африку, дабы собрать определенные, произрастающие только там травы, и вызвался сделать это сам, если де Ре обеспечит его необходимыми денежными средствами. Де Ре тут же согласился, и на следующий день врач отправился в путь, забрав все золото, какое жертва его обмана смогла ему уделить. Больше маршал его никогда не видел.
Но нетерпеливый барон из Шамптосэ не ведал покоя. Для его утех требовалось золото, добыть которое он мог лишь заручившись поддержкой сверхъестественных сил. Доктор едва ли преодолел двадцать лье пути, когда Жиль решил еще раз попытаться принудить дьявола разгласить тайну златоделания. Для этого он один ушел из замка в лес, но его заклинания не возымели эффекта. Вельзевул был упрям и никак не хотел появляться. Решив во что бы то ни стало подавить его сопротивление, маршал открыл душу итальянскому алхимику Прелати. Последний предложил свои услуги при условии, что де Ре не будет вмешиваться в заклинания и согласится снабдить его всеми амулетами и талисманами, какие могут потребоваться. Далее он должен был вскрыть вену на руке и подписать кровью договор, гласивший, что он «будет выполнять волю дьявола во всем», а затем принести оному в жертву сердце, легкие, кисти рук, глаза и кровь малолетнего ребенка. Жадный маньяк не колебался ни секунды и сразу же согласился на предложенные отвратительные условия. Следующей ночью Прелати покинул замок один и через три-четыре часа вернулся к Жилю, ждавшему его с нетерпением. Прелати сообщил, что он видел дьявола в обличье прекрасного двадцатилетнего юноши. Он добавил, что дьявол потребовал, чтобы во всех последующих заклинаниях его называли Баррон, и показал ему большое число слитков чистого золота, зарытых под большим дубом в ближайшем лесу. Все эти слитки, сказал дьявол, плюс столько, сколько будет угодно, станут собственностью маршала де Ре, если тот будет твердо следовать условиям договора. Затем Прелати показал ему маленький ларец, наполненный черной пылью, которая должна была превратить железо в золото, и сказал, что, поскольку процесс превращения очень труден, он советует довольствоваться слитками, которые они найдут под дубом и которых будет более чем достаточно для удовлетворения любых желаний, вплоть до самых экстравагантных. Однако, добавил он, они не должны пытаться искать золото, пока не пройдут семью семь недель, иначе они не найдут за свои труды ничего, кроме грифельных досок и камней. Жиль выразил крайнюю досаду и разочарование и сразу сказал, что не может так долго ждать, а если дьявол не может действовать побыстрее, то пусть Прелати скажет ему, что с маршалом де Ре шутки плохи, и откажется от дальнейших контактов. В итоге Прелати убедил его подождать семью семь дней. По прошествии этого времени они, захватив кирки и лопаты, в полночь вышли из замка, чтобы выкопать слитки из-под дуба, но нашли лишь множество грифельных досок с непонятными знаками. На сей раз разгневался Прелати, который громко обругал дьявола, назвав его лжецом и плутом. Маршал искренне разделял это мнение, но хитрый итальянец легко убедил его предпринять еще одну попытку. Одновременно он пообещал попытаться следующей ночью выяснить, почему дьявол не сдержал слово. Сутки спустя он один ушел в лес, а по возвращении сообщил своему патрону, что видел Баррона, который был крайне рассержен тем, что они не выждали должное время, прежде чем искать слитки. Баррон также сказал, что маршал де Ре вряд ли может рассчитывать на какие-либо услуги с его стороны, одновременно собираясь совершить паломничество в Святую землю во искупление грехов. Итальянец, без сомнения, предположил это, исходя из прошлых неосторожных высказываний своего покровителя, когда де Ре искренне признавался, что порой, устав от мирской роскоши и суеты, подумывает о том, чтобы посвятить себя служению Богу.
Так итальянец месяцами искушал своего доверчивого и преступного патрона, вытягивая из него золото и драгоценности в ожидании благоприятной возможности скрыться со своей добычей. Но обоих ждало скорое возмездие. Маленькие девочки и мальчики продолжали исчезать самым таинственным образом, и дурная молва о владельце замка Шамптосэ стала столь громкой и недвусмысленной, что церковь была вынуждена вмешаться. Епископ Нантский сделал представление герцогу Бретонскому, в котором указал, что, если не будут расследованы обвинения против маршала де Ре, разразится публичный скандал. После этого маршала арестовали в собственном замке вместе с его сообщником Прелати и бросили в темницу в Нанте дожидаться суда.
Судьями по делу маршала были назначены епископ Нантский (по совместительству канцлер Бретонский), вице-инквизитор Франции и знаменитый Пьер л’Опиталь, президент парламента провинции. Он обвинялся в колдовстве, содомии и убийствах. В первый день процесса Жиль вел себя исключительно нагло. Он оскорблял судей, обзывая их симониаками141и нечестивцами, и сказал, что предпочел бы быть повешенным, как собака, без суда, нежели признать или не признать себя виновным перед такими презренными негодяями. Но по мере продолжения разбирательства самонадеянность покидала его, и на основании неопровержимых улик он был признан виновным по всем пунктам. Было доказано, что он испытывал болезненное удовольствие, закалывая жертв своей похоти и наблюдая за их предсмертными конвульсиями и за тем, как их глаза становятся безжизненными. Об этом ужасающем безумии судьи впервые узнали из признания Прелати, а сам Жиль перед смертью подтвердил, что это правда. За три года вблизи двух его замков Шамптосэ и Машесу пропало примерно сто крестьянских детей, бóльшая часть которых, если не все, были принесены в жертву вожделению и алчности этого чудовища. Он воображал, что таким образом делает дьявола своим другом, а вознаграждением ему будет секрет философского камня.
И Жиля, и Прелати приговорили к сожжению заживо. На месте казни они изображали раскаяние и набожность. Жиль нежно обнял Прелати со словами: «Прощай, друг Франческо! В этом мире мы больше не встретимся, так давай же вверим наши души Всевышнему и увидимся в раю». Вследствие высокого звания и родовитости маршала ему смягчили наказание и не стали сжигать живым, как Прелати. Он был сначала удавлен, а затем брошен в огонь. Его полусожженный труп передали родственникам для погребения, а итальянца сожгли дотла и развеяли пепел по ветру142.
ЖАК КЁР
Этот выдающийся претендент на владение тайной философского камня был современником Жиля де Ре. Он был заметной фигурой при дворе Карла VII и сыграл видную роль в событиях, имевших место во время его правления. Выходец из самых низов, он добился высочайших государственных почестей и скопил огромное состояние путем казнокрадства и ограбления страны, которой должен был служить. Чтобы скрыть свои махинации и отвлечь внимание людей от истинного источника его богатства, он хвастался тем, что овладел искусством превращения неблагородных металлов в золото и серебро.
Его отец был одним из золотых дел мастеров города Буржа, но к старости стал настолько стеснен в средствах, что не смог заплатить взнос, необходимый для приема сына в гильдию. Несмотря на это, в 1428 году юный Жак получил работу на Королевском монетном дворе Буржа, где настолько хорошо проявил себя и продемонстрировал такие большие познания в металлургии, что его дела в этом учреждении быстро пошли в гору. Кроме того, он имел счастье познакомиться с прелестной Агнес Сорель, которая ему покровительствовала и очень его уважала. В то время в пользу Жака говорили три вещи — умение, настойчивость и моральная поддержка фаворитки короля. Многие люди добиваются успеха, имея лишь одну из них, и было бы поистине странно, если бы Жак Кёр, располагая ими всеми, томился в безвестности. Будучи еще молодым человеком, он был назначен мастером монетного двора, на котором до этого был одним из подмастерьев, и одновременно занял вакантную должность главного казначея королевского двора.
Он обладал обширными познаниями в области финансов и весьма необычным образом обратил это обстоятельство себе на пользу, как только ему доверили большие деньги. Жак спекулировал товарами первой необходимости и приобрел известность, скупая зерно, мед, вина и другие продукты, пока не наступал их дефицит, и затем перепродавая их втридорога. Всесильный королевский фаворит, он, не колеблясь, притеснял бедняков, непрерывно скупая товары и монополизируя торговлю ими. Как нет врага злее отвергнутого друга, так и из всех тиранов и угнетателей бедняков самым свирепым и безрассудным является выдвиженец из их класса. Оскорбительная спесь Жака Кёра по отношению к тем, кто был ниже его по положению, с негодованием порицалась в его родном городе, а его раболепная покорность вельможам более высокого, нежели он, ранга была в равной степени объектом презрения аристократов, в общество которых он втерся. Но первые были Жаку безразличны, а подлинного отношения к нему вторых он не замечал. Его карьера набирала обороты, и со временем он стал самым богатым человеком во Франции и настолько полезным королю, что ни одно важное решение не претворялось в жизнь без предварительной консультации с ним. В 1446 году его направили с дипломатическим поручением в Геную143, а в следующем году — к папе Николаю V. За обе миссии он удостоился милости своего сюзерена и получил в награду прибыльную должность в дополнение к тем, которые уже занимал.
В 1449 году англичане в Нормандии, лишившись своего главного генерала — герцога Бедфорда, нарушили перемирие с французским королем и захватили городок, принадлежавший герцогу Бретонскому. Это послужило сигналом к возобновлению войны, в результате которой французы вновь завладели почти всей провинцией144. Бóльшую часть денег на ведение этой войны ссудил Жак Кёр. Когда Руан сдался французам и Карл совершал триумфальный въезд в город в сопровождении Дюнуа145 и своих наиболее прославленных генералов, Жак был одной из самых блистательных фигур его кортежа. Его повозка и лошади соперничали с королевскими в великолепии, его враги впоследствии говорили, что он во всеуслышание хвалился, что в одиночку прогнал англичан и что доблесть воинов без его золота была бы ничем.
Дюнуа, по всей видимости, был частично того же мнения. Не относясь с пренебрежением к храбрости армии, он признавал полезность способного финансиста, на деньги которого она кормилась и содержалась, и постоянно оказывал ему свое высочайшее покровительство.
Когда был заключен мир, Жак вновь посвятил себя коммерции и снарядил несколько галер для торговли с генуэзцами. Он также приобрел крупные поместья в разных частях Франции, крупнейшими из которых были владения баронов в Сен-Фаржо, Ментоне, Салоне, Мобранше, Монэ, Сен-Жеран-де-Во и Сент-Аон-де-Буасси, имения графов в Ла-Палиссе, Шампиньели, Бомоне и Вильнёве-ла-Женэ и владение маркизов в Туси. Кроме того, он добился для своего сына Жана Кёра, ставшего священнослужителем, высокого сана архиепископа Буржского.
Все говорили, что столь большое состояние не могло быть нажито честным путем. И богачи, и бедняки страстно желали, чтобы настал день, когда будет умерена гордыня этого человека, которого один социальный класс считал выскочкой, а другой — угнетателем. Жак был до некоторой степени встревожен ходившими о нем слухами и туманными намеками на то, что он снизил курс валюты королевства и подделал королевскую печать на одном важном документе, посредством которого выманил у государства огромные суммы. Дабы заглушить эти слухи, он пригласил множество алхимиков из других стран пожить у него и распустил встречный слух, что он открыл тайну философского камня. Он также построил в родном городе величественное здание, над входом в которое приказал высечь алхимические символы. Некоторое время спустя он построил еще один, не менее роскошный, дом в Монпелье, который украсил аналогичным образом. Мало того, он написал трактат по герметической философии, в котором заявил, что знает секрет превращения металлов.
Но все эти попытки завуалировать многочисленные акты казнокрадства оказались бесполезными, и в 1452 году он был арестован и отдан под суд по нескольким обвинениям. Только по одному из них, инспирированному злобой его врагов с целью погубить его, он был оправдан: судьи решили, что Кёр не является пособником отравления его доброй патронессы Агнес Сорель. По остальным пунктам его признали виновным и приговорили к изгнанию из королевства и уплате огромного штрафа четыреста тысяч крон. Было доказано, что он подделал печать короля, что в свою бытность мастером Буржского монетного двора украл у королевства золотые и серебряные монеты на огромную сумму и что без колебаний снабдил турок оружием и деньгами, дабы те могли продолжать войну против соседних христианских стран, за что получил самое щедрое вознаграждение. Карл VII до последнего момента верил в его невиновность и был глубоко опечален вынесенным приговором. Его усилиями штраф был снижен до суммы, которую Жак Кёр был в состоянии заплатить. Отсидев какое-то время в тюрьме, он был освобожден и покинул Францию с крупной суммой денег, часть которой, как подозревали, составляла выручка от реализации конфискованного у него имущества, которую ему тайно выплатил Карл. Он перебрался на Кипр, где умер около 1460 года, будучи богатейшим и известнейшим человеком острова.
Все авторы алхимических трактатов считают Жака Кёра членом их братства и расценивают как лживое и клеветническое более рациональное объяснение его богатству, вытекающее из материалов судебного процесса по его делу. Пьер Борель в своих «Antiquités Gauloises»146отстаивает мнение, что Жак был честным человеком и делал золото из свинца и меди посредством философского камня. Адепты алхимии единодушно разделяли эту точку зрения, но им оказалось трудно убедить в этом даже своих современников, не говоря уже о последующих поколениях.
МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ АДЕПТЫ XIV И XV ВЕКОВ
В XIV и XV столетиях во всех европейских странах появилось множество других претендентов на знание секрета философского камня. Вера в возможность превращения металлов была столь массовой, что всякий химик был в той или иной степени алхимиком. Германия, Голландия, Италия, Испания, Польша, Франция и Англия породили тысячи безвестных адептов, которые в погоне за своей химерой не обходили стороной и более прибыльные астрологию и гадание. Монархи Европы были убеждены в возможности открытия философского камня не меньше своих подданных. Алхимию поощряли английские короли Генрих VI и Эдуард IV. Германские императоры Максимилиан, Рудольф и Фридрих II уделяли ей большое внимание, и их примеру следовали все владетельные князья. Среди дворян и мелких суверенов было обычной практикой пригласить алхимика пожить в их владениях, а потом заточить в темницу и держать там до тех пор, пока он не сделает достаточно золота, чтобы заплатить миллионы в качестве выкупа. В результате множество бедняг томилось в тюрьме постоянно. Подобная участь была, по-видимому, уготовлена Эдуардом II Раймунду Луллию, которому под видом оказания почести было предоставлено жилье в Лондонском Тауэре. Он вовремя распознал трюк, который с ним собирались выкинуть, и сумел бежать. Согласно утверждению некоторых его биографов, он прыгнул в Темзу и доплыл до корабля, стоявшего на якоре в ожидании беглеца. Данная практика бытовала и в XVI веке, о чем более подробно будет рассказано в разделе о Сетоне Космополите.
Из всех сочинителей алхимических трактатов, чья жизнь и похождения либо окутаны тайной, либо по тем или иным причинам не заслуживают детального рассмотрения, можно выделить следующих. Джон Доустон, англичанин, жил в 1315 году и написал два трактата о философском камне. Другой англичанин, Ричард, или, по мнению некоторых, Роберт, жил в 1330 году и написал труд «Correctorium Alchymiae»147, пользовавшийся большим уважением до появления Парацельса. В том же году жил Петр Ломбардский, автор «Всеобъемлющего трактата по герметической науке», сокращенный вариант которого был позднее опубликован Лачини, монахом из Калабрии. В 1330 году самым известным алхимиком Парижа был некий Одомар, чей труд «De Practica Magistri»148 долгое время был настольной книгой алхимического братства. Иоанн де Рупекисса, французский монах-францисканец, жил в 1357 году и объявлял себя как алхимиком, так и пророком. Некоторые его пророчества были настолько неприятны папе Иннокентию VI, что понтифик, решив положить им конец, заточил пророка в ватиканскую темницу. Принято считать, что там он и умер, хотя никаких подтверждений тому не имеется. Главными его трудами являются «Книга света», «Пять эссенций», «Рай философов» и «De Confectione Lapidis»149 — наиболее значимый из всех. Среди адептов он не считался светилом. Еще одним претендентом на алхимические лавры был Ортолани, о котором известно лишь то, что он занимался алхимией и астрологией в Париже незадолго до Николая Фламеля. Его руководство по практической алхимии было написано в этом городе в 1358 году. Считается, что примерно тогда же писал свои труды Исаак Голландский, сын которого также посвятил себя этой науке. Об их жизни не известно ничего, заслуживающего внимания. Бёрхааве похвально отзывается о многих отрывках из их трудов; их высоко ценил Парацельс. Основными из них являются «De Triplici Ordine Elixiris et Lapidis Theoria»150, изданный в Берне в 1608 году, и «Mineralia Opera, seu de Lapide Philosophico»151, вышедший в 1600 году в Мидделбурге. Поляк Коффсткий примерно в 1488 году написал алхимический трактат «Тинктура из минералов». Этот перечень авторов был бы неполным без одного монарха. Король Франции Карл VI, один из самых легковерных суверенов того времени, чей двор кишел алхимиками, магами, астрологами и знахарями всех мастей, неоднократно пытался открыть философский камень и считал себя настолько эрудированным в данной области, что решил просветить мир своим трактатом «Королевское сочинение Карла VI Французского, сокровище философии». Сообщается, что из него Николай Фламель почерпнул идею своего «Желания из желаний». Лагле дю Френуа пишет, что это весьма аллегоричная и абсолютно непонятная книга. Более полный перечень герметических философов XIV и XV столетий читатель может найти в третьем томе вышеупомянутой «Истории» Лагле.
РАЗВИТИЕ АЛХИМИЧЕСКОЙ КОНЦЕПЦИИ В XVI И XVII ВЕКАХ
В XVI и XVII столетиях тысячи легковерных энтузиастов продолжали поиски философского камня, но в данный период алхимическая концепция претерпела значительные изменения. Ученые мужи, посвятившие себя алхимическим изысканиям, значительно пересмотрели их конечную цель, приписав чудодейственному камню и эликсиру способность не только превращать неблагородные металлы в благородные, но и решать все проблемы других наук. Они утверждали, что, овладев ими, человек приблизится к Создателю, что болезни и страдания будут изгнаны из этого мира и что «миллионы святых существ, ходящих по земле невидимыми», будут сделаны видимыми и станут друзьями, компаньонами и учителями человечества. Наибольшее влияние на умы европейцев эти поэтичные и фантастические доктрины оказывали в XVII веке, когда из Германии, где они впервые были выдвинуты Розенкрейцем, распространились на Францию и Англию, прочно засев в умах множества умных, но чересчур увлеченных искателей истины. Парацельс, Ди и другие, менее значительные фигуры были очарованы красотой и изяществом новой мифологии, коей было суждено украсить литературу Европы. Большинство алхимиков XVI столетия, не зная о существовании ордена розенкрейцеров, находилось тем не менее под влиянием их причудливых догматов. Однако, прежде чем начать подробный рассказ об этих возвышенных мечтателях, необходимо подытожить историю герметического недомыслия и проследить постепенное изменение устремлений адептов. Читатель узнает, что по мере взросления цивилизации это слепое увлечение не ослаблялось, а, напротив, усиливалось.
АУГУРЕЛЛО
Среди алхимиков, родившихся в XV и ставших известными в XVI веке, первым по хронологии является Джованни Аурелио Аугурелло. Он родился в 1441 году в Римини и по прошествии лет стал профессором беллетристики в Венеции и Тревизо. Еще в молодости он уверовал в герметическую науку и то и дело молил Всевышнего ниспослать ему счастье открытия философского камня. Он жил в окружении химических принадлежностей и тратил все свои деньги на приобретение снадобий и металлов. Кроме того, он был поэтом, но переоценивал свой поэтический дар. Свою «Крисопею», где он объявляет себя корифеем златоделания, он посвятил папе Льву X в надежде, что понтифик щедро вознаградит его за любезность. Однако папа, будучи слишком тонким ценителем поэзии, чтобы получить удовольствие от более чем заурядной поэмы, и слишком хорошим философом, чтобы одобрить проповедуемые ею странные доктрины, был далеко не в восторге от этого посвящения. Сообщается, что, когда Аугурелло обратился к нему за вознаграждением, папа, выглядевший воплощением доброты и сердечности, церемонно достал из кармана пустой кошелек и презентовал его алхимику, сказав, что, поскольку тот умеет делать золото, самым подходящим подарком ему является кошелек, чтобы это золото в него класть. Эта издевательская награда была всем, что бедный алхимик когда-либо получил за свою поэзию и алхимию. Он умер на восемьдесят третьем году жизни в крайней нужде.
КОРНЕЛИЙ АГРИППА
Данный алхимик имеет выдающуюся репутацию. О его способностях рассказывали самые удивительные истории. Говорили, что он может превращать железо в золото одним лишь словом. Он-де повелевал всеми ангелами небес и демонами преисподней, которые были готовы повиноваться ему во всем, и мог вызывать из могил «выглядящих, как при жизни», призраков великих людей, являя их взору тех любопытных, которым хватало смелости вынести их присутствие.
Он родился в Кёльне в 1486 году и с ранних лет начал изучать химию и философию. Каким-то не вполне понятным образом ему удалось убедить современников в своих необычайных достижениях. Когда ему было всего двадцать лет, его репутация как алхимика была столь высока, что ведущие адепты Парижа слали ему в Кёльн приглашения поселиться во Франции и поделиться с ними опытом открытия философского камня. Почести сыпались на него, как из рога изобилия, и его высоко ценили все ученые мужи того времени. Меланхтон152 пишет о нем с уважением и похвалой. Эразм153 также свидетельствует в его пользу, да и все остальные выдающиеся личности той поры называли его светилом литературы и украшением философии. Некоторым чересчур самовлюбленным людям удается убедить современников в собственном величии: они придают якобы приобретенным ими знаниям столь широкую огласку и столь часто занимаются самовосхвалением, что рукоплескания их «аудитории» перерастают в овацию. Случай с Агриппой относится, очевидно, именно к этому разряду. Он называл себя выдающимся богословом, превосходным юристом, искусным врачом, великим философом и удачливым алхимиком. Мир в конце концов поверил ему на слово, сочтя, что человек, который так себя превозносит, не может не иметь заслуг, говорящих в его пользу, и что за поднятой им шумихой действительно что-то есть. Он был назначен письмоводителем императора Максимилиана, который дал ему титул рыцаря и сделал командиром одного из своих полков. Позднее Корнелий стал профессором иврита и беллетристики в университете Доля во Франции, но, переругавшись с францисканцами из-за каких-то богословских разногласий, был вынужден покинуть этот город. Он нашел пристанище в Лондоне, где около года преподавал иврит и составлял гороскопы. Из Лондона он проследовал в Павию, где читал лекции по истинным или предполагаемым сочинениям Гермеса Трисмегиста и мог бы жить в мире и почете, если бы вновь не поссорился со священниками. Их усилиями его положение стало настолько незавидным, что он был рад принять предложение магистрата Меца стать их синдиком и генерал-адвокатом. Здесь он вновь нажил себе врагов своей любовью к диспутам: теологи-мудрецы этого города утверждали, основываясь на тогдашних верованиях, что св. Анна имеет трех мужей. Агриппа без нужды стал доказывать ложность этого убеждения, или, как он его называл, предрассудка, чем сильно подорвал свой авторитет. Вскоре он втянулся в другой диспут, делающий ему больше чести, и окончательно упал в глазах жителей Меца. Когда он гуманно выступил в защиту молодой девушки, обвиненной в ведовстве, его враги заявили, что он сам колдун, и подняли такой шум вокруг его персоны, что ему пришлось бежать из города. После этого он стал врачом Луизы де Савой, матери короля Франциска I. Эта дама хотела узнать будущее и приказала своему доктору составить ее гороскоп. Агриппа ответил, что не станет потворствовать столь праздному любопытству. В результате он утратил ее доверие и был немедленно уволен. Если бы его ответ был продиктован верой в бесполезность астрологии, мы могли бы восхищаться его честностью, бесстрашием и независимостью; но, зная, что в тот период он постоянно занимался гаданием и составлением гороскопов и предсказывал коннетаблю154 де Бурбону грандиозный успех во всех его начинаниях, можем лишь удивляться тому, что он лишился влиятельного друга из-за обычного раздражения и своенравия.
Примерно тогда же его одновременно пригласили поселиться в своих владениях Генрих VIII Английский и Маргарита Австрийская, правительница Нидерландов155. Он принял предложение последней и при ее содействии был назначен историографом императора Священной Римской империи Карла V. К несчастью для Агриппы, ему никогда не удавалось надолго удержаться на одном месте, так как его покровители не могли простить ему его несдержанность и высокомерие. После смерти Маргариты он был заключен в брюссельскую тюрьму по обвинению в колдовстве. Через год был освобожден и, покинув страну, испытал множество превратностей судьбы. Он умер в нищете в 1534 году в возрасте сорока восьми лет.
Находясь в услужении у Маргариты Австрийской, он жил главным образом в Лёвене и написал в этом городе свой знаменитый труд «Тщета и ничтожность человеческих знаний». Чтобы угодить своей властительной госпоже, написал трактат «Превосходство женского пола», посвященный ей в знак благодарности за милости, которыми она его осыпала. Однако население означенных провинций относилось к нему отнюдь не благосклонно. В то время он стал объектом великого множества фантастических слухов. Говорили, что золото, которым он расплачивается с торговцами, всегда необычайно ярко блестит, но в течение суток неизменно превращается в куски сланца и камни. Люди верили, что он сделал большое количество фальшивого золота с помощью дьявола, который, как можно из этого заключить, имел лишь поверхностные знания в области алхимии — намного меньшие тех, на которые уповал маршал де Ре. Иезуит Дельрио в своей книге о магии и колдовстве приводит еще более удивительную историю о нем. Однажды Агриппа, уходя на некоторое время из своего дома в Лёвене, отдал ключ от рабочего кабинета жене, строго-настрого запретив впускать туда кого-либо в его отсутствие. Эта женщина, как ни странно может показаться, не стремилась совать нос в секреты мужа и никогда не помышляла о том, чтобы войти в запретную комнату. Однако один юный студент, поселенный в мансарде дома философа, испытывал жгучее желание проникнуть в его кабинет, надеясь, что ему удастся стащить какую-нибудь книгу или инструмент, которые помогут ему открыть секрет превращения металлов. Поскольку юноша был красив, красноречив и, главное, весьма лестно отзывался о красоте хозяйки дома, он без особого труда убедил ее одолжить ему ключ, но она строго запретила ему что-либо оттуда выносить. Студент поклялся этого не делать и вошел в кабинет Агриппы. Первым, что привлекло его внимание, был большой гримуар, или Книга заклинаний, лежавшая открытой на рабочем столе философа. Юноша тут же сел за стол и начал читать ее вслух. После первого же произнесенного им слова ему показалось, что он слышит стук в дверь. Он прислушался, но все было тихо. Решив, что ему просто послышалось, он продолжил чтение и вдруг услышал более громкий стук, который так его напугал, что он вскочил на ноги. Он пытался сказать «Войдите», но язык отказывался ему повиноваться, и юноша не смог произнести ни звука. Он уставился на дверь, которая, медленно открывшись, явила его взору величественного, но рассерженного незнакомца, который строго спросил, зачем его вызвали. «Я вас не вызывал», — ответил дрожащий студент. «Нет, вызывал! — сказал незнакомец, все больше сердясь. — А демонов нельзя вызывать понапрасну». Студент не нашелся, что ответить, а демон, разъяренный тем, что один из непосвященных вызвал его просто из самонадеянности, схватил юношу за горло и задушил. Когда Агриппа через несколько дней вернулся домой, он увидел, что дом осажден бесами. Некоторые из них сидели на колпаках дымовых труб и болтали ногами, другие играли в чехарду на самом краю парапета. В кабинете их было так много, что Агриппе было трудно добраться до стола. Когда он наконец протиснулся сквозь их заслон, то увидел, что книга открыта, а на полу лежит мертвый студент. Он сразу понял, как произошло несчастье, и, прогнав всех нижестоящих бесов, спросил главного демона, чем его так прогневал молодой человек. Демон ответил, что юноша вызвал его без нужды, чем нанес ему оскорбление, и что ему ничего не оставалось делать, кроме как убить непосвященного за самонадеянность. Агриппа строго его отчитал и приказал ему немедленно оживить мертвое тело и прогуливаться с ним по рыночной площади до наступления темноты. Демон так и сделал; студент ожил и, взяв своего сверхъестественного убийцу под руку, безмятежно гулял с ним у всех на виду. С заходом солнца его тело вновь стало холодным и безжизненным, и толпа доставила его в больницу, единодушно решив, что он скончался от апоплексического удара. Его спутник немедленно исчез. Когда тело осмотрели, то обнаружили следы удушения на шее и отпечатки длинных когтей демона на разных его частях. Данные признаки вкупе с быстро распространившимся слухом, что компаньон молодого человека исчез в облаке огня и дыма, открыли людям глаза на правду. Власти Лёвена назначили расследование, и Агриппе пришлось покинуть город.
Помимо Дельрио, подобные истории об этом философе рассказывают и другие авторы. В те времена люди охотно верили выдумкам о магии и колдовстве; и неудивительно, что, когда, как в случае с Агриппой, тот, кого считали волшебником, объявлял себя таковым и требовал веры в творимые им чудеса, современники признавали правомочность его притязаний. Подобные заявления были опасной похвальбой, которая порой доводила ее автора до костра или виселицы и потому считалась не лишенной основания. Пауль Йовий в своей книге «Eulogia Doctorum Virorum»156 пишет, что Агриппу повсюду сопровождал бес в обличье крупного черного пса. Томас Нэш157 в «Приключениях Джека Уилтона» сообщает, что по просьбе лорда Суррея, Эразма и ряда других ученых мужей Агриппа вызвал с того света множество великих философов древности. Среди таковых был Туллий, которого он заставил вновь произнести его знаменитое обращение к Росцию158. Кроме того, когда лорд Суррей был в Германии, Агриппа с помощью волшебного зеркала продемонстрировал ему достоверное изображение дамы его сердца, прекрасной Джеральдины, сидящей на кушетке и оплакивающей отсутствие возлюбленного. Лорд Суррей зафиксировал точное время демонстрации и позднее подтвердил, что в ту минуту его пассия действительно это делала. Лорду Томасу Кромвелю Агриппа продемонстрировал короля Генриха VIII, охотящегося в Виндзор-парке в окружении главных лордов его двора, а чтобы угодить императору Карлу V, он вызвал из могилы царей Давида и Соломона.
Ноде в «Защите великих людей, обвиняемых в колдовстве» предпринимает титанические усилия, дабы очистить Агриппу от инсинуаций Дельрио, Пауля Йовия и прочих невежественных и предубежденных писак. Во времена Ноде подобные истории требовали опровержения, сегодня же от них можно с уверенностью отмахнуться из-за их абсурдности. А тот факт, что они приписывались человеку, заявлявшему о своей способности превращать железо в золото путем приказа и написавшему труд о подвластной ему магии, вовсе не является удивительным.
ПАРАЦЕЛЬС
Этот философ, которого Ноде назвал «зенитом и восходящим солнцем всех алхимиков», родился в местечке Айнзидельн, неподалеку от Цюриха, в 1493 году. Его настоящая фамилия была Гогенгейм, к которой, по его собственным словам, была спереди приставлена данная при крещении цепочка имен Ауреол Теофраст Бомбаст Парацельс. Последнее из них он выбрал себе в качестве общего имени, когда был еще ребенком, и в течение жизни сделал его одним из наиболее прославленных в анналах своего времени. Его отец был доктором и учил сына своему ремеслу. Последний был способным учеником и делал большие успехи. Однажды к нему в руки случайно попал труд Исаака Голландского, и с тех пор его охватила мания поисков философского камня. Отныне все его мысли были посвящены металлургии, и он совершил путешествие в Швецию, чтобы посетить рудники этой страны и исследовать руды, все еще залегающие в недрах земли. Он также нанес визит в Шпангеймский монастырь и встретился с Тритемием, который обучил его алхимическим приемам. Продолжив путешествие, Парацельс через Пруссию и Австрию проследовал в Турцию, Египет и Татарию, а прибыв оттуда в Константинополь, освоил, по его собственному утверждению, искусство превращения металлов и овладел elixir vitae. После этого он стал врачом в родной Швейцарии, в Цюрихе, и принялся писать труды по алхимии и медицине, немедленно привлекшие внимание Европы. Их крайняя непонятность не мешала их славе: похоже, что чем меньше этого автора понимали, тем больше демонологи, фанатики и охотники за философским камнем его ценили. Благодаря нескольким предложенным им и оказавшимся удачными способам лечения болезней посредством ртути и опия — лекарств, бесцеремонно забракованных его собратьями по профессии, — его известность как алхимика подкреплялась высокой репутацией врача. В 1526 году он был избран профессором медицины и натурфилософии Базельского университета, и его лекции привлекали огромное количество студентов. Он осуждал сочинения всех прежних медиков как имеющие свойство вводить читателя в заблуждение и однажды публично сжег труды Галена159 и Авиценны, назвав их шарлатанами и самозванцами. В присутствии восхищенной и вместе с тем озадаченной толпы, собравшейся посмотреть на эту церемонию, он воскликнул, что в его шнурках больше знания, чем в сочинениях данных врачей. Продолжая в том же духе, он изрек, что все университеты мира полны невежественных знахарей, но он, Парацельс, преисполнен мудрости. «Вы все будете следовать моей новой системе, — говорил он, яростно жестикулируя. — Авиценна, Гален, Разес, Монтаньяна, Меме — вы все последуете за мной! Профессора Парижа, Монпелье, Германии, Кёльна и Вены и вы, живущие на берегах Рейна и Дуная, вы, обитатели морских островов, а также вы, итальянцы, далматинцы, афиняне, арабы, иудеи, — все вы последуете моим доктринам, ибо я — царь медицины!»
Но Парацельс недолго пользовался уважением добрых базельцев. Сообщается, что он так сильно увлекался вином, что его часто видели пьяным на улице. Для врача это означало конец карьеры, и его добрая слава быстро шла на убыль. Еще быстрее росла его дурная слава, особенно после того, как он объявил себя колдуном. Он хвалился будто бы находящимися у него в подчинении легионами духов, особенно одним из них, которого он якобы держал в заточении в эфесе своей шпаги. Веттер, проживший в услужении у Парацельса два года и три месяца, сообщает, что его хозяин часто грозился вызвать целую армию демонов и продемонстрировать ему ту огромную власть, которую он-де над ними имел. Он заявлял, что дух в его шпаге охраняет эликсир, посредством которого можно продлить жизнь на долгие годы. Он также хвастался, что ему подневолен дух по имени «Азот»160, которого он держит заключенным в драгоценный камень. На многих старинных портретах он изображен держащим в руке драгоценный камень, на котором выгравировано слово «Азот».
Если даже пророка-трезвенника не слишком жалуют в своем отечестве, то пророка-пьяницу жалуют еще меньше. В конце концов Парацельс счел за благо покинуть Базель и обосноваться в Страсбурге. Причиной поспешной смены места жительства было следующее. Один горожанин находился при смерти, и на его выздоровление не надеялся ни один врач города. Наконец больной решил использовать последний шанс и послал за Парацельсом, которому пообещал щедрое вознаграждение в случае излечения. Парацельс дал ему две маленькие пилюли, которые тот принял и быстро выздоровел. Когда этот человек окончательно оправился от болезни, Парацельс послал за своим гонораром, но горожанин не оценил по достоинству столь быстродействующее и эффективное лекарство. Он не собирался отдавать пригоршню золота за две пилюли, хотя они спасли ему жизнь, и отказался платить сверх обычного гонорара за один визит. Парацельс возбудил против него дело, но проиграл. Это настолько его разозлило, что он в глубоком возмущении покинул Базель. Он возобновил свои странствия и путешествовал по Германии и Венгрии, зарабатывая деньги на легковерии и слепых увлечениях всех социальных слоев; составлял гороскопы, предсказывал будущее, помогал тем, у кого водились деньги, выбросить их на эксперимент по нахождению философского камня, прописывал лекарства для коров и свиней и оказывал помощь в обнаружении украденных вещей. Пожив поочередно в Нюрнберге, Аугсбурге, Вене и Миндельгейме, Парацельс в 1541 году удалился в Зальцбург и умер в больнице этого города в крайней нищете.
Если при жизни этот необычайный знахарь имел сотни приверженцев, то после смерти их счет пошел на тысячи. Во Франции и Германии возникли секты так называемых парацельсистов, призванные увековечить его экстравагантные научные, особенно алхимические, доктрины. Главными лидерами этих сект были Боденштейн и Дорней. Вкратце учение Парацельса, основанное на предполагаемом существовании философского камня, абсурдное по своей природе и в целом не имеющее аналогов в истории философии, сводится к следующему. Прежде всего он утверждал, что предположение о безупречности Бога является достаточным условием приобретения мудрости и знаний, что Библия — ключ к теории всех болезней и что для постижения атрибутов магической медицины необходимо изучать Апокалипсис. Тот, кто слепо подчинится воле Господа и преуспеет в самоотождествлении с божественными созданиями, владеющими философским камнем, сможет лечить все болезни и, подобно Адаму и допотопным патриархам, продлевать жизнь до сколь угодно многих столетий. Жизнь — это излучение небесных светил: Солнце управляет сердцем, Луна — мозгом, Юпитер — печенью, Сатурн — желчным пузырем, Меркурий — легкими, Марс — кишечником, Венера — чреслами. В желудке каждого человека обитает демон, или мыслящее существо, — своего рода алхимик, смешивающий в своем тигле в должных пропорциях разные хвори, поступающие в его лабораторию161. Парацельс гордился титулом мага и хвастливо заявлял, что поддерживает регулярную переписку с находящимся в аду Галеном и часто вызывает оттуда же Авиценну, чтобы поспорить с ним о ложных представлениях об алхимии, которые тот в свое время пропагандировал, особенно о тех, что касались питьевого золота и эликсира жизни. Парацельс думал, что золото может исцелять сердечно-сосудистые и все прочие заболевания при условии, что оно получено в результате превращения неблагородного металла посредством философского камня и применяется при определенном взаимном расположении небесных светил. Одного лишь перечисления трудов, в которых он выдвигает эти безумные идеи, называемые им доктриной, хватило бы на несколько страниц.
ГЕОРГ АГРИКОЛА
Этот алхимик родился в германской провинции Мисния в 1494 году Его настоящая фамилия была Бауэр, то есть «землепашец», и в соответствии с тогдашней модой он латинизировал ее в Агриколу. С ранних лет восхищался постулатами герметической науки. Ему еще не было и шестнадцати, а он уже стремился найти великий эликсир, который продлил бы его жизнь до семисот лет, и камень, который принес бы ему богатство, необходимое для безбедного существования в течение столь длительного периода. В 1531 году он издал в Кёльне небольшой трактат на эту тему, обеспечивший ему покровительство прославленного Морица, курфюрста Саксонского. После нескольких лет врачебной практики в Иоахимштале, в Богемии, Агрикола стараниями Морица стал управляющим серебряных рудников города Хемница. Среди рудокопов он чувствовал себя счастливым, ставя различные алхимические опыты глубоко в недрах земли. Он многое узнал о металлах и постепенно избавился от сумасбродных представлений о философском камне. Рудокопы не верили в алхимию и привили ему их образ мыслей как по этому, так и по другим вопросам. Их легенды убедили его в том, что недра земли населены добрыми и злыми духами, а взрывы рудничного газа вызываются не чем иным, как склонностью последних к озорству. Георг Агрикола умер в 1555 году, оставив по себе память как о чрезвычайно способном и умном человеке.
ДЕНИС ЗАХАРИЙ
Автобиография, написанная умным человеком, который некогда был глупцом, не только в высшей степени поучительна, но и исключительно приятна для чтения. Денис Захарий, алхимик XVI века, выполнил эту работу, оставив после себя достойный внимательного прочтения отчет о собственном безрассудстве и слепой погоне за философским камнем. Он родился в 1510 году в одном из древних родов Гиени, и в раннем возрасте был отправлен в Бордоский университет под наблюдением домашнего учителя, обязанного направлять учебный процесс своего подопечного в нужное русло. К несчастью, сей учитель был одним из искателей великого эликсира, и вскоре его безумие передалось ученику. После этого введения мы позволим Денису Захарию говорить от первого лица и продолжить рассказ о нем его собственными словами. «Я получил из дома, — пишет он, — сумму в двести крон на расходы себе и учителю, но до конца года все наши деньги улетучились в дыму наших печей. В это же время мой учитель умер от лихорадки, вызванной палящим жаром в нашей лаборатории, откуда он почти не выходил и где было едва ли менее жарко, чем на стекольном заводе в Венеции. Его смерть усугубило то, что мои родители, воспользовавшись этим печальным обстоятельством, уменьшили мое содержание и высылали мне ровно столько, сколько требовалось для оплаты учебы и проживания, вместо суммы, требовавшейся для продолжения моих алхимических изысканий.
Чтобы решить эту проблему и избавиться от родительского утеснения, я в возрасте двадцати пяти лет вернулся домой и заложил часть своего имения за четыреста крон. Данная сумма была нужна мне для проведения научного опыта, о коем я узнал в Тулузе от одного итальянца, который, по его словам, уже убедился в его эффективности. Я нанял этого человека к себе в услужение, дабы мы смогли провести упомянутый эксперимент. Далее я попытался путем интенсивной дистилляции прокалить золото и серебро для превращения примесей в благородный металл, но все мои труды оказались напрасны. Масса золота, извлеченного мною из печи, уменьшилась вполовину по сравнению с первоначальной, и от моих четырехсот крон осталось только двести тридцать. Я дал моему итальянцу двадцать крон, с тем чтобы он смог отправиться в Милан, где жил автор рецептуры, и получить от него разъяснение некоторых ее фрагментов, недоступных нашему пониманию. Дожидаясь его возвращения, я провел в Тулузе всю зиму и, вероятно, оставался бы там и по сей день, если бы продолжил ожидание, потому что больше я его никогда не видел.
Летом разразилась эпидемия чумы, и мне пришлось покинуть город. Несмотря на это, я не отказался от своего занятия. Я отправился в Каор, где прожил полгода и познакомился со стариком, которого все знали как Философа. В провинциях этим прозвищем часто награждают тех, чья единственная заслуга состоит в том, что они менее невежественны, нежели их соседи. Я показал ему свою коллекцию алхимических рецептов и спросил, что он о них думает. Он выбрал из них десять–двенадцать, сказав лишь, что они лучше остальных. Когда эпидемия кончилась, я вернулся в Тулузу и возобновил свои эксперименты по отысканию философского камня. В результате от моих четырехсот крон осталось сто семьдесят.
Стремясь узнать какую-нибудь более безопасную методику, я в 1537 году свел знакомство с одним жившим по соседству аббатом. Он был охвачен той же манией, что и я, и рассказал мне, что один из его друзей, отбывший в Рим в свите кардинала д’Арманьяка, прислал ему из этого города новый надежный рецепт трансмутации железа и меди, реализация которого обойдется в двести крон. Я предоставил половину этой суммы, другую половину выделил аббат, и мы приступили к работе. Поскольку для эксперимента требовался винный спирт, я купил бочку превосходного vin de Gaillac. Я получил спиртовой экстракт и несколько раз его очистил. Мы взяли некоторое количество ректификата и положили в него четыре серебряные марки и одну золотую, подвергнутые прокаливанию в течение месяца. Сию смесь мы ловко перелили в сосуд в форме рога, соединенный с другим сосудом, выполнявшим функцию реторты, и для затвердевания смеси поместили весь аппарат в печь. Данный эксперимент длился год; а чтобы не сидеть все это время без дела, мы тешились множеством других, менее значимых опытов. Они, впрочем, имели тот же результат, что и наш главный труд.
Весь 1537 год прошел без каких-либо изменений в состоянии смеси; в сущности, мы могли ждать затвердевания нашего винного спирта до второго пришествия. Тем не менее мы подвергли его воздействию паров нагретой ртути, но тщетно. Мы были сильно раздосадованы, особенно аббат, который уже похвастался перед всеми монахами своего монастыря, что им нужно лишь принести ему большой насос, стоящий в углу монастырской территории, и он превратит его в золото. Но эта неудача не поколебала нашего упорства. Я еще раз заложил мои родовые земли за четыреста крон, которые решил истратить на новые поиски великого секрета. Аббат пожертвовал такую же сумму, и я с восемьюстами кронами отправился в Париж — город, в котором алхимиков больше, чем в любом другом городе мира. Я решил не покидать его до тех пор, пока либо не найду философский камень, либо не истрачу все мои деньги. Это путешествие нанесло сильнейшую обиду всем моим родственникам и друзьям, которые считали, что из меня может выйти великий юрист, и очень хотели, чтобы я посвятил себя данной профессии. Для восстановления спокойствия я в конце концов сделал вид, что это и есть моя цель.
9 января 1539 года после пятнадцатидневного путешествия я прибыл в Париж. В течение месяца я держался в тени и начал часто посещать алхимиков — любителей и ходить в лавки, где продавались печи, только после того, как познакомился более чем с сотней профессиональных алхимиков, каждый из которых следовал своей собственной теории и методике. Одни отдавали предпочтение скреплению, другие искали универсальный алкагест, или растворитель, третьи превозносили действенность корундовой эссенции, а четвертые пытались получить экстракт ртути из других металлов и добиться ее последующего затвердевания. Чтобы постоянно держать друг друга в курсе достижений каждого в отдельности, мы договорились где-нибудь встречаться каждый вечер и обмениваться новостями. Иногда мы собирались в доме одного, а иногда — в мансарде другого. Это происходило не только в будние дни, но и по воскресеньям и церковным праздникам. “Ах! — говорил, бывало, один. — Будь у меня деньги на возобновление эксперимента, удача бы мне улыбнулась”. “Да, — говорил другой, — если бы мой тигель не треснул, я бы уже добился успеха”. Третий же отчаянно восклицал: “Имей я всего лишь достаточно прочный сферический медный сосуд, я бы добился затвердевания ртути и получил серебро”. Среди них не было никого, кто не имел какого-нибудь оправдания своей неудаче; но я был глух к их речам. Я не хотел отдавать свои деньги никому из них, помня, как часто оставался в дураках.
Наконец я познакомился с одним греком и долго ставил вместе с ним бесполезные опыты на гвоздях из киновари. Я также познакомился с одним вновь прибывшим в Париж иностранным дворянином и часто посещал с ним ювелирные лавки, где он сбывал куски золота и серебра, являвшиеся, как он говорил, плодами его экспериментов. Я долгое время приставал к нему с расспросами в надежде, что он поделится со мной своим секретом. Он долго отказывался это сделать, но в конце концов уступил моим страстным мольбам, и я понял, что его тайна — не более чем искусный трюк. Я не забывал информировать моего оставшегося в Тулузе друга-аббата о всех своих приключениях и среди прочих писем послал ему отчет о фокусе, посредством коего сей господин продемонстрировал свое мнимое умение обращать свинец в золото. Аббат все еще верил, что я в конце концов добьюсь успеха, и посоветовал мне остаться в Париже, где я развернул столь бурную деятельность, еще на год. Я оставался там три года, однако, несмотря на все мои усилия, преуспел в своих изысканиях не более, чем где-либо в допарижский период.
У меня уже кончались деньги, когда я получил от аббата письмо, в котором он велел мне все бросить и незамедлительно вернуться в Тулузу. Я так и сделал и узнал, что к этому времени он получил несколько писем от короля Наварры (деда Генриха IV). Этот монарх был страстным, в высшей степени любознательным поклонником философии и писал аббату, что мне следует прибыть в По и нанести ему визит и что он заплатит мне от трех до четырех тысяч крон, если я сообщу ему секрет, узнанный от дворянина-иностранца. Аббата так раззадорила сия сумма, что он не давал мне покоя ни днем, ни ночью, пока я наконец не отправился в По. Я прибыл туда в мае 1542 года. Я работал не покладая рук и, следуя полученному мною рецепту, наконец добился успеха. Когда, к удовольствию короля, это произошло, я получил обещанную награду. Он был готов заплатить и больше, но его отговорили от этого придворные — даже те из них, кто ранее жаждал моего прибытия. Тогда он сердечно меня отблагодарил и отпустил с миром, сказав, что если в его королевстве найдется что-то, чем он сможет меня наградить — конфискованное имущество или нечто подобное, то он будет только рад это сделать. Я счел, что этих грядущих конфискаций мне, возможно, придется ждать довольно долго и что в конечном счете они мне так и не достанутся, и решил вернуться к моему другу-аббату.
По дороге из По в Тулузу я узнал об одном тулузском монахе, весьма сведущем в вопросах натурфилософии. По возвращении я нанес ему визит. Он отнесся ко мне с жалостью и с теплотой и добротой в голосе дал мне совет более не занимать свое время подобными экспериментами, ложными и софистскими по своей природе, а прочесть хорошие книги древних философов, из которых я, возможно, узнаю не только истинную сущность алхимии, но и точную последовательность необходимых операций. Мне сей мудрый совет пришелся по душе, но, прежде чем ему последовать, я вернулся к тулузскому аббату, дабы отчитаться перед ним о наших общих восьмистах кронах и одновременно разделить с ним вознаграждение, полученное мною от короля Наваррского. Его не слишком обрадовал рассказ о моих похождениях с момента нашего первого расставания и, похоже, еще меньше обрадовало мое решение отказаться от поисков философского камня, ибо он полагал, что мне по плечу его найти. От наших восьмисот крон осталось всего сто семьдесят шесть. Расставшись с аббатом, я вернулся в свой собственный дом с намерением оставаться там до тех пор, пока я не прочту книги всех древних философов, а затем отправиться в Париж.
Я прибыл в Париж на следующий день после Дня всех святых 1546 года и посвятил год прилежному изучению трудов великих ученых. Среди них были “Turba Philosophorum”162Доброго трирца, “Увещевание природы странствующему алхимику” Жана де Мёна и некоторые другие достойные книги. Однако, не имея четкой доктрины, я не вполне понимал, в каком направлении продолжать поиски.
Наконец я нарушил свое уединение, но не для того, чтобы встретиться с прежними знакомыми — адептами и ремесленниками, а с целью попасть в общество истинных философов. Но в их среде мои мысли пришли в еще больший хаос, так как, в сущности, я был совершенно сбит с толку многообразием опытов, которые они при мне ставили. Тем не менее подстегиваемый своего рода безумной страстью или вдохновением, я стал лихорадочно штудировать труды Раймунда Луллия и Арнальдо де Вилановы. Их прочтение и обдумывание прочитанного заняло еще один год, после чего я наконец решил, в каком направлении мне следует двигаться. Однако, прежде чем взяться за дело, мне потребовалось время, чтобы заложить еще одну весьма существенную часть моего наследства. Это произошло лишь в начале великого поста 1549 года. Я приобрел все необходимое и приступил к работе во второй день Пасхи. Не обошлось, однако, без беспокойства и противодействия моих друзей. Один из них спросил меня, что я собираюсь делать и не пора ли перестать тратить деньги на подобные глупости. Другой убеждал меня в том, что, покупая так много древесного угля, я тем самым усиливаю уже существующее подозрение, что я фальшивомонетчик. Третий советовал мне добиться какой-нибудь должности в суде, поскольку в то время я уже был доктором права. Мои родственники высказывались в еще более неприятном для меня ключе и даже угрожали мне тем, что, если я не откажусь от своих сумасбродных затей, они пришлют ко мне в дом отряд полицейских и разобьют вдребезги все мои печи и тигли. Я был крайне изнурен этим непрерывным преследованием, но находил утешение в своей работе и продвижении эксперимента, которому уделял большое внимание и который благополучно длился день за днем. В то время в Париже свирепствовала страшная эпидемия чумы, прервавшая всякое общение между людьми и оставившая меня наедине с собой, как я того и хотел. Вскоре я имел удовольствие отметить прогресс в ходе эксперимента и наблюдать последовательную смену тех трех цветов, кои, по мнению философов, всегда предвещают близость успешного завершения работы. Я отчетливо видел, как они сменяют друг друга, и на следующий день, первый день Пасхи 1550 года, я совершил великое деяние. Некоторое количество обычной ртути, которую я перелил в стоявший на огне маленький тигель, менее чем за час превратилось в самое высокопробное золото. Моей радости не было предела, но я не стал хвалиться своим достижением. Я возносил хвалы Господу за его доброту ко мне и молил его лишь о том, чтобы он позволил мне так распорядиться долгожданным богатством, чтобы еще больше восславить его и его деяния.
На следующий день я отправился в Тулузу, дабы найти аббата в соответствии со взаимным обещанием сообщать друг другу о сделанных нами открытиях. По пути я зашел к мудрому монаху, который ранее помог мне своими советами, но, к своему прискорбию, узнал, что и монах, и аббат умерли. После этого я не захотел возвращаться домой и удалился в другое место, чтобы дождаться там одного из моих родственников, которому я поручил распорядиться моим имуществом. Я велел ему продать все принадлежавшее мне имущество, движимое и недвижимое, и с вырученной суммы выплатить мои долги, а все оставшиеся деньги разделить между теми так или иначе связанными со мной людьми, кто в них нуждается, дабы они насладились частью выпавшего мне изрядного богатства. Соседи вовсю судачили о моем поспешном отбытии. Самые умные из моих знакомых считали, что я, сломленный и разоренный безумными тратами, продаю то немногое, что у меня осталось, дабы покинуть родные края и скрыть свой позор в дальних странах.
Мой вышеупомянутый родственник присоединился ко мне 1 июля, после того как выполнил все, что я ему поручил. Мы вместе отправились на поиски свободной страны. Сперва мы удалились в Швейцарию, в Лозанну. Пожив там какое-то время, мы решили провести остаток наших дней в одном из славнейших городов Германии, ведя тихую и лишенную помпезности жизнь».
Так заканчивается история Дениса Захария, написанная им самим. В ее конце он менее искренен, чем в начале, не вполне проливая свет на истинные мотивы своих притязаний на открытие философского камня. Представляется вероятным, что подлинную причину своего отбытия он вложил в уста его самых умных знакомых, полагавших, что на самом деле он был доведен до нищеты и хотел укрыть свой позор за границей. Больше о его жизни ничего не известно, и никто так никогда и не узнал его настоящего имени. Он написал алхимический труд «Истинная натурфилософия металлов».
ДОКТОР ДИ И ЭДВАРД КЕЛЛИ
Джон Ди и Эдвард Келли, бывшие компаньонами в течение весьма длительного времени и перенесшие в обществе друг друга множество удивительных превратностей судьбы, заслуживают того, чтобы рассказать про них обоих в одном повествовании. Ди был личностью неординарной во всех отношениях, и если бы он жил в эпоху менее склонную к безрассудству и суеверию, то с его способностями мог бы оставить после себя блестящую и прочную репутацию. Он родился в Лондоне в 1527 году и с самых ранних лет обнаружил любовь к познанию. В возрасте пятнадцати лет он был отправлен в Кембриджский университет. Джон так любил книги, что просиживал за ними по восемнадцать часов в день. Из остальных шести часов четыре он тратил на сон и два — на еду. Столь интенсивные занятия не вредили его здоровью и делали его одним из лучших студентов своего времени. К сожалению, со временем он забросил занятия математикой и истинной философией, отдавшись во власть бесплодных оккультных фантазий. Он изучал алхимию, астрологию и магию и тем самым настроил против себя власти Кембриджа. Ходившие слухи о его занятиях колдовством делали его дальнейшее пребывание в Англии не вполне безопасным, и в итоге, чтобы избежать преследования, он перебрался в Лёвенский университет. В Лёвене он встретил множество единомышленников, знавших Корнелия Агриппу во время пребывания оного в этом городе. Они постоянно развлекали молодого англичанина рассказами об удивительных деяниях этого великого магистра герметических тайн. Общение с ними послужило для Ди дополнительным стимулом продолжения поисков философского камня, которые вскоре стали занимать едва ли не все его помыслы.
Он недолго пробыл на континенте и в 1551 году в возрасте двадцати трех лет вернулся в Англию. При содействии своего друга сэра Джона Чика он был любезно принят при дворе короля Эдуарда VI, где ему было назначено (трудно сказать, за что) пособие в сто крон. Несколько лет он профессионально занимался астрологией в Лондоне: составлял гороскопы, предсказывал будущее и указывал на удачные и неудачные дни. Во время правления королевы Марии он попал в беду: его заподозрили в ереси и обвинили в покушении на жизнь Марии путем колдовства. Ди судили за второе преступление и оправдали, но оставили в тюрьме на основании первого обвинения и отдали на милость епископа Боннера. Он был на волосок от сожжения в Смитфилде, но так или иначе ухитрился убедить означенного лютого фанатика в безупречности своей веры, и в 1555 году был отпущен на свободу.
Со вступлением на престол Елизаветы для него настали времена получше. Сообщается, что во время ее пребывания в Вудстоке ее слуги справлялись у него о том, когда умрет Мария, что, по-видимому, стало главной причиной серьезного обвинения, по которому его отдали под суд. Теперь они более открыто приходили узнать будущее их владычицы, а Роберт Дадли, прославленный граф Лестер, был послан приказом самой королевы выяснить наиболее благоприятный день для коронации. Елизавета была столь благосклонна к Ди, что несколько лет спустя удостоила визитом его дом в Мортлейке163, чтобы осмотреть его кунсткамеру, а когда он заболел, отрядила к нему своего личного доктора.
Астрология давала ему средства к существованию, и он продолжал заниматься ею с большим усердием, но его сердце принадлежало алхимии. Философский камень и эликсир жизни посещали его дневные мысли и ночные сны. Таинства Талмуда, которые также являлись объектом его пристального изучения, утвердили его в мысли, что он мог бы общаться с духами и ангелами и узнать от них все тайны мироздания. Придерживаясь той же идеи, что и члены малоизвестного в ту пору ордена розенкрейцеров, с которыми он, возможно, сталкивался во время своих путешествий по Германии, он воображал, что посредством философского камня может по собственному желанию вызывать этих добрых духов. В результате постоянных размышлений на эту тему его воображение разыгралось до такой степени, что он в конечном итоге убедил себя, что ему явился один из ангелов, пообещавший быть ему другом и компаньоном до самой его смерти. Он сообщает, что, когда в один из ноябрьских дней 1582 года он страстно молился, выходившее на запад окно его кунсткамеры внезапно озарилось ослепительно ярким светом, посреди которого во всем своем великолепии стоял великий ангел Уриэль. Благоговейный страх и изумление лишили его дара речи, но ангел, любезно улыбаясь, дал ему выпуклый кристалл и сказал, что, когда бы он ни захотел пообщаться с потусторонними существами, достаточно будет пристально взглянуть на кристалл, после чего они появятся в нем и откроют все тайны будущего164. Промолвив это, ангел исчез. Попрактиковавшись с кристаллом, Ди понял, что для появления духов необходимо концентрировать на нем все свои душевные силы. Кроме того, он обнаружил, что никогда не может впоследствии вспомнить свои разговоры с ангелами. Тогда он решил открыть этот секрет кому-нибудь другому, кто мог бы разговаривать с духами, пока он (Ди) сидит в другой части комнаты и записывает их откровения.
В то время ему в качестве ассистента прислуживал некий Эдвард Келли, помешанный, как и его хозяин, на философском камне. Между ними, однако, была та разница, что Ди был в большей степени энтузиастом, чем мошенником, тогда как Келли — в большей степени мошенником, нежели энтузиастом. В молодости он был нотариусом и имел несчастье лишиться обоих ушей за подделку документов. Это увечье, достаточно унизительное для любого человека, для философа было губительным; поэтому Келли, дабы не ставить под сомнение собственную мудрость в глазах людей, носил черную шапочку, которая, плотно прилегая к голове и опускаясь к щекам, не только скрывала его дефект, но и придавала ему весьма важный и пророческий вид. Он настолько хорошо хранил свою тайну, что даже Ди, с которым он прожил много лет, похоже, так никогда об этом и не узнал. В силу своих наклонностей Келли был не прочь пойти на любое жульничество ради собственной выгоды или подпитывать с той же целью иллюзии своего хозяина. Как только Ди сообщил ему о визите славного Уриэля, Келли отнесся к этому со столь пламенным энтузиазмом, что сердце Ди затрепетало от радости. Ему не терпелось начать консультации с кристаллом, и 2 декабря 1581 года духи появились и провели с Келли весьма странную беседу, которую Ди запротоколировал. Любопытный читатель может увидеть эту бессмыслицу среди Харлейских манускриптов Британского музея. Более поздние консультации были в 1659 году изданы доктором Мериком Касобоном в виде фолианта под названием «Подлинное и заслуживающее доверия изложение событий, предсказанных духами доктору Джону Ди, кои в случае их наступления повлекут за собой глубокие перемены в большинстве государств и королевств мира»165.
Молва об этих удивительных собеседованиях быстро облетела всю страну и даже достигла материковой Европы. Тогда же Ди заявил, что он овладел elixir vitae, который, по его словам, он нашел среди руин Гластонберийского аббатства в Сомерсетшире. В его дом в Мортлейке отовсюду стекались люди, желавшие, чтобы он составил им гороскоп, и предпочитавшие его менее известным астрологам. Кроме того, они страстно желали увидеть человека, объявившего себя бессмертным. В целом он вел весьма прибыльную торговлю, но тратил так много денег на снадобья и металлы для алхимических экспериментов, что так никогда и не разбогател.
Примерно в это же время в Англию прибыл богатый польский дворянин Альберт Лаский, пфальцграф Сирадзский. По его словам, главной целью его визита было посещение двора королевы Елизаветы, молва о славе и могуществе которой достигла отдаленной Польши. Елизавета оказала льстивому чужестранцу самый роскошный прием и поручила своему фавориту Лестеру показать гостю все достопримечательности Англии. Он посетил все заслуживающие внимания места Лондона и Вестминстера, а затем проследовал в Оксфорд и Кембридж, чтобы побеседовать с некоторыми из великих ученых, чьи сочинения прославили их родину. Он был очень сильно разочарован, не найдя среди них доктора Ди, и сказал графу Лестеру, что не приехал бы в Оксфорд, если бы знал, что Ди там нет. Граф пообещал познакомить его с великим алхимиком по возвращении в Лондон, и поляк был удовлетворен. Несколькими днями позже, когда граф и Лаский находились в вестибюле королевы в ожидании аудиенции у Ее Величества, туда с той же целью прибыл доктор Ди, который был представлен поляку166. Между ними состоялся интересный разговор, в конце которого чужестранец предложил пообедать в доме астролога в Мортлейке. Ди вернулся домой в крайнем расстройстве, ибо понимал, что, не заложив столовое серебро, он не наберет достаточной суммы денег, чтобы устроить достойный прием пфальцграфу Ласкому и его свите. Находясь в критическом положении, он отправил с нарочным письмо графу Лестерскому, в котором откровенно поведал о своей проблеме и попросил графа оказать ему услугу в виде ходатайства перед Ее Величеством. Елизавета немедленно послала ему в подарок двадцать фунтов.
В назначенный день пфальцграф прибыл в сопровождении многочисленной свиты и выразил столь искреннее и страстное восхищение знаниями хозяина дома, что Ди стал прикидывать, как навсегда привязать к своим интересам человека, столь расположенного стать ему другом. В результате длительного общения с Келли он перенял все мошеннические повадки сей персоны и решил заставить поляка дорого заплатить за его обед. За много дней до этого он узнал, что пфальцграф является в своей стране крупным и весьма влиятельным помещиком, но из-за своей склонности к расточительству переживает временные финансовые затруднения. Он также выяснил, что поляк твердо верит в существование философского камня и живой воды. Таким образом, тот был просто находкой для авантюриста. Келли был того же мнения, и они вдвоем начали плести паутину, нитями которой могли бы прочно опутать богатого и доверчивого иностранца. Они делали это очень осторожно, сперва туманно намекая на камень и эликсир, а в конце концов — на духов, посредством которых они могут-де переворачивать страницы книги будущего и узнавать из нее страшные тайны. Лаский страстно умолял их допустить его к одному из таинственных интервью с Уриэлем и другими ангелами, но они слишком хорошо знали человеческую натуру, чтобы сразу же выполнить его просьбу. На мольбы пфальцграфа они отвечали намеками на проблематичность или неуместность вызова духов в присутствии постороннего, который, возможно, не имеет для этого иных мотивов, кроме удовлетворения пустого любопытства. Тем самым они стремились разжечь его аппетит и были бы действительно огорчены, если бы пфальцграф потерял интерес к этой затее. Чтобы понять, насколько сильно помыслы Ди и Келли были в то время сосредоточены на жертве их обмана, достаточно прочесть предисловие к их первому собеседованию с духами, приведенное в книге доктора Касобона. Запись, сделанная Ди 25 мая 1583 года, гласит, что, когда дух появился, «я [Джон Ди] и Э. К. [Эдвард Келли] сидели и разговаривали об этом знатном поляке Альберте Ласком, о той великой чести, коей он нас удостоил, и о симпатии к нему самых разных людей». Они, несомненно, обсуждали, как им наилучшим образом использовать «знатного поляка», и стряпали небылицу, которой они впоследствии возбудили его любопытство и надежно затянули его в свои тенета. «Внезапно, — продолжает Ди, — словно откликнувшись на наше красноречие, появилось бестелесное создание в образе прелестной девочки семи–девяти лет в головном уборе, с кудрявыми волосами на лбу и прямыми на затылке. На ней было шелковое платьице со шлейфом, отливающее то красным, то зеленым. Она, казалось, порхала вверх-вниз и сновала взад-вперед позади книг; а когда она проходила между книгами, оные самостоятельно отодвигались, уступая ей дорогу».
Подобными сказками они завлекали поляка день за днем и наконец позволили ему стать свидетелем их таинств. Неясно, стал ли он жертвой подстроенных ими оптических обманов или же собственного распаленного воображения, но в результате он превратился в послушное орудие в их руках и делал все, что они от него хотели. На этих спиритических сеансах Келли располагался на определенном расстоянии от магического кристалла и устремлял на него пристальный взгляд, в то время как Ди занимал место в углу, готовый запротоколировать пророчества духов, когда оные будут их произносить. Действуя таким образом, они напророчествовали поляку, что он станет счастливым обладателем философского камня, проживет столетия и будет избран королем Польши, в каковом качестве одержит множество великих побед над сарацинами и прославится на весь мир. Для этого, однако, требовалось, чтобы Лаский покинул Англию, взяв с собой их вместе с женами и остальными членами семей, и обеспечил им всем роскошную жизнь, не отказывая им ни в чем. Лаский немедленно согласился на предложенные условия, и очень скоро вся означенная компания отправилась в Польшу.
Четыре с лишним месяца спустя они наконец добрались до имений пфальцграфа недалеко от Кракова. В пути они наслаждались жизнью и тратили деньги направо и налево. Обосновавшись в замке пфальцграфа, неразлучная парочка приступила к великому алхимическому опыту по превращению железа в золото. Лаский обеспечивал их всеми необходимыми материалами и лично помогал им своими познаниями в алхимии; но так или иначе сей эксперимент всегда заканчивался неудачей в тот самый момент, когда все должно было получиться, и им приходилось начинать все сначала с еще бóльшим размахом. Но Лаский по-прежнему надеялся на благополучный исход. Его, убежденного в том, что бесчисленные миллионы не за горами, не пугали предварительные траты. Так продолжалось день за днем и месяц за месяцем, пока ему наконец не пришлось продать часть заложенных поместий, дабы обеспечить пищей голодные тигли Ди и Келли и не менее голодные желудки их жен и домочадцев. Он очнулся от золотых грез раньше, чем разорение взглянуло ему в лицо, и даже в тот момент был безмерно счастлив сознавать, что избежал полной нищеты. Придя таким образом в чувство, он первым делом решил избавиться от дорогостоящих визитеров. Не желая ссориться с ними, он предложил им проследовать в Прагу с рекомендательными письмами для императора Рудольфа. Наши алхимики со всей очевидностью понимали, что больше от почти разоренного пфальцграфа Лаского ждать нечего, поэтому они без колебаний приняли предложение и немедленно отправились к императорской резиденции. По прибытии в Прагу они без труда добились аудиенции у императора. Они поняли, что он готов поверить в существование философского камня, и тешили себя надеждой, что произвели на него благоприятное впечатление. Однако по той или иной причине — вероятно, из-за коварного и плутовского выражения лица Келли — император остался не очень высокого мнения об их способностях. Тем не менее он позволил им остаться в Праге на несколько месяцев, дав им тем самым надежду на то, что он все-таки воспользуется их услугами. Но чем больше император думал о них, тем меньше они ему нравились; а когда папский нунций167 отсоветовал ему поощрять подобных магов-еретиков, он приказал им покинуть его владения в течение двадцати четырех часов. Алхимикам повезло, что им было отпущено так мало времени, ибо через шесть часов после истечения означенного срока нунций получил приказ посадить их в темницу пожизненно или сжечь на костре.
Не вполне представляя, куда направить стопы, они решили вернуться в Краков, где у них все еще были друзья; но к тому времени деньги, вытянутые ими у Лаского, были на исходе, и они много дней были вынуждены обходиться без обеда и ужина. Им было очень трудно скрывать от людей свою бедность, но они безропотно терпели лишения, убежденные, что если этот факт станет достоянием гласности, то вздорность их претензий выплывет наружу. Никто бы не поверил, что они являются обладателями философского камня, если бы возникло подозрение, что они не в состоянии себя прокормить. Они худо-бедно перебивались составлением гороскопов, и голодная смерть им не грозила. Так продолжалось до тех пор, пока в их сети не попала новая, достаточно богатая для их целей жертва в лице царственной особы. Добившись аудиенции у польского короля Стефана, они предсказали ему, что император Рудольф вскоре будет убит и немцы выберут его преемником поляка. Поскольку данное предсказание было недостаточно точным, чтобы удовлетворить короля, они вновь прибегли к помощи кристалла. В результате им явился дух, сообщивший, что новым сувереном Германии будет Стефан Польский. Стефану достало легковерия, чтобы попасться на удочку, и однажды он присутствовал при мистическом собеседовании Келли с призраками его кристалла. Кроме того, он, очевидно, снабжал их деньгами для продолжения алхимических экспериментов, но в конце концов устал от невыполненных обещаний и постоянных бессмысленных трат. Он уже собирался выгнать их с позором, когда они познакомились с еще одним простофилей, к коему незамедлительно переметнулись. Им оказался граф Розенберг, хозяин крупных поместий в Требоне, в Богемии. Во дворце этого необычайно щедрого патрона они чувствовали себя настолько вольготно, что прожили там почти четыре года, ни в чем себе не отказывая и имея почти неограниченную власть над деньгами графа. Последний был в большей степени честолюбив, нежели алчен: он был достаточно богат и уповал на философский камень не ради златоделания, но для продления жизни. Его гости, узнав об этой особенности его характера, выдавали ему соответствующие предсказания. Они пророчествовали, что он станет королем Польши, и, сверх того, обещали, что он проживет пятьсот лет, наслаждаясь величием, но лишь при условии, что выделит им достаточно денег для продолжения экспериментов.
Однако теперь, когда им улыбнулась удача и они пожинали плоды успешного злодейства, справедливая кара настигла их в обличье, которого они не ждали. Во взаимоотношениях сообщников появились зависть и недоверие, приводившие к столь бурным и частым ссорам, что Ди постоянно боялся разоблачения. Келли считал себя более значительной фигурой, чем Ди (судя, вероятнее всего, по мошенническим стандартам), и был недоволен тем, что во всех случаях и ото всех людей Ди удостаивался бóльших почестей и большего внимания. Он часто грозился расстаться с Ди и действовать в одиночку; последний же, деградировав до обычного орудия в руках своего более дерзкого компаньона, безмерно страдал от перспективы его ухода. Он был настолько суеверен, что не сомневался в ангельском происхождении большей части сумбурных пророчеств Келли и не знал, где в целом мире искать человека достаточно образованного и мудрого, чтобы его заменить. По мере того как их ссоры с каждым днем становились все более частыми, Ди писал письма королеве Елизавете, в которых просил обеспечить ему благосклонный прием по его возращении в Англию, куда он намеревался проследовать, если Келли его бросит. Он также послал ей серебряный кругляш, который, по его словам, он сделал из куска латуни, вырезанного из грелки168. Позднее он отправил ей и саму грелку, дабы она могла убедиться, что кусок серебра точно соответствует отверстию, вырезанному в латуни. Готовясь таким образом к худшему, он более всего желал остаться в Богемии с графом Розенбергом, который был к нему благосклонен и очень на него рассчитывал. Келли также не имел никаких весомых причин покидать это место, но им овладела новая страсть, и он вынашивал хитрые планы ее утоления. Его жена была некрасивой и грубой, а жена Ди — миловидной и покладистой, и он страстно желал поменяться с Ди женами, не возбуждая ревности и не шокируя моральных устоев последнего. Это было нелегкой задачей, но для такого человека, как Келли, столь же безнравственного и черствого, сколь и бесстыдного и изобретательного, сия трудность была преодолимой. Кроме того, он хорошо изучил характер и слабости Ди и собирался использовать их с выгодой для себя. На следующем спиритическом сеансе Келли сделал вид, что возмущен сообщением духов, и отказался поведать Ди, что они сказали. Ди настаивал и узнал, что отныне они должны делить жен друг с другом. Слегка напуганный, он предположил, что духи просто велели им и их семьям жить во взаимном мире и согласии. Келли с видимой неохотой вызвал духов еще раз и сообщил, что те настаивают на дословной интерпретации. Жалкий фанатик Ди покорился их воле, но Келли нужно было еще немного побыть в роли скромника. Он заявил, что эти духи, должно быть, служат не добру, а злу, и отказался от дальнейшего общения с ними. Вслед за тем он покинул дворец графа, сказав, что больше никогда туда не вернется.
Оставшись таким образом без компаньона, Ди страдал и не находил себе места. Он не знал, на кого возложить функции медиума после ухода Келли, но в итоге остановил свой выбор на собственном сыне Артуре, восьмилетнем ребенке. Он церемонно посвятил его в этот сан и внедрил в детское сознание величественную суть обязанностей, кои тот был призван выполнять; но бедный мальчик не обладал ни воображением, ни верой, ни ловкостью Келли. Согласно отцовским инструкциям, он пристально вглядывался в кристалл, но ничего не видел и не слышал. Наконец, когда у него заболели глаза, он сказал, что видит некую смутную тень, но и только. Ди был в отчаянии. Обман продолжался так долго, что самое большое счастье он испытывал в те моменты, когда воображал, что поддерживает общение с высшими созданиями. Он проклинал день расставания с дорогим другом Келли. Именно это Келли и предвидел, и когда он счел, что доктор уже достаточно настрадался из-за его отсутствия, он неожиданно вернулся и вошел в комнату, где маленький Артур тщетно пытался хоть что-то разглядеть на поверхности кристалла. Ди, комментируя данное обстоятельство в своем журнале, приписывает сие внезапное возвращение «чудесному счастливому случаю» и «божественному жребию» и далее пишет, что Келли сразу увидел духов, остававшихся невидимыми для малолетнего Артура. Один из оных снова приказал им обобществить жен. Келли склонил голову и подчинился, а Ди со всей покорностью принял это соглашение как должное.
Это была гнуснейшая моральная деградация. Так они блудили три-четыре месяца, а затем в результате новых ссор опять расстались. На сей раз их расставание было окончательным. Келли, прихватив с собой elixir, найденный им в Гластонберийском аббатстве, проследовал в Прагу, позабыв о своем внезапном изгнании из этого города. Прибыв туда, он был почти сразу же арестован по приказу императора Рудольфа и брошен в тюрьму. Через несколько месяцев он был освобожден и пять лет странствовал по дорогам Германии, предсказывая будущее в одних местах и прикидываясь златоделателем в других. Он снова попал в тюрьму по обвинению в ереси и колдовстве, где принял решение вернуться в Англию, если его когда-либо освободят. Вскоре он понял, что на это нет никакой надежды и его заключение, скорее всего, будет пожизненным. В одну из ненастных февральских ночей 1595 года Келли сплел из постельного белья канат, чтобы спуститься из окна тюрьмы, находившегося на вершине очень высокой башни. Из-за его тучности канат порвался, и он упал на землю. Он сломал два ребра и обе ноги и получил столь значительные повреждения внутренних органов, что через несколько дней умер.
Ди какое-то время был более удачлив. Грелка, которую он послал Елизавете, сделала свое дело. Вскоре после расставания с Келли он получил приглашение вернуться в Англию. Его гордыня, крайне униженная до сих пор, обрела былые масштабы, и он, словно посол, отправился в путь из Богемии в сопровождении кортежа. Неясно, откуда у него взялись на это деньги, разве что от щедрот состоятельного богемца Розенберга или в результате банального ограбления последнего. Он и его семья путешествовали в трех каретах, а на трех телегах перевозился его скарб. Каждая карета была запряжена четверкой лошадей, а всю процессию охраняли двадцать четыре солдата. Это утверждение может показаться сомнительным, но оно основано на показаниях самого Ди, впоследствии данных им под присягой членам комиссии, назначенной Елизаветой для выяснения обоснованности его претензий. По прибытии в Англию он получил аудиенцию у королевы, которая приняла его со всем возможным радушием и отдала приказ не преследовать его за его занятия химией и философией. Елизавета полагала, что человек, хвалящийся умением превращать неблагородные металлы в золото, не может нуждаться в деньгах, и потому не выказала никаких более весомых знаков одобрения его деятельности, чем моральная поддержка и покровительство.
Таким образом, Ди неожиданно пришлось уповать лишь на свои собственные ресурсы, и он всерьез занялся поисками философского камня. Он непрерывно трудился среди своих печей, реторт и тиглей и едва не отравился ядовитыми испарениями. Он также обращался к своему чудодейственному кристаллу, но духи не являлись. Он попробовал было заменить Келли неким Бартоломью, но, поскольку тот не отличался честностью и был напрочь лишен воображения, духи не желали с ним общаться. Затем Ди попытал счастья с еще одним мнимым философом — Хикменом, но с тем же результатом. Кристалл потерял свою силу с уходом его великого верховного жреца. Ди не удалось получить от Хикмена никаких сведений о камне или эликсире алхимиков, а все его попытки открыть их иным путем оказались не только бесплодными, но и дорогостоящими. Вскоре он был доведен до нищеты и принялся писать королеве жалобные письма с просьбами о помощи. Из них королева узнала, что после того, как Ди покинул Англию с пфальцграфом Ласким, его дом в Мортлейке подвергся нападению толпы грабителей, считавших его некромантом и колдуном. Он писал, что они переломали всю его мебель, сожгли его библиотеку, состоявшую из четырех тысяч редких книг, и уничтожили все философские инструменты и диковины его кунсткамеры. Он требовал компенсации за причиненный ущерб и заявлял, что, поскольку он прибыл в Англию по указанию королевы, ей следовало бы оплатить расходы на его путешествие. Елизавета несколько раз посылала ему мелкие суммы денег; но Ди продолжал жаловаться, была назначена комиссия для выяснения обоснованности его претензий. В конце концов он получил небольшую должность канцлера кафедрального собора св. Павла, которую в 1595 году сменил на должность ректора колледжа в Манчестере. Он занимал ее до тех пор, пока в 1602 или 1603 году силы и интеллект не начали ему изменять и ему не пришлось уйти в отставку. Он, будучи почти бедняком, удалился в свой старый дом в Мортлейке, где зарабатывал на жизнь как обычный предсказатель будущего. Ди часто приходилось продавать или закладывать свои книги, дабы иметь возможность пообедать. Он часто обращался за помощью к Иакову I, но неизменно получал отказ. Этого короля, несомненно, позорит тот факт, что единственной наградой, которой он неизменно удостаивал неутомимого Стоу в дни его старости и нужды, было королевское разрешение просить милостыню, но никто не вменит ему в вину пренебрежение таким плутом, как Джон Ди. Ди умер в 1608 году в возрасте восьмидесяти лет и был похоронен в Мортлейке.
КОСМОПОЛИТ
У историков нет единого мнения относительно настоящего имени алхимика, написавшего несколько трудов под этим псевдонимом. Большинство из них считает, что он был шотландцем по фамилии Сетон, который разделил судьбу множества алхимиков, слишком громко похвалявшихся своей способностью к трансмутации, и имел несчастье закончить свои дни в тюрьме, куда был брошен одним германским монархом, потребовавшим от него миллион золотом в качестве выкупа. Некоторые путают его с поляком Михаилом Сендивогом или Сендивогием — корифеем алхимии, наделавшим много шума в Европе в начале XVII века. Лагле дю Френуа (кладезь информации об алхимиках) склонен считать, что это были разные люди, и сообщает следующие подробности о Космополите, почерпнутые им из книги «Epistola ad Langelottum» Георга Морхоффа и трудов других авторов.
Около 1600 года некий Якоб Хауссен, голландский лоцман, стал жертвой кораблекрушения у побережья Шотландии. Джентльмен по имени Александр Сетон отчалил от берега в лодке, спас тонущего голландца и гостеприимно приютил его на много недель в своем доме на берегу моря. Хауссен понял, что его спаситель — заядлый химик, но в то время они не вели между собой никаких разговоров на эту тему. Примерно полтора года спустя Хауссен принял у себя дома в Энкхёйзене, в Голландии, своего бывшего хозяина. Он старался отблагодарить шотландца за его доброту, и между ними завязалась такая крепкая дружба, что Сетон перед уходом предложил голландцу узнать великий секрет философского камня. В его присутствии шотландец превратил большое количество неблагородного металла в чистое золото и отдал ему оное в знак признательности. После этого Сетон расстался с другом и отправился в Германию. В Дрездене он не делал секрета из своих удивительных способностей, успешно демонстрируя превращения металлов группе ученых мужей этого города. Когда об этом стало известно курфюрсту Саксонскому, тот приказал арестовать алхимика. Он велел посадить шотландца в высокую башню и приставил к нему сорок охранников для исключения возможности побега и предотвращения его контактов с посторонними. Курфюрст нанес несчастному Сетону несколько визитов и использовал все свое красноречие, чтобы убедить его открыть тайну. Сетон упорно отказывался сообщать тирану свой секрет, равно как и делать для него золото; его подвергли растяжке на дыбе в надежде, что пытка сделает его более сговорчивым. Это оказалось безрезультатным: его не сломили ни посулы курфюрста, ни страх боли. Несколько месяцев пытки, чередовавшейся с лечением, подорвали его здоровье, и он так исхудал, что походил на живой скелет.
Случилось так, что в то время в Дрездене находился ученый поляк Михаил Сендивогий, потративший много времени и денег на бесплодные алхимические изыскания. Он, сожалея о тяжкой участи Сетона и восхищаясь его неустрашимостью, решил по возможности помочь ему вырваться из лап его угнетателя. Сендивогий попросил у курфюрста разрешения увидеться с алхимиком и не без труда получил его. Он увидел, что тот находится в состоянии крайнего истощения и лишен дневного света в зловонной темнице и что его постели и питанию не позавидовал бы самый закоренелый преступник, находящийся в заключении. Сетон отнесся к предложению обеспечить ему побег с живым интересом и пообещал великодушному поляку, что в случае освобождения сделает его богаче любого восточного монарха. Сендивогий немедленно приступил к делу: продал свое поместье под Краковом и на вырученную сумму вел веселую жизнь в Дрездене; давал самые элегантные ужины, на которые регулярно приглашал офицеров охраны, особенно тех, что несли службу в узилище алхимика. Наконец он втерся к ним в доверие и смог свободно видеться со своим другом так часто, как ему того хотелось. Он внушил стражникам, что всячески пытается сломить упрямство алхимика и выведать его тайну. Когда план побега был готов, был назначен его день, и Сендивогий подготовил дилижанс, чтобы незамедлительно переправить друга в Польшу. Когда подействовало снотворное, подмешанное им в вино, подаренное охранникам тюрьмы, он без труда нашел способ незаметно перебраться с Сетоном через стену. Жена Сетона ждала его в дилижансе, имея при себе маленький пакет с черным порошком, который и был философским камнем — ингредиентом для превращения железа и меди в золото. Они благополучно прибыли в Краков, но Сетон был настолько изнурен пытками и голодом, не говоря уже о пережитых им душевных муках, что жить ему оставалось недолго. Он умер в Кракове в 1603 или 1604 году и был похоронен на кладбище кафедрального собора этого города. Такова история Космополита — автора различных трудов, перечень которых можно найти в третьем томе «Истории герметической философии».
СЕНДИВОГИЙ
После смерти Сетона Сендивогий женился на его вдове, надеясь узнать от нее алхимические секреты ее покойного мужа. Ему, однако, больше помогла щепотка черного порошка, с помощью которой, согласно утверждениям алхимиков, он превратил большое количество ртути в чистейшее золото. Считается также, что он успешно продемонстрировал сей эксперимент императору Рудольфу II в Праге и тот приказал в память об этом событии прикрепить к стене комнаты, в которой оно произошло, мраморную табличку со следующей надписью: «Faciat hoc quispiam alius, quod fecit Sendivogius Polonus»169. Месье Денуайе, секретарь принцессы Марии Гонзагской, королевы Польши, в своем письме из Варшавы, датированном 1651 годом, утверждает, что видел эту табличку, бывшую своего рода достопримечательностью, собственными глазами.
Последующие годы жизни Сендивогия освещены в мемуарах, написанных о нем на латыни его дворецким Бродовским и включенных Пьером Борелем в его «Сокровища галльских древностей». Согласно этому источнику, император Рудольф был так доволен успехами Сендивогия на ниве златоделания, что сделал его одним из своих государственных советников и предложил ему занять пост при дворе и жить во дворце. Но Сендивогий любил свободу и отказался стать придворным. Он предпочел поселиться в собственном родовом поместье в Граварне, где долгие годы принимал визитеров с королевским гостеприимством. Свой философский порошок, который, по словам его дворецкого, был красным, а не черным, он держал в маленькой золотой шкатулке. Одной его крупицы было достаточно, чтобы сделать пятьсот дукатов, или тысячу риксдалеров. В качестве исходного металла он обычно использовал ртуть. Когда путешествовал, он отдавал шкатулку дворецкому, который пристегивал ее к шее золотой цепью. Однако основную часть порошка Сендивогий прятал в тайник, врезанный в подножку его кареты. Он думал, что, если на него нападут грабители, они не найдут такого тайника. Предчувствуя опасность, он переодевался в одежду своего слуги и, взбираясь на козлы, оставлял слугу внутри. Ему приходилось принимать данные меры предосторожности, потому что ни для кого не было секретом, что он владеет философским камнем, и многие беспринципные авантюристы ждали подходящей возможности ограбить его. Один германский князь, имя которого Бродовский не счел достойным упоминания, сотворил с Сендивогием один фокус, послуживший тому уроком на всю оставшуюся жизнь. Этот князь, встав на колени, самым настойчивым образом умолял Сендивогия удовлетворить его любопытство путем превращения ртути в золото в его присутствии. Сендивогий, утомленный назойливостью, согласился, взяв с него обещание строго хранить тайну. После отъезда Сендивогия князь позвал жившего в его доме немецкого алхимика Муленфельса и рассказал ему об увиденном. Муленфельс попросил выделить под его командование дюжину всадников, дабы догнать философа и либо отнять у него весь порошок, либо вытянуть из него тайну его изготовления. Князю этот план показался исключительно удачным, и Муленфельс в сопровождении двенадцати хорошо вооруженных всадников поскакал за Сендивогием во весь опор. Он нагнал его на уединенном придорожном постоялом дворе, когда тот садился обедать. Сначала Муленфельс пытался убедить его открыть секрет порошка, но поняв бесполезность этого занятия, приказал своим спутникам раздеть несчастного Сендивогия и привязать его нагишом к одной из колонн дома. Затем он забрал золотую шкатулку с небольшим количеством порошка, манускрипт о философском камне, золотую медаль с цепочкой, подаренную императором Рудольфом, и роскошную шапку, украшенную бриллиантами, стоимостью сто тысяч риксдалеров. С этим награбленным добром он скрылся, оставив Сендивогия голым и прочно привязанным к колонне. С его слугой обошлись аналогичным образом, но, как только грабители скрылись из виду, люди с постоялого двора освободили узников.
Сендивогий проследовал в Прагу и пожаловался императору. К князю немедленно был отправлен посыльный с приказом доставить Муленфельса и всю его добычу. Князь, напуганный гневом императора, приказал соорудить в своем внутреннем дворе три большие виселицы, на самой высокой из которых вздернули Муленфельса, а на двух других — еще по грабителю. Тем самым он умилостивил императора и избавился от опасных свидетелей против себя. Одновременно он отправил обратно украденные у Сендивогия шапку с драгоценными камнями, медаль с цепочкой и трактат о философском камне. Что же до порошка, то он заявил, что никогда его не видел и ничего о нем не знает.
Это приключение сделало Сендивогия более благоразумным, и он больше не осуществлял процесс трансмутации в присутствии незнакомцев, как бы настойчиво их ему ни рекомендовали. Помимо того, он прикидывался бедняком и иногда не вставал с постели по нескольку недель, дабы люди поверили, что он страдает от тяжелой болезни и потому никоим образом не может быть владельцем философского камня. Время от времени он чеканил фальшивые монеты и выдавал их за золотые, предпочитая считаться плутом, а не удачливым алхимиком.
Множество других необычайных историй рассказывает об этом человеке его дворецкий Бродовский, но они не заслуживают пересказа. Михаил Сендивогий умер в 1636 году в возрасте более восьмидесяти лет и был похоронен в собственной часовне в Граварне. Под его именем издано несколько алхимических трудов.
РОЗЕНКРЕЙЦЕРЫ
Орден розенкрейцеров начал становиться европейской сенсацией во времена последнего из упомянутых авторов. Влияние, которое розенкрейцеры за недолгий период их существования оказали на умы, и тот неизгладимый отпечаток, который они наложили на европейскую литературу, требует к ним особого внимания. До их появления алхимия была всего лишь низменной манией; они же одухотворили и облагородили ее; расширили ее сферу, предположив, что обладание философским камнем является средством не только обогащения, но и обретения здоровья и счастья, а также инструментом, с помощью которого человек может подчинять себе сверхъестественные создания, управлять стихиями, повелевать временем и пространством и приобретать самые глубокие знания обо всех тайнах мироздания. Эти представления, необузданные и мечтательные по своей природе, имели и положительную сторону, очищая суеверия европейцев от порожденных воображением монахов мрачных и отвратительных тварей потустороннего мира и заменяя их на кротких, грациозных и великодушных существ.
Принято считать, что название ордена произошло от фамилии немецкого философа Христиана Розенкрейца (которая переводится как «розовый крест»), совершившего в конце XIV века путешествие в Святую землю. Когда он тяжело заболел в местечке под названием Дамкар, к нему явились несколько ученых арабов, которые объявили его своим собратом по науке и по наитию сообщили ему все тайны его предыдущей жизни — все его мысли и поступки. Они исцелили его с помощью философского камня, а затем посвятили во все свои таинства. Он вернулся в Европу в 1401 году, будучи всего двадцати трех лет от роду, и сплотил вокруг себя определенное число своих друзей-избранных, которых посвятил в новую науку и связал торжественной клятвой хранить ее в тайне сто лет. Считается, что после этого он прожил восемьдесят три года и умер в 1484 году.
Многие авторы отрицают существование такой фигуры, как Розенкрейц, и относят дату возникновения ордена к гораздо более поздней эпохе. Они пишут, что его истоки нужно искать в теориях Парацельса и видéниях доктора Ди, которые невольно стали фактическими, хотя и не признанными, основоположниками философии розенкрейцеров. Сегодня трудно, в сущности невозможно определить, почерпнули ли Ди и Парацельс свои идеи у таинственных, неизвестных в ту пору розенкрейцеров или же розенкрейцеры просто последовали идеям Ди и Парацельса и усовершенствовали их. Достоверно известно лишь то, что о существовании розенкрейцеров никто не подозревал до 1605 года, когда они начали привлекать к себе внимание в Германии. Как только их доктрины были обнародованы, все провидцы, парацельсисты и алхимики поспешили присоединиться к их учению и превозносили Розенкрейца как нового преобразователя рода человеческого. Михаэль Майер, знаменитый врач той поры, подорвавший здоровье и растративший свое состояние в поисках философского камня, составил отчет о принципах и законах нового братства, изданный в Кёльне в 1615 году. Прежде всего они утверждали, что размышления их основателей превосходят по мудрости все помыслы, имевшие место с сотворения мира, не исключая и богооткровений; что их предназначение — достижение всеобщего мира и духовное возрождение человека до наступления конца света; что они в высшей степени мудры и набожны; что они владеют всеми природными добродетелями и могут наделить ими в желаемой мере все остальное человечество; что они не испытывают ни голода, ни жажды, ни болезней, ни старости — вообще никакого природного дискомфорта; что всякого, кто достоин быть допущенным в их общество, они узнают по наитию и с первого взгляда; что их знания всеобъемлющи настолько, как если бы они жили от сотворения мира и все это время их пополняли; что у них есть книга, в которой они могут прочесть все, что когда-либо было или будет написано в других книгах до скончания времен; что они могут вызывать и оставлять у себя в услужении самых могущественных духов и демонов; что посредством своих песен они могут притягивать жемчужины и драгоценные камни из морских глубин или земных недр; что Бог накрыл их плотным облаком, посредством коего они способны укрываться от злобности врагов и делать себя невидимыми для всех остальных; что первые восемь братьев их ордена наделены способностью исцелять ото всех недугов; что усилиями ордена папская тиара будет обращена в прах; что они признают только два таинства с обновленными ими обрядами древнего христианства; что они признают Четвертую монархию и считают императора Священной Римской империи своим повелителем и повелителем всех христиан; что в силу неисчерпаемости их сокровищ они принесут императору больше золота, чем король Испании вывез из золотоносных регионов Ост- и Вест-Индии. Это было их вероисповеданием. Правил их поведения было шесть, и они следующие.
1. Путешествуя, они должны безвозмездно лечить все болезни.
2. Они всегда должны одеваться в соответствии с модой страны проживания.
3. Они должны один раз в год встречаться в назначенном братством месте или присылать аргументированное письменное оправдание своего отсутствия.
4. Каждый член братства, когда бы он ни почувствовал приближение смерти, обязан найти себе достойного преемника.
5. Паролем для их взаимной идентификации должно быть слово «розенкрейцеры».
6. Существование их братства должно храниться в тайне сто двадцать лет.
Они утверждали, что эти законы вписаны золотом в книгу, найденную в могиле Розенкрейца, и что сто двадцать лет со дня его смерти истекли в 1604 году. Таким образом, они были вынуждены обнародовать свою доктрину на благо человечества170.
Восемь лет эти энтузиасты обращали в свою веру население Германии, но почти не привлекали к себе внимания в других частях Европы. Наконец они появились в Париже и привели в смятение всех ученых, легковерных и любителей чудес. Однажды утром в начале марта 1623 года парижане с удивлением обнаружили, что на стенах их домов расклеен следующий необычайный манифест:
«Мы, депутаты коллегии братства Розового креста, поселились, видимые и невидимые, в этом городе с благоволения высших сил, к коим обращены сердца праведников. Мы объясняем и учим без книг или символов и говорим на языках всех стран нашего пребывания, дабы избавить людей, наших собратьев, от греха и смерти».
Долгое время сие странное объявление было единственным предметом обсуждения во всех общественных местах. Кто-то удивлялся, но большинство людей просто смеялось над ним. В течение нескольких недель были изданы две книги, поднявшие первую тревогу в отношении этого таинственного общества, местонахождения которого никто не знал и членов которого никто никогда не видел. Первая называлась «Ужасные соглашения, заключенные между дьяволом и так называемыми “невидимыми”, содержащиеся в них гнусные указания, плачевное разорение тех, кто им следует, и их жалкий конец». Название второй гласило: «Исследование новой неизвестной каббалы братьев Розового креста, недавно поселившихся в городе Париже, история их обычаев, творимые ими чудеса и множество иных подробностей».
Эти книги быстро разошлись. Всем не терпелось хоть что-нибудь узнать про грозное тайное братство. Парижские badauds171 были так встревожены, что ежедневно ожидали увидеть сатану, дефилирующего среди них in propria persona172. В этих книгах говорилось, что всего общество розенкрейцеров насчитывает тридцать шесть членов, которые отреклись от крещения и не уповают на воскрешение к судному дню. И вовсе не ангелы добра, как они заявляют, помогают им творить чудеса, а дьявол дарует им способность переноситься из одной части света в другую со скоростью мысли, говорить на всех языках, всегда иметь полные денег кошельки, независимо от затрат, быть невидимками и проникать в самые потайные места, невзирая на засовы, а также узнавать тайны прошлого и предсказывать будущее. Эти тридцать шесть братьев разделены на группы: лишь шестеро из них отправлены с миссией в Париж, шестеро — в Италию, шестеро — в Испанию, шестеро — в Германию, четверо — в Швецию, двое — в Швейцарию, двое — во Фландрию, двое — в Лотарингию и двое — во Франш-Конте. Ходила молва, что миссионеры, посланные во Францию, поселились где-то в Маре-дю-Тампль. Этот парижский квартал вскоре приобрел дурную славу, и люди не хотели там жить, опасаясь, что их выгонят из дому шестеро розенкрейцеров-невидимок. Простолюдины и многие из тех, чье образование заслуживало лучшей участи, верили, что сии таинственные персоны посещают постоялые дворы и гостиницы Парижа, где уплетают самие лучшие блюда и пьют самые изысканные вина, а затем вдруг бесследно исчезают, когда хозяева означенных заведений предъявляют им счет. Кроткие девушки, ложившиеся спать в одиночестве, часто просыпались ночью и обнаруживали в своих постелях мужчин красивее греческого бога Аполлона, которые, когда девицы поднимали тревогу, тотчас становились невидимыми. Рассказывали также, что многие нашли в своих домах груды золота, не зная, откуда те появились. Париж был взбудоражен. Ни один человек не мог не опасаться за свое имущество, ни одна девица — за свою девственность и ни одна жена — за свое целомудрие, пока эти розенкрейцеры находились у них в городе. В разгар смятения появился второй плакат следующего содержания:
«Если кто-то желает увидеть братьев-розенкрейцеров просто из любопытства, то этот человек никогда не вступит с нами в контакт. Но если его воля действительно побуждает его вписать свое имя в список нашего братства, то мы, способные читать мысли всех людей, убедим его в правдивости наших обещаний. По этой причине мы и не сообщаем миру о нашем местонахождении. Одного мышления в сочетании с искренней волей тех, кто хочет узнать нас, достаточно для того, чтобы познакомить их с нами и нас с ними».
Хотя существование такой организации, как розенкрейцеры, вызывало сомнение, было совершенно очевидно, что кто-то занимается распространением означенных объявлений, расклеенных на всех парижских стенах. Полиция тщетно пыталась выйти на преступников, и безуспешность ее усилий лишь усугубляла растерянность горожан. Очень скоро за дело взялась церковь, и аббат Готье, иезуит, написал книгу, призванную доказать, что в силу враждебности розенкрейцеров по отношению к папе римскому они являются не кеми иными, как последователями Лютера, засланными для пропаганды его ереси. Одно их название, добавлял он, доказывает, что они еретики, ибо крест, увенчанный розой, представляет собой геральдическую эмблему архиеретика Лютера. Некий Гарасс утверждал, что они являются братством пьяниц-самозванцев, название которых происходит от гирлянды роз в форме креста, вешаемой в Германии над столами в трактирах в качестве символа секретности, откуда пошла расхожая фраза «сказать под розой», то есть сообщить свой секрет другому человеку. Другие интерпретировали аббревиатуру F.R.C.173 не как «Братство розового креста», а как «Fratres Roris Cocti», то есть «Братья кипяченой росы», и объясняли сие наименование утверждением, что члены братства собирают в больших количествах утреннюю росу и кипятят ее, дабы получить экстракт некоего очень ценного ингредиента, входящего в состав философского камня и живой воды.
Атакуемое таким образом братство защищалось как могло. Братья отрицали использование какой бы то ни было магии или общение с дьяволом. Они заявляли, что счастливы оттого, что уже прожили более ста лет и рассчитывают прожить еще много веков и что глубокие знания о природе были переданы им самим Богом в награду за их набожность и исключительно преданное служение ему. Ошибаются, утверждали они, те, кто связывает происхождение их названия с крестом из роз или называет их пьяницами. Относительно первого они снова и снова заявляли, что название ордена произошло от фамилии его основателя Христиана Розенкрейца, а в ответ на второе обвинение повторяли, что не знают, что такое жажда, и предаются более возвышенным удовольствиям, нежели те, кто ее испытывает. Они не хотят вмешиваться в политику или религию какого-либо человека или группы людей, хотя и не смогли удержаться от отрицания верховной власти папы римского и обвинения его в тирании. Они заявляли, что о них распускают клеветнические слухи, наиболее несправедливым из которых является измышление о том, что они предаются похоти, проникая под покровом своей невидимости в спальни хорошеньких девиц. Напротив, утверждали они, первым обетом, который они дают, вступая в общество, является обет целомудрия; любой же из них, кто его нарушает, немедленно лишается всех своих преимуществ и вновь становится беззащитным перед голодом, лишениями, болезнями и смертью, как обычный человек. Они столь ревностно относятся к целомудрию, что видят причину грехопадения Адама в нехватке у него этой добродетели. Помимо самозащиты, братство приступило к дальнейшему декларированию своих постулатов. Его члены навсегда отказывались от всех старообразных представлений о колдунах, ведьмах и связи с дьяволом. Они отрицали существование столь ужасных, противоестественных и отвратительных тварей, как инкубы и суккубы174 и бесчисленные нелепые бесы, в которых человек верил в течение многих столетий. Человек, развивали они свою мысль, окружен не врагами, подобными вышеназванным, а мириадами прекрасных и милосердных созданий, всегда готовых прийти ему на помощь. Воздух населен сильфами, вода — ундинами, недра земли — гномами, а огонь — саламандрами. Все эти создания — друзья людей, более всего желающие, чтобы последние очистились от всякой скверны и получили таким образом возможность видеть их и общаться с ними. Они обладают великой силой и не скованы ограничениями пространства, времени и материи. Но в одном человек их превосходит. У него есть бессмертная душа, которой они не обладают, а посему обречены на смерть. Они могут, однако, разделить с людьми бессмертие, если им удается разжечь в сердцах людей любовь к ним (духам). Таким образом, духи женского пола постоянно стремятся очаровать мужчин, а гномы, сильфы, саламандры и ундины мужского пола — женщин. Объекты этой страсти, отвечая духам взаимностью, передают им часть божественного огня — души, и с этого момента влюбленные становятся равными объектам их любви и вместе с ними, согласно божественному жребию, вступают в чертоги вечного блаженства. Эти духи, утверждали розенкрейцеры, непрерывно наблюдают за человечеством днем и ночью. Они порождают сны, предзнаменования и предчувствия, посредством которых при необходимости предупреждают людей о надвигающейся опасности. Однако, несмотря на их склонность помогать людям ради них же самих, потребность в душе временами делает их капризными и мстительными; они обижаются по малейшему поводу и причиняют зло вместо блага тем, кто губит в себе разумное начало обжорством, пьянством и прочими низменными инстинктами.
Несколько месяцев спустя возбуждение парижан, инспирированное плакатами братства и нападками духовенства, само собой сошло на нет. Истории о розенкрейцерах стали в конечном счете чересчур абсурдными даже для того суеверного времени, и люди вновь принялись смеяться над сими незримыми господами и их фантастическими доктринами. При таком стечении обстоятельств Габриэль Ноде опубликовал свое сочинение «Avis а la France sur les Frères de la Rose-croix»175, в коем весьма успешно разоблачил вздорность нового ордена. Этот труд, пусть и не слишком хорошо написанный, появился в нужное время. Он нанес смертельный удар розенкрейцерам во Франции, и в следующем году о них почти ничего не было слышно. Мошенники в разных частях страны временами присваивали себе это название, чтобы замаскировать банальный грабеж, и время от времени их отлавливали и вешали за слишком большое мастерство переманивания жемчугов и драгоценных камней из карманов других людей в их собственные или за то, что они выдавали куски позолоченной латуни за чистое золото, сделанное посредством философского камня. Не считая этих случаев, розенкрейцеров окутала пелена забвения.
Их доктрина, однако, получила распространение не только во Франции: она все еще процветала в Германии и завоевала множество умов в Англии. Эти страны породили двух ее великих магистров в лице Якоба Бёме и Роберта Фладда — «философов», чьи идеи отличаются, пожалуй, наибольшей нелепостью и экстравагантностью. По всей видимости, орден разделился на две ветви — на братьев Rosae Crucis176, посвятивших себя чудесам земным, и братьев Aurae Crucis177, полностью сосредоточившихся на вещах божественных. Фладд принадлежал к первой категории, а Бёме — ко второй. Фладда можно назвать отцом английских розенкрейцеров, достойным занять видное место в храме Глупости.
Он родился в 1574 году в Милгейте, что в графстве Кент, и был сыном сэра Томаса Фладда, военного казначея королевы Елизаветы. Его поначалу собирались отдать на военную службу, но он слишком любил учебу и был чересчур склонен к тишине и уединению, чтобы блистать на данном поприще. Поэтому отец не стал навязывать сыну выбор жизненного пути, к которому тот был не приспособлен, и поощрял его занятия медициной, интерес к которой тот демонстрировал с ранних лет. В двадцать пять лет он отправился на континент, где, будучи любителем всего малопонятного, удивительного и непостижимого, стал ревностным последователем учения Парацельса, которого считал новатором в области не только медицины, но и философии. Он провел шесть лет в Италии, Франции и Германии, питая свой разум фантастическими идеями и ища общества подобных себе энтузиастов и мечтателей. Вернувшись в Англию в 1605 году, он получил в Оксфордском университете степень доктора медицины и начал врачебную практику в Лондоне.
Вскоре он обратил на себя внимание: латинизировал свое имя из Роберта Фладда в Робертуса а Флуктибуса (Роберта Флуктибского) и стал пропагандировать множество странных теорий. Он открыто признавал свою веру в философский камень, живую воду и универсальный растворитель, и утверждал, что существуют только две первопричины всего сущего — сгущение, или бореальная (северная) сила, и разжижение, или австральная (южная) сила. Он утверждал, что человеческим телом правит определенное количество демонов, расположенных в форме ромбоида. Каждая болезнь имеет своего конкретного демона, который ее вызывает и может быть побежден только с помощью того демона, который находится прямо напротив него в ромбоидальной фигуре. К его медицинским воззрениям мы вернемся в другой главе этой книги, где на их основе он причисляется к прародителям магнетического заблуждения и его ответвления — животного магнетизма, вызвавшего сенсацию в наше время.
Словно считая свои доктрины недостаточно абсурдными, он присоединился к розенкрейцерам, как только те начали вызывать общеевропейский резонанс, и добился широкой известности своей персоны в их кругах. Братство подвергалось яростным нападкам некоторых немецких авторов, в том числе Либавия, и Фладд по собственной инициативе дал ему ответ, опубликовав в 1616 году сочинение в защиту розенкрейцерской философии, озаглавленное «Apologia compendiaria Fraternitatem de Rosea-cruce suspicionis et infamiae maculis aspersam abluens»178. Сей труд немедленно прославил его на континенте, и с тех пор он считался одной из главных фигур ордена. Его авторитет был столь высок, что Кеплер179 и Гассенди180 сочли необходимым опровергнуть его теории, и последний написал на них развернутую рецензию. Не остался в стороне и Мерсенн181 — друг Декарта182, выступивший в защиту этого философа, обвиненного в присоединении к розенкрейцерам. Он обрушился на доктора Флуктибского (как тот предпочитал, чтобы его называли) и вскрыл нелепость доктрин братства Розового креста вообще и доктора Флуктибского в частности. Флуктибский написал обстоятельный ответ, в котором назвал Мерсенна невежественным клеветником и вновь повторил, что алхимия — наука полезная, а розенкрейцеры достойны быть преобразователями мира. Эта книга, изданная во Франкфурте, была озаглавлена «Summum Bonum, quod est Magiae, Cabalae, Alchimiae, Fratrum Rosae-Crucis verorum, et adversus Mersenium Calumniatorem»183. Помимо этого, он написал несколько других трактатов по алхимии, второй ответ Либавию о розенкрейцерах и множество медицинских трудов. Фладд умер в Лондоне в 1637 году.
После его смерти членов ордена в Англии поубавилось. Они не привлекали к себе сколько-нибудь значительного внимания, да и не стремились к этому. Время от времени появлялся какой-нибудь незаметный и почти непостижимый труд, чтобы показать людям, что безрассудство еще себя не исчерпало. Евгений Филалет, известный алхимик, скрывавший свое настоящее имя под этим псевдонимом, перевел книгу «Слава и исповедь братства Розового креста», изданную в Лондоне в 1652 году. Несколько лет спустя еще один энтузиаст, Джон Хейдон, написал два труда на эту тему: «Корона мудреца, или Слава Розового креста» и «Священное наставление, указывающее путь соединения искусства и природы с постулатами Розового креста». Ни один из них не привлек большого внимания. Третья его книга имела несколько больший успех; она называлась «Новая система розенкрейцерской медицины Джона Хейдона, слуги Божьего, посвященного в тайны природы». Для демонстрации идей английских розенкрейцеров того периода приведу несколько отрывков из этого сочинения. Его автор был юристом, «практикующим в Вестминстер-холле во время судебных сессий в течение всей жизни и посвящающим себя в часы досуга размышлениям об алхимии и розенкрейцерской философии». В предисловии, названном «Аполог184 вместо эпилога», он проливает свет на подлинные историю и догматы своего ордена. По его словам, древнейшими магистрами розенкрейцерской философии были Моисей, Илия и Иезекииль. Те немногие розенкрейцеры, что были современниками автора и жили в Англии и других европейских странах, являлись глазами и ушами владыки мироздания, всевидящими и всеслышащими, озаренными неземным светом, спутниками святых бестелесных душ и бессмертных ангелов, принимающими, подобно Протею185, любое обличье и способными творить чудеса. Самые набожные и отрешенные из братьев могли гасить эпидемии чумы в городах, утихомиривать неистовые ветры и бури, успокаивать бурные моря и реки, ходить по воздуху, сводить на нет козни ведьм, лечить все болезни и превращать все металлы в золото. Хейдон сообщает, что был лично знаком с двумя знаменитыми братьями Розового креста — Уолфордом и Уильямсом, творившими чудеса у него на глазах и научившими его многим замечательным астрологическим приемам и предсказанию землетрясений. «Я попросил одного из них сказать мне, — пишет он, — достоин ли человек моего душевного склада находиться в обществе моего доброго гения. “Когда я увижу тебя вновь, — ответил он (то есть когда он захочет прийти ко мне, ибо я не знал, где его искать), — я обязательно скажу тебе”. При нашей следующей встрече он сказал: “Ты должен молиться Господу, ибо человек добрый и благочестивый не может предложить ему большей услуги, чем пожертвование частицы самого себя — своей души”. Он также изрек, что добрые гении — суть милостивые очи Господа, кои носятся туда-сюда по свету, с любовью и жалостью взирая на простодушные устремления невинных и честных людей, и всегда готовы делать им добро и помогать».
Хейдон искренне верил в розенкрейцерский догмат, гласивший, что ни еда, ни питье не являются для человека необходимостью. Он утверждал, что всякий может существовать так же, как тот необычайный народ, живущий у истоков Ганга, о котором упоминает в книге о своих путешествиях его однофамилец, сэр Кристофер Хейдон. У того был завязан рот, в силу чего он не мог есть, но жил за счет дыхания, исходящего из ноздрей представителей этого народа, за исключением тех случаев, когда они совершали далекое путешествие и улучшали свою «диету» запахом цветов. Джон Хейдон пишет, что в действительно чистом воздухе «витает питательная примесь» и что сей примеси, пронизанной солнечными лучами, вполне достаточно для пропитания большинства людей. Что же до тех, чей аппетит непомерен, то он не против того, чтобы они питались обычной пищей, так как они не могут без нее обойтись, однако упорно настаивает на том, что нет никакой необходимости ее есть. Если они приложат к надчревной области пластырь из хорошо приготовленной еды, это полностью насытит самых дюжих и прожорливых! Тем самым им удастся избежать болезней, которыми они в большинстве случаев заражаются через рот. Это относится и к питью: каждый может убедиться, что все то время, пока человек сидит в воде, он не испытывает жажды. Он пишет, что знал множество розенкрейцеров, которые, применяя означенным способом вино, вместе постились годами. В сущности, заявляет Хейдон, мы можем без труда поститься всю жизнь, длись она хоть триста лет, обходясь без пищи и исключая тем самым всякий риск заболеть.
Сей «мудрый философ» далее сообщает озадаченным современникам, что лидеры ордена всегда приносят на место их встречи его символ, так называемый R. C.186, представляющий собой крест из черного дерева, украшенный золотыми розами; крест при этом символизирует страдания Христа за наши грехи, а золотые розы — славу и красу его воскресения. Данный символ доставляется попеременно в Мекку, на гору Голгофу, на гору Синай, в Харан и три других места (находящиеся, должно быть, между небом и землей) — Каскле, Апамию и Шолато-Вирисса-Конюш, где братья-розенкрейцеры встречаются, когда им заблагорассудится, и выносят резолюции по всем своим делам. Они всегда с удовольствием прибывают в одно из этих мест, где улаживают все мировые проблемы дней минувших, дней настоящих и дней грядущих, от начала до конца света. «И это, — патетически подытоживает Хейдон, — люди, имя которым — розенкрейцеры!»
К концу XVII века орденом, все еще хвалившимся некоторыми своими членами, завладели более рациональные идеи. Розенкрейцеры того периода, по-видимому, считали, что истинным философским камнем является удовлетворенность судьбой, и отказались от безумных поисков обычного плода воображения. Аддисон187 написал для «Спектейтора»188 репортаж о своем разговоре с одним розенкрейцером, из которого можно сделать вывод, что орден поумнел в своих деяниях, не прибавив ума изречениям своих членов. «Однажды, — пишет он, — я беседовал с одним розенкрейцером о великом секрете. Он говорил об этом секрете как о духе, живущем внутри изумруда и превращающем все, что находится вблизи него, в верх совершенства предмета превращения. “Люстру, — заявил мой собеседник, — он превращает в солнце, а воду — в алмаз. Он облучает все металлы и наделяет свинец всеми свойствами золота. Он возвышает дым до пламени, пламя — до света, а свет — до нимба”. Затем он добавил, что “его единственный луч рассеивает боль, тревогу и уныние человека, на которого он попадает”. “Короче говоря, — сказал он, — его присутствие естественным образом превращает любое место в своего рода рай на земле”. Послушав еще некоторое время его невнятные разглагольствования, я пришел к выводу, что он смешивает в одну кучу физические явления и абстрактные категории, а его великий секрет — не что иное, как удовлетворение».
ЯКОБ БЁМЕ
Пора рассказать о Якобе Бёме, который полагал, что сможет открыть тайну превращения металлов, читая Библию, и придумал странную гетерогенную теорию, смешав алхимию с религией, после чего основал исповедующий ее орден ауреакрейцеров. Он родился в Гёрлице, что в Верхней Лусатии, в 1575 году и до двадцати девяти лет работал сапожником. Будучи мечтателем с беспокойным складом ума, он пребывал в неизвестности до тех пор, пока к 1607-му или 1608 году на данную часть Германии не распространилась розенкрейцерская философия. С этого времени Бёме начал пренебрегать своими обязанностями и с головой окунулся в метафизический вздор. К нему в руки попали сочинения Парацельса, которые наряду с мечтаниями розенкрейцеров настолько поглотили его внимание, что он совершенно забросил свое ремесло, сменив таким образом относительную финансовую независимость на бедность и лишения. Однако, нимало не смутившись данным обстоятельством, он сосредоточил свои помыслы на потусторонних созданиях и возомнил себя новым апостолом рода человеческого. В 1612 году, после четырехлетних раздумий, он опубликовал свой первый труд «Аврора, или Восход солнца» — средоточие смехотворных воззрений Парацельса, ставших в интерпретации автора еще более непонятными. Он утверждал, что философский камень можно открыть путем старательного изучения Ветхого и Нового Заветов, особенно Апокалипсиса, который сам по себе содержит все секреты алхимии. Он заявлял также, что милость Господня подчиняется тем же правилам и реализуется теми же способами, что и божественное провидение, наблюдаемое на этом свете, и что людские умы очищаются от порока и разврата точно так же, как металлы очищаются от шлака, — огнем.
Помимо сильфов, гномов, ундин и саламандр, он допускал существование демонов различных категорий и видов. Он заявлял о своей способности становиться невидимкой и претендовал на абсолютную непорочность. Он также утверждал, что при желании может годами воздерживаться от еды, питья и всего остального, что нужно обычному человеку. Однако нет нужды далее перечислять его вздорные заявления. За эту книгу он получил выговор от магистрата Гёрлица, и ему велели оставить перо в покое и вернуться к своему ремеслу, чтобы его семью не перевели на пособие по бедности. Он пренебрег этим добрым советом и продолжил свои изыскания, посвящая одни дни сжиганию минералов и очистке металлов, а другие — толкованию Священного Писания с точки зрения алхимии. Он написал еще три труда, столь же возвышенно-нелепых, как и первый. Один из них, «Металлургия», наименее невразумительное из всех его сочинений. Второй называется «Бренное зерцало вечности», а третий, полный аллегорий и метафор, «all strange and geason, devoid of sense and ordinary reason»189, — «Секреты теософии».
Бёме скончался в 1624 году, оставив после себя изрядное число преданных последователей. Многие из них в XVII столетии приобрели столь же сомнительную славу, что и их учитель. Из них заслуживают упоминания Гифтхайль, Венденхаген, Иоганн Якоб Циммерманн и Авраам Франкенберг. За свою ересь они подвергались гонениям со стороны католической церкви, и многие из них пережили за свою веру длительное тюремное заключение и пытки. Одного из них, Кульманна, заживо сожгли в Москве в 1684 году по обвинению в колдовстве. Труды Бёме были переведены на английский и много лет спустя опубликованы энтузиастом по имени Уильям Ло.
МОРМИЙ
Петр Мормий, известный алхимик и современник Бёме, в 1630 году попытался дать ход розенкрейцерской философии в Голландии. Он обратился к Генеральным штатам190 с просьбой о разрешении выступить на их заседании и объяснить принципы ордена, а также изложить план превращения Голландии в счастливейшую и богатейшую страну мира с помощью философского камня и элементалов191. Генеральные штаты благоразумно отказались иметь с ним дело. Оскорбленный, он решил опозорить их в своей книге, которая в том же году была издана в Лейдене. Она называлась «Книга самых сокровенных тайн природы» и была разделена на три части. В первой рассказывалось о вечном движении, во второй — о превращении металлов, а в третьей — об универсальной медицине. Кроме того, в 1617 году во Франкфурте вышло несколько его трудов по розенкрейцерской философии на немецком языке.
Поэзия и романтическая литература перед розенкрейцерами в неоплатном долгу. Сочинения английских, французских и немецких литераторов изобилуют позаимствованными у них прелестными существами. Наиболее известен из таковых «изящный Ариэль» Шекспира. Среди прочих — грациозные обитатели гардеробной Белинды из восхитительной поэмы «Похищение локона» (Поп) и прелестная капризная русалка Ундина (ла Мотт Фуке), которую автор наделил таким изяществом и очарованием и к воображаемым страданиям которой он отнесся с таким сочувствием, каких более не удостаивалось ни одно сверхъестественное создание. Множество русалочьих атрибутов имеет Белая леди из Эвенела сэра Вальтера Скотта. Немецкая романтическая литература и лирическая поэзия изобилуют сильфами, гномами, ундинами и саламандрами. Не отставали от немцев и французские литераторы, заменяя оными персонажей более громоздкой мифологии Греции и Рима. Сильфы и сильфиды были излюбленными героями менестрелей и настолько прочно вошли в массовое сознание, что их порой путали с другими безупречными созданиями — эльфами и феями, сказания о которых имеют гораздо более древнюю историю. Будучи столь обязанным розенкрейцерам, ни один любитель поэзии не может не отдать должного этому философскому ордену, сколь бы абсурдны ни были воззрения его членов.
БОРРИ
Именно в то время, когда Михаэль Майер знакомил мир с доктринами розенкрейцеров, в Италии родился человек, которому впоследствии было суждено стать наиболее выдающимся членом их братства. Алхимическая мания никогда более не вызывала к жизни столь явного и столь преуспевшего самозванца, как Джузеппе Франческо Борри. Он родился в 1616 году (по другим источникам, в 1627-м) в Милане, где его отец, синьор Бранда Борри, был доктором. В шестнадцать лет Джузеппе был для завершения образования отправлен в римскую иезуитскую школу, где проявил феноменальную память. Он без малейшего труда выучивал любой материал. Он запоминал все, даже самые незначительные факты из самых толстых томов, и не было предмета изучения, недоступного его пониманию, но все преимущества, которые он мог извлечь из своих способностей, сводились на нет его необузданными страстями и любовью к шумным кутежам. У него постоянно возникали проблемы как со школьным начальством, так и с римской полицией, и он приобрел столь скверную репутацию, что она не улучшилась бы и с годами. С помощью друзей Борри стал врачом в Риме и получил должность при папском дворе. В процессе своих усердных штудий он воспылал любовью к алхимии и решил приложить свои усилия к открытию философского камня. Для обнищания, однако, было вполне достаточно его дурных наклонностей. Его удовольствия были такими же дорогостоящими, как и его изыскания, а их сочетание — губительным для его здоровья и репутации. В возрасте тридцати семи лет он решил, что на доходы от медицинской практики ему не прожить, и начал подыскивать себе другое занятие. В 1653 году он стал личным секретарем маркиза ди Мирольи, посланника эрцгерцога Инсбрукского при дворе папы римского. В этой должности он оставался два года, ведя тем не менее ту же распутную жизнь, что и прежде. Джузеппе постоянно находился в обществе игроков, развратников и куртизанок, участвовал в позорных уличных потасовках и отвращал от себя покровителей, желавших ему помочь.
И вдруг в его поведении произошла неожиданная перемена. Отъявленный повеса напустил на себя степенность философа; глумливый грешник объявил, что отказался от пороков и впредь будет образцом добродетели. Для его друзей сие исправление было столь же приятным, сколь и неожиданным; сам же Борри туманно намекал на то, что оно было вызвано чудодейственным проявлением некоей высшей силы. Он утверждал, что поддерживает связь с добрыми духами, что ему открываются тайны Бога и природы и что он овладел философским камнем. Как и его предшественник Якоб Бёме, Джузеппе смешивал религиозные материи с философским жаргоном и подготавливал почву для объявления себя основателем нового ордена. Однако в Риме и тем более во дворце папы это было рискованным занятием, и Борри хватило ума вовремя спастись от темницы замка Сант-Анджело. Он бежал в Инсбрук, где прожил около года, а затем вернулся в родной Милан.
Молва о его святости шла впереди него, и он понял, что многие люди готовы к нему присоединиться. Все изъявившие желание вступить в новый орден давали обет бедности и сдавали свое имущество на общее благо членов братства. Борри говорил им, что он получил от архангела Михаила священный меч, на рукояти которого выгравированы имена семи небожителей. «Все, кто откажется, — изрекал он, — вступить под мою длань, будут уничтожены папскими армиями, возглавить кои — мое божественное предназначение. Те, кто последует за мной, удостоятся всех мирских благ. Скоро я доведу мои химические изыскания до счастливого финала, открыв философский камень, после чего у нас будет столько золота, сколько мы захотим. Мне гарантирована помощь небесных сил, особенно архангела Михаила. Когда я только вступил на путь истинный, мне ночью было видéние и я услышал ангельский голос, пообещавший, что я стану пророком. В знак сего я увидел пальму в раю. Ангелы являются передо мной, когда бы я их ни позвал, и открывают мне все тайны мироздания. Сильфы и элементалы подчиняются мне и летают в самые отдаленные края земли, служа мне и моим избранникам». Неустанно повторяя подобные истории, Борри вскоре оказался во главе очень большого числа приверженцев. Поскольку в этой книге он фигурирует как алхимик, а не религиозный сектант, нет необходимости приводить здесь его доктрины, касающиеся некоторых догм католической церкви и вызвавшие крайнее неудовольствие папских властей. Они столь же нелепы, как и его философские притязания. По мере роста числа его последователей Джузеппе лелеял желание в один прекрасный день стать новым Магометом и основать в родном Милане монархию и религию, отводя себе роль короля и пророка. В 1658 году он задумал взять в плен стражу всех городских ворот и официально объявить себя правителем Милана. Как только этот план был готов к осуществлению, он был раскрыт. Двадцать последователей Борри арестовали, а ему путем неимоверных усилий удалось бежать в нейтральную Швейцарию, где он был недосягаем для папской немилости.
Немедленно начался суд над сторонниками Борри, и все они были приговорены к различным срокам заключения. Заочный суд над Борри длился свыше двух лет. В 1661 году его приговорили к смерти как еретика и колдуна, его изображение было сожжено в Риме палачом.
Тем временем Борри тихо жил в Швейцарии, позволяя себе удовольствие поносить инквизицию и ее судебные процессы. Впоследствии он отправился в Страсбург, намереваясь поселиться в этом городе. Там его как человека, несправедливо преследуемого за религиозные убеждения, и к тому же великого алхимика встретили исключительно радушно. Он, однако, счел этот город слишком тесным для своих честолюбивых планов и в том же году перебрался в более богатый Амстердам. Там он снял роскошный дом, обзавелся экипажем, затмевавшим своим великолепием кареты самых богатых купцов города, и присвоил себе титул «превосходительство». Откуда он взял на все это деньги, долго оставалось тайной. Адепты алхимии давали этому свое обычное объяснение. Здравомыслящие же люди придерживались мнения, что он пришел к этому более прозаическим путем, помня, что среди его несчастных учеников в Милане было много состоятельных людей, которые в соответствии с одним из основополагающих принципов ордена уступили все свои земные богатства его основателю. Как бы ни были получены эти деньги, Борри тратил их в Голландии направо и налево, и люди относились к нему с немалым уважением и почтением. Он вылечил нескольких человек, и его репутация возросла настолько, что его превозносили как чудо-медика. Он усердно продолжал алхимические эксперименты и каждый день уповал на успешное превращение неблагородного металла в золото. Надежда на это не покидала его никогда, даже в самые черные дни, а в описываемый период финансового благополучия он позволял себе самые безумные траты. Однако на деньги, привезенные из Италии, он не мог долго вести столь роскошную жизнь, а химера философского камня, обещавшая удовлетворение всех запросов в будущем, не приносила никакого дохода в настоящем. Через несколько месяцев ему пришлось урезать свои расходы и отказаться от большого дома, позолоченной кареты, дорогих чистокровных лошадей, ливрейных лакеев и помпезных увеселений. Отказ от роскоши повлек за собой падение популярности. Помощь врача, ходящего к больным пешком, казалась не такой чудодейственной, как помощь «его превосходительства», подъезжавшего к домам бедняков в карете, запряженной шестеркой лошадей. Из кудесника он превратился в обычного человека. Некогда лучшие друзья оказывали ему холодный прием, а неимущие льстецы пели дифирамбы новым кумирам. В сложившихся обстоятельствах Борри счел, что самое время сменить место жительства. С этой целью он занимал деньги везде, где только мог, и сумел получить от купца де Меера флоринов якобы на поиски живой воды. Ему также удалось заполучить шесть дорогостоящих алмазов под предлогом того, что он сумеет устранить имеющиеся в них дефекты без уменьшения их массы. С этой добычей он под покровом ночи покинул Амстердам и проследовал в Гамбург.
По прибытии он разыскал знаменитую Кристину, бывшую королеву Швеции. Добившись аудиенции, он попросил ее покровительства своим поискам философского камня. Она оказала ему некоторую поддержку, но Борри, опасаясь, что амстердамские купцы, имеющие связи в Гамбурге, разоблачат его как преступника, останься он в этом городе, уплыл в Копенгаген, где добился покровительства Фридриха III, короля Дании.
Этот правитель твердо верил в превращение металлов. Нуждаясь в деньгах, он с готовностью прислушивался к планам красноречивого авантюриста. Фридрих III снабдил Борри всем необходимым для проведения экспериментов и следил за их ходом с большим интересом. Он ежемесячно ожидал богатств, на которые можно будет купить Перу, а будучи разочарованным, терпеливо принимал извинения Борри, у которого для каждой неудачи имелось какое-нибудь правдоподобное объяснение. Со временем король сильно к нему привязался и защищал его от завистливых нападок придворных и возмущения тех, кому было больно сознавать, что их монарх стал легкой добычей шарлатана. Борри пытался сохранить расположение короля всеми доступными ему средствами. В этом ему помогало знание медицины, часто спасавшее его от немилости. Так он прожил при дворе Фридриха шесть лет; но в 1670 году монарх скончался, и Борри остался без покровителя.
Поскольку он нажил в Копенгагене больше врагов, чем друзей, и ему было не на что надеяться при следующем суверене, он нашел убежище в другой стране. Вначале он отправился в Саксонию, но там его ждал столь нелюбезный прием и подстерегала столь большая опасность, исходившая от эмиссаров инквизиции, что он прожил там всего несколько месяцев. Не предвидя ничего, кроме гонений, в странах, признающих духовную власть папы, он принял решение поселиться в Турции и принять ислам. Добравшись по пути в Константинополь до границы с Венгрией, он был арестован по подозрению в участии в недавно раскрытом заговоре графов Надасди и Франжипани. Он клялся в своей невиновности и сообщил пограничной страже свое настоящее имя и род занятий, но все было напрасно. Его посадили в тюрьму и послали императору Леопольду запрос о дальнейших действиях в отношении задержанного. Его счастливая звезда клонилась к закату. Леопольд получил письмо в неудачный для Борри момент. Его Величество совещался наедине с папским нунцием; как только последний услышал имя Джузеппе Франческо Борри, он потребовал передать узника святейшему престолу. Его требование было удовлетворено, и Борри, закованного в ручные кандалы, отправили под конвоем в римскую тюрьму инквизиции. Он был в гораздо большей степени мошенником, нежели фанатичным приверженцем своих воззрений, и был не прочь публично отречься от ереси, если бы это сохранило ему жизнь. Когда ему было сделано соответствующее предложение, он не замедлил его принять. Вынесенный ему в прошлом смертный приговор едва ли мог быть заменен наказанием менее суровым, чем пожизненное заключение, но он был безумно рад избежать лап палача любой ценой и 27 октября 1672 года сделал amende honorable192 перед собравшейся толпой римлян. После этого он был переведен в тюрьму замка Сант-Анджело, где оставался до самой смерти, имевшей место двадцать три года спустя. Сообщается, что незадолго до смерти он удостоился существенной привилегии: ему разрешили иметь лабораторию и скрашивать одиночное заключение поисками философского камня. Экс-королева Кристина во время пребывания в Риме часто посещала старика, дабы поговорить с ним о химии и доктринах розенкрейцеров. Она даже добилась для него разрешения иногда покидать тюрьму на один или два дня и гостить у нее во дворце под ее ответственность за его возвращение в неволю. Она поощряла его поиски великого секрета алхимиков и для их осуществления снабжала его деньгами. Можно предположить, что Борри извлек из этого знакомства максимальную выгоду, а Кристина не получила ничего, кроме горького опыта. Однако нет уверенности, что она получила даже это, ибо до самой смерти верила в возможность отыскания философского камня и была готова помочь любому авантюристу, рвение или дерзость которого вселяли в нее веру в обоснованность его претензий.
Примерно на двенадцатом году заключения Борри в Кёльне был издан небольшой труд, озаглавленный «Ключ от кабинета благородного рыцаря Джузеппе Франческо Борри, в коем заперто множество принадлежащих его перу любопытных записок по химии и другим наукам, а также его жизнеописание». Эта книга содержала развернутое изложение розенкрейцерской философии и дала аббату де Виллару материал для интересного кабалистического романа «Граф де Габалис», наделавшего много шума на исходе XVII столетия.
Не дожив до восьмидесяти лет, Борри умер в тюрьме Сант-Анджело в 1695 году. Кроме «Ключа от кабинета», написанного в 1666-м в Копенгагене для «просвещения» Фридриха III, он опубликовал труд по алхимии и оккультным наукам под названием «Миссия Ромула для римлян».
МЕНЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ АЛХИМИКИ XVII ВЕКА
Помимо искателей философского камня, о которых было рассказано выше, в указанном и предыдущем столетиях жило множество авторов, наводнивших литературу своими книгами на эту тему. Большинство ученых мужей той эпохи действительно верило в целесообразность означенных поисков. Несмотря на то что Ван Гельмонт, Боррихий, Кирхер, Бёрхааве и другие авторы не занимались алхимией профессионально, они любили эту науку и поощряли ее корифеев. Гельвеций, дед и тезка прославленного философа, утверждает, что в 1666 году в Гааге он видел, как некий незнакомец превратил неблагородный металл в золото. Он пишет, что однажды к нему в кабинет зашел человек, одетый как респектабельный бюргер из Северной Голландии, но весьма скромный и простой в обращении, намеревавшийся развеять его сомнения в отношении философского камня. Он спросил Гельвеция, узнáет ли тот сей редкий камень, если увидит его. Гельвеций ответил отрицательно. Бюргер немедленно достал из кармана маленькую шкатулку из слоновой кости, в которой лежали три очень тяжелых кусочка металла цвета серы, и заверил Гельвеция, что он может сделать из них двадцать тонн золота. Гельвеций сообщает нам, что он очень внимательно их изучил и, видя, что они очень хрупкие, незаметно соскоблил крупицу сей субстанции ногтем большого пальца. Затем вернул их незнакомцу со страстной просьбой осуществить процесс трансмутации в его присутствии. Незнакомец ответил, что ему нельзя этого делать, и удалился. После его ухода Гельвеций наполнил тигель свинцом, в расплав которого бросил украденную частицу философского камня. Он был разочарован, увидев, что та полностью испарилась, оставив свинец в первоначальном состоянии.
Несколько недель спустя, когда он уже почти забыл про этот эпизод, незнакомец явился вновь. Гельвеций опять стал просить его продемонстрировать процесс трансмутации свинца. Наконец незнакомец согласился и сообщил Гельвецию, что для этого достаточно крупинки философского камня, которую перед погружением в расплавленный металл нужно заключить в восковой шар, иначе в силу своей исключительной летучести она просто испарится. Они провели соответствующий эксперимент и к обоюдной радости добились успеха. Гельвеций повторил эксперимент в одиночестве и превратил шесть унций193 свинца в самое чистое золото.
Молва об этом событии распространилась по всей Гааге, и все известные люди этого города собрались в кабинете Гельвеция, дабы воочию убедиться в истинности полученного сообщения. Гельвеций повторил эксперимент в присутствии принца Оранского и позднее проделал его еще несколько раз, пока у него не кончился порошок, полученный от незнакомца. Следует отметить, что последний больше никогда не посещал Гельвеция и так и не сообщил ему ни своего имени, ни общественного положения. В следующем году Гельвеций опубликовал своего «Золотого тельца»194, в котором подробно изложил эту историю.
Примерно тогда же знаменитый отец Кирхер издал свой «Тайный мир», в котором назвал алхимиков сборищем мошенников и самозванцев, а их науку — обманом. Он признал, что сам в прошлом был заядлым алхимиком и пришел к указанному выводу после длительных раздумий и множества бесплодных экспериментов. Все алхимики немедленно взбудоражились, решив опровергнуть утверждение грозного оппонента. Первым вступил с ним в полемику некий Соломон де Блауэнштейн, который попытался уличить его в умышленном обмане, напомнив ему о трансмутациях, не так давно проделанных Сендивогием в присутствии императора Фридриха III и курфюрста Майнцского. В диспут также вступили Цвельфер и Глаубер195, отнесшие враждебность отца Кирхера на счет его злобной зависти к адептам более удачливым, нежели он сам.
Утверждали также, что Густав Адольф превратил некоторое количество ртути в чистое золото. Ученый Боррихий сообщает, что видел монеты, чеканенные из этого золота; на этом же настаивает Лагле дю Френуа. В «Путешествиях Монкони» об этом говорится следующее: «Один купец из Любека, не слишком преуспевший в торговле, но знавший, как превратить свинец в очень хорошее золото, отдал королю Швеции сделанный им слиток весом по меньшей мере сто фунтов. Король тотчас велел чеканить из него дукаты и, точно зная, что сведения о происхождении сего золота соответствуют действительности, приказал высекать на одной стороне монеты его собственный герб, а на другой — символы Меркурия и Венеры. У меня (продолжает Монкони) есть один из этих дукатов, и я из заслуживающего доверия источника узнал, что после смерти любекского купца, никогда не производившего впечатления богача, в его сундуках нашли не менее одного миллиона семисот тысяч крон»196.
Подобные истории, с уверенностью рассказываемые людьми высокого общественного положения, подпитывали алхимические заблуждения во всех европейских странах. Поражает количество алхимических трудов, написанных в одном лишь XVII веке, и число умных людей, принесших себя в жертву этой иллюзии. Габриэль де Кастень, монах ордена св. Франциска, привлек к себе столь большое внимание в царствование Людовика XIII, что этот монарх оставил его при дворе и сделал раздающим милостыню197. Монах заявлял, что нашел эликсир жизни, и Людовик рассчитывал наслаждаться правлением сто лет. Ван Гельмонт приписывал себе удавшуюся трансмутацию ртути, вследствие чего был приглашен императором Рудольфом II поселиться при венском дворе. Глаубер, получивший соль, названную его именем, и имевший врачебную практику в Амстердаме примерно в середине XVII века, основал в этом городе алхимическую школу и сам читал лекции по сей науке. Тогда же пользовался большим авторитетом Иоганн Иоахим Бехер Шпайерский, убежденный в том, что, выполняя определенную последовательность операций с использованием великой и непостижимой субстанции — философского камня, можно делать золото из кремневой гальки. Он искал поддержки своих экспериментов у императора Леопольда Австрийского; но надежда на успех была слишком незначительной, а необходимые затраты — чересчур высокими, чтобы уговорить данного монарха, поэтому тот не скупился на похвалы, но не дал Бехеру никаких денег. Позднее Бехер обращался к голландским Генеральным штатам, но с тем же эффектом.
В связи с бесчисленными уловками, с помощью которых мошенники убеждали людей, что они преуспели в златоделании, и великим множеством живописующих сии деяния историй, имевших хождение в тот период, 15 апреля 1722 года на заседании Королевской академии наук в Париже месье Жоффруа-старший прочел весьма своевременный доклад. Поскольку его темой являются алхимические обманы XVI и XVII веков, его краткий пересказ будет весьма уместен в этой части нашего повествования. Случаи удачных трансмутаций были столь многочисленны и выглядели настолько достоверно, что освободить общественное сознание от иллюзий могло лишь такое обстоятельное и аргументированное разоблачение, какое сделал месье Жоффруа. Уловкой, к которой алхимики прибегали чаще всего, был тигель с двойным дном, нижняя часть которого была сделана из железа или меди, а верхняя — из воска, имеющего окраску, имитирующую тот же самый металл. Зазор между днищами они заполняли таким количеством золота или серебра, какое требовалось для их целей. Затем они наполняли тигель свинцом, ртутью или другими ингредиентами и ставили его на огонь. Разумеется, по завершении эксперимента они всегда находили на дне тигля золото или серебро. Тот же результат достигался и многими другими способами. Некоторые алхимики использовали выдолбленную с одного конца палочку, наполненную золотой или серебряной пылью и закупоренную воском или маслом. Ею они помешивали плавящийся в тигле металл, сопровождая данную операцию множеством церемоний, дабы отвлечь внимание наблюдателей от подлинной цели своих манипуляций. Иногда они сверлили отверстия в кусках свинца, в которые заливали расплавленное золото и тщательно заделывали их первоначальным металлом. Временами они осветляли кусок золота ртутью, после чего им не составляло труда выдавать его непосвященным за неблагородный металл и с легкостью «превращать» его в самое настоящее золото с помощью небольшого количества концентрированной азотной кислоты.
Другие алхимики мистифицировали наблюдателей с помощью гвоздей, наполовину железных, наполовину золотых или серебряных. Они имитировали получение драгоценной половины из железа, погружая ее в сильный растворитель. Месье Жоффруа продемонстрировал членам Академии несколько таких гвоздей и показал, насколько искусно спаяны их половинки. Золотая или серебряная половинка покрывалась краской под цвет железа, которая немедленно растворялась при погружении гвоздя в концентрированную азотную кислоту. Такой гвоздь долгое время хранился в кабинете великого герцога Тосканского. Таким же, по словам месье Жоффруа, был нож, подаренный одним монахом английской королеве Елизавете и имевший наполовину золотое, наполовину стальное лезвие. Одно время часто можно было видеть наполовину золотые, наполовину серебряные монеты, сделанные алхимиками все для того же надувательства. Фактически, сказал месье Жоффруа в завершение своего длинного доклада, есть все основания полагать, что все известные нам громкие истории о превращении металлов в золото или серебро посредством нанесения на их поверхность порошка или философского эликсира основаны на успешных обманах такого рода. Эти мнимые философы неизменно исчезали после первой или второй демонстрации или отказывались продолжать оные либо из-за того, что в случае более пристального наблюдения за ходом повторяемого эксперимента их неминуемо ждало разоблачение, либо просто потому, что им не хватало имевшейся у них золотой пыли более чем на один опыт.
Бескорыстие этих лжефилософов было, на первый взгляд, неподдельным и достойным восхищения. Они нередко вообще отказывались от плодов своих трансмутаций — даже от славы первооткрывателей. Но это кажущееся бескорыстие являлось одной из их самых больших хитростей. Оно подогревало интерес людей к их изысканиям, культивировало веру в возможность открытия философского камня и было залогом будущих выгод, которыми они никогда не медлили воспользоваться, — таких как причисление к придворным, жизнь за чужой счет и дары от честолюбивых монархов, слишком жадных до обещанного им золота.
Нам остается проследить развитие данного заблуждения от начала XVIII столетия до наших дней. Читатель узнает, что до самого недавнего времени наблюдались лишь незначительные признаки возврата к здравому смыслу.
ЖАН ДЕЛИЛЬ
В 1706 году во Франции было много разговоров о кузнеце Делиле, который открыл философский камень и путешествовал по стране, превращая свинец в золото. Он был уроженцем Прованса, откуда слава о нем быстро достигла столицы. Его ранние годы окутаны мраком неизвестности, но Лагле дю Френуа старательно собрал некоторые сведения о более позднем периоде его жизни, представляющие большой интерес. Человек без образования, он в юности был слугой одного алхимика, от которого научился множеству трюков сей братии. Имя его хозяина история не сохранила, но сообщается, что он каким-то образом впал в немилость у правительства Людовика XIV и вследствие этого был вынужден бежать в Швейцарию. Делиль сопровождал его до Савойского герцогства и там, как считают, напал на него в безлюдном горном ущелье, убил и ограбил. После этого он оделся как паломник и вернулся во Францию. На уединенном придорожном постоялом дворе, где он остановился на ночь, он познакомился с женщиной по фамилии Алюи, и между ними вспыхнула столь внезапная и пламенная страсть, что она согласилась все бросить, последовать за ним и делить с ним радости и горести, куда бы он ни отправился. Имея, по-видимому, определенный достаток, они вместе прожили в Провансе пять или шесть лет, не привлекая к себе внимания. Когда в 1706 году он объявил себя владельцем философского камня, в его резиденцию Шато-де-ла-Палю в местечке Силанэ, что вблизи Баржамона, отовсюду потянулись люди, желавшие взглянуть на осуществляемые им трансмутации насосов и кочегарных лопат. В письме месье де Серизи, настоятеля монастыря Шатонёф в прованской епархии Рие, священнику парижского прихода Сен-Жак-дю-Отпа, датированном 18 ноября 1706 года, приводится следующий отчет о деятельности Делиля:
«Мой дорогой кузен, у меня есть для вас новость, которая будет интересна вам и вашим друзьям. Философский камень, который многие считали химерой, наконец найден. Сей великий секрет открыл человек по фамилии Делиль из прихода Силанэ, живущий в четверти лье от моего дома. Он превращает свинец в золото, а железо — в серебро, просто нагревая эти металлы докрасна, а затем покрывая их в этом состоянии имеющимися у него маслом и порошком. Таким образом, любой человек, обладай он достаточным количеством этой удивительной смеси, мог бы делать по миллиону ливров в день. Некоторое количество изготовленного таким образом светлого золота он отправил лионским ювелирам, чтобы узнать их мнение о его качестве. Кроме того, он продал его порцию весом двадцать фунтов одному купцу из Диня по фамилии Таксис. Все ювелиры говорят, что никогда прежде не видели золота столь высокой пробы. Железные гвозди он с одного конца делает золотыми, а с другого — серебряными, оставляя железной среднюю часть. Во время длительной беседы, которую я имел с ним на днях по поручению епископа Сенеского, видевшего его опыты собственными глазами и посвятившего меня во все детали, он пообещал дать мне один из таких гвоздей.
Барон и баронесса де Рейнвальд показали мне слиток золота, который месье Делиль сделал из сплава олова со свинцом у них на глазах. Мой зять Совёр, бесплодно потративший на поиски великого секрета пятьдесят лет жизни, на днях принес мне гвоздь, который Делиль в его присутствии превратил в золото, и полностью убедил меня в том, что все его предыдущие эксперименты основывались на ложном принципе. Недавно сей замечательный мастер своего дела получил весьма любезное письмо от управляющего королевским двором, которое я читал. Он предлагал использовать все его влияние на министров, дабы предотвратить любые покушения на его (Делиля) свободу, дважды имевшие место со стороны правительственных агентов. Есть мнение, что масло, которым он пользуется, является золотом или серебром, приведенным в жидкое состояние. Его он подолгу держит на солнце. Он сообщил мне, что на все подготовительные операции у него уходит полгода. Я сказал ему, что с ним, очевидно, желает встретиться король. Он ответил, что не может демонстрировать свое искусство повсеместно, так как для успешных трансмутаций абсолютно необходимы определенные климат и температура. По правде сказать, этот человек, похоже, напрочь лишен честолюбия. У него всего две лошади и двое слуг. Кроме того, он свободолюбив и абсолютно невежлив, а речь его безграмотна, но его суждения кажутся убедительными. Раньше он был всего лишь кузнецом, но преуспел в этом ремесле, будучи самоучкой. Его посещают все сиятельные пэры и сеньоры страны, обращающиеся с ним настолько обходительно, что более всего это походит на идолопоклонство. Франция была бы счастлива, если бы этот человек открыл свою тайну королю, которому управляющий двором уже послал несколько слитков! Но счастье сие слишком иллюзорно, ибо у меня есть опасение, что этот мастер унесет свой секрет с собой в могилу. Несомненно, данное открытие наделает в королевстве много шума, если характер человека, которого я вам только что описал, не будет тому препятствием. Во всяком случае последующие поколения узнают о нем».
В другом письме тому же адресату, датированном 27 января 1707 года, месье де Серизи пишет: «Мой дорогой кузен, в последнем письме я рассказал вам о прославленном прованском алхимике месье Делиле. Значительная часть рассказанного основывалась лишь на слухах, но теперь я могу свидетельствовать на основании собственного опыта. У меня есть наполовину железный, наполовину серебряный гвоздь, который я сделал сам. Сей великий и восхитительный мастер даровал мне еще более великую привилегию — он позволил мне превратить кусок свинца, который я принес с собой, в чистое золото с помощью его удивительных масла и порошка. К этому господину прикованы взоры всей страны: одни громогласно называют его самозванцем, другие скептически выжидают, но те, кто видел его деяния лично, подтверждают их подлинность. Я видел пропуск, присланный ему от королевского двора, с приказом явиться в Париж в начале весны. Он сказал мне, что охотно туда отправится и что весну в качестве срока его прибытия ко двору он определил самолично, так как ему требуется время на подготовку всех необходимых материалов, дабы по представлении королю он мог немедленно провести достойный внимания его величества эксперимент по превращению большого количества свинца в золото высшей пробы. Искренне надеюсь, что он не даст своему секрету умереть вместе с ним, а сообщит его королю. Когда я имел честь обедать с ним в прошлый четверг, 20-го числа сего месяца, то, сидя рядом с ним, сказал ему шепотом, что ему под силу, будь у него такое желание, посрамить всех врагов Франции. Он не стал этого отрицать, а заулыбался. Воистину, этот человек — чудо-мастер. В одних случаях он использует смесь масла с порошком, в других — только порошок, но в столь малом количестве, что, когда делаемый мною слиток был полностью им натерт, это было практически незаметно».
Этот глуповатый священник был отнюдь не единственным человеком в округе, потерявшим голову, уповая на несметное богатство, сулимое ловким обманщиком. Еще один священнослужитель, де Лион, регент хора гренобльского кафедрального собора, 30 января 1707 года писал: «Месье Менар, викарий прихода Монтье, написал мне, что есть один человек лет тридцати пяти по фамилии Делиль, который превращает свинец и железо в золото и серебро, и что сие превращение истинно и несомненно, поскольку ювелиры утверждают, что его золото и серебро — самые чистые и высокопробные из тех, что им приходилось видеть. Пять лет этого человека считали безумцем или плутом, но сегодня люди знают о нем правду. В настоящее время он живет у месье де ла Палю в одноименном замке. Материальное положение месье де ла Палю оставляет желать лучшего, и он нуждается в деньгах, чтобы дать приданое своим дочерям, дожившим незамужними до средних лет из-за того, что бесприданницы никому не нужны. Месье Делиль пообещал сделать их самыми богатыми девушками провинции до того, как он отправится в Париж по приказу короля. Он попросил о небольшой отсрочке своего отъезда, с тем чтобы накопить достаточно порошка для изготовления нескольких квинталов198 золота в присутствии Его Величества, коему он собирается их подарить. Основное составляющее его замечательного порошка — лекарственные растения, главным образом травы Lunaria major и minor. Большую плантацию первой он посадил в парке Ла-Палю, а вторую собирает в горах, примерно в двух лье от Монтье. Рассказываемая мною история — отнюдь не небылица, придуманная ради забавы: месье Менар может пригласить для подтверждения ее правдивости множество свидетелей, среди которых — епископ Сенеский, наблюдавший за проведением сих удивительных опытов, и месье де Серизи, которого вы хорошо знаете. Делиль превращает металлы публично. Он натирает свинец или железо своим порошком и кладет металл на горящий древесный уголь. Вскоре металл меняет цвет: свинец желтеет, превращаясь в превосходное золото, а железо белеет, становясь чистым серебром. Делиль — совершенно неграмотный человек. Месье де Сент-Обан пытался научить его читать и писать, но он мало что усвоил из этих уроков. Он невежливый и капризный мечтатель, действующий урывками».
Делиль, видимо, боялся разоблачения в Париже. Он знал, что в присутствии короля за его манипуляциями будут наблюдать особенно тщательно, и под тем или иным предлогом откладывал поездку более двух лет. Демаре, министр финансов Людовика XIV, думая, что «философ» боится предательства и насилия, дважды посылал ему охранное свидетельство за печатью короля, но Делиль по-прежнему отказывался ехать. Тогда Демаре написал письмо епископу Сенескому, в коем поинтересовался, чтó тот действительно думает об этих знаменитых трансмутациях. Ответ прелата был следующим:
«Копия отчета, датированного мартом 1709 года, адресованного месье Демаре, генеральному контролеру финансов Его Величества Людовика XIV, епископом Сенеским.
СУДАРЬ, год назад или немногим более я выразил Вам мою радость в связи с Вашим назначением на пост министра. Теперь я имею честь сообщить Вам свое мнение о господине Делиле, который занимается превращением металлов в моей епархии. За последние два года я несколько раз говорил о нем с графом де Поншартреном, который спрашивал меня о нем; но я не писал Вам, сударь, или месье де Шамильяру, потому что ни Вы, ни он не интересовались моим мнением на этот счет. Однако сейчас, когда Вы дали мне понять, что хотите знать мои соображения по данному вопросу, я поделюсь ими с Вами со всей искренностью, в интересах короля и во славу Вашего министерства.
По моему мнению, есть два момента в отношении господина Делиля, подлежащие беспристрастной проверке: первый связан с его секретом, а второй — с его персоной; то есть необходимо выяснить, подлинны ли его трансмутации и всегда ли он был законопослушным подданным. Что касается секрета философского камня, то я долгое время считал оный вздором и свыше трех лет относился с наибольшим недоверием к претензиям именно сего господина Делиля. В то время я никак его не поощрял; более того, я помогал человеку, высочайше рекомендованному мне одним влиятельным семейством данной провинции, поддерживать выдвинутое против Делиля обвинение в нескольких преступлениях. Но после того, как этот человек, разгневанный на Делиля, однажды рассказал мне, что он сам несколько раз отвозил золото и серебро, сделанное тем из свинца и железа, ювелирам Ниццы, Экса и Авиньона, мое отношение к Делилю мало-помалу стало меняться. Позднее я познакомился с Делилем в доме одного из моих друзей. Чтобы доставить мне удовольствие, эта семья попросила Делиля поставить опыт в моем присутствии, на что тот немедленно согласился. Я дал ему несколько железных гвоздей, которые он превратил в серебряные в камине перед шестью или семью заслуживающими доверия свидетелями. Я забрал сии превращенные гвозди с собой и отправил их вместе с моим раздающим милостыню Имберу, ювелиру из Экса, который, подвергнув их необходимым тестам, вернул их мне со словами, что они сделаны из очень хорошего серебра. Это, однако, не вполне меня удовлетворило. Памятуя, как двумя годами ранее месье де Поншартрен намекнул мне, что если я проведу расследование деятельности Делиля, то окажу тем самым услугу Его Величеству, я решил так и сделать. Для этого я направил алхимику предписание приехать ко мне в Кастеллан. Он приехал, и я приставил к нему восемь-десять человек, которым велел пристально наблюдать за его руками. В присутствии всех нас он превратил два куска свинца в золото и серебро. Я отправил оба куска месье де Поншартрену, и он впоследствии сообщил мне в письме, лежащем сейчас передо мной, что он показал их опытнейшим ювелирам Парижа, кои единодушно идентифицировали их как чистейшее золото и серебро. После этого мое прежнее скверное мнение о Делиле было всерьез поколеблено. Еще более оно пошатнулось, когда он у меня на глазах осуществил пять или шесть трансмутаций в Сенé и заставил меня выполнить превращение собственноручно, а сам при этом ни к чему не прикасался. Вы, сударь, читали письмо моего племянника Пьера Берара, члена Парижской оратории199, об эксперименте, проделанном им в Кастеллане, правдивость которого я удостоверяю настоящим письмом. Еще один мой племянник, господин Бурже, который был здесь три недели назад, проделал тот же самый эксперимент в моем присутствии, и обо всех его обстоятельствах он подробно сообщит Вам в Париже при личной встрече. В моей епархии свидетелями означенных превращений были около ста человек. Признаюсь, сударь, что после показаний стольких наблюдателей и заверений стольких ювелиров, равно как и неоднократных успешных экспериментов, свидетелем коих был я сам, все мои предубеждения исчезли. Мои глаза убедили мой рассудок, а деяние моих рук развеяло иллюзии неосуществимости трансмутаций, прежде управлявшие моими помыслами.
Мне остается поделиться с Вами своими соображениями относительно его законопослушности. Он подозревается в трех вещах: во-первых, в том, что он был замешан в одной криминальной истории в Систроне и подделывал монету королевства; во-вторых, в том, что проигнорировал два охранных свидетельства, посланные ему королем; и в-третьих, в том, что по-прежнему откладывает поездку ко двору для демонстрации своих способностей в присутствии короля. Вы можете убедиться, сударь, что я ничего не утаиваю и не упускаю. Что до дела в Систроне, то господин Делиль не раз уверял меня, что там он не совершил ничего противозаконного, да и вообще никогда не занимался ничем таким, что оскорбляло бы честь королевского подданного. Действительно, шесть или семь лет назад он был в Систроне с целью сбора трав, необходимых для изготовления его порошка, и жил в доме некоего Пелуза, которого считал честным человеком. Пелуза обвинили в подделке луидоров, а поскольку Делиль был его постояльцем, его сочли вероятным сообщником хозяина. По этому абсолютно бездоказательному подозрению он был осужден за неявку в суд, что достаточно типично для судей, которые всегда очень суровы к отсутствующим на процессе. Во время моего пребывания в Эксе я узнал, что человек по имени Андре Алюи распрострянял порочащие Делиля сведения, надеясь избежать таким образом уплаты ему долга в сорок луидоров. Но позвольте мне, сударь, продолжить и добавить, что, даже если подозрения в отношении Делиля обоснованны, нам следует с некоторым снисхождением отнестись к прегрешениям человека, владеющего секретом, столь полезным государству. Что же до двух охранных свидетельств, отправленных ему королем, то я считаю, что его столь малое внимание к ним никоим образом нельзя вменять ему в вину. Период времени, необходимый ему для подготовки к трансмутациям, состоит, строго говоря, только из четырех летних месяцев; и если в силу тех или иных причин он не может использовать их должным образом, то теряет целый год. Таким образом, первое охранное свидетельство стало бесполезным из-за внезапного вторжения герцога Савойского в 1707 году, а второе едва ли достигло адресата в конце июня 1708 года, когда означенный Делиль подвергся нападению группы вооруженных лиц, назвавшихся исполнителями воли графа де Гриньяна. Делиль написал графу несколько жалоб, но не получил от него никакого ответного письма или иных гарантий его безопасности. То, о чем я Вам, сударь, только что рассказал, не заставит Вас гневаться в третий раз и объясняет, почему в настоящее время он не может отправиться в Париж к королю во исполнение своего обещания двухлетней давности. Он потерял два или даже три лета из-за постоянного беспокойства, которое ему причиняли. Вследствие этого он не мог работать и не накопил достаточного количества масла и порошка или не довел имеющиеся у него запасы до необходимой степени совершенства. По той же причине он не смог дать господину де Бурже обещанную ему порцию указанных веществ для Вашей экспертизы. Если он недавно и превратил какое-то количество свинца в золото с помощью нескольких крупинок его порошка, то они, несомненно, были последними, ибо он говорил мне, что порошок у него на исходе, задолго до получения известия о грядущем визите моего племянника. Если бы он даже сохранил это малое количество для эксперимента в присутствии короля, я уверен, что по зрелом размышлении он ни за что не рискнул бы отправиться с ним в Париж, потому что, если бы из-за малейших отклонений твердости металлов в ту или иную сторону, обнаруживаемых только в процессе эксперимента, первая попытка закончилась неудачно и у него не осталось порошка для повторной попытки и преодоления сего препятствия, его могли бы счесть мошенником.
Позвольте мне, сударь, в заключение повторить, что такого мастера своего дела не следует доводить до последней крайности и принуждать искать убежище в других странах, на что он смотрит с презрением как в силу своих воззрений, так и благодаря совету, который я ему дал. Вы ничем не рискуете, если дадите ему еще немного времени, и можете многое потерять, если будете его торопить. Подлинность его золота после ее подтверждения столь большим числом ювелиров Экса, Лиона и Парижа не вызывает сомнений. А поскольку он не виноват, что посланные ему ранее охранные свидетельства остались бесполезными, необходимо отправить ему еще одно, за успешное использование которого я буду нести ответственность, если Вы поручите это мне и доверитесь моему страстному желанию оказать услугу Его Величеству. Прошу Вас ознакомить его с моим письмом во избежание возможных справедливых упреков в мой адрес в случае его незнания вышеизложенных фактов. Заверьте его, если сочтете необходимым, что, если Вы отправите мне такое охранное свидетельство, я заставлю господина Делиля засвидетельствовать свою преданность интересам короны в той мере, в каковой оная будет соответствовать степени моей личной ответственности перед королем. Таковы мои соображения, кои я представляю на Ваше высочайшее рассмотрение. Имею честь оставаться Вашим покорным слугой и пр.
Иоанн, епископ Сенеский.
Адресовано месье Демаре, министру и генеральному контролеру финансов, Париж».
Данное письмо является наглядным подтверждением того, что Делиль был не заурядным самозванцем, но человеком исключительной хитрости и ловкости. Епископа явно обманула ловкость рук Делиля; и когда однажды его первоначальное недоверие было сломлено, он проявил такую склонность к самообману, какой, вероятно, не ожидал от него даже Делиль. Его вера была столь сильна, что он сделал заботы своего протеже своими заботами и старался отвести от него подозрения. Однако Людовика и его министра, похоже, настолько ослепили радужные прогнозы епископа, что алхимику тотчас же был выслан третий пропуск, или охранное свидетельство, в котором король приказывал ему незамедлительно прибыть в Версаль и провести публичный эксперимент с использованием его масла и порошка. Но это не входило в планы Делиля. В провинциях он был важной персоной и настолько привык к повсеместной раболепной лести, что не испытывал желания променять ее на точную идентификацию своего статуса при дворе монарха. Под тем или иным предлогом он откладывал путешествие в Париж, невзирая на настоятельные просьбы своего доброго друга епископа. Последний, давший слово министру и поклявшийся честью, что убедит Делиля поехать, начал испытывать тревогу, поняв, что не может сломить упрямство сей персоны. Епископ увещевал его более двух лет и каждый раз слышал в ответ, что имеющегося порошка недостаточно для поездки или что тот недостаточно долго подвергался воздействию солнечных лучей. В конце концов его терпению пришел конец, и он, опасаясь падения собственного авторитета в глазах короля из-за дальнейших проволочек, попросил его в своем письме издать lettre de cachet200, на основании которого в июне 1711 году алхимик был арестован в замке Ла-Палю и уведен для заключения в Бастилию.
Жандармы знали, что арестованный предположительно является счастливым обладателем философского камня и в пути сговорились убить и ограбить его. Один из них сделал вид, что соболезнует злоключениям философа, и предложил ему совершить побег, пока он (жандарм) будет отвлекать внимание сослуживцев. Делиль не скупился на благодарности, не догадываясь о подстроенной ему западне. Его вероломный «друг» сообщил другим жандармам, что жертва попалась на удочку, и было решено позволить Делилю побороться с одним из них и побороть его, пока остальные будут находиться на некотором расстоянии. Затем они должны были погнаться за ним и выстрелить ему в сердце, а после изъятия у трупа философского камня — отвезти его в Париж на телеге и сообщить месье Демаре, что арестант пытался бежать и сумел бы это сделать, если бы они не открыли огонь и не застрелили его. В удобном месте план был осуществлен. По сигналу «дружественного» жандарма Делиль побежал, а другой жандарм прицелился и прострелил ему бедро. На звук выстрела тут же сбежались крестьяне, тем самым помешав жандармам добить его согласно их плану, и его, тяжело раненного и истекающего кровью, привезли в Париж. Он был брошен в Бастилию и упорно срывал с себя бинты, накладываемые хирургами на рану. Он больше никогда не вставал с постели.
Епископ Сенеский навещал его в тюрьме и обещал ему свободу в обмен на превращение определенного количества свинца в золото в присутствии короля. У несчастного больше не было подручных средств для обмана: у него не было ни золота, ни тигля с двойным дном или полой палочки, в которые это золото можно было бы спрятать. Он, однако, не захотел признаться в мошенничестве, а просто сказал, что не знает секрета изготовления порошка для нанесения на поверхность металлов, некоторое количество которого он получил от одного итальянского философа и истратил без остатка на различные трансмутации в Провансе. Он влачил жалкое существование в Бастилии семь-восемь месяцев и умер от последствий ранения на сорок первом году жизни.
АЛЬБЕР АЛЮИ
Сей претендент на владение философским камнем был сыном от первого брака женщины по фамилии Алюи, с которой Делиль познакомился в начале своей карьеры на придорожном постоялом дворе и на которой он впоследствии женился. Делиль заменил ему отца и наилучшим доказательством своей заботы о пасынке счел обучение оного мошенническим приемам, вырвавшим его самого из мрака безвестности. Юный Алюи был способным учеником и быстро освоил весь алхимический жаргон. Он со знанием дела рассуждал о поверхностных контактах, скреплениях, возгонках, эликсире жизни и универсальном растворителе, а после смерти Делиля провозгласил, что этот великий адепт передал свой секрет ему и только ему. Мать помогала ему мошенничать, надеясь, что им обоим удастся, согласно истинно алхимической моде, прицепиться к какому-нибудь богатому простофиле, который содержал бы их в роскоши, уповая на золотые и серебряные горы. Судьба Делиля никак не стимулировала их дальнейшее пребывание во Франции. Да, провансальцы по-прежнему верили, что он был великим мастером, и были весьма склонны поверить сказкам о юном адепте и переданной ему тайне, но Бастилия требовала новых жертв, и Алюи с матерью со всей возможной поспешностью бежали из страны. Они несколько лет путешествовали по континенту, живя за счет легковерных богачей и время от времени проделывая успешные «трансмутации» с помощью тиглей с двойным дном и тому подобных ухищрений. В 1726 году Алюи без матери, которая, видимо, к тому времени уже умерла, находился в Вене, где познакомился с герцогом де Ришелье, в то время послом французского двора. Он ввел этого вельможу в заблуждение, несколько раз «превратив» свинец в золото и даже заставив посла собственноручно «превратить» «железный» гвоздь в серебряный. Герцог впоследствии выхвалялся перед Лагле дю Френуа своими достижениями на алхимическом поприще и сетовал, что ему не удалось узнать секрет драгоценного порошка, с помощью которого он добился успеха.
Вскоре Алюи понял, что, хотя ему и удалось обвести герцога де Ришелье вокруг пальца, денег от него ему не видать. Напротив, герцог ожидал, что Алюи сделает все его кочерги и кочегарные лопаты серебряными, а оловянную посуду — золотой, и считал за честь быть знакомым с человеком его ранга достаточной наградой для roturier201, который не может нуждаться в деньгах, владея бесценным секретом. Алюи, поняв, сколь многого ждет от него герцог, распрощался с Его Превосходительством и проследовал в Богемию в сопровождении ученика и молодой девушки, влюбившейся в него в Вене. Некоторые богемские дворяне встретили его с распростертыми объятиями, и он гостил в их домах по нескольку месяцев. Хозяину дома, в котором намеревался какое-то время пожить, он обычно заявлял, что у него осталось всего несколько крупинок порошка, которые можно использовать по назначению. Он дарил хозяину кусок золота, полученный якобы в результате превращения, и сулил тому миллионы при условии предоставления ему времени для сбора трав lunaria major и minor, растущих на вершинах гор, и обеспечения его, его жены и ученика питанием, жильем и деньгами в течение данного периода.
Истощив таким образом терпение множества людей, он счел, что во Франции, которой правит молодой Людовик XV, он будет в большей безопасности, нежели во времена его старого и угрюмого предшественника, и вернулся в Прованс. По прибытии в Экс он явился к месье Лебре, президенту провинции и страстному любителю алхимических изысканий, мечтавшему найти философский камень. Вопреки его ожиданиям, месье Лебре принял его весьма холодно, что было вызвано ходившими о нем слухами, и велел ему явиться на следующий день. Алюи не понравился ни тон голоса, ни выражение глаз ученого президента: во взгляде чиновника сквозило презрение. Заподозрив неладное, он в тот же вечер тайно покинул Экс и проследовал в Марсель. Но полиция была начеку, и он не пробыл там и двадцати четырех часов, как был арестован по обвинению в фальшивомонетничестве и брошен в тюрьму.
Поскольку доказательства его вины были слишком убедительными, чтобы всерьез надеяться на оправдание, он затеял побег из заточения. Так случилось, что у надзирателя была красавица-дочь, и Алюи вскоре понял, что у нее доброе сердце. Он попытался использовать ее в своих целях, и ему это удалось. Девица, не зная, что он женат, воспылала к нему страстью и великодушно снабдила его средствами побега. Просидев в тюрьме почти год, он вырвался на свободу, сообщив бедной девушке, что уже женат, и оставив ее в одиночестве горевать оттого, что ее сердце было отдано неблагодарному проходимцу.
Он покинул Марсель, не имея обуви и приличной одежды, но в одном из ближайших городов жена снабдила его деньгами и платьем. Затем они добрались до Брюсселя, где добились известности благодаря своей исключительной наглости. Алюи снял дом, оборудовал великолепную лабораторию и объявил, что знает секрет трансмутации. Напрасно месье Персель, зять Лагле дю Френуа, живший в этом городе, разоблачал вздорность претензий Алюи и выставлял его невежественным самозванцем: люди не верили ему. Они верили алхимику на слово и осаждали двери его дома, чтобы стать удивленными свидетелями ловкого обмана, посредством которого он «превращал» железные гвозди в золото и серебро. Один богатый greffier202 заплатил ему крупную сумму за обучение «искусству», и Алюи давал ему уроки, обучая азам химии. Секретарь суда усердно занимался целый год и обнаружил, что его учитель — мошенник. Он потребовал вернуть деньги, но Алюи не желал с ними расставаться, и в гражданском суде провинции было возбуждено дело. В это время, однако, секретарь суда внезапно умер. Ходили слухи, что он был отравлен своим должником во избежание выплаты долга. Это вызвало в городе такое недовольство, что Алюи, который, возможно, и не был повинен в данном преступлении, все же не решился остаться в Брюсселе и храбро встретить опасность. Ночью он тайно покинул город и удалился в Париж. С этого момента его следы теряются. Больше о нем ничего не известно, но Лагле дю Френуа предполагает, что он закончил свои дни в какой-нибудь мрачной темнице, в которую был брошен за фальшивомонетничество или иные противозаконные деяния.
ГРАФ ДЕ СЕН-ЖЕРМЕН
Этот авантюрист был птицей более высокого полета, чем предыдущий, и играл значительную роль при дворе Людовика XV. Он заявлял, что владеет эликсиром жизни, с помощью которого может продлевать жизнь до столетий, и не разубеждал тех, кто считал, что ему самому уже более двух тысяч лет. Он разделял многие воззрения розенкрейцеров, похвалялся общением с сильфами и саламандрами, а также своей способностью извлекать алмазы из недр земли и жемчужины из морских глубин посредством заклинаний. Он не приписывал себе открытие философского камня, но посвящал столько времени алхимическим опытам, что, по общему убеждению, был именно тем человеком, который должен сей камень, если тот существует или может быть создан, найти.
Никто так никогда и не узнал, как его звали в действительности и в какой стране он родился203. Одни, ссылаясь на иудейские черты его красивого лица, считали его Вечным жидом, другие заявляли, что он является отпрыском арабской княжны, а его отец — саламандра, тогда как третьи, более рассудительные, утверждали, что он сын португальского еврея, осевшего в Бордо. Его жульническая карьера началась в Германии, где он с изрядной выгодой для себя торговал эликсиром вечной молодости. Порцию сего снадобья приобрел маршал де Бель-Иль, который был так очарован умом, образованностью и хорошими манерами шарлатана и настолько убежден в справедливости его абсурднейших притязаний, что убедил его поселиться в Париже. Под покровительством маршала он стал посещать столичные светские рауты. Все восхищались таинственным незнакомцем, которому, согласно одной из гипотез относительно даты его рождения, было около семидесяти лет и который при этом выглядел самое большее на сорок пять. Его непринужденная самоуверенность вводила в заблуждение большинство людей. Его претензия на мафусаилов век была естественным поводом для каверзных вопросов о внешности, жизни и кулуарных беседах великих людей прошлого, но у него на все был готов ответ. Многие, кто задавал ему вопросы, чтобы поймать его на неточности и осмеять, были обескуражены его присутствием духа, его быстрыми ответами и поразительной исторической достоверностью сообщаемых им сведений. Для придания своей персоне еще большей таинственности он скрывал от всех источник своих доходов. Он одевался с отменным вкусом, щеголял бриллиантами на шляпе, на пальцах и в пряжках на обуви и иногда делал в высшей степени дорогие подарки придворным дамам. Многие подозревали, что он — шпион на службе у английского кабинета министров, но не было ни малейших доказательств в поддержку этого обвинения. Король относился к нему с явной благосклонностью, часто часами совещался с ним наедине и никому не дозволял говорить о нем пренебрежительно. Вольтер постоянно высмеивал его. В одном из писем к королю Пруссии он называет его «un comte pour rire»204 и утверждает, что тот приписывал себе участие в обеде отцов церкви во время Трентского собора!205
В «Мемуарах мадам дю Оссе», камеристки маркизы дю Помпадур — фаворитки Людовика XV, есть несколько забавных рассказов об этом человеке. Прибыв в Париж, он очень скоро получил entree206 в будуар маркизы — привилегию, которой удостаивались лишь самые влиятельные вельможи при дворе ее возлюбленного. Маркиза любила беседовать с ним, и в ее присутствии он считал подобающим весьма существенно умерять свои претензии, но часто позволял ей верить, что ему по меньшей мере двести-триста лет. «Однажды, — пишет мадам дю Оссе, — маркиза в моем присутствии спросила его: “Как выглядел Франциск I? Он был королем, который мне бы, наверное, понравился”. “Он и впрямь был весьма обаятелен, — ответствовал Сен-Жермен и принялся описывать его лицо и внешность, словно говорил о человеке, которого когда-то хорошо разглядел. — Жаль, что он был слишком горяч. Я мог бы дать ему хороший совет, который уберег бы его от всех несчастий, но он бы ему не последовал, ибо монархов, похоже, преследует злой рок, делающий их глухими к советам мудрецов”. “Блистал ли его двор великолепием?” — поинтересовалась маркиза дю Помпадур. “О, да, — ответил граф, — но дворы его внуков были еще роскошнее. Во времена Марии Стюарт и Маргариты Валуа это был райский уголок — храм наслаждений любого рода”. “Вы словно видели все это сами”, — сказала маркиза, смеясь. “У меня превосходная память, — ответил он, — и я очень внимательно прочел историю Франции. Я порой нахожу удовольствие в том, что, не утверждая прямо, что я жил в стародавние времена, позволяю людям в это верить”.
“Вы скрываете от нас свой возраст, — сказала ему маркиза дю Помпадур в другой раз, — но все же утверждаете, что вы очень старый. Графиня де Герги, которая, по-моему, была женой посла в Вене около пятидесяти лет назад, говорит, что видела вас там и вы выглядели так же, как сейчас”.
“Это правда, мадам, — ответил Сен-Жермен. — Я знал мадам де Герги много лет назад”.
“Но если то, что она говорит, — правда, то вам, должно быть, более ста лет?”
“Это невозможно, — ответил он, смеясь. — Сия добрая мадам скорее всего впала в детство”.
“Вы дали ей эликсир, принесший удивительные результаты: она говорит, что в течение длительного времени выглядела не старше восьмидесяти четырех лет — возраста, в коем она его приняла. Почему вы не даете его королю?”
“Ах, мадам, — воскликнул он, — врачи бы меня колесовали, вздумай я дать Его Величеству какое-либо снадобье!”».
Когда общество начинает верить в необычайные подробности чьей-либо жизни, нельзя сказать, насколько далеко зайдет его безрассудство. Однажды встав на эту стезю, люди соревнуются друг с другом в легковерии. В то время в Париже не утихали разговоры об удивительных похождениях графа де Сен-Жермена, и группа шаловливых молодых людей подвергла людскую доверчивость следующему испытанию. Они посетили несколько домов на улице Маре в сопровождении одетого как граф де Сен-Жермен искусного подражателя, вхожего в светское общество в силу своей популярности. Он превосходно имитировал мимику, жесты и речь графа, и его аудитория, разинув рты, доверчиво внимала любым изрекаемым им нелепостям. Ни одна выдумка не была слишком абсурдной для их всепоглощающего легковерия. Он исключительно фамильярно отзывался об Иисусе Христе; он, в частности, говорил, что ужинал с ним на свадьбе в Галилее, где вода чудесным образом была превращена в вино. Он утверждал, что был его близким другом и часто предостерегал его от излишних романтичности и опрометчивости во избежание трагического финала. Удивительно, но это позорное богохульство было принято на веру, и не прошло и трех дней, как повсеместно заговорили о том, что Сен-Жермен родился вскоре после всемирного потопа и никогда не умрет!
Сам Сен-Жермен слишком хорошо знал человеческую натуру, чтобы утверждать подобный вздор, но он никак не опровергал эту небылицу. Беседуя со знатными и образованными людьми, он делал свои заявления без апломба, как бы невзначай, и редко претендовал на более чем трехсотлетний возраст, за исключением тех случаев, когда понимал, что его аудитория готова проглотить любую ложь. Он часто отзывался о Генрихе VIII как о своем хорошем знакомом и заявлял, что его обществом наслаждался император Карл V. Он «пересказывал» свои беседы с историческими личностями настолько правдоподобно и вдавался в такие детали их одежды и внешности, попутно сообщая о тогдашней погоде и описывая интерьеры помещений, что обычно три четверти слушателей были склонны ему верить. Богатые старухи постоянно обращались к нему за эликсиром, призванным вернуть им молодость, и он, надо полагать, неплохо на этом заработал. Тем, кого он был рад иметь в друзьях, сообщал, что его образ жизни и режим питания намного эффективнее всякого эликсира и что любой человек может дожить до почтенного возраста, воздерживаясь от питья за едой и существенно ограничивая себя в нем в любое другое время. Барон де Глейхен следовал его системе и принимал в больших количествах александрийский лист, рассчитывая прожить двести лет. Он, однако, умер в семьдесят три года. Той же системе желала последовать герцогиня де Шуазель, но ее сильно разгневанный муж-герцог запретил ей следовать какой бы то ни было системе, предписываемой человеком, пользующимся столь сомнительной репутацией, как месье де Сен-Жермен.
Мадам дю Оссе пишет, что она несколько раз встречалась и беседовала с Сен-Жерменом. Она описывает его как человека лет пятидесяти, среднего роста, с утонченным и выразительным лицом. Одевался он всегда просто, но с большим вкусом. Обычно носил очень дорогие бриллиантовые кольца, а его часы и табакерка были обильно украшены драгоценными камнями. Однажды в апартаментах маркизы дю Помпадур, где собрались главные придворные, появился Сен-Жермен, колени и туфли которого были украшены пряжками с бриллиантами столь чистой воды, что маркиза сказала, что, по ее мнению, таких камней нет даже у короля. Она с мольбой в голосе попросила его пройти в вестибюль и отстегнуть пряжки. Он так и сделал и принес их маркизе для более пристального изучения. Присутствовавшая при этом мадам де Гонтан сказала, что они стоят не менее двухсот тысяч ливров (более восьми тысяч фунтов стерлингов). Барон де Глейхен в своих «Мемуарах» сообщает, что граф однажды показал ему так много алмазов, что он подумал, что видит перед собой все сокровища лампы Аладдина, и добавляет, что он, хорошо разбираясь в драгоценных камнях, был убежден в подлинности всех камней, принадлежащих графу. В другой раз Сен-Жермен продемонстрировал маркизе дю Помпадур небольшую шкатулку с топазами, изумрудами и бриллиантами стоимостью полмиллиона ливров. Дабы людям было легче поверить, что он, подобно розенкрейцерам, умеет извлекать драгоценные камни из земных недр путем магических песнопений, он делал вид, что все эти богатства ничего для него не значат. Он раздал большое количество своих драгоценностей придворным дамам, и маркиза дю Помпадур была так очарована его щедростью, что в знак расположения подарила ему полностью эмалированную табакерку, крышку которой украшал превосходно написанный портрет Сократа или какого-то другого греческого мудреца, с которым она его сравнивала. Он был щедр не только к госпожам, но и к их служанкам. Мадам дю Оссе пишет: «Граф зашел навестить маркизу дю Помпадур, которая была очень больна и лежала на диване. Он показал ей алмазы, которых хватило бы на сокровищницу короля. Маркиза захотела, чтобы я взглянула на сии прелестные вещицы, и послала за мной. Я взирала на них с превеликим изумлением, но подавала ей знаки, что, по моему мнению, все они фальшивые. Граф порылся в бумажнике размером примерно в два футляра для очков и наконец выудил оттуда два или три бумажных пакетика, в одном из которых оказался великолепный рубин. Он с пренебрежительным видом бросил на стол крестик с зелеными и прозрачными камнями. Я взглянула на него и сказала, что он весьма недурен. Засим я надела его и выразила свое восхищение. Граф попросил меня принять его в подарок, я отказалась. Он настаивал. Наконец его просьбы стали столь умоляющими, что маркиза, видя, что крестик стоит не более тысячи ливров, подала мне знак принять дар. Я так и сделала, сердечно поблагодарив графа за любезность».
Источник богатства этого авантюриста неизвестен. Он не мог нажить его одной лишь продажей своего elixir vitae в Германии, хотя, несомненно, некоторая его часть была получена именно так. Вольтер категорически заявляет, что граф находился на службе у иностранных держав, и в письме к прусскому королю, датированном 5 апреля 1758 года, сообщает, что тот был посвящен во все секреты Шуазёля, Кауница и Питта. Зачем он мог понадобиться кому-либо из этих министров, особенно Шуазёлю, остается тайной за семью печатями.
Представляется очевидным, что он владел секретом очищения бриллиантов от пятен и, по всей вероятности, заработал большие деньги, покупая бриллианты с изъянами по сниженным ценам, устраняя изъяны и перепродавая камни со стопроцентной выгодой. Мадам дю Оссе рассказывает об этом следующую историю. «Король, — пишет она, — приказал принести ему алмаз среднего размера, имевший дефект. После взвешивания камня Его Величество сказал графу: “Имея сей изъян, данный алмаз стоит шесть тысяч ливров, а без него он стоил бы самое меньшее десять. Не могли бы вы сделать меня богаче на четыре тысячи ливров?” Сен-Жермен очень внимательно осмотрел камень и произнес: “Возможно, мне удастся это сделать. Я верну вам его через месяц”. В назначенный срок граф принес обратно избавленный от пятна алмаз и отдал его королю. Камень был завернут в ткань из горного льна, которую он снял. По указанию короля камень тотчас взвесили и обнаружили весьма незначительную потерю массы. Засим Его Величество послал его своему ювелиру для оценки, воспользовавшись для этого услугами месье де Гонтана, которому он не сообщил никаких подробностей. Ювелир оценил алмаз в девять тысяч шестьсот ливров. Король, однако, отрядил посыльного забрать камень и сказал, что сохранит его как диковину. Вне себя от удивления, он добавил, что месье де Сен-Жермен, должно быть, стоит миллионы, особенно если он владеет секретом превращения малых алмазов в большие. Граф не сказал, под силу ему сие или нет, но безапелляционно заявил, что знает, как заставлять жемчужины расти и придавать им чистейшую воду. Король отнесся к его словам с величайшим вниманием и маркиза дю Помпадур тоже. Месье дю Кенуа однажды назвал Сен-Жермена мошенником, но король сделал ему выговор. В сущности, Его Величество, похоже, не чает в нем души и порой говорит о нем так, будто тот действительно знатного рода».
В услужении у Сен-Жермена был один забавнейший проходимец, к которому он часто обращался за подтверждением своих слов, когда рассказывал про удивительные события, имевшие место столетия назад. Этот человек, не лишенный способностей, обычно подтверждал его слова самым убедительным образом. Как-то раз его хозяин, обедая в компании дам и господ, пересказывал им беседу, будто бы состоявшуюся в Палестине между ним и английским королем Ричардом I, которого он охарактеризовал как своего очень близкого друга. На лицах почтенной компании читались изумление и недоверие, и Сен-Жермен весьма невозмутимо обернулся к своему слуге, стоявшему за его стулом, и попросил того подтвердить или опровергнуть сообщенную им информацию. «Я, право, не знаю, — невозмутимо ответил слуга. — Вы забываете, сударь, что я служу вам всего пятьсот лет!» «Ах, да! — промолвил его хозяин. — Я и забыл, что это было незадолго до вашего рождения!»
В тех редких случаях, когда он общался с людьми, которых не мог так легко одурачить, он давал выход презрению, которого едва ли мог избежать в отношении поразительно легковерного большинства. «Эти дураки-парижане, — сказал он как-то барону де Глейхену, — верят, что мне более пятисот лет; а поскольку им хочется в это верить, я укрепляю их в этой мысли. Но, по правде говоря, я действительно намного старше, чем кажусь».
Об этом загадочном самозванце рассказывают множество других историй, но для описания его характера и притязаний достаточно приведенных выше. Насколько можно судить, он пытался найти философский камень, но никогда не хвастался успешным завершением поисков. Ландграф Гессен-Касселя, с которым он познакомился еще в Германии, писал ему настоятельные письма, в которых умолял его покинуть Париж и поселиться в его владениях, на что Сен-Жермен в конце концов согласился. Больше о его жизни ничего не известно. При гессен-кассельском дворе не было мемуаристов, которые могли бы зафиксировать на бумаге его изречения и деяния, подлинные или мнимые. Он умер в Шлезвиге, в имении своего друга-ландграфа, в 1784 году.
КАЛИОСТРО
Сей прославленный шарлатан, друг и преемник Сен-Жермена, добился еще большей известности. Он был архиплутом своего времени и последним из выдающихся претендентов на владение философским камнем и живой водой, а во время своего непродолжительного процветания — одной из виднейших фигур Европы.
Его настоящее имя было Джузеппе Бальзамо. Он родился около 1743 года в Палермо в бедной семье. Имел несчастье в раннем детстве потерять отца, вследствие чего забота об его образовании легла на родственников матери, которые были слишком бедны, чтобы обеспечить обучение его чему-либо, кроме чтения и письма. В четырнадцать лет был отправлен в монастырь для постижения основ химии и медицины, но его нрав был столь запальчивым, леность — столь неодолимой, а дурные привычки — столь глубоко укоренившимися, что он никак не преуспел в учебе. Через несколько лет он ушел из монастыря, запомнившись его обитателям как ничему не научившийся и распущенный молодой человек, щедро одаренный природой, но имеющий дурные наклонности. Достигнув совершеннолетия, он с головой окунулся в необузданную и беспутную жизнь и вступил в знаменитое братство, известное во Франции и в Италии как «рыцари сноровки», а в Англии — как «аферисты». Он был весьма незаурядным и деятельным членом сей братии. Его «боевым крещением» стала подделка театральных контрамарок. Позднее он ограбил собственного дядю и подделал завещание. Результатом подобных действий стали частые принудительные визиты в палермские тюрьмы. Каким-то образом он приобрел репутацию колдуна — человека, который не смог открыть секреты алхимии и продал душу дьяволу за золото, которое был не в состоянии делать путем трансмутации. Он не пытался вывести людей из этого заблуждения, а скорее ему потворствовал. В конце концов Бальзамо использовал его себе на руку, чтобы облапошить серебряных дел мастера Марано примерно на шестьдесят унций золота, и в результате был вынужден покинуть Палермо. Он убедил этого человека в том, что за шестьдесят унций золота может привести его к кладу, зарытому в пещере, который тот сможет забрать себе целиком, просто выкопав из земли. В полночь они отправились в пещеру неподалеку от Палермо, где Бальзамо начертил на земле магический круг и призвал дьявола показать, где спрятано его сокровище. Вдруг откуда ни возьмись появилось полдюжины человек — сообщников мошенника, переодетых чертями. На головах у них были рога, на пальцах — когти, а изо ртов вырывалось красное и голубое пламя. Они были вооружены вилами, которыми отделали бедного Марано до полусмерти, после чего изъяли у него шестьдесят унций золота и все находившиеся при нем ценные вещи. Затем они удрали в сопровождении Бальзамо, оставив несчастного серебряных дел мастера поправляться или умирать. Природа предпочла первый вариант развития событий, и вскоре после рассвета Марано пришел в себя, испытывая жгучую телесную боль от ударов и душевную — от обмана, жертвой которого стал. Сперва он порывался донести на Бальзамо в городской суд, но, подумав, испугался осмеяния, которому мог бы подвергнуться в результате детального изучения всех обстоятельств дела. И тогда он решил отомстить Бальзамо как истинный итальянец — убить его при первой удобной возможности. После того как он высказал сие намерение в присутствии одного из друзей Бальзамо, последний, узнав о грозящей ему опасности, незамедлительно упаковал ценные вещи и покинул Европу.
Его новым местожительством стал аравийский город Медина, где он познакомился с греком Алтотасом — человеком, который в совершенстве знал все восточные языки и неустанно изучал алхимию. Он владел бесценной коллекцией арабских манускриптов по своей любимой науке и штудировал их с таким неослабным усердием, что не мог уделять достаточно времени своим тиглям и печам, не пренебрегая книгами. Он как раз подыскивал себе ассистента, когда к нему явился Бальзамо, который произвел на него столь благоприятное впечатление, что он сразу же остановил на нем свой выбор. Но между ними недолго существовали отношения хозяина и слуги. Бальзамо был слишком честолюбив и умен, чтобы оставаться на вторых ролях, и за пятнадцать дней с момента знакомства они стали друзьями и полноправными партнерами. За свою долгую жизнь, посвященную алхимии, Алтотас случайно сделал несколько полезных открытий в области химии, одним из коих была добавка для усовершенствования процесса изготовления льняного полотна и придания изделиям из этого материала блеска и мягкости почти как у шелка. Бальзамо дал ему хороший совет: временно отказаться от поисков философского камня и озолотиться от торговли данным ингредиентом. Совет был принят, и они вместе отправились в Александрию, имея при себе большие запасы означенного товара. Они пробыли в этом городе сорок дней и заработали на своем изобретении большие деньги. После этого с равным успехом посетили другие египетские города. Они также побывали в Турции, где торговали снадобьями и амулетами. По возвращении в Европу из-за непогоды прибыли на Мальту, где были радушно приняты Пинто, гроссмейстером207 мальтийских рыцарей и известным алхимиком. Они несколько месяцев проработали в его лаборатории, упорно пытаясь найти философский камень и превратить оловянную посуду в серебряную. Бальзамо, не столь уверенный в успехе сей затеи, как его компаньоны, устал от нее раньше них и, получив от гостеприимного гроссмейстера множество рекомендательных писем в Рим и Неаполь, сократил алхимическое трио до размеров дуэта.
Он давно уже отказался от имени Бальзамо из-за множества связанных с ним неприятных ассоциаций и во время своих странствий присвоил себе по меньшей мере десяток других с добавлением титулов: шевалье де Фишио, маркиз де Мелисса, барон де Бельмонте, де Пеллигрини, д’Анна, де Феникс, де Харат и граф де Калиостро. Чаще всего назывался последним именем, под которым он прибыл в Рим и больше никогда его не менял. В этом городе он объявил себя реставратором розенкрейцерской философии, способным превращать все металлы в золото, становиться невидимым, лечить все болезни и снабжать всех желающих эликсиром от старения. Рекомендательные письма от гроссмейстера Пинто обеспечили ему знакомство с самыми знатными семействами. Он быстро богател от продажи своего elixir vitae и, подобно другим знахарям, регулярно осуществлял удивительные исцеления, вселяя в пациентов сильнейшую веру в его способности и надежду на выздоровление и пользуясь таким образом преимуществом, которое самые дерзкие шарлатаны часто имеют над обычными врачами.
Разрабатывая свою золотую жилу, он свел знакомство с прелестной Лоренцой Феличиана, молодой дамой из знатной, но обедневшей семьи. Вскоре Калиостро понял, что она обладает бесценными достоинствами. Помимо необыкновенной красоты, она отличалась исключительной сообразительностью, безупречными манерами, богатейшим воображением и крайней беспринципностью. Она идеально подходила на роль жены Калиостро, который предложил ей руку и сердце и получил согласие. После свадьбы он посвятил прекрасную Лоренцу во все свои профессиональные тайны: научил ее красивые губки вызывать ангелов, джиннов, сильфов, саламандр и ундин, а при необходимости — бесов и злых духов. Лоренца была способной ученицей. Она быстро выучила весь алхимический жаргон и все колдовские заклинания, после чего парочка отправилась в путь-дорогу, дабы наживаться на суеверных и легковерных.
Для начала супруги поехали в Шлезвиг, чтобы нанести визит графу де Сен-Жермену, их знаменитому предшественнику в искусстве одурачивания людей, и были приняты им самым радушным образом. Сей почтенный и умудренный опытом джентльмен, несомненно, оказал моральную поддержку избранному ими роду деятельности, ибо сразу после расставания с ним они приступили к своим махинациям. Они три-четыре года путешествовали по России, Польше и Германии, превращая металлы, гадая, вызывая духов и продавая elixir vitae везде, где проезжали; но каких-либо более конкретных сведений о данном периоде их жизни история не сохранила. Восхождение графа и графини де Калиостро к европейской известности началось в Англии, где они появились в 1776 году. Они прибыли в Лондон в июле сего года, имея при себе столовое серебро, драгоценности и металлические деньги на сумму около трех тысяч фунтов. Они сняли апартаменты на Уитком-стрит и несколько месяцев жили не привлекая к себе внимания. В том же доме квартировала португалка Блейвери, которая, находясь в крайне стесненных обстоятельствах, была нанята графом в качестве переводчицы. Она имела постоянный доступ в его лабораторию, где он проводил много времени в поисках философского камня. В обмен на радушие своего хозяина она повсюду его восхваляла и усердно пыталась привить всем и каждому веру в его необычайные способности, равную ее собственной. Однако мадам Блейвери не вполне отвечала требованиям графа либо к социальному статусу и манерам, либо к внешности его переводчицы, и он взял на ее место некоего Вителлини, учителя языков. Вителлини был заядлым игроком, перепробовавшим для поправки своего изрядно пошатнувшегося финансового положения почти все средства, в том числе поиски философского камня. Став свидетелем алхимических опытов графа, он тотчас же возомнил, что тот владеет великим секретом и перед ним открыты золотые врата в чертог изобилия. С еще бóльшим энтузиазмом, чем мадам Блейвери, он сообщал своим знакомым и посетителям всех общественных мест, где он бывал, что граф — незаурядная личность и истинный адепт, состояние которого огромно и который способен превращать в чистое золото столько свинца, железа и меди, сколько его душе угодно. В результате дом, где жил Калиостро, осаждали толпы праздных, легковерных и алчных людей, страстно желавших взглянуть на «философа» или получить свою толику несметного богатства, которое он якобы мог создать.
К несчастью для Калиостро, он попал в лапы недоброжелателей. Вместо того чтобы облапошить англичан, он сам стал жертвой шайки жуликов, которые, целиком и полностью полагаясь на его оккультные способности, преследовали единственную цель — заработать на нем деньги. Вителлини познакомил его с таким же, как и он сам, разорившимся игроком по фамилии Скот, которого представил как шотландского дворянина, приехавшего в Лондон исключительно ради встречи и беседы с выдающимся человеком, молва о котором достигла далеких северных гор. Калиостро принял его весьма любезно и радушно, после чего «лорд» Скот представил как леди Скот женщину по фамилии Фрай, которая вызвалась сопровождать графиню де Калиостро в общественных местах и познакомить ее со всеми титулованными семействами Британии. Калиостро и его жена легко купились на эту ложь. «Его светлость», чьи пожитки, дескать, остались в Шотландии и который не имел в Лондоне банковского счета, занял у графа двести фунтов. Калиостро одолжил их без колебаний — настолько он был польщен знаками внимания, которые сии «дворяне» ему оказывали, почтением, если не почитанием, с которым они якобы к нему относились, и видимым благоговением, с которым они внимали каждому его слову.
Суеверный, как и все заядлые игроки, Скот, участвуя в лотерее или играя в рулетку, часто делал ставки на магические и кабалистические цифры. У него был какой-то кабалистический манускрипт, содержавший различные арифметические комбинации для определения счастливых чисел, который он представил на рассмотрение Калиостро с настойчивой просьбой выбрать какое-нибудь число. Калиостро взял рукопись и изучил ее, не веря (согласно его автобиографии), впрочем, в эффективность приведенной в ней методики. Несмотря на это, он предсказал, что 6 ноября счастливый жребий падет на цифру 20. Скот поставил на это число небольшую сумму от занятых им двухсот фунтов и выграл. Калиостро, окрыленный успехом, провозвестил, что во время следующего тиража фортуна улыбнется числу 25. Скот сделал новую ставку и выиграл сто гиней. К изумлению и восхищению Калиостро, цифры 55 и 57, напророченные им на 18-е число того же месяца, также оказались счастливыми, и тогда он решил искать удачи для себя, а не для других. Скот и его «леди» умоляли предсказывать им числа и дальше, но он оставался глух к их мольбам даже в то время, когда все еще считал Скота лордом и честным человеком; когда же он узнал, что тот не более чем жулик, а мнимая леди Скот — всего лишь хитрая проститутка, прекратил всякое общение с ними и их сообщниками.
Слепо веря в сверхъестественные способности графа и лишившись его поддержки, они испытывали серьезные страдания. Они пытались умилостивить его вновь любыми средствами, какие подсказывала им изобретательность. Они умоляли его, угрожали ему и пытались подкупить, но все было напрасно. Калиостро не хотел ни встречаться с ними, ни вступать в переписку. Между тем они вели расточительную жизнь и, упавая на будущее, растратили все нажитые ими деньги. Они находились в состоянии крайней нужды, когда мисс Фрай получила доступ к графине, сказалась голодающей и приняла от нее гинею. Не удовлетворившись этим, мисс Фрай попросила ее убедить мужа в последний раз указать счастливое число лотерейного розыгрыша. Графиня пообещала оказать на него влияние, и Калиостро под давлением жены назвал цифру 8, приняв одновременно повторное решение больше не иметь с самозванцами и их присными никаких дел. По необычайному совпадению, приятно удивившему Калиостро, под восьмым номером оказался главный выигрыш лотереи. Мисс Фрай и ее сообщники получили от этой авантюры чистую прибыль в полторы тысячи гиней, пуще прежнего уверовали в оккультные способности Калиостро и укрепились в своей решимости не расставаться с ним до тех пор, пока как следует не разбогатеют. Будучи при деньгах, мисс Фрай купила в ломбарде за девяносто гиней красивое ожерелье. Затем она заказала ювелиру золотую шкатулку с орнаментом, имевшую два отделения, в одном из которых она спрятала ожерелье, а другое наполнила нюхательным табаком с тонким ароматом. После этого она добилась еще одной встречи с мадам ди Калиостро и уговорила ее принять шкатулку как маленький знак уважения и признательности, не упомянув о спрятанном внутри дорогом ожерелье. Мадам ди Калиостро приняла подарок и с этой минуты стала объектом непрекращающегося приставания со стороны всех заговорщиков — Блейвери, Вителлини и мнимых лорда и леди Скот. Они тешили себя надеждой, что им удалось вернуть утраченное расположение графа, и день за днем наведывались к нему, чтобы узнать счастливые числа лотереи. При этом им иногда удавалось подняться наверх и попасть в его лабораторию, несмотря на сопротивление слуг. В итоге Калиостро, выведенный из себя их назойливостью, пригрозил обратиться в суд и, схватив мисс Фрай за плечи, вытолкал ее на улицу.
Этот день можно считать точкой отсчета злоключений Калиостро. По наущению своего возлюбленного мисс Фрай решила отомстить. Для начала она подала на Калиостро в суд, обвинив его под присягой в задолженности в размере двухсот фунтов и добившись тем самым его ареста. Пока он находился в месте предварительного заключения должников208, Скот и один подлый чиновник органов юстиции вломились в его лабораторию и вынесли оттуда несколько кабалистических манускриптов и алхимических трактатов, а также маленькую шкатулку, содержавшую, как они считали, порошок для превращения металлов. Кроме того, они вчинили ему иск о возвращении ожерелья, а мисс Фрай обвинила его и графиню в колдовстве и предсказании лотерейных чисел с помощью дьявола. Последнее дело разбиралось судьей Миллером. Иск о возмещении убытков, возникших вследствие незаконного завладения ожерельем, рассматривался лордом — главным судьей Суда общих тяжб209, который порекомендовал сторонам передать их спор на рассмотрение третейского суда. Отсидев в тюрьме несколько недель, Калиостро был освобожден на поруки. Вскоре после этого к нему явился юрист Рейнолдс, также замешанный в заговоре, который предложил на определенных условиях уладить все возбужденные против него дела путем компромисса. Пришедший вместе с ним Скот поначалу прятался за дверью, а потом внезапно выскочил из-за нее, приставил пистолет к груди Калиостро и поклялся немедленно выстрелить, если тот не скажет правду об искусстве предсказания счастливых чисел и превращении металлов. Рейнолдс с притворным гневом разоружил сообщника и с мольбой в голосе попросил графа удовлетворить их любопытство и открыть свои тайны, взамен пообещав снять с него все обвинения и оставить его в покое. Калиостро ответил, что угрозы и мольбы одинаково бесполезны, что никаких секретов он не знает и что порошок, который они у него украли, имеет ценность только для него самого. Он, однако, заявил, что простит им все деньги, которые они у него выманили, если они прекратят судебное преследование и вернут ему порошок и рукописи. Это предложение было встречено отказом, и Скот с Рейнолдсом ушли, поклявшись отомстить.
Калиостро, похоже, совершенно не разбирался в английских законах и не имел друга, который подсказал бы ему, как наилучшим образом действовать в сложившейся ситуации. Когда он однажды обсуждал с графиней свалившиеся на них невзгоды, к нему зашел один из его поручителей. Визитер пригласил графа прокатиться в наемном экипаже и посетить дом человека, который позаботится о его правах. Калиостро согласился и был привезен в тюрьму при Суде королевской скамьи, где «доброжелатель» покинул его. Не имея представления о процедуре отказа от поручительства, он несколько часов не мог понять, что является заключенным.
Он вновь обрел свободу несколько недель спустя, когда третейские судьи в отношениях между ним и мисс Фрай вынесли решение по его делу. Ему было предписано выплатить ей двести фунтов, которые он ей якобы задолжал, и вернуть ей ожерелье и золотую шкатулку, подаренные графине. Калиостро был настолько возмущен, что решил покинуть Англию. Дополнительным поводом для данного решения послужило беспощадное разоблачение его притязаний французом Морандом, издателем лондонской газеты «Courrier de l’Europe». Не прибавило ему радости и то обстоятельство, что он был опознан в Вестминстер-холле как Джузеппе Бальзамо, палермский жулик. После такого позора дальнейшее пребывание в Англии не имело смысла. «Граф» и «графиня» упаковали свои скудные пожитки и покинули страну, имея при себе не более пятидесяти фунтов от тех трех тысяч, с коими они в нее прибыли.
Вначале они проследовали в Брюссель, где судьба была к ним более благосклонна. Они продали там большое количество эликсира жизни и осуществили множество исцелений, поправив таким образом свое финансовое положение. Потом поехали через Германию в Россию, и всюду их ждал шумный успех. Золото текло в их сундуки быстрее, чем они успевали его считать. Ничто не напоминало им о лишениях английского периода, научивших их быть более осмотрительными в выборе знакомых.
В 1780 году они прибыли в Страсбург. Молва о них достигла этого города до их приезда. Сургут сняли шикарную гостиницу и пригласили на банкет всех влиятельных страсбуржцев. Их богатство и радушие казались беспредельными. И граф, и графиня занимались врачеванием и одаривали деньгами, советами и снадобьями всех нуждавшихся и страдавших от болезней и иных невзгод горожан. Многие проводимые ими исцеления изумляли тех обычных докторов, которые скептически относились к поразительно эффективной в ряде случаев силе внушения. Графиня, которая в то время была не старше двадцати пяти лет и отличалась грацией, красотой и весельем, говорила на людях, что ее старший сын — славный молодой человек двадцати восьми лет, который вот уже несколько лет как капитан голландской армии. Трюк удался на славу. Все уродливые старухи Страсбурга и поселений на мили окрест посетили салон графини, чтобы купить жидкость, которая должна была сделать их такими же цветущими, как их дочери. В равной степени устремились за чудодейственным эликсиром и молодые женщины, желавшие сохранить свое очарование и, прожив в два раза дольше, чем Нинон де Ланкло210, быть красивее ее. Что же до мужчин, то среди них не было недостатка в глупцах, воображавших, что с помощью нескольких капель того же несравненного эликсира им удастся отсрочить неизбежные старение, смерть и утрату мужской силы. Графиня, надо отдать ей должное, была воплощением неувядаемого очарования и выглядела как настоящая богиня молодости и красоты. Возможно, сонмы юношей, зрелых мужчин и стариков, при каждом удобном случае посещавших благоуханные покои чаровницы, притягивала не столько вера в ее оккультные способности, сколько восхищение ее томными ясными очами и игривыми изречениями. Но при всем своем кокетстве мадам ди Калиостро всегда была верна супругу. Да, она вселяла надежды, но они никогда не сбывались; она вызывала восхищение, но не позволяла вздыхателям выходить за рамки приличия и делала мужчин своими рабами, никогда не оказывая им услуги, коей могли бы похвастаться наиболее тщеславные.
В этом городе наши герои завязали знакомство со многими знаменитыми людьми, в том числе с принцем и кардиналом де Роганом, которому было суждено весьма неблагоприятным образом повлиять в дальнейшем на их судьбу. Кардинал, который, видимо, считал Калиостро великим философом, уговаривал его посетить вместе с ним Париж, что тот и сделал, но пробыл там всего тринадцать дней. Он предпочитал находиться в обществе жителей Страсбурга, куда и вернулся с намерением держаться подальше от столицы. Однако вскоре обнаружил, что первоначальное радостное возбуждение от его прибытия прошло. Люди стали прислушиваться к голосу разума и стыдиться былого восторга. Те из них, кому он некогда щедро раздавал милостыню, теперь называли его антихристом, Вечным жидом, человеком, которому одна тысяча четыреста лет, и демоном в человеческом обличье, посланным доводить невежд до смерти под видом исцеления. Более состоятельные и образованные считали его шпионом на службе у иностранных правительств, агентом полиции, мошенником и лиходеем. Наконец недовольство страсбуржцев стало настолько сильным, что он счел за благо попытать счастья где-нибудь в другом месте.
Сначала он поехал в Неаполь, но этот город находился слишком близко от Палермо, и он боялся быть узнанным кем-нибудь из старых знакомых. После недолгого пребывания в Неаполе он вернулся во Францию. В качестве следующего местожительства он выбрал Бордо, где произвел такую же сенсацию, как и в Страсбурге. Он объявлял себя основателем нового направления в медицине и философии, похвалялся способностью лечить от всех болезней и приглашал к себе бедняков и больных, дабы облегчать нужду одних и исцелять хвори других. На улице напротив фешенебельной гостиницы, в которой он поселился, целыми днями толпился народ. К удивительному лекарю стекались женщины с больными младенцами на руках, хромые, слепые и обладатели всех прочих телесных недостатков и недугов. Помощь, которую он оказывал деньгами, с лихвой компенсировала неэффективность его снадобий, и наплыв людей со всей округи стал настолько интенсивным, что jurats211 этого города предоставили ему солдат-караульных, которые денно и нощно находились у входа в гостиницу и следили за порядком. Ожидания Калиостро оправдались. Восхищенные его добротой и благотворительностью, богачи полностью уверовали в его необычайные способности. Торговля эликсиром шла превосходно. Салоны графа были полны богатых простофиль, приходивших купить себе бессмертие. Слабый пол манила красота, сохраняемая веками, а сильный — здоровье и сила в течение того же периода. Тем временем прелестная графиня зарабатывала деньги гаданием, составлением гороскопов и предоставлением сильфов-сопровождающих любым дамам, готовым заплатить за их услуги достаточную сумму. При этом она способствовала поддержанию репутации мужа и устраивала в Бордо грандиознейшие званые вечера.
Однако, как и в Страсбурге, массовое заблуждение длилось всего несколько месяцев и постепенно сошло на нет. Калиостро, опьяненный успехом, забыл, что всякое шарлатанство имеет временной предел, когда недоверие достигает критической точки. Когда он объявил, что может вызывать из могил души умерших, ему никто не поверил. Его называли врагом веры, отрекшимся от Христа и Вечным жидом. Пока эти слухи циркулировали в узком кругу, он относился к ним с презрением, но когда они охватили весь город, когда он остался без покупателей, когда званые вечера потеряли смысл из-за отсутствия гостей, а его знакомые стали от него отворачиваться при случайных уличных встречах, он счел, что самое время сменить местопребывание.
К тому времени Калиостро устал от провинциальной жизни и обратил свои помыслы к столице. По прибытии в Париж он объявил себя реставратором египетского масонства и родоначальником новой философии. С помощью своего друга кардинала де Рогана он немедленно стал вхож в высшее общество. Его успех как мага был феноменален: его посещали виднейшие персоны того времени. Подобно розенкрейцерам, он приписывал себе общение с элементалами, вызывание душ великих людей с того света, превращение металлов и постижение тайн мироздания под особым покровительством Бога. Как и доктор Ди, он вызывал ангелов, чтобы узнавать будущее, и они появлялись и разговаривали с ним, находясь в кристаллах и под стеклянными колокольчиками212. «Вряд ли, — говорится в «Biographie des Contemporains»213, — в Париже была хоть одна светская дама, не хотевшая поужинать в апартаментах Калиостро с тенью Лукреция214, хоть один военный офицер, не желавший обсудить военное искусство с Цезарем, Ганнибалом или Александром Македонским, или хоть один адвокат или советник, не стремившийся вступить в юридический диспут с призраком Цицерона». Сии беседы с усопшими стоили очень дорого, потому что, как говорил Калиостро, мертвые не воскреснут за бесценок. Графиня же, как обычно, использовала всю свою изобретательность, чтобы поддержать репутацию мужа. Ей благоволили дамы, восторженной, доверчивой и многочисленной аудитории которых она подробно рассказывала о необыкновенных способностях Калиостро. Она говорила, что он может становиться невидимым, путешествовать по миру со скоростью мысли и находиться в нескольких местах одновременно215.
Прошло не слишком много времени со дня его прибытия в Париж, когда он оказался замешанным в громкую аферу с ожерельем королевы. Его друг кардинал де Роган, очарованный прелестями Марии Антуанетты, глубоко страдал от ее холодности и недовольства, которое та весьма часто выказывала в отношении него. В то время в услужении у королевы находилась дама ла Мотт, которой кардинал имел глупость рассказать о своих переживаниях. Мадам де ла Мотт в свою очередь попыталась сделать кардинала орудием в своих руках и неплохо в этом преуспела. Будучи камеристкой, или дворцовой служанкой королевы, она присутствовала при беседе Ее Величества с месье Бёмером, богатым парижским ювелиром, выставившим на продажу великолепное бриллиантовое ожерелье стоимостью 1 600 000 франков (около 64 000 фунтов стерлингов). Королева пришла от ожерелья в полный восторг, но ответила ювелиру отказом, посетовав на то, что слишком бедна, чтобы его купить. Мадам де ла Мотт придумала план завладения дорогостоящим украшением и решила сделать кардинала де Рогана орудием его осуществления. Для этого она встретилась с ним и с притворным сочувствием его горю, вызванному немилостью королевы, сказала, что знает способ, прибегнув к коему, он мог бы вернуть ее расположение. Далее упомянула об ожерелье и о печали, испытываемой королевой из-за невозможности его приобретения. Кардинал, который был столь же богат, сколь и глуп, немедленно вызвался купить ожерелье и подарить его королеве. Мадам де ла Мотт сказала ему ни в коем случае этого не делать, поскольку тем самым он оскорбит Ее Величество. Вместо этого она предложила ему заставить ювелира предоставить Ее Величеству кредит и принять от нее долговую расписку на выплату означенной суммы в установленный срок, подлежащий согласованию в будущем. Кардинал охотно согласился на сие предложение и приказал ювелиру составить соглашение, взяв на себя получение подписи королевы. Он отдал документ мадам де ла Мотт, которая вскоре вернула его с написанными на поле словами: «Bon, bon — approuve — Marie Antoinette»216. Одновременно она сказала ему, что королева очень довольна тем, как он себя проявил в этом деле, и назначит ему свидание в Версальском парке, во время которого подарит ему цветок в знак своего расположения. Кардинал показал документ с поддельной резолюцией ювелиру, получил ожерелье и доставил его мадам де ла Мотт. Пока все шло по плану. Следующей ее задачей было удовлетворить кардинала, который с нетерпением ждал обещанной встречи со своей властительной возлюбленной. В то время в Париже находилась молодая дама д’Олива, знаменитая своим сходством с королевой. Мадам де ла Мотт пообещала ей щедрое вознаграждение и без труда уговорила ее сыграть роль Марии Антуанетты при встрече с кардиналом де Роганом в вечерних сумерках в Версальском парке. Таким образом свидание состоялось. Кардинал был обманут скудным освещением, поразительным сходством двойника с оригиналом и собственными надеждами. Приняв цветок от мадемуазель д’Олива, он ушел домой с более легким сердцем, чем то, что билось в его груди вот уже много дней217.
Со временем подделка королевской подписи была обнаружена. Бёмер, ювелир, сразу же назвал остальных участников сделки — кардинала де Рогана и мадам де ла Мотт, которые были арестованы и брошены в Бастилию. Ла Мотт подверглась тщательному допросу, и на основании показаний, данных ею против Калиостро, того арестовали вместе с женой и также отправили в Бастилию. Столь скандальная история неизбежно привлекла к себе самое пристальное внимание. Парижане только и говорили, что об ожерелье королевы, попутно выдвигая предположения относительно вины или невиновности задержанных. Муж мадам де ла Мотт бежал в Англию. По мнению многих, он забрал ожерелье с собой и со временем избавился от него, распродав небольшими фрагментами разным ювелирам. Но мадам де ла Мотт настойчиво утверждала, что она доверила его Калиостро, который завладел им и разобрал на части, дабы «пополнить сокровищницу своего огромного и непревзойденного состояния». Она охарактеризовала его следующим образом: «знахарь, презренный алхимик, мечтательный искатель философского камня, лжепророк, осквернитель истинной веры, самозваный граф Калиостро». Далее она сказала, что именно он задумал план разорения кардинала де Рогана, что посредством некоего магического воздействия на ее разум он склонил ее к осуществлению его замысла и что он — грабитель, мошенник и колдун!
После того как обвиняемые по этому делу просидели в Бастилии свыше полугода, процесс начался. Были заслушаны показания свидетелей, и Калиостро как главный обвиняемый первым получил возможность высказаться в свою защиту. Его выслушали с напряженнейшим вниманием. Он принял театральную позу и начал свою речь: «Меня притесняют! Меня обвиняют! На меня клевещут! Разве я заслужил сей удел? Я обращаюсь к своей совести и нахожу в ней покой, в коем люди мне отказывают! Я много путешествовал. Я известен во всей Европе и в значительной части Азии и Африки. Повсюду я был другом тем, кто меня окружал. Свои знания, время и богатство я всегда использовал для облегчения людских страданий. Я изучал медицину и был практикующим врачом, но никогда не унижал это благороднейшее и утешительнейшее из ремесел никакими торгашескими спекуляциями. Несмотря на то что я всегда только давал и никогда ничего и ни от кого не принимал, я сохранил свою независимость. Я был настолько щепетилен в этом вопросе, что не принимал услуг даже от королей. Я безвозмездно раздавал лекарства и советы богатым; бедные получали от меня лекарства и деньги. Я никогда не влезал в долги, а мои манеры чисты и неиспорченны». После гораздо более многочисленных самовосхвалений в том же духе он обратил внимание аудитории на те великие страдания, которые он перенес от столь долгой разлуки со своей ни в чем не повинной любящей женой, которая, как ему дали понять, была заточена в Бастилию и, возможно, прикована цепью к стене сырой темницы. Он настойчиво отрицал, что ожерелье находится у него и что он его когда-либо видел. Чтобы защитить себя от слухов и обвинений, инспирированных, может статься, его собственной скрытностью в отношении своей предыдущей жизни, он выразил готовность удовлетворить любопытство публики и представить на ее рассмотрение ясный и полный отчет о перипетиях своей судьбы. Далее он рассказал романтичную и неправдоподобную историю, которая никого не обманула. Он сказал, что не знает ни места своего рождения, ни имен своих родителей, а раннее детство провел в Медине, в Аравии, и воспитывался под именем Ахарат. Он жил во дворце великого муфтия, имея трех слуг и наставника по имени Алтотас. Сей Алтотас не чаял в нем души и рассказал ему, что его мать и отец, которые были христианами и дворянами, умерли, когда ему было три месяца, оставив его на попечение муфтия. Он так никогда и не узнал их имен, ибо каждый раз, когда он задавал Алтотасу этот вопрос, тот отвечал, что ему опасно об этом знать. Несколько неосторожных фраз, оброненных наставником, дали ему повод считать их мальтийцами. В двенадцать лет он впервые отправился в путешествие и за время странствий изучил разные восточные языки. Три года он прожил в Мекке, где халиф (верховный правитель) относился к нему с такой добротой и разговаривал с нем так нежно и тепло, что он порой думал, что этот человек — его отец. Он расстался с этим добрым человеком со слезами на глазах и никогда его больше не видел, но, продолжал Калиостро, даже в этот момент он убежден, что всеми своими достижениями обязан его заботам. Когда бы и в какой бы город он ни приезжал, будь то в Европе или Азии, везде на его имя был открыт счет у крупнейших банкиров или купцов. Стоило ему представиться, и они могли выдать ему тысячи и сотни тысяч, не задавая никаких дополнительных вопросов. Ему было достаточно произнести слово «Ахарат», и все его желания беспрекословно выполнялись. Он твердо верил, что меккский халиф — это человек, у которого все в неоплатном долгу. Это и есть, сказал Калиостро, секрет его богатства, и он ни разу не прибегал к обману, дабы обеспечить себе средства к существованию. Кража бриллиантового ожерелья не стоила его времени, так как богатств, коими он обладает, хватит на покупку сколь угодно большого числа таких роскошных драгоценностей, какие не носила ни одна королева Франции. Что касается других обвинений, выдвинутых против него мадам де ла Мотт, то он коснулся их лишь вкратце. Она назвала его знахарем. Он сказал, что это слово ему незнакомо. Если оно означает человека, который, не имея врачебного диплома, обладает некоторыми познаниями в медицине и не получает гонорара, который лечит и богачей и бедняков и не берет денег ни с тех, ни с других, то он признает, что он — знахарь. Она также назвала его презренным алхимиком. Алхимик он или нет, эпитет «презренный» применим лишь к тем, кто христарадничает и раболепствует, а он никогда не делал ни того, ни другого. Что же до «мечтательного искателя философского камня», то, что бы он на сей счет ни думал, он всегда хранил молчание и не будоражил публику своими мечтами. На «лжепророка» он ответил, что никогда таковым не являлся, ибо предупреждал кардинала де Рогана, что мадам де ла Мотт — опасная женщина, связываться с которой не стоит, и жизнь подтвердила правоту его слов. Он отрицал, что является осквернителем истинной веры и что когда-либо пытался вызвать презрение к религии; напротив, сказал он, он уважает религию каждого человека и никогда не вмешивается в сию сферу. Он также отрицал, что является розенкрейцером и что когда-либо приписывал себе трехсотлетний возраст или заявлял, что один человек находится у него в услужении сто пятьдесят лет. В заключение он сказал, что все заявления, сделанные мадам де ла Мотт в его адрес, — ложь и что она mentiris impudentissime218. Эти два слова он попросил ее адвоката ей перевести, так как счел невежливым говорить ей это по-французски.
Такова была суть его необычного ответа на выдвинутые против него обвинения — ответа, убедившего тех, кто до сих пор имел какие-то сомнения относительно его персоны, в том, что он — один из самых наглых самозванцев в истории человечества. Затем выступил адвокат кардинала де Рогана и мадам де ла Мотт. Было очевидно, что кардинал сам является жертвой подлого заговора, а против Калиостро нет никаких улик; и суд вынес обоим оправдательный приговор. Мадам де ла Мотт была признана виновной и приговорена к публичной порке и клеймению каленым железом на спине.
Калиостро и его жену освободили из Бастилии. Обратившись к тюремщикам за рукописями и иным имуществом, конфискованным из его апартаментов, он обнаружил, что многое украдено. Вследствие этого он возбудил против них дело о возвращении манускриптов и небольшого количества порошка для трансмутации. Прежде чем по делу могло быть вынесено какое-либо решение, он получил приказ покинуть Париж в течение суток. Боясь, что в случае повторного заточения в Бастилию он больше никогда не увидит дневного света, Калиостро незамедлительно покинул столицу Франции и проследовал в Англию. По прибытии в Лондон он познакомился с лордом Джорджем Гордоном, который принял его злоключения близко к сердцу и поместил в газетах письмо, в коем клеймил позором поведение французской королевы в деле об ожерелье и утверждал, что на самом деле она была одним из участников заговора. За это письмо лорд Джордж был по настоянию французского посла подвергнут судебному преследованию, признан виновным в клевете и приговорен к штрафу и длительному тюремному заключению.
Позднее Калиостро и графиня путешествовали по Италии, где в 1789 году были арестованы агентами папы и приговорены к смерти. Калиостро обвинили в том, что он масон, еретик и колдун. Этот неправомерный приговор был впоследствии заменен на пожизненное заключение в замке Сант-Анджело. Его жена согласилась на заточение в женский монастырь, дабы избежать более сурового наказания. Калиостро недолго прожил в заключении. Утрата свободы была для него мучительна, перенесенные невзгоды подорвали его здоровье и сломили его дух, и в начале 1790 года он умер. Возможно, он и заслужил такой конец, но нельзя не признать, что приговор за приписанные ему преступления был в высшей степени позорным для папской власти, его объявившей.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ АЛХИМИИ
Вот мы и закончили перечень тех, кто больше других прославился в погоне за призрачной химерой. Среди них есть люди всех званий, характеров и сословий: искренний в своих устремлениях, но заблуждающийся философ; честолюбивый монарх и обедневший дворянин, верящие в успешный исход изысканий; строящий козни шарлатан, не верящий в златоделание, но приписывающий его себе, обманув своих собратьев и пожиная плоды их доверчивости. На предыдущих страницах читатель встретил представителей всех этих категорий. Из их жизнеописаний он узнал, что алхимическая мания имела и положительную сторону. Люди, пытаясь достичь слишком многого, не всегда тратят силы впустую. Если они не могут достичь недоступной горной вершины, то им, возможно, по плечу половина пути к ней и подбор по дороге крупиц мудрости и знания. Такая полезная наука, как химия, многим обязана своей незаконнорожденной сестре — алхимии. В поисках невозможного были сделаны многие ценные открытия, которые в противном случае могли бы ждать своего часа столетиями. Роджер Бэкон в поисках философского камня открыл порох — куда более замечательное вещество. Ван Гельмонт, занимаясь тем же самым, открыл свойства газа, Гебер сделал столь же важные открытия в области химии, а Парацельс среди своих бесконечных грез о превращении металлов обнаружил, что ртуть является лекарством от одной из самых ненавистных и мучительных болезней человека219.
В наши дни в Европе не услышишь о новых приверженцах алхимии, хотя утверждают, что один или два наших известнейших ученых мужа не верят, что алхимические изыскания столь нелепы и тщетны, как это принято считать. Вера в колдовство, едва ли менее абсурдная, все еще влачит жалкое существование в массовом сознании, но лишь немногие сегодня настолько наивны, чтобы поверить, что какой бы то ни было эликсир может продлить человеческую жизнь до столетий или превратить всю нашу железную утварь и оловянную посуду в золото. В Европе дни алхимии, можно сказать, сочтены, но на Востоке она по-прежнему цветет пышным цветом. Об этом постоянно упоминают современные путешественники, называющие основными регионами ее распространения Китай, Индостан, Персию, Татарию, Египет и Аравию.
Пророчества о конце света и великих бедствиях
Подобный эпидемии, страх перед концом света несколько раз охватывал страны и народы. Наиболее выдающимся был тот, что обуял христианский мир примерно в середине X века. В то время во Франции, Германии и Италии появилось множество фанатиков, провозглашавших, что тысячелетие, отведенное Апокалипсисом человеческому роду, близится к концу и что сын человеческий появится в облаках, дабы судить праведников и грешников. Церковь, судя по всему, пыталась развеять это заблуждение, но оно тем не менее быстро распространилось среди людей220.
Ожидалось, что Страшный суд будет проходить в Иерусалиме. Число паломников, отправившихся в 999 году на Восток, чтобы ожидать второго пришествия в этом городе, было настолько велико, что их сравнивали с опустошительной армией. Большинство тех, кто с этой целью покинул Европу, предварительно продали все свое добро и жили в Святой земле на вырученные деньги. Ветшавшие и разрушавшиеся постройки никто не ремонтировал, ибо столь скорое светопреставление делало это занятие бессмысленным. Многие превосходные здания были намеренно снесены. Даже церкви, обычно столь ухоженные, пребывали в запустении. Рыцари, горожане и крепостные, взяв с собой жен и детей, нескончаемым потоком двигались на восток. В пути они распевали псалмы и с благоговейным страхом взирали на небеса, ожидая, что те вот-вот разверзнутся и сын Божий во всем своем великолепии спустится на грешную землю.
В тысячном году число пилигримов возросло. Они в большинстве своем были охвачены ужасом, словно чумой. Каждое природное явление вселяло в них тревогу. Застигнутые в пути грозой, они все как один становились на колени. Они верили, что гром — это глас Господень, объявляющий наступление судного дня, и, заслышав его раскаты, полагали, что земля вскоре разверзнется и выпустит наружу своих мертвецов. Любой метеор, замеченный в Иерусалиме, заставлял всех христиан этого города выходить на улицы, где они плакали и молились. Находившиеся в пути пилигримы испытывали не меньшую тревогу:
Lorsque, pendant la nuit, un globe de lumiere
S’echappa quelquefois de la voute de cieux,
Et traca dans sa chute un long sillon de feux,
La troupe suspendit sa marche solitaire221.
Фанатичные проповедники подливали масла в огонь. Любая падающая звезда служила поводом для проповеди, лейтмотивом которой была величественность близящегося судного дня.
В прошлом появление комет часто считали предвестием скорой гибели этого мира. Эта вера существует в меньших масштабах и в наши дни, однако теперь кометы считаются не знамениями, а орудиями уничтожения. Не далее как в 1832 году вся материковая Европа, особенно Германия, с величайшей тревогой ожидала возможного уничтожения Земли в результате столкновения с кометой, появление которой тогда предсказывали астрономы. К этой угрозе относились всерьез. В том году многие люди воздерживались от какой бы то ни было деловой активности единственно из опасения, что ужасная комета разнесет вдребезги нас и нашу планету.
Во времена наиболее массовых эпидемий люди часто верили пророчествам сумасшедших фанатиков, предрекавших близость конца света. В периоды бедствий легковерие всегда достигает кульминации. Во время опустошившей всю Европу эпидемии бубонной чумы 1345–1350 годов подавляющее большинство европейцев считало, что конец света не за горами. Во всех крупнейших городах Германии, Франции и Италии можно было встретить самозваных пророков, предрекавших, что не позднее чем через десять лет зазвучит архангельская труба и в облаках появится Спаситель, дабы призвать население Земли на последнее судилище.
В 1736 году Лондон пришел в ужас от пророчества знаменитого Уистона о гибели мира 13 октября сего года. В тот день толпы людей отправились в Ислингтон, Хемпстед и находящиеся между ними поля, чтобы наблюдать оттуда уничтожение Лондона, которое должно было стать «началом конца». В третьем томе «Альманаха» Свифта есть сатирический отчет об этом безрассудстве, озаглавленный «Правдивый и заслуживающий доверия рассказ о том, что произошло в Лондоне в связи со слухом о Судном дне». Достоверное изложение фактов было бы, бесспорно, интересным, но на сие напыщенное острословие в духе Попа и Гея полагаться нельзя.
В 1761 году лондонцы были взбудоражены двумя подземными толчками и предсказанием третьего, который-де должен был превратить город в руины. Первое землетрясение имело место 8 февраля и снесло несколько дымоходов неподалеку от Лаймхауса и Поплара; второе произошло 8 марта и ощущалось главным образом на севере Лондона и к югу от Хемпстеда и Хайгейта. Вскоре объектом всеобщего внимания стало то обстоятельство, что интервал между землетрясениями составил ровно месяц, и один чокнутый малый по фамилии Белл, лейб-гвардеец, настолько утвердился в мысли, что еще через месяц произойдет третье, что свихнулся окончательно и бегал по улицам, провозглашая, что 5 апреля Лондон будет полностью разрушен. Большинство людей считало, что для этого больше подходит первое число, однако нашлись тысячи тех, кто принял сие предсказание за чистую монету и вместе с семьями покинул место скорого бедствия. По мере приближения злополучного дня возбуждение усиливалось, и несметные полчища легковерных отправлялись во все селения, расположенные в пределах двадцати миль от Лондона, где намеревались переждать гибель оного. Ислингтон, Хайгейт, Хемпстед, Харроу и Блэкхит заполнялись охваченными паникой беженцами, платившими домоправительницам сих безопасных пристанищ непомерные суммы за стол и ночлег. Те же из них, кому проживание в каком бы то ни было из этих мест было не по карману, оставались в Лондоне до 1 или 2 апреля, а затем разбивали стоянки в окрестных полях, дабы остаться в живых после страшного подземного толчка, коему было суждено превратить столицу в сплошные развалины. Как и во время похожей паники, имевшей место при Генрихе VIII, страх оказался заразительным, и сотни тех, кто еще неделю назад смеялся над предсказанием, паковали свои вещи, следуя примеру других, и спешили прочь. Местом повышенной безопасности считалась Темза, и все стоявшие в порту корабли заполнялись людьми, которые провели ночь с 4 на 5 апреля на борту, готовые в любой момент увидеть, как собор св. Павла и башни Вестминстерского аббатства зашатаются и рухнут в облаках пыли. Большинство беженцев на следующий день вернулось домой, убедившись, что пророк оказался лжепророком; но многие сочли более благоразумным доверить Лондону свои драгоценные тела лишь через неделю. Вскоре Беллу не верил уже никто, и даже самые доверчивые считали его обычным безумцем. Он сделал еще несколько предсказаний, но они никого не обманули; через несколько месяцев его поместили в сумасшедший дом.
В 1806 году панический страх перед концом света охватил славных жителей Лидса и его окрестностей. Причиной тому послужило следующее. В одной из близлежащих деревень курица откладывала яйца, на которых было написано: «Ждите второго пришествия». Деревня стала местом паломничества любопытных, которые после осмотра сих необычайных яиц утверждались во мнении, что Судный день вот-вот наступит. Словно моряки, застигнутые штормом и готовые в любой момент пойти ко дну, люди внезапно обращали свои помыслы к Всевышнему, истово молились и тешили себя надеждой на искупление грехов. Но вскоре, поняв, что их одурачили самым примитивным образом, они успокоились, и от их набожности не осталось и следа. Несколько джентльменов, прослышав о феномене, отправились однажды утром в курятник и застали бедную курицу за откладыванием одного из чудо-яиц. Они довольно быстро пришли к выводу, что яйцо было надписано едкими чернилами и безжалостно засунуто обратно в тело птицы. Узнав об этом, недавние богомольцы посмеялись, и жизнь вошла в свое обычное русло.
Когда в 1630 году Милан охватила эпидемия бубонной чумы, столь впечатляюще описанная Рипамонте в его интересном труде «De Peste Mediolani»222, жители этого города жадно внимали пророчествам астрологов и прочих самозванцев. Следует отметить, что эпидемия была предсказана за год до того, как она разразилась. Когда в 1628 году была замечена крупная комета, мнения астрологов относительно нее разделились. Одни настаивали на том, что она является предвестием кровопролитной войны; другие утверждали, что она знаменует великий голод; но большинство, основывая свое суждение на ее тусклом цвете, считало, что она провозвещает эпидемию чумы. Когда предсказание сбылось и в городе свирепствовала чума, их репутация резко возросла.
Всеобщее внимание приковывали и другие пророчества, которые, как утверждали, были сделаны столетиями ранее. Они самым пагубным образом влияли на сознание простолюдинов, ибо вселяли в них веру в скорую неминуемую смерть. Лишая больных надежды на выздоровление — этого целительнейшего бальзама при любом недуге, они троекратно усиливали разрушительное действие болезни. Одно необычное предсказание чуть не свело несчастных людей с ума. Древнее рифмованное двустишие, передаваемое из поколения в поколение, предвещало, что в 1630 году дьявол заразит весь Милан. Однажды ранним апрельским утром, когда чума еще не приобрела характер эпидемии, прохожие были поражены, увидев, что все двери домов на главных улицах города испачканы странной пористой обмазкой с вкраплениями гнойного содержимого чумных язв. Все миланцы поспешили увидеть необычайное явление собственными глазами, и город охватило величайшее смятение. Были приняты все возможные меры, чтобы найти преступников, но тщетно. Наконец в памяти людей всплыло древнее пророчество, и во всех церквах зазвучали молитвы, коими прихожане призывали Всевышнего помочь им справиться с кознями дьявола. Многие придерживались мнения, что заразу в городе распространяют иностранные эмиссары, но подавляющее большинство миланцев было убеждено, что происходящее является результатом адского сговора и чуму разносят сверхъестественные силы. Тем временем число зараженных росло с угрожающей быстротой, и всеми овладели недоверие и страх. Считалось, что сатана заразил воду в колодцах и водоемах, хлеб на корню, плоды на деревьях и все, с чем человек соприкасается за пределами зданий, включая стены, тротуары и даже дверные ручки. Население города было доведено до неуправляемого неистовства. Велось кропотливое выслеживание эмиссаров дьявола, и любому человеку, желавшему избавиться от врага, достаточно было сказать, что он видел, как тот пачкал какую-либо дверь мазью, и несчастного ждала верная смерть от рук разъяренной толпы. Один старик за восьмидесят, ежедневно посещавший церковь Сант-Антонио, был однажды замечен за тем, что, поднявшись с колен, вытирал подолом плаща скамью, на которую собирался сесть. Немедленно поднялся крик, что он натирает скамью заразной мазью. Несколько женщин, которых в церкви было очень много, схватили немощного старика и, выкрикивая ужасающие проклятия, выволокли его за волосы наружу. Его означенным способом протащили по грязи до дома муниципального судьи, чтобы вздернуть на дыбу и принудить выдать сообщников, но он по дороге скончался. Жертвами массовой ярости стали и многие другие. Некоего Мора, который, насколько можно судить, был аптекарем и цирюльником, обвинили в сговоре с дьяволом с целью заражения Милана. Его дом окружили и обнаружили в нем некоторое количество химических препаратов. Бедняга утверждал, что они предназначены для профилактики чумы, но врачи, которым они были представлены для изучения, заявили, что это заразные зелья. Мора был вздернут на дыбу, где долгое время настаивал на своей невиновности. В конце концов, когда его мужество было сломлено пыткой, он признался, что вступил в сговор с нечистым и иностранными недругами, дабы заразить целый город, и что он мазал двери заразной мазью и заражал источники воды. Он назвал нескольких человек своими соучастниками, после чего тех арестовали и подвергли той же пытке. Все они были признаны виновными и казнены. Дом Моры сровняли с землей и установили на его месте колонну с надписью, призванной служить напоминанием о его преступлениях.
Пока общественное сознание занимали эти необыкновенные события, эпидемия разрасталась. Люди, собиравшиеся в толпы, дабы посмотреть на казни, заражались друг от друга. Однако неистовство их страстей и степень их легковерия не отставали от набиравшей ход эпидемии, и они верили любым удивительным и вздорным слухам. Один из таковых занимал их мысли особенно долго. Был замечен сам дьявол. Он снял один из миланских домов, в коем изготовлял заразные мази и снабжал ими своих агентов-распространителей. Один человек размышлял над подобными россказнями до тех пор, пока не отождествил причудливый полет своей фантазии с реальностью. Он пришел на рыночную площадь Милана и поведал собравшейся вокруг него толпе следующую историю. Когда однажды поздно вечером он стоял у двери кафедрального собора и вокруг не было ни души, он увидел, как рядом остановился темный фаэтон, запряженный шестеркой молочно-белых лошадей. За фаэтоном следовала многочисленная свита слуг в темных ливреях, ехавших на темных лошадях. В фаэтоне сидел высокий незнакомец величавого вида; его длинные черные волосы развевались на ветру, большие черные глаза горели огнем, а губы кривились в невыразимо презрительной улыбке. Незнакомец взглянул на очевидца своего прибытия столь надменно, что тот задрожал от страха. Незнакомец был гораздо смуглее всех тех людей, которых этот человек когда-либо видел, а окружавший его воздух был жарким и душным. Он тотчас осознал, что перед ним существо из потустороннего мира. Незнакомец, видя его тревогу, любезно, но властно попросил его занять место рядом с собой. Будучи не в силах отказаться и не вполне отдавая себе отчет в своих действиях, он сел в фаэтон. Во время безумной скачки со скоростью ветра, завершившейся у одного из домов на главной улице Милана, незнакомец не проронил ни слова. На улице было полно народу, но, к превеликому удивлению автора данного повествования, никто из прохожих, казалось, не замечал необычного экипажа и его многочисленной свиты. Из этого он заключил, что те являются невидимыми. Дом, возле которого они остановились, снаружи походил на лавку, однако внутри напоминал громадный полуразрушенный дворец. Миланец и его таинственный провожатый прошли через несколько больших и тускло освещенных залов. В одном из них, обрамленном огромными мраморными колоннами, заседал совет призраков, занятых обсуждением прогрессирующей эпидемии чумы. Другие части здания были погружены в кромешную тьму, которую время от времени озаряли всполохи молний, что позволило миланцу разглядеть несколько тараторивших и гремевших костями скелетов, одни из которых бегали взад и вперед, гоняясь друг за другом, а другие играли в чехарду. Позади дворца находился невозделанный участок земли, посреди которого возвышалась черная скала. С нее со страшным шумом стекал стремительный поток зачумленной воды, которая, впитываясь в почву, попадала во все городские родники и делала их непригодными для использования. После того как миланец увидел все вышеперечисленное, незнакомец привел его в еще один большой зал, заполненный золотом и драгоценными камнями, которые он ему предложил при условии, что тот преклонит колени, назовет его своим богом и согласится вымазать двери и стены домов Милана заразной мазью, которую он ему протянул. Теперь миланец знал, что перед ним сам сатана, и в момент искушения вознес молитву Всевышнему, чтобы тот дал ему силу сопротивляться соблазну. Его молитва была услышана — он отказался от взятки. Незнакомец бросил на него полный ненависти взгляд, после чего он услышал оглушительный удар грома, увидел яркую вспышку молнии и мгновением позже очутился в полном одиночестве на крыльце кафедрального собора. Он повторял эту странную историю день за днем и без малейших отклонений, и все население города в конце концов поверило в ее правдивость. Неоднократные попытки найти загадочный дом результатов не дали. Рассказчик указал на несколько зданий, похожих, по его словам, на искомое; полиция их обыскала, но не обнаружила в них ни демона чумы, ни зала с призраками, ни зловещей скалы. Но эта история так сильно повлияла на сознание людей, что появилось множество «свидетелей», полусумасшедших от болезни, клявшихся, что они тоже видели дьяволоподобного незнакомца и слышали, как в полночь его фаэтон, запряженный молочно-белыми лошадьми, проносился по улицам города с грохотом, заглушавшим раскаты грома.
Невероятно велико число тех, кто признался в распространении болезни по наущению сатаны. Миланцев словно охватила эпидемия безумия, не менее заразного, нежели чума. Их воображение находилось в таком же расстройстве, как и их тела, и полку добровольно раскаявшихся «эмиссаров дьявола» прибывало день ото дня. Они обычно имели на теле отметины болезни, и некоторые умирали прямо во время признания.
Во время бубонной чумы 1665 года в Лондоне люди столь же жадно внимали предсказаниям мошенников и фанатиков. Дефо пишет, что в то время люди были более падкими до пророчеств, астрологических прогнозов, вещих снов и бабьих сплетен, чем когда-либо прежде или впоследствии. Астрологические календари и содержавшиеся в них предсказания приводили их в смертельный испуг. Как раз за год до эпидемии их сильно встревожила замеченная тогда комета, которая, по их мнению, являлась знамением голода, моровой язвы или пожара. Как только появились первые заболевшие, по улицам города забегали исступленные фанатики, провозвещая, что через несколько дней Лондон вымрет.
Еще более необычный пример веры в предсказания имел место в Лондоне в 1524 году. В ту пору город кишел астрологами и прочими провидцами, к которым ежедневно обращались люди всякого звания и достатка, желавшие заглянуть в будущее. Еще в июне 1523 года некоторые из них совместно предсказали, что 1 февраля 1524 года уровень Темзы поднимется настолько, что река затопит весь Лондон и смоет десять тысяч домов. Это пророчество было без колебаний принято на веру и посеяло панику среди жителей города. За несколько месяцев оная усилилась настолько, что многие семьи собрали пожитки и отбыли в графства Кент и Эссекс. Чем меньше оставалось времени до наводнения, тем больше было число переселенцев. В январе можно было наблюдать, как толпы мастеровых в сопровождении жен и детей пешком плелись в деревни, расположенные на расстоянии пятнадцати–двадцати миль от Лондона, чтобы переждать в них катастрофу. Люди более высокого социального статуса проделывали тот же путь в фургонах и других перевозочных средствах. К середине января обреченный город покинули как минимум двадцать тысяч человек, не оставивших из своего имущества ничего, кроме голых стен домов, которые должны были пасть под натиском грядущего половодья. Многие из тех, кто был побогаче, селились на возвышенностях Хайгейта, Хемпстеда и Блэкхита, а некоторые ставили шатры аж возле Уолтемского аббатства к северу и Кройдона — к югу от Темзы. Болтон, настоятель монастыря св. Варфоломея, был так напуган, что за очень большие деньги построил в Харроу-он-зе-Хилл своего рода крепость, в которую завез двухмесячный запас провизии. 24 января, за неделю до ужасного дня уничтожения Лондона, он удалился туда вместе с монахами, послушниками и всей своей челядью. Погруженные в фургоны, в крепость были доставлены лодки; туда же прибыло множество опытных гребцов. Эта мера предосторожности была принята с тем, чтобы обитатели крепости могли отправиться на поиски нового пристанища в случае затопления Харроу. В крепость хотели попасть многие состоятельные горожане, но благоразумный и предусмотрительный настоятель впустил только своих друзей и тех, кто имел с собой запасы съестного.
И вот наконец пришел роковой для Лондона рассвет. Толпы оставшихся в городе любопытных были с утра на ногах, дабы следить за подъемом уровня воды. Было предсказано, что он будет постепенным, а не внезапным; и люди рассчитывали, что у них останется достаточно времени на спасение бегством после того, как старушка Темза начнет выходить из берегов. Но большинство было слишком напугано, чтобы этому верить, и сочло за благо заранее удалиться от реки на десять-двадцать миль. Темза, не обращая внимания на толпы глупцов, собравшихся на ее берегах, несла свои воды столь же плавно, как и прежде. В свой обычный час наступил отлив, затем его сменил прилив до обычного уровня, после чего вновь наступил отлив223, будто двадцать астрологов и не предсказывали обратного. Близился вечер, и недоумение оных росло. Все более озадаченными становились и горожане, начавшие понимать, какими дураками они оказались. Наступила ночь, а упрямая река ни в какую не желала выходить из берегов и сносить хоть один дом из десяти тысяч. Люди тем не менее боялись ложиться спать. Многие сотни оставались на ногах до прихода следующего дня, чтобы потоп не застал их врасплох, как тать в нощи.
На следующий день лондонцы всерьез обсуждали целесообразность утопления лжепророков в реке. Последние, к счастью для себя, придумали уловку, успокоившую массовую ярость. Они заявили, что в результате арифметической ошибки (весьма незначительной) назначенная ими дата ужасного наводнения отстает от истинной на целое столетие и что правда в конце концов оказалась на стороне звезд, а они, простые смертные, ошибались. Нынешнее поколение горожан могло спать спокойно, ибо Лондону предстояло быть смытым с лица Земли не в 1524-м, а в 1624 году. Узнав сию благую весть, настоятель Болтон срыл свою крепость, и все утомленные беженцы вернулись домой.
В отчете одного из очевидцев великого пожара в Лондоне, хранящемся среди Харлейских манускриптов Британского музея и опубликованном в протоколах Королевского общества антикваров, приводится другой пример легковерия лондонцев. Автор, день за днем сопровождавший герцога Йоркского по району, находящемуся между Флит-стрит и Темзой, утверждает, что его и герцога попыткам сдержать распространение огня очень мешало людское суеверие. Матушка Шиптон в одном из своих пророчеств сказала, что Лондон сгорит дотла, и теперь лондонцы отказывались предпринимать какие бы то ни было усилия, чтобы это предотвратить224. Сын знаменитого сэра Кенелма Дигби, также приписывавший себе дар ясновидения, уверял их, что никакая сила на земле не может помешать исполнению этого предсказания, ибо в Великой книге судеб написано, что Лондон ждет неминуемое уничтожение. Сотни тех, кто мог бы оказать значительную помощь при тушении пожара и уберечь от огня целые приходы, наблюдали за разбушевавшейся стихией сложа руки, в то время как намного большее число лондонцев с еще меньшим сожалением предавалось разграблению города, спасти который было невозможно225.
В пророчества матушки Шиптон все еще верят во многих сельских районах Англии. Ее чтят в крестьянских домах и помещичьих усадьбах. Она имеет самую высокую репутацию из всех британских пророков среди необразованных и полуобразованных селян. Принято считать, что она родилась в Нейрсборо в царствование Генриха VII и продала душу дьяволу за способность предсказывать будущее. Несмотря на то что при жизни ее считали ведьмой, она избежала участи ведьмы и, дожив до глубокой старости, тихо умерла в своей постели неподалеку от Клифтона в графстве Йоркшир. Утверждают, что на ее могиле, вырытой на тамошнем церковном кладбище, установлен мемориальный камень со следующей эпитафией:
Here lies she who never lied,
Whose skill often has been tried:
Her prophecies shall still survive,
And ever keep her name alive226.
«Не проходило и дня, — гласит ее биография, дошедшая до нас усилиями многих поколений, — чтобы она не сообщала чего-то удивительного и требующего самого серьезного внимания. Народ стекался к ней отовсюду — настолько велика была ее слава. Самые разные люди стремились узнать будущее: старые и молодые, богатые и бедные, а чаще всего — юные девицы; и все они возвращались домой весьма довольные ее ответами на их вопросы». Среди прочих ее посетил аббат Беверлийский, коему она предсказала секуляризацию227 монастырей Генрихом VIII, женитьбу последнего на Анне Болейн, сожжение еретиков в Смитфилде и казнь Марии Стюарт, королевы Шотландии. Кроме того, она предсказала ему вступление на английский престол Иакова I, сына Марии Стюарт, добавив, что вместе с этим королем
From the cold North
Every evil shall come forth228.
Во время одного из его последующих визитов она произнесла еще одно пророчество, которое, по мнению ее почитателей, еще не исполнилось, но, возможно, исполнится в текущем столетии:
The time shall come when seas of blood
Shall mingle with a greater flood.
Great noise there shall be heard — great shouts and cries,
And seas shall thunder louder than the skies;
Then shall three lions fight with three and bring
Joy to a people, honour to a king.
That fiery year as soon as o’er,
Peace shall then be as before;
Plenty shall every where be found,
And men with swords shall plough the ground229.
Но самым знаменитым из всех ее пророчеств является то, что относится к Лондону. Тысячи людей до сих пор содрогаются от одной мысли о тех бедствиях, которым суждено поразить наше несчастное королевство в случае соединения Лондона и Хайгейта одной непрерывной цепочкой домов. Это соединение, которое в случае продолжения застройки окрестностей прежними темпами обещает быть вскоре доведенным до конца, было предсказано ею незадолго до смерти. По ее словам, оно повлечет за собой революции — свержение могущественных монархов и обильное кровопролитие. При этом даже ангелы, доведенные до отчаяния нашими невзгодами, отвернутся от нас и будут оплакивать злополучную Британию.
Однако при всей своей славе матушка Шиптон занимает лишь второе место по значимости среди британских пророков. Мерлин, могущественный Мерлин, на голову выше всех остальных — первый и непревзойденный. Старик Дрейтон в своем «Полиольбионе» воспевает его следующим образом:
Of Merlin and his skill what region doth not hear?
The world shall still be full of Merlin every year.
A thousand lingering years his prophecies have run,
And scarcely shall have end till time itself be done230.
Спенсер231 в своей божественной поэме дает яркое описание сего прославленного провидца:
Who had in magic more insight
Than ever him before, or after, living wight.
For he by words could call out of the sky
Both sun and moon, and make them him obey;
The land to sea, and sea to mainland dry,
And darksome night he eke could turn to day —
Huge hosts of men he could, alone, dismay.
And hosts of men and meanest things could frame,
Whenso him list his enemies to fray,
That to this day, for terror of his name,
The fiends do quake, when any him to them does name.
And soothe men say that he was not the sonne
Of mortal sire or other living wighte,
But wondrously begotten and begoune
By false illusion of a guileful sprite
On a faire ladye nun232.
В этих стихах поэт передал бытовавшие тогда представления о Мерлине, которого принято считать современником Вортигерна233. Нет единого мнения в отношении того, жил ли этот человек на самом деле или он всего лишь персонификация природных явлений, людских добродетелей и богословских тезисов, рожденная поэтичным воображением легковерных людей. Представляется наиболее вероятным, что такой человек действительно существовал и что благодаря познаниям, настолько превосходившим понимание его современников, насколько эрудиция монаха Бэкона была недостижима для современников оного, изумленная толпа наделяла его сверхъестественными атрибутами, перечисленными Спенсером.
Джеффри Монмутский перевел поэтические оды (пророчества) Мерлина на латинскую прозу. Мерлина чтили и другие летописцы древности. В книге Томаса Хейвуда «Жизнь Мерлина; его пророчества и предсказания, истолкованные и подтвержденные английскими летописцами», изданной в царствование Карла I, есть некоторые из приписываемых ему пророчеств. Все они тем не менее кажутся написанными самим Хейвудом. Они слишком недвусмысленны и точны, чтобы усомниться в том, что они сочинены постфактум. О Ричарде I он пишет:
The Lion’s heart will ‘gainst the Saracen rise,
And purchase from him many a glorious prize;
The rose and lily shall at first unite,
But, parting of the prey prove opposite…
But while abroad these great acts shall be done,
All things at home shall to disorder run.
Cooped up and caged then shall the Lion be,
But, after sufferance, ransomed and set free234.
Далее простодушный Томас Хейвуд серьезно сообщает нам, что все эти события действительно произошли. Он столь же конкретен в отношении Ричарда III. Он пишет:
A hunch-backed monster, who with teeth is born,
The mockery of art and nature’s scorn;
Who from the womb preposterously is hurled,
And with feet forward thrust into the world,
Shall, from the lower earth on which he stood,
Wade, every step he mounts, knee-deep in blood.
He shall to th’ height of all his hopes aspire,
And, clothed in state, his ugly shape admire;
But, when he thinks himself most safe to stand,
From foreign parts a native whelp shall land235.
Еще одно из этих предсказаний, относящееся к более позднему периоду, гласит, что Генрих VIII отнимет у папы римского духовную власть и «перенесет ее домой, в Британию», что он «искоренит в стране католичество» и не пощадит «ни мужчину в своей ярости, ни женщину в своей похоти» и что во время правления второго после него короля «многих сожгут заживо и посадят на кол». Находчивый Хейвуд приводит в своей книге лишь те пророчества Мерлина, что охватывают период, предшествовавший моменту ее написания, без малейшего намека на то, что уготовано Англии в будущем. Он пишет, что, помимо процитированных пророчеств, которые определенно сбылись, в его время имели хождение и многие другие пророчества Мерлина, трактовка которых неочевидна. Он дает своим читателям вкусить одно-единственное:
When hempe is ripe and ready to pull,
Then, Englishman, beware thy skull236.
Это пророчество, которое, на первый взгляд, должно было напомнить ему о виселице, бывшей в то время обычным уделом лжепророков, он истолковал следующим образом: «В слове HEMPE237 пять букв. Если обратить внимание на пять сменивших друг друга монархов, начиная с Генриха VIII, то сие пророчество легко объяснимо: H означает вышеназванного короля Генриха; E — Эдуарда VI, его сына; M — правившую вслед за ним Марию Тюдор; P — будущего Филиппа II Испанского, который, женившись на означенной Марии, какое-то время делил с ней бразды правления Англией и, наконец, E — королеву Елизавету238, после смерти коей люди страшились возможной борьбы за корону и массовых волнений». Поскольку этого не произошло, Хейвуд, который был в известном смысле хитрым жуликом, вышел из затруднительного положения, написав: «Однако сие предсказание не исполнилось до конца, потому как мирное вступление на престол короля Иакова сопровождалось высокой смертностью от болезней, причем не только в Лондоне, но и во всем королевстве, от коей нация не вполне оправилась даже через семь лет».
Это похоже на отговорку Питера Понтефрактского, который, предсказав дату завершения правления короля Иоанна, был повешен этим монархом за свои труды. Весьма красочный и увлекательный рассказ об этом лжепророке есть в книге Графтона «Английские летописи»239. «Тем временем, — пишет он, — священнослужители Англии получили на свою голову лжепророка по имени Питер Уэйкфилд. Этот йоркширец был праздношатающимся болтуном. Сегодня, стремясь обелить сего Питера и очернить короля и его приближенных, разные глупцы утверждают, что ему дважды, в Йорке и Понтефракте, являлся Христос, принявший обличье младенца на руках у священника. Дескать, сын Божий три раза сказал ему “Мир, мир, мир” и научил его многим вещам, кои тот вскоре объявил епископам и под влиянием коих призывал людей избавиться от пороков. Уверовав в его святость, они заявляют, что он созерцал радости рая и горести ада, ибо говорил, что во всем королевстве лишь три человека живут по-христиански.
Этот лжепророк заявил, что, согласно услышанному им божественному откровению, последним днем правления короля Иоанна станет следующий праздник Вознесения, пришедшийся на 1211 год от рождества Христова — тринадцатый год со дня его коронации. Его спросили, явится ли сие результатом убийства или свержения с престола или же король добровольно откажется от власти. Он ответил, что сие ему неведомо, но выразил уверенность в том, что ни сам король, ни кто-либо из его рода не будет после этого дня управлять страной.
Узнав эту новость, король счел ее вздором и долго смеялся. “Тьфу! — сказал он. — Да он просто идиот и пустомеля”. Но когда безрассудный предсказатель избежал таким образом немилости короля, он решил, что ему ничто не угрожает, и, будучи самым что ни на есть бездельником и бродягой, не склонным держать язык за зубами, принялся повторять свое предсказание всем кому ни попадя. Это явилось причиной его скорого ареста как преступника и заточения в тюрьму усилиями сторонников короля, действовавших без ведома оного.
Вскоре молва о странном провидце облетела все королевство. Упав на благодатную почву человеческой глупости, она в сочетании с известием о его аресте дала обильные всходы: его имя произносилось все чаще, слух становился все цветистее, поступки людей — все бессмысленнее, а их досужие разговоры и прочие праздные занятия — все продолжительнее. С этого времени, как это часто бывает, поползла бесконечная вереница пересудов, придумывались новые небылицы, басни добавлялись к басням, и ложь громоздилась на ложь. Не проходило и дня без появления новых нелицеприятных историй о короле, ни одна из которых не была правдой. Слухи плодились, богохульства распространялись, враги короля радовались, а священники произносили изменнические проповеди; при этом все домыслы и коварные деяния оправдывались тем, что “так сказал Питер Уэйкфилд”, “сие предсказано им” и “так все и произойдет”, хотя он ничего подобного не говорил. Когда настал злополучный праздник Вознесения, король Иоанн приказал поставить в открытом поле королевский шатер и провел этот день в окружении советников и других титулованных особ. Он выглядел необычайно серьезным и находил утешение в песнях и игре на музыкальных инструментах, пребывая бóльшую часть времени в поле зрения своих верных друзей. Когда сей день благополучно завершился, его враги испытали замешательство и поспешили придать пророчеству аллегоричность, говоря: “Он больше не король, ибо правит папа, а не он”240.
После этого советники убедили короля в том, что лжепророк баламутил королевство, развращал умы и настроил против него простой народ, ибо его речи с помощью прелатов пересекли море и достигли ушей французского короля, дав тому великолепный повод напасть на нашу страну. Сей монарх покамест этого не сделал, однако был полностью обманут, как есть и будут обмануты все те, кто принимает за истину подобные мрачные и усыпляющие грезы лицемеров. Тогда король приказал повесить его вместе с сыном, дабы избежать появления новых лжепророков — их потомков».
Хейвуд, который яростно отстаивал истинность всевозможных пророчеств, представляет Питера Понтефрактского, чью участь он, по всей вероятности, разделил бы, имей он несчастье быть его современником, в гораздо более выгодном свете. Он пишет, что Питер, который был не только провидцем, но и бардом, предсказал различные невзгоды короля Иоанна, которые действительно имели место. Обвиненный в лжепророчестве на основании предсказания свержения короля на четырнадцатом году правления, он смело ответил королю, что его пророчество — сущая правда, ибо в силу того, что последний уступил папе корону и платит ему ежегодную дань241, правит папа, а не он. Хейвуд счел это объяснение вполне удовлетворительным, а правдивость пророка — доказанной раз и навсегда.
Но вернемся к Мерлину. О нем даже сегодня можно сказать словами, которыми Бёрнс охарактеризовал другую известную персону:
Great was his power and great his fame;
Far kenned and noted in his name242.
Он известен не только у себя на родине, но и в большинстве европейских стран. В 1498 году в Париже была издана довольно любопытная книга «Мерлин: жизнь, пророчества и чудеса», написанная предположительно Робером де Бороном. В ней сказано, что его отцом был сам дьявол и говорить он начал сразу после рождения, заверив свою мать, весьма добродетельную молодую женщину, что, вопреки прогнозам ее злобных соседей, эти роды не приведут к ее смерти. Окружной судья, прослышав о столь удивительном событии, вызвал к себе и мать и дитя, которые явились в тот же день. Чтобы подвергнуть мудрость юного пророка наиболее эффективному испытанию, судья спросил его, знает ли он, кто его отец. На это младенец Мерлин внятно и громко ответил: «Да, мой отец — сам дьявол; я наделен его могуществом и знаю все о прошлом, настоящем и будущем». Его милость в изумлении хлопнул в ладоши и принял благоразумное решение более не досаждать ни столь грозному дитяти, ни его матери.
Древнее предание относит строительство Стоунхенджа243 за счет сверхъестественных способностей Мерлина. Люди верили, что эти огромные каменные глыбы по его велению перенеслись по воздуху из Ирландии на Солсберийскую равнину и обрели существующие форму и взаимное расположение, дабы служить вечным напоминанием о трагической участи трехсот вождей бриттов, зверски убитых на этом месте саксами.
В местечке Абергвилли близ Кармартена все еще можно увидеть пещеру пророка и место, где он произносил свои заклинания. Как же замечательно описал их Спенсер в своей «Королеве фей»! Повторение этих строк в данной книге не нуждается в оправдании, да и любой другой рассказ о великом пророке Британии был бы без них неполным:
There the wise Merlin, whilom wont (they say,)
To make his wonne low underneath the ground,
In a deep delve far from the view of day,
That of no living wight he mote be found,
Whenso he counselled with his sprites encompassed round.
And if thou ever happen that same way
To travel, go to see that dreadful place;
It is a hideous, hollow cave, they say,
Under a rock that lies a little space
From the swift Barry, tumbling down apace
Amongst the woody hills of Dynevoure;
But dare thou not, I charge, in any case,
To enter into that same baleful bower,
For fear the cruel fiendes should thee unwares devour!
But, standing high aloft, low lay thine eare,
And there such ghastly noise of iron chaines
And brazen caudrons thou shalt rombling heare,
Which thousand sprites with long-enduring paines
Doe tosse, that it will stun thy feeble braines;
And often times great groans and grievous stownds,
When too huge toile and labour them constraines;
And often times loud strokes and ringing sounds
From under that deep rock most horribly rebounds.
The cause, they say, is this. A little while
Before that Merlin died, he did intend
A brazen wall in compass, to compile
About Cayr Merdin, and did it commend
Unto these sprites to bring to perfect end;
During which work the Lady of the Lake,
Whom long he loved, for him in haste did send,
Who thereby forced his workmen to forsake,
Them bound till his return their labour not to slake.
In the mean time, through that false ladie’s traine,
He was surprised, and buried under biere,
Ne ever to his work returned again;
Natheless these fiendes may not their work forbeare,
So greatly his commandement they fear,
But there doe toile and travaile day and night,
Until that brazen wall they up doe reare244, 245.
Среди других английских пророков, вера в дар которых еще не полностью изжила себя на фоне текущего прогресса, можно выделить Роберта Никсона, чеширского юродивого, современника матушки Шиптон. Притча гласит, что он родился в бедной семье неподалеку от Вейл-Ройал, на опушке Деламерского леса. Его учили пахать землю, но он был настолько невежествен и глуп, что пользы от него было немного. Все считали его полным идиотом и не обращали внимания на его странные и бессвязные изречения. Считается, что таким образом люди пропустили многие его пророчества мимо ушей. Оные, однако, игнорировались не всегда. Один случай привлек к нему внимание и прославил его как первостатейного провидца. Когда однажды он шел за плугом, он вдруг прервал свое занятие и с диким взглядом и странным жестом воскликнул: «Давай, Дик! Ну же, Гарри! Ах, незадача, Дик! О, здорово, Гарри! Сегодня победил Гарри!» Другие находившиеся в поле пахари не знали, как реагировать на услышанное, но на следующий день все стало ясно. Согласно вести, поспешно принесенной гонцом, в ту самую минуту, когда Никсон выкрикивал свои сентенции, Ричард III был убит в сражении при Босворте и Генрих VII был провозглашен королем Англии.
Вскоре молва о новом прорицателе достигла ушей короля, который изъявил желание встретиться и поговорить с ним. Был отправлен гонец с наказом доставить его ко двору, но задолго до того, как он достиг графства Чешир, Никсон знал об ожидавших его почестях и страшился их. Действительно, утверждали, что как раз в тот момент, когда король выразил свое желание, Никсон сверхъестественным образом узнал об этом и бегал в великом смятении по городку Овер, выкрикивая, как безумный, что Генрих послал за ним и что ему суждено отправиться ко двору, где его заставят замолчать, уморив голодом. Этот крик души вызвал немалое удивление, но через два дня прибыл гонец и забрал его с собой, утвердив добрых чеширцев во мнении, что их пророк — один из величайших за всю историю. По его прибытии ко двору Генрих, который, казалось, был чрезвычайно встревожен пропажей дорогого алмаза, спросил Никсона, не знает ли тот, где искать камень. Генрих сам спрятал алмаз, с тем чтобы испытать способности прорицателя. Велико же было его удивление, когда Никсон ответил ему словами старинной пословицы: «Кто спрятал, тот знает, где искать». С этого момента король безоговорочно уверовал в то, что Никсон наделен даром ясновидения, и приказал записывать все его слова.
Все то время, что Никсон провел при дворе, он постоянно боялся умереть голодной смертью и неоднократно говорил королю, что таков будет его удел, если тот не позволит ему покинуть дворец и вернуться на родину. Генрих не отпустил его, но строго приказал всем своим чиновникам и поварам давать ему столько еды, сколько он захочет. Ему жилось так хорошо, что некоторое время спустя он стал похож на дворянского мажордома и растолстел, как олдермен. Однажды, когда король уезжал на охоту, Никсон прибежал к дворцовым воротам и на коленях умолял Генриха не обрекать его своим отъездом на голодную смерть. Король рассмеялся и, подозвав одного чиновника, велел ему тщательно заботиться о провидце во время его отсутствия, после чего уехал в лес. После его отъезда дворцовая челядь принялась высмеивать и оскорблять Никсона, с которым, по ее мнению, обращались лучше, чем он того заслуживал. Никсон пожаловался своему попечителю, и тот, дабы защитить его от дальнейших нападок, запер его в личных апартаментах короля и регулярно приносил ему четырехразовое питание. Но вышло так, что к этому чиновнику прибыл королевский посыльный, потребовавший его неотложного отъезда в Уинчестер по жизненно важному делу. Он так спешил подчиниться приказу короля, что уселся на лошадь позади гонца и ускакал, совсем забыв про бедного Никсона. Когда три дня спустя он вернулся и наконец вспомнил о провидце, то отправился в королевские апартаменты и обнаружил, что тот лежит на полу, умерев от голода в соответствии с собственным предсказанием.
Среди его пророчеств, которые считаются сбывшимися, есть следующие, относящиеся ко временам Карла Эдуарда-Претендента:
«Великий человек придет в Англию,
Но сын короля
Вырвет у него победу».
«Вороны будут пить кровь многих дворян,
И Север поднимется против Юга».
«Северному петуху придеться спасаться бегством,
И он ощипанный и униженный
Едва не проклянет ень своего рождения».
Все они, как утверждают его почитатели, ясны как божий день. Первое означает поражение принца Карла Эдуарда в битве при Каллодене, нанесенное ему герцогом Камберлендским; второе — казнь лордов Дервентуотера, Бальмерино и Ловата; а третье — поспешное отплытие Карла Эдуарда-Претендента от британских берегов. Среди еще не исполнившихся пророчеств есть следующие:
«Between seven, eight and nine,
In England wonders shall be seen;
Between nine and thirteen
All sorrow shall be done»246.
«Through our own money and our men,
Shall a dreadful war begin.
Between the sickle and the suck
All England shall have a pluck»247.
«Англию аккупируют иноземцы в заснеженных касках, которые принесут в подолах своих одежд чуму, голод и убийство».
«Город Натвиг будет смыт наводнением».
Истолковать первые два пророчества еще не пытался никто, но те или иные события будут, несомненно, интерпретированы так, чтобы им соответствовать. Третье, относящееся к захвату Англии чужеземцами в покрытых снегом касках, старушки считают очевиднейшим предвестием будущей войны с Россией. Что касается последнего, то в вышеупомянутом городе многие искренне верят, что это произойдет. Их успокаивает то, что прорицатель не назвал год ужасного бедствия, и они думают, что, возможно, это случится не ранее чем через два столетия.
Народные биографы Никсона завершают рассказ о нем следующими словами: «Есть люди, считающие его пророчества вздором; но при сопоставлении их с имевшими место событиями кажется совершенно очевидным, что большинство из них сбылось или сбудется. Исходя из этого, нам в любой ситуации следовало бы не только использовать все наше могущество для борьбы с врагами, но и воздерживаться от распутства и безбожия, неустанно моля Всевышнего о покровительстве и защите». На это, хотя и non sequitur248, заключение любой воскликнет: «Аминь!»
Помимо пророков, в Европе жили составители астрологических календарей: Лилли, Бедный Робин, Партридж и врач Фрэнсис Мур — в Англии, и Матьё Ленбер — во Франции и в Бельгии. Но сколь бы ни были велики их притязания, они были сама скромность по сравнению с Мерлином, Шиптон и Никсоном, которые сосредоточивали свои помыслы на более масштабных вещах, чем погода, и не ограничивали свои пророчества временными рамками в один год. После таких прорицателей составители астрологических календарей едва ли заслуживают упоминания (не является исключением и знаменитый Партридж, чьи предсказания в 1708 году возбудили любопытство всей Англии и чью смерть, несмотря на то что он был все еще жив, столь славно и удовлетворительно засвидетельствовал Айзек Бикерстафф). Несоразмерность была бы чересчур очевидной, и посему они и их деяния недостойны внимания читателя.
Предсказатели будущего
And men still grope t’anticipate
The cabinet designs of Fate;
Apply to wizards to foresee
What shall and what shall never be.
— Hudibras, part iii, canto 3249.
Согласно схеме нашего повествования, переходим к рассмотрению безрассудств, до которых людей доводило страстное желание проникнуть в тайны грядущего. Сам Бог, руководствуясь собственной мудростью, неоднократно отодвигал непроницаемую для людей завесу, скрывающую эти страшные тайны, и столь же мудро оставлял нас в неведении все остальное время. К счастью для себя, человек не знает, что принесет ему завтрашний день; но он, не подозревая об этом великом блаженстве, во все эпохи самонадеянно пытался проследить события будущих веков и предвосхитить ход времени. Под эту свою самонадеянность он неизменно подводил научную базу, плодя бесчисленные лженауки и системы и растрачивая жизнь на тщетные изыскания. Ни одно заблуждение не имело и не имеет стольких приверженцев, как это. Желание предугадать ход событий в той или иной степени присуще каждому человеку, и укротить его могут лишь длительный самоанализ и твердая уверенность в том, что если бы нам было суждено знать будущее, то мы бы его знали.
В основе всех наших неверных представлений в данной области лежит переоценка собственной важности в этом мире. Как приятна человеческой гордыне мысль о том, что небесные светила охраняют людей и сообщают им своими перемещениями и взаимным расположением об ожидающих их радостях и горестях! Человек, который меньше по отношению ко Вселенной, чем одно из тех почти невидимых насекомых, мириады которых живут на летней листве, — по отношению к земному шару, наивно полагает, что вечные миры были созданы главным образом для того, чтобы предсказывать его судьбу. С какой жалостью мы бы отнеслись к самонадеянности ползающего у наших ног червя, если бы узнали, что он тоже страстно желает проникнуть в тайны будущего и воображает, что метеоры проносятся по небу, дабы предупредить его о том, что находящаяся поблизости синица готовится его проглотить, что бури и землетрясения, революции и ниспровержения могущественных монархов происходят лишь затем, чтобы предсказать его рождение, жизнь и смерть! Самонадеянность человека в этом отношении ничуть не меньше, и ничуть не менее претенциозны такие, с позволения сказать, науки, как астрология, ауспиции, некромантия, геомантия, хиромантия и прочие гадания.
Оставив без внимания прорицания оракулов языческой античности и религиозные пророчества вообще и сосредоточившись исключительно на тех личностях, которые приобрели наибольшую известность как предсказатели будущего в недавнем прошлом, мы обнаружим, что золотой век этих мошенников приходится на XVI и XVII столетия. Многие из них уже фигурировали на страницах этой книги как алхимики. Сочетание этих двух притязаний вовсе не является удивительным. Как и следовало ожидать, те, кто приписывал себе столь абсурдную способность, как продление человеческой жизни на несколько столетий, одновременно «предсказывали» события, которые должны были ознаменовать этот сверхъестественный период их существования. Люди так же охотно верили в то, что алхимикам-прорицателям ведомы все тайны, как и в то, что они знают одну-единственную. Самые знаменитые астрологи Европы, жившие три столетия назад, были алхимиками. Агриппа, Парацельс, доктор Ди и розенкрейцеры превозносили дар ясновидения, коим они якобы были наделены, ничуть не меньше своего мнимого обладания философским камнем и эликсиром жизни. В то время вера во все чудесное, дьявольское и сверхъестественное была распространена как никогда прежде. Люди верили, что дьявол и звезды постоянно вмешиваются в их дела и что у них можно справляться о будущем, выполняя надлежащие обряды. Меланхоличные и угрюмые персоны прибегали к некромантии и колдовству; более жизнерадостные и возвышенные натуры посвящали себя астрологии. Последняя наука поощрялась всеми монархами и правительствами той эпохи. В Англии расцвет астрологии пришелся на период, начавшийся с царствования Елизаветы и завершившийся правлением Вильгельма III Оранского и Марии II Стюарт. В это время жили доктора Ди, Лэм и Формен, а также Лилли, Букер, Гэдбери, Эванс и множество других шарлатанов, чьи имена история не сохранила и которых можно было встретить во всех крупных городах и деревнях страны. Они зарабатывали на жизнь тем, что составляли гороскопы, указывали местонахождение украденных вещей, предсказывали счастливые и несчастливые браки, сообщали, будут ли путешествия успешными, и указывали благоприятные моменты для начала какого бы то ни было предприятия — от открытия мастерской по починке обуви до выступления армии в поход. Это были люди, которые, если процитировать Батлера,
Deal in Destiny’s dark counsel,
And sage opinion of the moon sell;
To whom all people far and near
On deep importance did repair,
When brass and pewter pots did stray,
And linen slunk out of the way250.
В принадлежащих перу Лилли «Воспоминаниях о жизни и о себе» есть масса заметок о менее известных, нежели он, мошенниках, которых тогда было хоть пруд пруди и о которых он отзывается с величайшим презрением, вызванным не тем, что они были астрологами, а тем, что они унижали это благородное искусство взиманием платы за указание местонахождения украденного имущества. Из батлеровского «Гудибраса», являющегося в какой-то степени историческим документом, можно узнать, что несметное количество подобных субъектов жило за счет людского легковерия в ту эпоху чернокнижия. А как велика репутация нынешних составителей астрологических календарей, прячущихся за коллективным псевдонимом Фрэнсис Мур!
Во времена Карла I и Английской республики251 к астрологам, не колеблясь и ничуть не таясь, обращались самые образованные, знатные и выдающиеся люди. Лилли, которого Батлер обессмертил в своей поэме под именем Сидрофел, пишет, что он намеревался написать труд под названием «Введение в астрологию», в котором хотел убедить все королевство в законности своего ремесла. Он сообщает, что на его стороне были многие солдаты, индепенденты252 и богатые члены палаты общин — его верные друзья, способные защитить его от пресвитериан, которые положили бы конец его предсказаниям, если бы смогли. Позднее он осуществил свой план, и когда его книга была издана, отправился с другим астрологом, Букером, в штаб парламентских войск в Виндзоре, где их радушно приняли и угостили в саду у резиденции генерала Ферфакса. После этого визитеров представили генералу, который встретил их весьма доброжелательно и упомянул о некоторых сделанных ими предсказаниях. Он надеялся, что их искусство законно и не противоречит Священному Писанию, но сам ничего о нем не знал. Он, однако, не сомневался в том, что оба астролога чтят Всевышнего, и был о них хорошего мнения. Лилли заверил его, что искусство астрологии полностью совместимо с Библией, и сообщил, что звезды сулят парламентской армии победу над всеми ее врагами. Этот шарлатан сообщает нам, что при протекторате Оливера253 ему жилось достаточно вольготно. Он стал индепендентом, и все военные были его друзьями. На пути в Шотландию он видел, как один солдат стоял у дороги, держа в руке книгу предсказаний, и кричал проходившим мимо него сослуживцам: «Послушайте! Лилли пишет, что в этом месяце вас ждет победа! Добейтесь же ее, храбрые ребята, и прочтите прогноз на следующий месяц!»
После страшного пожара в Лондоне, который, как пишет Лилли, он предсказал, его вызвали на заседание комитета палаты общин, назначенного для выяснения причин катастрофы. Свою изданную в 1651 году книгу «Монархия или не монархия» он снабдил загадочной вкладной иллюстрацией, на одной стороне которой были изображены одетые в саваны люди, копающие могилы, а на другой — большой город, объятый пламенем. После пожара какой-то премудрый законодатель вспомнил о книге Лилли и поделился своими соображениями с остальными членами комитета, в результате чего было решено послать за астрологом. Когда Лилли появился в зале заседаний, сэр Роберт Брук сообщил ему причину вызова и призвал его рассказать все, что ему известно. Тщеславному Лилли была предоставлена редкая возможность похвастаться своими способностями, и он произнес длинный панегирик себе и своей «науке». Он сказал, что после казни Карла I его чрезвычайно заинтересовала дальнейшая судьба парламента и нации в целом. Это побудило его обратиться к звездам, которые удовлетворили его любопытство. Следуя примеру многих мудрых философов, он облек полученный сигнал в лишенные каких бы то ни было комментариев эмблемы и тайные знаки, понятные только образованным людям и недоступные пониманию простолюдинов.
«Вы знали, в каком году произойдет пожар?» — спросил его один из членов палаты. «Нет, — ответил Лилли, — такие подробности меня не интересовали». Посовещавшись, парламентарии сочли дальнейший допрос астролога пустой тратой времени, и ему со всей возможной любезностью было разрешено удалиться.
Чтобы показать, каким вздором Лилли пудрил людям мозги, достаточно привести здесь его самодовольное толкование одного из предсказаний. «В 1588 году, — пишет он, — появилось одно напечатанное греческими буквами пророчество, со всей определенностью сообщавшее о бедствиях, которые должны были постичь Англию с 1641 по 1660 год». Оно заканчивалось следующими словами: «А после него придут ужасный мертвец и царственный Г благороднейшего рода в мире. Последний станет королем, наставит Англию на путь истинный и искоренит всякую ересь». Лилли объясняет эту бессмыслицу следующим образом:
«Во время появления пророчества имели место убийства монахов, следовательно мертвец — это лорд и генерал Монк254. Царственный Г или C [гамма, будучи третьей буквой греческого алфавита, соответствует в этом смысле букве С латинского алфавита] — это Карл II255, который по своему происхождению может считаться отпрыском благороднейшего рода в мире».
Во Франции и Германии астрологи получили даже бóльшую поддержку, чем в Англии. На заре средневековья Карл Великий и его преемники притесняли их наравне с колдунами. Людовик XI, этот самый суеверный из королей, держал их в большом количестве при дворе, а Екатерина Медичи, эта самая суеверная из королев, едва ли приняла хоть одно важное решение без консультации с ними. Она поощряла главным образом своих соотечественников, и в ее царствование Франция кишела итальянскими колдунами, некромантами и всевозможными предсказателями. Но виднейшим астрологом того времени был, бесспорно, прославленный Нострадамус, врач ее мужа-короля Генриха II. Он родился в 1503 году в прованском городке Сен-Реми, где его отец был нотариусом. По-настоящему он прославился лишь в более чем пятидесятилетнем возрасте, когда его знаменитые «Центурии256» — сборник малопонятных стихотворений — начали привлекать к себе внимание. В 1556 году они получили столь широкую огласку, что Генрих II решил взять столь способного человека к себе в услужение и назначил его своим лейб-медиком257. В биографической справке, предваряющей его «Правдивые центурии», изданные в Амстердаме в 1668 году, сообщается, что он часто беседовал с королем о тайнах будущего и, помимо обычного жалованья за врачебный уход, получал от него в награду много ценных подарков. После смерти Генриха он удалился в родной город, где в 1564 году его посетил Карл IX. Этот монарх столь благоговейно отнесся к его необычайной осведомленности о том, что должно было произойти как во Франции, так и в остальном мире в течение грядущих столетий, что сделал его государственным советником и личным врачом, имевшим массу побочных привилегий. «В общем, — продолжает его биограф, — я был бы чересчур многословен, вздумай перечислить здесь все пожалованные ему регалии и всех выдающихся дворян и ученых из многих стран мира, в разное время нанесших ему визит и разговаривавших с ним так, словно он был жрецом. В сущности, многие чужестранцы приезжали во Францию с единственной целью — проконсультироваться с ним».
Пророчества Нострадамуса — это более тысячи четверостиший, которые столь же невразумительны, как и прорицания оракулов древности. При этом они охватывают настолько большой период времени и поддаются столь широкому толкованию в территориальном смысле, что какие-то из них почти наверняка уже «сбылись» или «сбудутся». Имея немного изобретательности, подобной той, что проявил Лилли в своем отождествлении «ужасного мертвеца» с генералом Монком, можно легко подогнать имевшие место события под некоторые из них258.
Его предсказания и по сей день чрезвычайно популярны во Франции и в валлонской части Бельгии, где пожилые помещичьи жены изучают их с большим доверием и усердием.
Екатерина Медичи была не единственным представителем своего прославленного рода, прибегавшим к услугам астрологов. В начале пятнадцатого века во Флоренции жил человек по имени Базилио, известный во всей Италии предсказатель будущего. Пишут, что он предсказал Козимо Медичи, тогда еще не находившемуся на государственной службе, что тот займет высокий пост, поскольку его гороскоп столь же благоприятен, как и гороскопы Октавиана Августа и императора Карла V259. Другой астролог предсказал смерть принца Алессандро Медичи, причем настолько детально обрисовал ее обстоятельства, что был заподозрен в соучастии в исполнении собственного предсказания для поддержания своей репутации. Он уверенно заявил, что принц умрет от руки своего близкого друга — худощавого, смуглого и крайне неразговорчивого человека. Так впоследствии и случилось: Алессандро был убит в своих покоях собственным двоюродным братом Лоренцо, полностью подходившим под данное описание. Рассказывая эту историю, автор «Hermippus Redivivus» склоняется к мысли, что астролог никак не участвовал в этом преступлении, а был нанят одним из друзей принца Алессандро, дабы предупредить последнего о грозившей ему опасности.
Куда более удивительную историю рассказывают об астрологе Антиохе Тиберте, жившем в Италии в XV столетии260. В то время такие люди были в услужении почти у всех мелких итальянских суверенов, и Тиберт, весьма успешно изучив математику в Париже и сделав множество предсказаний, некоторые из коих, как считали, были достаточно проницательными, стал придворным астрологом Пандольфо Малатесты, правителя Римини. Репутация предсказателя была столь высока, что его рабочий кабинет постоянно заполняли либо знатные визитеры, либо обычные клиенты, приходившие к нему за советом; и за короткий промежуток времени он сколотил приличное состояние. Несмотря на все эти преимущества, он окончил жизнь на виселице. О том, что привело его к столь трагическому финалу, повествует следующая история, на которую не раз с триумфом ссылались другие астрологи, считавшие ее неоспоримым доказательством истинности их науки.
Задолго до своей смерти он произнес три удивительных предсказания: одно относилось к нему самому, другое — к его другу, а третье — к его патрону Пандольфо Малатесте. Первым свою судьбу узнал Гвидо Боньи, один из величайших полководцев того времени. Его желание заглянуть в собственное будущее было столь велико, что Тиберт, будучи не в силах отказать другу, справился на сей предмет у звезд и линий его ладони. Узнав ответ, он, помрачнев, сказал Гвидо, что, согласно всем правилам астрологии и хиромантии, его лучший друг несправедливо заподозрит его в совершении преступления, в результате чего он лишится жизни. Тогда Гвидо спросил астролога, может ли тот предсказать свой собственный удел, после чего Тиберт вновь проконсультировался со звездами и узнал, что ему на роду написано окончить жизнь на виселице. Малатеста, прослышав об этих предсказаниях, казавшихся исключительно неправдоподобными при тогдашнем положении дел, велел астрологу сообщить и его судьбу и ничего не утаивать, каким бы неприятным ни был прогноз. Тиберт подчинился и поведал своему покровителю, в то время одному из самых процветающих и могущественных монархов Италии, что тот испытает крайнюю нужду и в итоге умрет, как последний нищий, в болонской больнице для простолюдинов. Все три предсказания сбылись. Гвидо Боньи был обвинен собственным тестем графом Бентивольо в изменническом намерении сдать город Римини папским войскам и был впоследствии предательски убит по приказу тирана Малатесты, сидя за ужином, на который был приглашен со всем возможным радушием. В то же самое время астролог был брошен в тюрьму как пособник своего друга-изменника. Он пытался бежать, и ему удалось спуститься из окна тюремной камеры в ров с водой, где его обнаружили часовые. Об этом сообщили Малатесте, и он приказал казнить астролога на следующее утро.
К тому времени Малатеста забыл о последнем предсказании и ничуть не беспокоился о собственной судьбе, но, как оказалось, напрасно. Заговор с целью сдачи Римини папской армии действительно имел место, но Гвидо Боньи был к нему непричастен; и после того, как были приняты все необходимые меры для его успешного осуществления, город был захвачен графом де Валантинуа. Посреди всеобщей неразберихи переодетый Малатеста едва успел бежать из дворца. Его повсюду преследовали враги, от него отвернулись все бывшие друзья, а под конец и собственные дети. В конце концов он, находясь в Болонье, тяжело заболел. Поскольку никто не изъявил желания приютить его под своей крышей, он был доставлен в больницу, где и умер. Единственным обстоятельством, умаляющим интерес к этой необычайной истории, является тот факт, что она получила хождение уже после описанных событий.
За несколько недель до рождения Людовика XIV в королевском дворце поселился один астролог из Германии, прибывший по приглашению маршала де Бассомпьера и других придворных вельмож. Он должен был составить гороскоп будущего правителя Франции сразу же после его рождения. Когда у королевы принимали роды, он находился в соседней комнате и ждал сообщения о появлении ребенка на свет. Результатом его наблюдений явились три слова — diu, dure, feliciter261, означавшие, что новорожденный принц будет жить и править долго, принесет стране большую пользу и окружит себя ореолом славы. От астролога, который был вынужден зарабатывать себе на хлеб насущный и в то же время был придворным, нельзя было ожидать менее благоприятного прогноза. В ознаменование этого события была выбита медаль, на одной стороне которой был изображен принц, правящий колесницей Аполлона, и имелась надпись «Ortus solis Gallici» — «Восход галльского солнца».
Наилучшее оправдание существованию астрологии предложил великий астроном Кеплер, занимавшийся ею поневоле. Друзья часто обращались к нему с просьбой составить им гороскоп, на что он, как правило, отвечал категорическим отказом. Если же он боялся оскорбить просителя таким ответом, отражавшим его истинное отношение к этому занятию, он приспосабливался к господствовавшему заблуждению. В сопроводительном письме к экземпляру своих «Эфемерид»262, отправленному профессору Герлаху, он писал, что гороскопы являются не чем иным, как беспочвенными догадками, которыми он занимается лишь затем, чтобы не умереть с голоду. «Вы, премудрые философы, — восклицает он в своем сочинении «Tertius Interveniens», — осуждаете сию дочь астрономии без оглядки на ее достоинства! Разве вы не знаете, что ее долг — поддерживать мать своими чарами? Если бы люди не питали надежду на прочтение будущего в небесах, скудные доходы астрономов обрекли бы их на голодную смерть».
НЕКРОМАНТИЯ стала второй лженаукой после астрологии по количеству приверженцев, стремившихся заглянуть в будущее. Первым письменным упоминанием о ней является история об Аэндорской волшебнице и духе Самуила263. Почти все народы Древнего мира верили, что можно вызывать души умерших и узнавать у них страшные тайны, которые Бог открыл бестелесным. Ссылки на это занятие можно встретить во многих классических произведениях, но никогда и нигде оно не практиковалось открыто. Все без исключения правители считали его гнусным преступлением. В то время как астрология поощрялась, а те, кто ею занимался, были популярными и преуспевающими персонами, некромантов повсеместно приговаривали к сожжению на костре или повешению. На протяжении многих столетий люди обвиняли в этом грехе Роджера Бэкона, Альберта Великого, Арнальдо де Виланову и многих других. Склонность к ложным обвинениям такого рода всегда была настолько глубоко укоренившейся в людском сознании, что ни от одного преступления не было так тяжело откреститься, как от этого. Тем не менее некромантия процветала, о чем свидетельствует огромное число тех, кто приписывал себе владение ею и существовал, невзирая на опасность, во все времена и во всех странах.
ГЕОМАНТИЯ, или искусство предсказания будущего по линиям, кругам и другим геометрическим фигурам, начерченным на земле, все еще широко практикуется в азиатских странах, но почти неизвестно в Европе.
АУСПИЦИИ, или толкования воли богов по полету или внутренностям птиц264, к которым часто прибегали в Древнем Риме, в Европе себя изжили. В наши дни ими усерднее остальных занимаются страшные индийские тхуги265.
ГАДАНИЕ (ПРЕДСКАЗАНИЕ СУДЬБЫ), разновидностей которого великое множество, имеет более солидную репутацию. Оно будоражило умы с глубокой древности и, по всей вероятности, зародилось еще среди первобытных людей. К нему прибегали древние иудеи, египтяне, халдеи, персы, греки и римляне; оно известно и всем народам современного мира, не исключая племен дикарей, обитающих в дебрях Африки и Америки. В наше время в цивилизованной Европе чаще всего гадают на картах, на кофейной гуще и по линиям на ладонях. Профессионально этим занимаются только цыганки, однако есть тысячи, если не десятки тысяч, небогатых семей, в которых жена, а иногда и муж обращают взоры на оставшуюся у них в чашках кофейную гущу, чтобы узнать, будет ли следующий урожай обильным или принесет ли их свинья много поросят; в которых молодые девушки делают то же самое, чтобы узнать, когда им суждено выйти замуж и будет ли их избранник темноволосым или белокурым, богатым или бедным, добрым или злым. Гадание на картах, столь распространенное в наши дни, — наука относительно новая, потому что карты появились лишь немногим более четырехсот лет назад. Гадание по ладони, в которое непоколебимо верит половина деревенских девушек Европы, возникло гораздо раньше: оно, по-видимому, было известно египтянам во времена библейских патриархов, равно как и гадание на кофейной гуще, которым, как сообщается в Книге Бытия, занимался Иосиф. В ходу у древних египтян было и гадание по лозе. В сравнительно недавние времена утверждали, что таким образом можно находить спрятанные сокровища. Похоже, что в Европе оно полностью себя изжило. Более современной, но имеющей сравнительно малое число приверженцев разновидностью гадания является ономантия, или предсказание судьбы человека по буквам, входящим в состав его имени, и по их возможным перестановкам.
Голь приводит в своем «Маге-астрологе» следующий перечень разновидностей гадания, воспроизведенный в «Ежегоднике» Хоуна на странице 1517:
Стереомантия, или гадание по погоде.
Акромантия, или гадание по воздуху.
Пиромантия — по огню.
Гидромантия — по воде.
Геомантия — по земле.
Теомантия — по богооткровению (прозрение) и Священному Писанию (слову Господню).
Демономантия — с помощью дьявола и злых духов.
Идоломантия — по идолам (изваяниям и изображениям).
Психомантия — по эмоциям, привязанностям и склонностям людей.
Антропомантия — по человеческим внутренностям.
Териомантия — по внутренностям животных.
Орнитомантия — по полету и крику птиц.
Ихтиомантия — по внутренностям рыб.
Ботаномантия — по растениям.
Литомантия — по камням.
Клеромантия — по жребиям.
Онейромантия — по сновидениям.
Ономантия — по именам.
Арифмантия — по числам.
Логарифмантия — по логарифмам.
Стерномантия — по отметинам на теле от груди до живота.
Гастромантия — по урчанию в животе или по отметинам на нем.
Омфаломантия — по пупку.
Хиромантия — по ладоням.
Подомантия — по ступням.
Онхиомантия — по ногтям.
Цефалеономантия — по ослиной голове.
Тефромантия — по пеплу.
Капномантия — по дыму.
Ниссомантия — по курению фимиама.
Церомантия — по растопленному воску.
Леканомантия — по миске с водой.
Катоптромантия — по зеркалу.
Хартомантия — по почерку и по письмам, посылаемым в День св. Валентина.
Махаромантия — по ножам и холодному оружию.
Кристалломантия — с помощью «магического кристалла».
Дактиломантия — по перстням.
Коскиномантия — с помощью сита.
Аксиномантия — с помощью пилы.
Халкомантия — по сосудам из меди или другого металла.
Спатиломантия — по коже, костям и т.п.
Астромантия — по звездам.
Сиомантия — по теням.
Астрагаломантия — по игральным костям.
Ойномантия — по осадку в вине.
Сикомантия — по инжиру.
Тиромантия — по сыру.
Алфитомантия — по муке, пудре или отрубям.
Критомантия — по кукурузным или пшеничным зернам.
Алектромантия — по петушиному крику.
Гиромантия — по ободку вокруг Луны.
Лампадомантия — по свечам и лампам.
ОНЕЙРОКРИТИЦИЗМ, или искусство толкования снов, является наследием древнейших времен, пережившим все изменения, которым подвергался мир в результате духовных и социальных революций. До нас дошли многочисленные письменные свидетельства того, что и пять тысяч лет назад люди верили, что посвященные могут узнавать будущее из сновидений. Правила этого искусства, если таковые и существовали в древности, нам неизвестны, однако в наши дни достаточно знать одно простое правило. Сны, гласят все мудрецы христианского мира, нужно толковать в обратном смысле. К примеру, если вам снятся отбросы, то вы приобретете нечто ценное; если снятся мертвецы, следует ждать новостей о живых; если снятся золото и серебро, есть риск лишиться и того и другого; если вам снится, что у вас много друзей, вас будет преследовать множество врагов. Тем не менее данное правило имеет исключения. Так, если снятся поросята, то это к счастью, а если бычки — к несчастью. Если вам снится, что вы лишились зуба, можете быть уверены, что вскоре потеряете друга, а если вам снится, что ваш дом горит, вас ждут новости издалека.
Снятся насекомые-паразиты — жди болезни в семье, снятся змеи — заимеешь друзей, которые со временем станут твоими злейшими врагами. Нет благоприятнее сна, чем тот, в котором ты увяз по горло в трясине. Чистая вода предвещает беду; большие неприятности, страдания и замешательство ожидают того, кому снится, что он стоит голым на улице и не знает, где взять одежду, дабы спрятать свою наготу от взглядов прохожих.
Во многих сельских районах Великобритании, континентальной Европы и Америки есть пожилые женщины — толковательницы снов, авторитет которых не уступает авторитету оракулов древности. В селениях, удаленных от городов, нередко можно встретить семьи, члены которых каждое утро за завтраком пересказывают друг другу сны, увиденные за ночь, и в зависимости от их истолкования решают, будет наступивший день удачным или нет. Для таких людей каждый увиденный во сне распускающийся цветок или созревающий плод является предвестником либо счастья, либо несчастья. Подобным же образом на судьбу человека влияет любое увиденное во сне дерево, растущее в поле или в лесу. Приснившийся ясень знаменует длительное путешествие, а дуб — долгую жизнь и процветание. Сон, в котором человек, его видевший, содрал кору с дерева, сообщает девственнице о скорой потере невинности, замужней женщине — о смерти одного из членов семьи, а мужчине — о пополнении богатства. Приснившееся дерево без листвы предвещает великую скорбь, а дерево без ветвей — отчаяние и самоубийство. Для спящего благоприятна бузина, и еще более благоприятна ель, сулящая всяческое утешение и преуспеяние. Липа означает плавание через океан, тогда как тис и ольха предвещают болезнь молодым и смерть старикам266. Пользуясь авторитетными источниками, я составил нижеследующий перечень наиболее важных цветов и плодов, несущих в себе послания о будущем.
Спаржа, собранная и связанная в пучки, является предзнаменованием слез; если же спящий видит, как она растет, то это добрый знак.
Алоэ без цветка предвещает долгую жизнь, в цвету означает получение наследства.
Артишок. Данный овощ означает, что в скором времени вам окажут помощь те, от кого ее менее всего можно ожидать.
Репейник. Эта лекарственная трава указывает на то, что в ваш дом придет болезнь.
Анемон предвещает любовь.
Аврикула на постели означает счастье, в цветочном горшке — свадьбу, а в процессе сбора — вдовство.
Черника сулит приятную поездку.
Ракитник обещает пополнение в семье.
Цветная капуста означает, что ваши друзья перестанут вас уважать или что вы обеднеете и никто не сжалится над вами.
Щавель указывает на подарок из сельской местности.
Бледно-желтый нарцисс. Девушку, которой снятся бледно-желтые нарциссы, ее ангел-хранитель предупреждает о том, чтобы она не ходила со своим возлюбленным в лес или в любое темное или отдаленное место, где ее крики о помощи могут не услышать. Если она не внемлет этому предостережению, пусть пеняет на себя!
Never again shall she put garland on;
Instead of it she’ll wear sad cypress now,
And bitter elder broken from the bough267.
Инжир. Свежий предвещает обремененность долгами, сушеный — деньги бедным и веселье богатым.
Анютины глазки сулят сердечную боль.
Лилия предвещает радость, водяная лилия — опасность со стороны моря.
Лимон обещает разлуку.
Гранат обещает счастливое супружество тем, кто не состоит в браке, и примирение тем, кто в нем состоит и находится в ссоре со своей половиной.
Айва сулит приятную компанию.
Роза указывает на счастливую любовь, которую ожидают испытания извне.
Щавель. Присутствие в сновидении этой травы указывает на то, что вам вскоре представится случай использовать все свое благоразумие, чтобы превозмочь большое горе.
Подсолнух сообщает, что ваша гордость будет глубоко уязвлена.
Фиалка предвещает несчастье не состоящим в браке и радость супругам.
Желтые цветы любого вида предвещают ревность.
Ягоды тиса сулят обоим полам утрату доброго имени.
Необходимо отметить, что правила толкования снов далеки от универсальности. Щеки английской деревенской девушки, которой приснилась роза, пылают от удовольствия, в то время как paysanne268 из Нормандии по той же причине опасается разочарования и душевных мук. Швейцарец, которому приснился дуб, не разделяет радости англичанина, ибо полагает, что сновидение предупредило его о том, что из-за какого-нибудь пустяка он попадет в беду, с которой не сможет справиться. Так невежды и легковерные мучают сами себя, так они притягивают к себе неприятности и коротают дни между надеждами, которым грош цена, и страхами, которые — суть несомненное зло.
ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ. Среди прочих средств причинения себе дополнительного беспокойства, принятых человечеством на вооружение в тщетной надежде узнать будущее, особое место занимают приметы и предзнаменования. Вряд ли есть хоть одно явление природы, которое, происходя в определенное время, не рассматривается некоторыми людьми как знамение либо добра, либо зла. Последних подавляющее большинство — настолько изобретательнее мы в самоистязании, нежели в нахождении причин радоваться вещам, что нас окружают. Мы сами усложняем себе жизнь, как будто нам мало уже имеющихся трудностей, и придумываем себе новые страхи, которые никогда не существовали бы сами по себе. «От разной чепухи, — пишет Аддисон269, — мы страдаем как от реальных зол. Я помню, как один метеор нарушил ночной покой людей и как один влюбленный побледнел и потерял аппетит, вытащив при разделке птицы грудную кость. Одну семью замеченная в полночь сова тревожила больше, чем банда грабителей, а стрекотание сверчка страшило сильнее львиного рева. Нет мелочи, неспособной напугать тех, чье воображение распалено приметами и предзнаменованиями. Ржавый гвоздь или погнутая булавка становится для них целым событием».
Сто двадцать пять лет, минувшие со времени написания Аддисоном данной статьи, высветили ложность многих представлений. С той поры было безжалостно развенчано множество ошибок и заблуждений, но вздорные и пугающие суеверия живы и поныне. В предзнаменования верят не только бедняки и необразованные. Известно, что один генерал, с успехом командовавший армией, испугался «воскового савана»270, а ученые мужи, по праву удостоенные высочайших литературных почестей, скликали своих детей, опасаясь похищения одного из них, потому что, «когда глухая ночь на землю спустилась и сон глубокий людям веки смежил», собака на улице выла на луну. Люди, открыто соглашающиеся с тем, что вера в предзнаменования недостойна здравомыслящего человека, в то же время признают, что они, несмотря на все свое здравомыслие, не в состоянии побороть страх смерти, заслышав похожий на тиканье звук, издаваемый жуком-древогрызом, или увидев вылетевший из огня продолговатый полый уголек.
Помимо вышеупомянутых дурных предзнаменований, пугающих малообразованных и безвольных, существует множество других. Когда таких людей охватывает внезапная дрожь, они верят, что в этот момент их враг топчется на том месте, которое однажды станет их могилой. Встретив поутру свинью за пределами дома, они считают день испорченным. Встреча с ослом также считается несчастливой. Кроме того, ни в коем случае нельзя проходить под лестницей, забывать съесть гуся в праздник св. Михаила, наступать на жука и есть два ореха, найденные в одной скорлупе. Горе тому, кто нечаянно опрокинул солонку: каждая просыпанная крупинка принесет ему день невзгод. Если за столом сидят тринадцать человек, то один из них умрет в том же году, а остальные будут несчастны. Из всех дурных примет эта — самая худшая. Остроумный доктор Китченер не раз говорил, что лишь в одном случае тринадцати едокам действительно не следует садиться за один стол — если еды хватает только на двенадцать человек. К сожалению, подавляющее большинство людей игнорирует сие мудрое воззрение. Это суеверие господствует почти во всех европейских странах, и некоторые особы заходят в нем настолько далеко, что полагают число тринадцать предвестием несчастья в любой ситуации, и если они обнаруживают в кошельке тринадцать монет, то выбрасывают лишнюю как нечто оскверненное. Философски относящийся к жизни Беранже271 в своей изящной песенке «Тринадцать за столом» дает поэтическое описание этого унизительного суеверия и по своему обыкновению сопровождает повествование мудрым наставлением. Герой песенки, сидящий за обеденным столом, опрокидывает солонку и, обведя взглядом комнату, обнаруживает, что он тринадцатый гость. Ему, оплакивающему свой незавидный удел и вызывающему в воображении картины болезни, страданий и похорон, неожиданно является сама Смерть, которая имеет обличье не зловещего скелета с косой, но ангела света, и дает понять, что глупо страшиться ее приближения, ибо она скорее друг человеку, нежели враг, и освобождает его душу от уз, связывающих ее с бренной плотью.
Если бы люди смогли посмотреть на смерть с этой точки зрения и вели полноценную и безмятежную жизнь вплоть до ее неизбежного прихода, скольких мучительных переживаний они бы избежали!
Что касается добрых предзнаменований, то одним из наиболее удачных считается встреча с пегой лошадью. Встреча с двумя этими животными сулит еще бóльшую удачу; если же при этом вы трижды сплюнете и загадаете любое благоразумное желание, оно сбудется в течение трех дней. Вам повезет и в том случае, если вы случайно оденете чулок наизнанку. Если же вам нравится носить чулки именно так и вы выворачиваете их намеренно, это не поможет вам снискать благосклонность фортуны. Очень хорошим знаком считается чихнуть дважды, но если вы чихнете в третий раз, предзнаменование утратит силу и ваше везение будет уничтожено в зародыше. Если за вами увязалась незнакомая собака, которая норовит вам понравиться и хочет с вами остаться, это предвещает нешуточное процветание. Столь же благоприятным считается появление в вашем доме незнакомого кота, демонстрирующего дружелюбие в отношении вашей семьи. Если же это кошка, то вас, напротив, ждет очень большая беда. Если в ваш сад залетел пчелиный рой, вас ожидают высокие почести и великие радости.
Помимо данных экскурсов в будущее, вы можете кое-что узнать о своей судьбе, обращая пристальное внимание на зуд различных участков тела. Так, если чешется глаз или нос, то вскоре вы будете сердиться; чешется ступня — ступите на чужую землю; чешется локоть — будете делить ложе с другим человеком. Зуд в правой руке означает, что вскоре вы получите некую сумму денег, а зуд в левой указывает на то, что вам придется ее потратить.
Это лишь несколько предзнаменований, в которые верят в современной Европе. Полный их перечень утомил бы читателя своей длиной и вывел бы его из себя своей нелепостью. Еще более неблагодарным занятием стала бы попытка перечислить здесь различные заблуждения того же рода, распространенные на Востоке. Любой читатель вспомнит о всеобъемлющей формуле проклятия, приведенной в «Тристраме Шэнди», в которую, похоже, входят все известные и могущие быть придуманными ругательства. Система восточных предзнаменований не менее всеобъемлюща. Каждое телодвижение и всякая эмоция в определенное время являются предзнаменованиями. Любое явление и объект природы, даже форма облаков и изменения погоды, все цвета и звуки как атрибуты людей, животных, птиц, насекомых и неодушевленных предметов — суть предзнаменования. Ничто не является слишком незначительным или недостойным внимания, чтобы вызвать надежду, которую не стоит лелеять, или страх, достаточный, чтобы отравить человеку жизнь.
Вера в предзнаменования породила суеверие, которое исстари устанавливает определенные дни в году как наиболее удобные для проникновения в тайны будущего. Следующая дословная выдержка из популярной «Книги для толкования снов и предзнаменований» матушки Бриджет обрисует представления в данной области, бытующие среди англичан в настоящее время. Те, кого интересует их древняя история, найдут исчерпывающие сведения по этому вопросу в «Ежедневнике».
«1 января. Если молодая девушка ляжет в постель и выпьет пинту272 холодной ключевой воды, к которой подмешано снадобье из желтка яйца курицы-молодки, ножек паука и истолченной чешуи угря, то она узнает во сне свою судьбу. В любой другой день этот рецепт бесполезен.
День св. Валентина. Пусть незамужняя женщина встанет в этот день очень рано и выйдет из дома. Если первым человеком, которого она встретит, окажется женщина, то в этом году она не выйдет замуж; если же это будет мужчина, она выйдет замуж в течение трех месяцев.
Благовещение. В этот день можно со стопроцентной гарантией успеха воспользоваться следующим предписанием. Нанизайте тридцать один орех на веревочку, сплетенную из красной шерсти для рукоделия и синего шелка, и после того как ляжете в постель, повяжите ее вокруг шеи, повторяя следующие строки:
Oh, I wish! oh, I wish to see
Who my true love is to be273.
Вскоре после полуночи вы увидите своего возлюбленного во сне и одновременно узнаете о всех главных событиях вашей будущей жизни.
Канун дня св. Свитина. Выберите три относящихся к будущему вопроса, ответы на которые более всего хотите получить; напишите их новым пером, обмакнутым в красные чернила, на листе тонкой веленевой бумаги, от которого нужно предварительно отрезать все четыре угла и сжечь их. Завяжите бумагу в двойной узел и обмотайте ее тремя волосами с вашей головы. Держите бумагу под подушкой три ночи подряд, и ваше любопытство будет удовлетворено.
Канун дня св. Марка. Когда часы пробьют полночь, отправляйтесь на ближайшее церковное кладбище и сорвите с могилы, находящейся к югу от церкви, три пучка травы (чем длиннее и гуще, тем лучше) и после того, как ляжете в постель, положите их под подушку, трижды страстно повторив следующее:
The Eve of St. Mark by prediction is blest,
Set therefore my hopes and my fears all to rest:
Let me know my fate, whether weal or woe;
Whether my rank’s to be high or low;
Whether to live single, or be a bride,
And the destiny my star doth provide274.
Если в эту ночь вы не увидите снов, будете одинокой и несчастной всю оставшуюся жизнь. Если вам приснятся гром и молния, вас в жизни ожидают большие неприятности и страдания.
Канун Сретения Господня. Пусть в эту ночь (ночь очищения Девы Марии) три, пять, семь или девять молодых девушек соберутся в прямоугольной комнате. Повесьте в каждом углу пучок душистых трав, смешанных с рутой и розмарином. Затем замесите пирог из муки, оливкового масла и сахара; при этом все девушки поровну делят между собой затраты на ингредиенты и на равных участвуют в приготовлении пирога. После этого его нужно разрезать на равные части, и каждая девушка, отрезав свой кусок, должна пометить его собственными инициалами. Разрезанный пирог следует выпекать один час, соблюдая при этом полное молчание и сидя, скрестив руки на груди и положив ногу на ногу. Далее каждый кусок пирога нужно завернуть в лист бумаги, на котором каждая девушка должна написать фрагмент Песни песней. Положив его под подушку, она во сне узнает правду. Она увидит своего будущего мужа и всех своих детей и узнает, будет ли ее семья бедной или преуспевающей и будет ли ее жизнь безмятежной или нет.
Иванов день. Возьмите три розы, окурите их серой и ровно в три часа пополудни закопайте одну из них под тисом, вторую положите в свежую могилу, а третью храните у себя под подушкой три ночи, после чего сожгите ее на древесном угле. Из снов, которые вы увидите в эти три ночи, вы узнаете свою дальнейшую судьбу. При этом, пишет матушка Бриджет, еще более любопытно и ценно то обстоятельство, что мужчина, женой которого вам суждено стать, не найдет себе покоя, пока не нанесет вам визит. Мало того, вы будете постоянно ему сниться.
Канун дня св. Иоанна. Сделайте новую подушечку для иголок и булавок из самого лучшего черного бархата (менее качественный материал не годится) и на одной ее стороне выколите ваше имя полностью с помощью самых маленьких булавок, какие только есть в продаже (никакие другие не подходят). Пользуясь очень крупными булавками, выполните на другой стороне крест и заключите его в окружность. Сняв на ночь чулки, положите подушечку в один из них и повесьте его в ногах кровати. Во сне вы узнаете все о вашей дальнейшей жизни.
Первое новолуние года. В первое новолуние года возьмите пинту чистой родниковой воды, положите туда три миндальных ореха, очищенных до белой мякоти, и влейте туда белок яйца, отложенного белой курицей, стакан белого вина и одну столовую ложку белой розовой воды. Выпейте это после того, как ляжете в постель, сделав не более и не менее трех глотков, и трижды внятно, но не настолько громко, чтобы вас кто-нибудь нечаянно услышал, произнесите следующее стихотворение:
If I dream of water pure
Before the coming morn,
“Tis a sign I shall be poor,
And unto wealth not born.
If I dream of tasting beer,
Middling then will be my cheer —
Chequer’d with the good and bad,
Sometimes joyful, sometimes sad;
But should I dream of drinking wine,
Wealth and pleasure will be mine.
The stronger the drink, the better the cheer —
Dreams of my destiny, appear, appear!275
Двадцать девятое февраля. Поскольку этот день бывает раз в четыре года, он особенно благоприятен для тех, кто желает заглянуть в будущее, особенно для молодых девушек, которым не терпится узнать, как выглядят их будущие мужья. Для этого необходимо сделать следущее. Воткните двадцать семь самых маленьких из имеющихся в продаже булавок в сальную свечу, по три за один раз. Зажгите ее с той стороны, которая для этого не предназначена, и вставьте в подсвечник, сделанный из глины, извлеченной из могилы девственницы. Ровно в полночь поставьте его на левый край каминной доски и сразу же ложитесь в постель. Когда свеча догорит, возьмите булавки и положите их в вашу левую туфлю; и прежде чем пройдет девять ночей, вы узнаете свою судьбу».
В этой главе мы вкратце рассмотрели различные способы предсказания будущего, отдав предпочтение практикуемым в нынешние времена. Главные отличительные черты данного недомыслия в основном одинаковы во всех странах, а расхождения в толкованиях обусловлены особенностями национального характера. Так, горец наделяет пророческими свойствами те явления природы, которые он чаще всего наблюдает, а житель равнин стремится узнать свою судьбу среди атрибутов привычной ему местности и окрашивает свое суеверие красками родного края. Их всех вдохновляет один и тот же порыв — страстное желание узнать то, что по безграничной милости Божьей нам неведомо. Маловероятно, что присущая человеку любознательность в этом вопросе будет когда-либо полностью искоренена. Смерть и несчастье — извечные жупелы малодушных, неверующих и невежественных; и пока такие люди будут, проповеди богословов о безбожии и разглагольствования философов о вздорности их устремлений на них не подействуют. Однако очевидно, что масштаб этих безрассудств уже явно не тот. Предсказатели и пророки утратили былой авторитет; и если раньше они заявляли о себе во всеуслышанье, то в наше время предпочитают держаться в тени. Жизнь вносит свои коррективы, и пока только к лучшему.
Магнетизеры276
Some deemed them wondrous wise,
And some believed them mad.
— Beattie’s Minstrel277.
Удивительная действенность внушения при лечении болезней хорошо известна. Движение руки или взгляд способны довести ослабленного и доверчивого пациента до припадка, а пилюля, сделанная из хлебного мякиша и принятая больным, уверовавшим в ее целебную силу, может оказаться эффективнее всех фармацевтических средств. В 1625 году при осаде Бреды принц Оранский, подговорив докторов, вылечил всех своих солдат, которым грозила смерть от цинги, путем знахарства, когда все прочие средства оказались бессильны278. Можно привести сотни подобных примеров, особенно из истории колдовства. Нелепые ритуалы, странная жестикуляция и варварский жаргон ведьм и колдунов, пугавшие легковерных и нервных женщин, вызывали у них все симптомы истерии и других похожих заболеваний, которые столь хорошо изучены в наши дни, но в то время рассматривались как козни дьявола не только больными и публикой, но и самими целителями.
В тот период, когда алхимия начала сдавать свои позиции под натиском научных воззрений, внезапно появилось новое заблуждение, основанное на непонимании или недооценке силы внушения и нашедшее поборников в лице алхимиков. Большое их количество, оставив былые устремления, заделалось магнетизерами. Сперва появилось учение о минеральном, а затем о животном магнетизме. Последнее в ходу и поныне и насчитывает тысячи наивных сторонников.
Приверженцы минерального магнетизма заслуживают внимания прежде всего как достойные предшественники сегодняшних шарлатанов. Утверждение, что Парацельс был первым розенкрейцером, спорно, но вряд ли можно отрицать, что он был первым магнетизером. Из главы об алхимии читатель узнал, что он, как и почти все выдающиеся адепты, был медиком и претендовал не только на златоделание и обладание эликсиром бессмертия, но и на способность излечивать от всех болезней. Он был первым, кто с этой целью приписывал таинственные и чудодейственные свойства магниту. Будучи, по-видимому, искренне убежденным в том, что магнит — это философский камень, который если и не способен превращать неблагородные металлы в золото и серебро, то может облегчать людские страдания и останавливать старение, он много лет путешествовал по Персии и Аравии в поисках железной горы, воспетой в восточных легендах. Когда он был врачом в Базеле, он называл одно из своих лекарств «азот», имея в виду камень или кристалл, который, как он утверждал, обладает магнитными свойствами и лечит от эпилепсии, истерии и спазматических заболеваний. У него вскоре появились подражатели. Молва о нем разнеслась повсюду, и так были посеяны первые семена иллюзии, которая с тех пор укоренилась и расцвела столь широко. Что бы там ни заявляли нынешние магнетизеры, начало магнетизму было положено именно тогда, ибо мы обнаруживаем, что начиная с Парацельса существовала непрерывная череда приверженцев минерального магнетизма вплоть до появления Месмера, придавшего данному заблуждению новые атрибуты.
Парацельс хвалился способностью пересаживать болезни из человеческого тела в землю посредством магнита. Он писал, что это можно сделать шестью способами. Вполне достаточно привести в качестве примера один из них. «Ежели кто-либо от местного иль общего недуга страдает, пусть попробует следующее средство. Возьми магнитного порошку, пропитанного мумом279 и смешанного с хорошо просеянной плодородной почвой. Заполни сей смесью глиняную посудину, посади туда несколько семян, сообразных иль однородных с твоей болезнью, и ежедневно поливай их лосьоном, в коем был омыт хворый член иль все тело. Так болезнь будет пересаживаться из человеческого тела в семена, находящиеся в почве. Когда лосьон подойдет к концу, пересади семена из глиняной посудины в землю и жди их прорастания. По мере роста побегов болезнь будет ослабевать, а когда они перестанут расти, исчезнет совсем».
Иезуит Кирхер, противопоставивший себя алхимикам разоблачением множества их обманов, твердо верил в целебные свойства магнита. Когда к нему обратился пациент, страдавший грыжей, он велел этому человеку проглотить небольшой магнит, истолченный в порошок, а сам в это время приложил снаружи к опухоли припарку из железных опилок. Он рассчитывал, что таким образом магнит, достигнув соответствующего участка внутри тела, втянет опилки внутрь и притянет их к себе вместе с опухолью, за счет чего она быстро и благополучно рассосется.
По мере распространения магнетической доктрины ее сторонники пришли к выводу, что раны, нанесенные любым металлическим предметом, можно лечить магнитом. С течением времени эта иллюзия приняла такие масштабы, что для залечивания любой раны, которая в принципе могла бы быть нанесена шпагой, не имеющей к ней никакого отношения, считалось достаточным намагнитить эту шпагу! Так появился пресловутый «оружейный бальзам», наделавший много шума примерно в середине XVII века. Парацельс дал следующий рецепт лечения любых ран, нанесенных холодным оружием, кроме затрагивающих сердце, головной мозг или артерии: «Возьми унцию мха, растущего на голове повешенного и оставленного висеть вора, унцию настоящего мума, унцию все еще теплой человечьей крови, унцию человечьего околопочечного жира и по две драхмы280 льняного масла, скипидара и армянской железистой известковой глины. Все это хорошенько перемешай в ступе и храни полученный бальзам в узкой продолговатой урне». Этим бальзамом надлежало тщательно смазать оружие, предварительно погруженное в кровь, собранную из раны. Смазанное таким образом оружие следовало отложить в прохладное место. Рану между тем следовало надлежащим образом промыть свежей чистой водой, забинтовать чистым и мягким льняным лоскутом и разбинтовывать один раз в день для очистки от гноя. В эффективности такого лечения, пишет автор статьи о животном магнетизме, помещенной в двенадцатый том «Зарубежного квартального обозрения», не может быть ни малейших сомнений, «ибо в наши дни хирурги следуют тому же самому методу, за исключением смазки оружия!»
Об оружейном бальзаме продолжали много говорить на Европейском материке, и появилось множество полных энтузиазма претендентов на лавры его изобретателя. Доктор Фладд, или Флуктибский, розенкрейцер, упомянутый в одной из предыдущих глав этой книги, весьма рьяно внедрял его в Англии. В ряде случаев ему это с успехом удалось, что неудивительно, поскольку, воодушевляя своих пациентов восхвалением действенности бальзама, он никогда не пренебрегал такими обычными, но гораздо более важными процедурами, как промывание, наложение повязки и пр., которыми благополучно обходились все предшествующие поколения. Кроме того, Фладд утверждал, что при правильном применении магнит является лекарством от всех болезней, но, поскольку человек, как и Земля, имеет северный и южный полюса, магнетизм может иметь место лишь тогда, когда его тело, подобно магнитной стрелке, сориентировано на север! В разгар его популярности он и его любимое лекарство подверглись яростной критике, что, однако, почти не умалило веру в эффективность последнего. Некий «пастор Фостер» сочинил памфлет, озаглавленный «Hyplocrisma Spongus, или Губка для стирания оружейного бальзама», в котором утверждал, что использование или рекомендация к использованию такой мази — такие же скверные деяния, как и черная магия, потому что эта мазь придумана дьяволом, который в день Страшного суда завладеет каждым, кто ею пользовался или хоть как-то ее использование поощрял. «На самом деле, — писал пастор Фостер, — сам сатана дал ее Парацельсу, Парацельс — императору, император — придворному, придворный — Баптисте Порте, а Баптиста Порта — все еще живущему и практикующему в славном городе Лондоне доктору медицины Фладду, который сегодня стоит за нее не на жизнь, а на смерть». Атакованный таким образом Фладд взялся за перо и написал ответное защитительное сочинение под названием «Выжимание губки пастора Фостера, где выявлена наглость сего стирателя по отношению к своим собратьям, с помощью едкого уксуса правды вскрыта полная несостоятельность его злобных клеветнических выпадов и, наконец, подавлена и полностью уничтожена пригодность его губки для стирания оружейного бальзама».
Вскоре после данного диспута у оружейного бальзама появился более именитый сторонник в лице сэра Кенелма Дигби, сына сэра Эверарда Дигби, казненного за участие в Пороховом заговоре281. Этот джентльмен, который в целом был хорошо образованным и талантливым человеком, разделял все нелепые воззрения алхимиков. Он верил в философский камень и хотел вовлечь Декарта в поиски эликсира бессмертия или средства неограниченного продления жизни. Следуя рецепту, приписываемому Арнальдо де Виланове, он угостил свою жену, прелестную Венетию Анастасию Стэнли, блюдом из каплунов, питавшихся гадюками, надеясь, что в результате ее красота не увянет еще сто лет. Если уж такой человек подхватил идею оружейного бальзама, то следовало ожидать, что он будет превозносить ее до небес. Он, однако, заменил мазь так называемым симпатическим порошком. Он утверждал, что рецепт его приготовления он приобрел у одного монаха-кармелита, который в свою очередь узнал его в Персии или Армении от одного знаменитого восточного философа. В его действенность верили король Иаков, принц Уэльский, герцог Бекингем и многие другие титулованные персоны. Находясь в Монпелье, сэр Кенелм зачитал группе тамошних ученых следующее удивительное сообщение о его целебном действии. М-р Джеймс Хауэлл, автор знаменитой «Дендрологии», став случайным свидетелем дуэли двух его самых близких друзей, вклинился между ними и попытался их разнять. Он схватил шпагу одного из бойцов за эфес, а шпагу другого — за лезвие. Обозленные друг на друга, соперники постарались освободиться от препятствия в лице м-ра Хауэлла, чтобы сразиться один на один. При этом тот, чью шпагу м-р Хауэлл держал за лезвие, грубо рванул ее на себя и чуть не отрезал последнему кисть руки: клинок рассек нервы и мышцы и проник до кости. Второй дуэлянт почти в тот же самый момент высвободил свою шпагу и взмахнул ею, чтобы нанести противнику удар по голове. Заметив это, м-р Хауэлл молниеносно поднял раненую руку, дабы этому помешать. Шпага обрушилась на ее тыльную сторону, и бедняга был ранен вторично. «Казалось, — писал сэр Кенелм Дигби, — что какой-то злой рок заставил их обоих пролить кровь близкого друга, за жизнь которого, будь они в тот момент в здравом уме, они охотно отдали бы свои собственные». Увидев, что все лицо м-ра Хауэлла забрызгано кровью из его раненой руки, они бросили шпаги, обняли его и перевязали ему руку подвязкой, чтобы остановить сильное кровотечение из разрезанных вен. Затем они доставили его домой и послали за хирургом. Король Иаков, который был сильно привязан к м-ру Хауэллу, позднее послал к нему личного хирурга. Продолжим рассказ словами сэра Кенелма Дигби. «Это был мой шанс, — пишет он, — заиметь в его лице влиятельного покровителя; и через четыре или пять дней после инцидента, когда я занимался приготовлениями к лечению, он нанес мне визит и попросил меня осмотреть его раны. “Ибо мне известно, — сказал он, — что у вас есть превосходные лекарства для подобных случаев, а лечащие меня хирурги опасаются, что это может перерасти в гангрену, и тогда руку придется ампутировать”. И действительно, по его лицу было видно, что он испытывает сильную боль, которая, по его словам, была нестерпимой и указывала на крайнюю степень воспаления. Я сказал, что охотно ему помогу, но предположил, что, узнав мою методику лечения, не предусматривающую осмотра и ощупывания, он откажется от моих услуг, сочтя их либо неэффективными, либо порожденными суеверием. Он ответил: “Множество поразительных вещей, которые мне рассказывали о вашем методе врачевания, не дают мне ни малейшего повода усомниться в его эффективности, и все, что я могу по этому поводу сказать, можно выразить испанской поговоркой: «Hagase el milagro y hagalo Mahoma» — «Да свершится чудо, пусть и стараниями Магомета»”.
Тогда я попросил его дать мне что-нибудь, на чем есть его кровь, и он тут же послал за подвязкой, коей его рука была перебинтована вначале. Я велел слуге принести таз с водой, как если бы я хотел вымыть руки, а сам взял пригоршню имевшегося в моем кабинете порошка железного купороса и растворил его во вскоре принесенной воде. Как только мне принесли окровавленную подвязку, я положил ее в таз, попутно наблюдая за м-ром Хауэллом, который разговаривал в углу комнаты с каким-то джентльменом и не обращал на меня ни малейшего внимания. Вдруг он вздрогнул, будто ощутил в себе некую необычную перемену. Я спросил у него, что его беспокоит. “Не знаю, что меня беспокоит, но я больше не чувствую боли. Мне кажется, что по моей руке, словно покрытой влажной холодной салфеткой, растеклась приятная прохлада, которая сняла воспаление, мучившее меня прежде”. На это я ответил: “Раз уж мое лекарство принесло вам такое облегчение, советую вам снять все ваши пластыри и заботиться лишь о содержании раны в чистоте, не допуская ее перегрева и переохлаждения”. Об этом вскоре доложили герцогу Бекингему, а немного позднее — королю, и они оба проявили к этой истории повышенный интерес. Я же тем временем пообедал и, вынув подвязку из воды, расстелил ее сушиться подле сильного огня. Она уже почти высохла, когда явился запыхавшийся слуга м-ра Хауэлла и сообщил, что его хозяин почувствовал такое же жжение, как и прежде, если не большее, ибо руку жжет так, будто она находится меж раскаленных углей. Я ответил, что, несмотря на случившееся, его хозяину вскоре полегчает, потому что знаю причину происшедшего и сделаю все от меня зависящее, чтобы у него прошло воспаление, что, возможно, произойдет скорее, чем он (слуга) вернется домой. Я добавил, что в том случае, если его хозяин не почувствует облегчения, ему следует незамедлительно явиться ко мне повторно, а если почувствует, то может не приходить. Сразу же после ухода слуги я снова положил подвязку в воду, и он, придя домой, обнаружил, что его хозяину ничуть не больно. Короче говоря, боль ушла безвозвратно, и в течение пяти-шести дней раны зарубцевались и полностью зажили».
Такова необычайная история, поведанная сэром Кенелмом Дигби. Другие врачеватели той поры были не менее претенциозны. Для излечения не всегда считалось необходимым пользоваться симпатическим порошком или оружейным бальзамом. При наличии шпаги, которой была нанесена рана, представлялось достаточным «намагнитить» ее рукой (первый проблеск «животной» теории). Утверждали, что если провести пальцами вверх по шпаге, то раненый ощутит немедленное облегчение, а если направить это движение вниз, он почувствует невыносимую боль282.
Тогда же было в ходу еще одно весьма необычное представление о силе и потенциальных возможностях магнетизма. Считалось, что на человеческой плоти можно создать симпатический (сочувственный) алфавит, посредством которого люди могли бы переписываться друг с другом и передавать свои сообщения практически мгновенно, независимо от разделяющего их расстояния. Из рук двух человек вырезáли по кусочку плоти и осуществляли их незамедлительную взаимную пересадку. Вырезанный кусочек врастал в руку реципиента, но, как полагали, сохранял настолько сильное сочувствие конечности донора, что последний всегда ощущал любое повреждение, нанесенное его прежней плоти. На эти пересаженные кусочки путем татуировки наносились буквы алфавита, после чего любому из этих двух человек, разделенных хоть Атлантикой, было якобы достаточно уколоть руку магнетической иглой, чтобы его друг немедленно принял сообщение о том, что «телеграф» включен. Любая буква, которой он касался иглой на своей руке, должна была отзываться уколом на руке его корреспондента.
Современником сэра Кенелма Дигби был не менее известный м-р Велентайн Грейтрекс, который, не упоминая о магнетизме и не претендуя ни на какую теорию, вводил себя и других в заблуждение, имеющее гораздо больше общего с практикуемым в наши дни животным магнетизмом, нежели с модным в ту пору минеральным магнетизмом. Он был сыном зажиточного и хорошо образованного ирландского дворянина из графства Корк. В раннем возрасте он впал в меланхолию, а по прошествии лет утвердился в странной, не дававшей ему покоя ни днем, ни ночью мысли, что Всевышний наделил его даром исцеления золотушных. Он поведал об этом своей жене, и она без обиняков назвала его дураком. Несмотря на авторитетность автора сего суждения, он был не вполне уверен в его истинности и решил испытать себя. Через несколько дней Грейтрекс отправился к некоему Уильяму Мейеру из Солтерсбриджа в Лисморском приходе, у которого было тяжелое золотушное поражение глаз, щеки и гортани. На этого человека, который был глубоко религиозным, он наложил руки, погладил его и горячо помолился за него. Он имел удовольствие констатировать, что за несколько дней состояние больного существенно улучшилось, и в конце концов стал свидетелем его полного выздоровления с помощью других лекарств. Этот успех укрепил его веру в возложенную на него божественную миссию. День за днем он получал новые послания свыше, согласно которым был призван лечить и малярию. С течением времени Велентайн добавил к перечню исцеляемых им недугов эпилепсию, язвы, боли и хромоту. Все графство Корк было потрясено выдающимся врачом, которому не было равных в тех случаях, когда болезнь усугублялась ипохондрией и депрессией. Согласно его собственным словам283, к нему обращалось так много народу из разных мест, что у него не оставалось времени на собственное дело и на общение с семьей и друзьями. Три дня в неделю, с шести утра до шести вечера он занимался лишь наложением рук на визитеров. Тем не менее к нему стекалось так много людей, что соседние городки были не в состоянии обеспечить их жильем. В связи с этим он съехал из своего деревенского дома и перебрался в Йол, куда устремилось так много больных не только со всей Ирландии, но и из Англии, что местные власти опасались эпидемий. Увидев его, некоторые из этих доверчивых бедняков начинали биться в конвульсиях, и он возвращал их в нормальное состояние мановениями руки и молитвами. Мало того, он утверждал, что прикосновение его перчатки избавляло людей от боли и что однажды он изгнал из женщины нескольких бесов, терзавших ее днем и ночью. «Поднимаясь в ее горло, — пишет Грейтрекс, — каждый из этих бесов словно душил ее». Из этого явствует, что у женщины была самая обыкновенная истерия.
Священники Лисморской епархии, имевшие, видимо, куда более четкое представление о притязаниях Грейтрекса, чем их прихожане, решительно воспротивились новоявленному проповеднику и чудотворцу. Ему велели явиться в церковный суд и запретили впредь заниматься наложением рук, но он оставил предписания духовенства без внимания. Веря, что сами небеса наделили его сверхъестественными способностями, он, как и прежде, вызывал у людей судороги и вновь приводил их в чувство почти так же, как это делают нынешние магнетизеры. Наконец его репутация настолько возросла, что лорд Конуэй прислал ему из Лондона письмо, в котором просил его немедленно приехать, дабы исцелить мучительную головную боль, от которой уже несколько лет страдала его жена и перед которой оказались бессильны лучшие доктора Англии.
Грейтрекс принял приглашение и попробовал свои манипуляции и молитвы на леди Конуэй, однако никакого облегчения это не принесло. Головная боль несчастной леди была вызвана слишком серьезными причинами, чтобы хоть что-то, включая веру и живость воображения, могло ей помочь. Он прожил несколько месяцев в доме лорда Конуэя в Рэгли, графство Уорикшир, проводя исцеления, подобные тем, что он осуществлял в Ирландии. Позднее переехал в Лондон и снял дом в Лонколнз-Инн-Филдз, который вскоре стал ежедневным пристанищем всех слабонервных и легковерных женщин столицы. Во втором томе «Альманаха св. Эвремонда» есть весьма увлекательный рассказ о Грейтрексе того периода (1665 год), названный именем ирландского проповедника. Из всех письменных свидетельств о данном представителе раннего магнетизма это — наиболее яркое. Были ли его притязания более или менее абсурдны, нежели притязания его не так давно появившихся последователей, сказать трудно.
«Когда месье де Комменж, — пишет св. Эвремонд, — был послом его христианнейшего величества284 во владениях короля Великобритании, в Лондоне появился ирландский проповедник, выдававший себя за великого чудотворца. Некоторые высокопоставленные персоны умоляли месье де Комменжа пригласить его в свой дом, дабы они могли стать свидетелями творимых им чудес, и посол, вняв их мольбам как из любезности, так и ради удовлетворения собственного любопытства, известил Грейтрекса о том, что будет рад принять его.
Слух о визите проповедника вскоре облетел весь город, и резиденцию месье де Комменжа заполонили больные, уверенные в быстром исцелении. Ирландец заставил долго себя ждать, но в разгар всеобщего нетерпения наконец пришел. Его простое лицо имело серьезное выражение, ничуть не указывавшее на то, что он плут. Месье де Комменж приготовился учинить ему допрос, надеясь побеседовать с ним о вещах, о коих он прочел у Ван Гельмонта и Бодена, но, к великому своему сожалению, не смог этого сделать, ибо толпа разрослась настолько и калеки и прочие столь нетерпеливо напирали со всех сторон, чтобы стать первыми исцеленными, что слугам для наведения порядка среди страждущих и разделения их на категории пришлось прибегнуть к угрозам и даже к насилию.
Проповедник заявил, что все болезни вызывают злые духи. Любую слабость он считал случаем одержимости демоном. Первым перед ним предстал человек, страдавший подагрой и ревматизмом в столь тяжелой форме, что врачи были не в состоянии его вылечить. “Ах, — сказал чудотворец, — в мою бытность в Ирландии я повидал немало таких духов, как этот. Это водяные духи, вызывающие озноб и избыток водянистой влаги в наших ничтожных телах”. Затем, обращаясь к больному, он произнес: “Злой дух, оставивший свою водную обитель, чтобы вселиться в сие несчастное тело и причинять ему боль, приказываю тебе покинуть твое новое прибежище и вернуться в твое старое жилище!” Сказав это, он велел больному удалиться, и его место занял другой человек. Вновь прибывший сообщил, что его мучают приступы меланхолии. На самом же деле он выглядел как ипохондрик — один из тех, кто гораздо чаще болен в собственном воображении, нежели в действительности. “Воздушный дух, — сказал ирландец, — я приказываю тебе вернуться в воздух, вызывать, как и прежде, бури и более не поднимать ветер в этом скорбном теле!” Этого человека тотчас же отправили восвояси, освободив тем самым место для третьего пациента, которому, по мнению ирландца, досаждал всего лишь бесенок, изгнать которого не составляло ни малейшего труда. Он сделал вид, что узнал его по отметинам, невидимым для публики, к которой он, улыбаясь, повернулся и сказал: “Бесенята редко причиняют большой вред и всегда очень забавны”. Слушая его, можно было подумать, что он знает про духов все — их имена, ранг, количество, занятия и все возложенные на них обязанности. Он хвастался тем, что в интригах демонов разбирается намного лучше, чем в делах людских. Вряд ли читающие эти строки могут представить себе, какую репутацию он приобрел за короткий отрезок времени. К нему отовсюду стекались католики и протестанты, убежденные, что в его руках заключена божественная сила».
После рассказа о довольно сомнительной авантюре мужа и жены, умолявших Грейтрекса изгнать вкравшегося меж ними демона раздора, св. Эвремонд следующим образом резюмирует его влияние на массовое сознание: «Вера в его способности была столь велика, что слепые воображали, что видят свет, коего они на самом деле не видели, глухим казалось, что они слышат, хромым — что они ходят, а не ковыляют, а парализованным — что их конечности вновь им повинуются. Вера в выздоровление заставляла больных забыть на время о своих недугах, а воображение, одинаково развитое как у зевак, так и у больных, обманывало первых, наблюдавших мнимое исцеление вторых, жаждавших быть исцеленными. Такова была власть ирландца над умами людей, и таково было воздействие умов на тела. В Лондоне только и говорили, что о его чудесах, реальность коих отстаивали такие авторитеты, что сбитые с толку массы верили им чуть ли не на слово, в то время как более просвещенные люди не отваживались им перечить. Робкое и порабощенное общественное мнение не противилось навязываемой точке зрения, казавшейся в высшей степени правдоподобной. Те, кто понимал ее ошибочность, держали свое мнение при себе, зная, насколько бесполезно объявлять о своем неверии людям, полным предрассудков и слепого восхищения».
Примерно в то же самое время, когда Велентайн Грейтрекс магнетизировал население Лондона, вдохновенный итальянский проповедник Франческо Баньоне не менее успешно проделывал те же самые трюки в Италии. Он просто прикасался к психически неуравновешенным женщинам руками или (ради пущей эффективности за счет их фанатизма) какой-нибудь религиозной реликвией, и те начинали биться в конвульсиях, демонстрируя все признаки «магнетического воздействия».
Следует также упомянуть некоторых европейских ученых мужей, которые изучали магнит, веря, что результаты их исследований могут оказаться полезными с точки зрения медицины. В частности, Ван Гельмонт опубликовал труд о воздействии магнетизма на человеческое тело, а испанец Бальтасар Грасиан стал известен смелостью своих воззрений в данной области. «Магнит, — писал он, — притягивает железо, а железо встречается повсюду, поэтому все вокруг находится под влиянием магнетизма. Это всего лишь видоизменение всеобщего принципа сближения и размежевания людей. Это та действующая сила, что вызывает симпатию, антипатию и все известные страсти»285.
Баптиста Порта, который в причудливой генеалогии оружейного бальзама, приведенной пастором Фостером в его обличении доктора Флуктибского, упомянут как один из его создателей, тоже глубоко верил в эффективность магнита с точки зрения медицины и воздействовал на психику своих пациентов в манере, считавшейся в то время настолько необычной, что власти Священной Римской империи обвинили его в колдовстве и запретили ему заниматься врачеванием. Среди тех, кто стал известен благодаря своей вере в магнетизм, особого внимания заслуживают Себастьян Вирдиг и Уильям Максвелл. Вирдиг был профессором медицины Ростокского университета в герцогстве Мекленбург и написал трактат под названием «Новая духовная медицина», экземпляр которого он подарил Королевскому научному обществу в Лондоне. В этом труде, изданном в 1673 году, автор утверждал, что магнитное взаимодействие существует не только между небесными телами и земными магнитами, но и между всеми живыми тварями. Весь мир, писал он, находится под воздействием магнетизма: магнетизм поддерживает жизнь; он же является причиной смерти!
Другой энтузиаст, Максвелл, был восторженным последователем Парацельса и хвалился, что ему удалось развеять туман таинственности, окутываюший очень многие чудодейственные рецепты великого философа. Его труды были напечатаны во Франкфурте в 1679 году. Следующий отрывок наводит на мысль о том, что он знал, насколько эффективно внушение способно как провоцировать болезни, так и излечивать от них. «Если вы хотите творить чудеса исцеления, — пишет он, — абстрагируйтесь от материальности живых существ, концентрируйтесь на их духовной сущности, будите спящие души. Не сделав чего-либо из перечисленного, не сумев наладить духовный контакт, вы никогда и никого не исцелите». В этих словах, по сути, заложен секрет магнетизма и всех подобных иллюзий: сконцентрируйтесь на духовной сущности, разбудите спящую душу, или, другими словами, подействуйте на воображение человека, внушите ему слепую веру и можете делать с ним все, что угодно. Этот отрывок, приведенный в одном из сочинений месье Дюпоте286 в качестве весомого подкрепления теории животного магнетизма, напрямую ей противоречит. Если ее приверженцы полагают, что могут творить все свои чудеса, руководствуясь туманными сентенциями Максвелла, зачем же им тогда пропитывающий все вокруг универсальный флюид, который они якобы вливают в слабые и больные тела из кончиков пальцев?
В начале XVIII века внимание европейцев привлекло весьма примечательное проявление фанатизма, которое адепты животного магнетизма сочли доказательством истинности их доктрины. Конвульсионеры св. Медара, как их называли, в больших количествах собирались вокруг могилы их любимого святого, янсенистского287 священника Пари, и учили друг друга корчиться в судорогах. Они верили, что св. Пари исцелит все их немощи; и к могиле отовсюду стекалось столько истеричек и всевозможных слабоумных, что они ежедневно блокировали все ведущие к ней дороги. Одни из них, доведя себя до определенной степени возбуждения и следуя примеру друг друга, бились в конвульсиях, а другие, внешне полностью сохраняя все свои физические и умственные способности, добровольно подвергали себя истязаниям, которые при обычных обстоятельствах отправили бы их к праотцам. Устраиваемые ими сцены — странная смесь бесстыдства, нелепости и суеверия — были позором для цивилизации и религии. Пока одни из них, преклонив колени, молились возле усыпальницы св. Пари, другие вопили и издавали отвратительнейшие звуки. Особенно усердствовали женщины. Можно было видеть, как на одной стороне часовни десятка два представительниц слабого пола бьются в судорогах, в то время как на другой ее стороне гораздо большее число их доведенных до исступления товарок предается вопиющим непотребствам. Некоторые из них испытывали болезненное наслаждение, когда их били и топтали. Согласно свидетельству Монтегра288, одна из них впала от жестокого обращения в такой раж, что ее удовлетворяли только самые сильные удары. Когда здоровенный детина со всей силы лупцевал ее увесистым железным ломом, она непрерывно настаивала на продолжении избиения. Чем сильнее он бил, тем больше ей это нравилось, и она все время восклицала: «Молодец, братишка, молодец! Ох, как же приятно! Какое же удовольствие ты мне доставляешь! Смелее, братец, смелее; бей сильнее, еще сильнее!» Другая фанатичка была, как это ни парадоксально, еще более неистовой. Карре де Монжерон, сообщающий об обстоятельствах дела, не сумел удовлетворить ее шестьюдесятью ударами большой кувалды. Впоследствии он ради эксперимента взял такую же и, нанося удары с той же силой, с двадцать пятой попытки пробил дыру в каменной стене. Сонне по прозвищу Саламандра хладнокровно ложилась на раскаленную докрасна жаровню; другие, жаждавшие более знаменитой муки, пытались себя распять. Месье Делёз в своей «Критической истории животного магнетизма» силится доказать, что фанатичное исступление этих одержимых вызывалось магнетизмом и что они, сами того не подозревая, магнетизировали друг друга. С равным успехом он мог бы утверждать, что фанатизм, побуждающий индуса держать руки вытянутыми в горизонтальном положении, пока хватает сил, или прижимать пальцы к ладоням, пока растущие ногти не проткнут их насквозь, также является результатом магнетизма!
На протяжении шестидесяти-семидесяти лет магнетизмом занимались почти исключительно в Германии. Внимание здравомыслящих и образованных людей было приковано к свойствам магнитного железняка, и некий отец Хелль, член ордена иезуитов и профессор астрономии Венского289 университета, добился известности благодаря своей магнетической терапии. В 1771 или 1772 году он изобрел стальные пластины особой формы, которые прикладывал к обнаженному телу как средство от ряда болезней. В 1774 году он посвятил в свою доктрину Франца Антона Месмера.
Последний, усовершенствовав идеи отца Хелля, разработал свою собственную теорию и стал основоположником ЖИВОТНОГО МАГНЕТИЗМА.
В среде противников новой иллюзорной доктрины было модным хулить Месмера как беспринципного авантюриста, в то время как ее сторонники превозносили его до небес как преобразователя человеческого рода. Используя почти те же самые эпитеты, что и розенкрейцеры по отношению к основателям их ордена, они называли его первооткрывателем секрета, который сближает человека с Создателем, избавителем души от унизительных оков плоти и тем, кто дал нам возможность не считаться со временем и пространством. Тщательный анализ его претензий и изучение данных, приводимых в качестве их обоснования, вскоре покажут, чья точка зрения более верна. То, что автор этих строк считает его человеком, который, обманывая себя, вводил в заблуждение и других, можно заключить на том основании, что ему нашлось место в этой книге, где он фигурирует наряду с фламелями, агриппами, борри, бёме и калиостро.
Он родился в мае 1734 года в Регенсбурге, в Швабии, и изучал медицину в Венском университете. В 1766 году он получил ученую степень, защитив диссертацию о влиянии планет на человеческое тело. Рассмотрев данный вопрос вполне в духе древних врачевателей-астрологов, он и тогда и позднее был подвергнут осмеянию. Уже в то время он вынашивал идеи, легшие в основу его грандиозной теории. В своей диссертации он утверждал, что «небесные светила оказывают друг на друга взаимное влияние; они вызывают и направляют земные приливы и отливы, причем не только в морях, но и в атмосфере, и сходным образом воздействуют на все живые организмы посредством трудно уловимого и изменчивого флюида, который наполняет собой мироздание и устанавливает всеобщую взаимосвязь и гармонию». Он считал, что наиболее заметно это воздействие отражается на нервной системе, вызывая два состояния, которые он называл усилением и ослаблением и которые, как ему казалось, объясняют различные периодические изменения, наблюдаемые при некоторых заболеваниях. При последующем знакомстве с отцом Хеллем он обнаружил, что результаты наблюдений последнего подтверждают правильность многих его собственных идей. Решив продолжить исследования, он убедил Хелля сделать для него несколько магнитных пластин и самостоятельно провел с ними ряд экспериментов.
Их результаты его поразили. Вера тех, кто носил на себе пластины, в их целебный эффект, сотворила с ними буквально чудеса. Месмер предоставил отчеты о своих достижениях отцу Хеллю, и тот обнародовал их как собственное открытие, упомянув о Месмере как о враче, нанятом им для работы под его руководством. Месмер, считавший себя куда более значительной персоной, чем отец Хелль, обиделся. Он объявил открытие своим, обвинил Хелля в злоупотреблении доверием и заклеймил его как прохвоста, которому очень хочется присвоить чужую славу. Хелль не остался в долгу, что привело к нешуточной перебранке, давшей образованным венцам повод для многомесячной пустопорожней дискуссии. Победа в конечном счете осталась за Хеллем. Нимало не смутившись, Месмер продолжал пропагандировать свои воззрения, пока наконец случайно не пришел к теории животного магнетизма.
Одной из его пациенток была молодая дама по имени Эстерлин, страдавшая судорожными припадками. Они случались периодически и сопровождались приливом крови к голове с последующими бредом и обмороком. Следуя своей системе планетарного влияния, он вскоре сумел ослабить эти симптомы и решил, что может предсказывать периоды обострения и ремиссии. Найдя таким образом удовлетворившее его объяснение происхождения болезни, он пришел к выводу, что сможет надежно излечивать больных, получив окончательное подтверждение своей давней гипотезы, согласно которой по аналогии с небесными телами между всеми земными телами существует равное взаимодействие, с помощью которого можно искусственно имитировать вышеупомянутые периодические приливы и отливы290. Вскоре он уверил себя в том, что это действительно так. Во время экспериментов с металлическими пластинами отца Хелля он думал, что их эффективность зависит от их формы, но впоследствии обнаружил, что может добиться тех же результатов, вообще не пользуясь ими, а просто проводя руками вниз по направлению к ступням пациента, находясь даже на значительном расстоянии от него.
Так появилась теория Месмера. Он написал о своем открытии во все научные общества Европы, сопроводив свой отчет настойчивой просьбой о проведении экспертизы. Ему ответила только Берлинская академия наук, и ее ответ был всем, чем угодно, только не одобрением его системы или лестным отзывом в его адрес. Это его, однако, не обескуражило. Всем, кто хотел его выслушать, он заявлял, что магнетическое вещество, или флюид, пронизывает Вселенную и содержится в каждом человеке, способном передавать его излишек другому человеку усилием воли. В его письме к одному из венских друзей есть такие строки: «Я обнаружил, что магнетическое вещество — это почти то же самое, что и электрический флюид, и что оно может распространяться точно таким же образом: через промежуточные тела. Сталь — не единственный материал, пригодный для этой цели. Я магнетизировал бумагу, хлеб, шерсть, шелк, камни, кожу, стекло, дерево, людей и собак — короче, все, к чему прикасался, — до такой степени, что сии вещества оказывали на больных такое же действие, как и магнетит. Я заряжал лейденские банки291 магнетическим веществом так же, как их заряжают электричеством».
Пребывание Месмера в Вене недолго было для него таким приятным, как ему того хотелось. К его притязаниям относились с презрением или безразличием, а случай с мадемуазель Эстерлин в большей степени дискредитировал, нежели прославил его. Он решил сменить сферу деятельности и отправился в путешествие по Швабии и Швейцарии. В последней из упомянутых стран он познакомился со знаменитым отцом Гасснером, который, как и Велентайн Грейтрекс, занимался изгнанием бесов и исцелением больных наложением рук. При его приближении у болезненных девушек начинались судороги, и ипохондрики мнили себя исцеленными. Ежедневно его дом осаждали хромые, слепые и истеричные. Месмер сразу же признал действенность его метода и заявил, что она является наглядным подтверждением недавно сделанного им открытия. Ему немедленно была предоставлена возможность апробировать свои манипуляции на нескольких пациентах священника, и у тех появились симптомы заболеваний, на которые они жаловались. Далее он попробовал свои силы на бедняках, лежавших в больницах Берна и Цюриха, и, согласно его собственному (но никем не подтвержденному) сообщению, преуспел в излечении одного больного офтальмией и одного — gutta serena. Составив письменный отчет об этих достижениях, он вернулся в Вену, надеясь заставить своих противников замолчать или хотя бы вынудить их уважать его только что приобретенную репутацию и повнимательнее изучить его систему.
Его второе появление в столице Австрии не добавило ему популярности по сравнению с первым. Он взялся за лечение некоей мадемуазель Париди, которая была полностью слепой и припадочной. Он несколько раз магнетизировал ее, после чего объявил, что она излечилась, ибо он сделал все для того, чтобы это произошло. Барт, один из выдающихся окулистов того времени, нанес ей визит и заявил, что она не прозрела ни на йоту, а члены ее семьи засвидетельствовали, что она так же подвержена припадкам, как и прежде. Месмер же настаивал на том, что она выздоровела. Подобно одному французскому философу, он не позволял фактам быть помехой его теории292. Он заявил, что против него составлен заговор и что мадемуазель Париди по наущению своей семьи притворяется слепой для того, чтобы повредить его репутации!
Последствия этого мнимого исцеления убедили Месмера в том, что в Вене ему делать нечего. Таким, как он, было место в Париже — праздном, беспутном, охочем до развлечений и разных новшеств; туда он и отправился. Он приехал в Париж в 1778 году и занялся саморекламой и пропагандой своей теории среди ведущих медиков города. Поначалу он добился только того, что над ним смеялись, не оказывая ему покровительства. Но он был исключительно самоуверенным человеком и обладал упорством, которое не могли сломить никакие трудности. Он снял пышные апартаменты, которые открыл для всех, кто хотел испытать новую силу природы.
Одним из новообращенных стал месье Делон, доктор с солидной репутацией; и с этого времени животный магнетизм, или, как некоторые называли его, месмеризм, вошел в Париже в моду. Женщины были от него без ума, и их восторженная болтовня прославила его во всех слоях общества. Месмер был в центре всеобщего внимания: дворяне и простонародье, богатые и бедные, легковерные и скептики — все спешили убедиться в силе этого могущественного мага, чьи посулы были так грандиозны. Месмер, понимавший, насколько важно пустить пыль в глаза, решил, что ради большей привлекательности магнетизма не следует скупиться на затраты. Во всем Париже не было дома, равного резиденции месье Месмера по изяществу обстановки. В ее просторных салонах, почти сплошь покрытых зеркалами, царило неяркое, внушавшее благоговение освещение, создаваемое дорогими витражными стеклами. Коридоры наполнял аромат цветущих апельсиновых деревьев; в античных вазах, стоявших на каминных полках, курились ценнейшие благовония; из отдаленных комнат доносился мелодичный перезвон Эоловых арф293, а поддерживаемую в доме таинственную тишину, сохранения которой требовали от всех посетителей, временами нарушал раздававшийся сверху или снизу негромкий и приятный женский голос. «Знал ли мир что-либо, столь же восхитительное!» — восклицали все парижские эстеты, стекавшиеся в дом Месмера в поисках приятных впечатлений; «Замечательно!» — изрекали псевдофилософы, верившие во все, что было модным; «Забавно!» — говорили пресыщенные развратники, испившие чашу чувственного наслаждения до дна и приходившие посмотреть на судороги прелестных женщин, надеясь обогатить себя новыми ощущениями.
Сеансы проводились следующим образом. В центре салона устанавливался яйцевидный сосуд максимальным диаметром четыре и глубиной один фут. В него клали несколько наполненных магнетизированной водой и надежно закупоренных бутылок из-под вина, которые располагали по радиусам, горлышками наружу. Затем в сосуд наливали ровно столько воды, чтобы она накрыла бутылки, и время от времени подбрасывали туда железные опилки для усиления магнетического эффекта. Потом сосуд накрывали железной крышкой со множеством сквозных отверстий; полученная конструкция называлась baquet294. Изо всех отверстий торчали длинные, подвижно закрепленные железные прутья, которые пациентам надлежало прикладывать к частям тела, пораженным болезнью. Пациенты, рассаженные вокруг baquet, брались за руки и как можно сильнее сжимали колени, чтобы облегчить перетекание магнетического флюида от одного больного к другому.
Далее в салон входили помощники магнетизера (как правило, сильные и красивые молодые люди), задачей которых было вливание в пациентов свежих потоков чудотворного флюида из кончиков пальцев. Они обхватывали колени подопечных своими собственными и поглаживали их вдоль позвоночника и нервных волокон, слегка нажимая дамам на грудь и смущая их пристальными магнетизирующими взглядами! Все это делалось в гробовой тишине, если не считать нескольких неистовых пассажей, исполняемых на губной гармонике или фортепьяно, или мелодичного голоса невидимого оперного певца, которые звучали с большими промежутками, плавно усиливаясь и затухая. Постепенно щеки женщин краснели, их воображение распалялось, и то у одной, то у другой начинались судороги. Одни рыдали и рвали на себе волосы, другие смеялись до слез, а третьи орали, визжали и выли до полной потери сознания.
Это был переломный момент. В самом разгаре всеобщего исступления появлялся главный чудотворец, размахивавший, как Просперо, волшебной палочкой. Одетый в расшитый золотыми цветами сиреневый шелковый халат, он торжественной поступью входил в комнату, держа в руке белый магнетический прут. Тех, кто все еще был в сознании, он буравил грозным взглядом, и припадки ослабевали. Находившихся в бессознательном состоянии он постукивал руками по бровям и вдоль позвоночника, длинным белым прутом чертил у них на груди и животе различные фигуры, и они приходили в себя. Пациенты успокаивались, подтверждали действенность его метода, а когда он проводил перед ними прутом или пальцами, говорили, что чувствуют проходящие через их тела потоки холода или тепла соответственно.
«Сенсация, — пишет месье Дюпоте, — которую произвели в Париже опыты Месмера, не поддается описанию. Ни один предмет теологических диспутов эпохи раннего католицизма не вызывал столь ожесточенных разногласий». Оппоненты Месмера не признавали его открытие: одни называли его шарлатаном, другие — глупцом, а третьи, одним из которых был аббат Фиар, — человеком, который продал душу дьяволу! Его сторонники были столь же неумеренны в восхвалении, сколь его противники — в осуждении. Париж наводнили памфлеты о месмеризме, мнения авторов которых разделились примерно поровну. Новая система была благосклонно встречена королевой и стала излюбленной темой светских бесед.
Следуя совету месье Делона, Месмер обратился в медицинское отделение Парижской академии наук с прошением о проверке его доктрины. Он предложил отобрать двадцать четыре пациента, половину которых он подверг бы лечению магнетизмом, оставив другую половину ученым мужам, которые применили бы к больным старые, проверенные методы врачевания. Согласно сделанной им оговорке, во избежание разногласий наблюдать за ходом экспериментов должны были назначенные властями люди без медицинского образования, в задачу которых входила бы не научная классификация его методики, а оценка ее эффективности. Академия сочла данное ограничение неприемлемым, и предложение Месмера было отклонено.
Тогда он написал Марии Антуанетте, рассчитывая с ее помощью добиться для себя правительственной протекции. В письме он изъявил желание стать обладателем замка с прилегающими землями и солидного годового дохода, что позволило бы ему продолжить опыты, не опасаясь преследования со стороны недоброжелателей. Аргументируя свои притязания, он ссылался на то, что поддержка людей науки — долг всякого уважающего себя правительства, и выражал опасение, что при отсутствии поощрения со стороны французских властей обстоятельства вынудят его продать великое открытие какой-нибудь другой стране, которая оценит его по достоинству. «Для Вашего Величества, — писал Месмер, — четыреста или пятьсот тысяч франков, истраченных на доброе дело, ничто по сравнению с благоденствием и счастьем ваших подданных. Мое открытие следовало бы принять и вознаградить с щедростью, достойной монарха, подданным которого я стану». Правительство предложило ему пенсию в двадцать тысяч франков и орден св. Михаила, если он сообщит какое-либо из сделанных им открытий в области медицины врачам, назначенным королем. Последний пункт этого предложения Месмеру не понравился. Он боялся, что отчет, который медики представят королю, будет для него неблагоприятным, и внезапно прервал переговоры, заявив, что деньги для него не главное и что он хочет, чтобы правительство признало его открытие сразу. Затем он в порыве раздражения уехал в Спа якобы для лечения тамошними минеральными водами.
После того как Месмер покинул Париж, медицинское отделение Академии в третий и последний раз сообщило месье Делону, что либо он откажется от теории животного магнетизма, либо будет исключен из ее состава. Месье Делон, которого сей ультиматум никак не устраивал, объявил, что он сделал новые открытия, и ходатайствовал о проведении дополнительных исследований. Вследствие этого 12 марта 1784 года были назначены королевская комиссия медицинского отделения и вспомогательная комиссия Академии, призванные изучить феноменальные исцеления и отчитаться о результатах. Первая комиссия состояла из ведущих врачей Парижа, а во вторую, помимо прочих выдающихся людей, вошли Бенджамин Франклин295, Лавуазье296 и Байи297. Месмер был официально приглашен на заседания объединенной комиссии, но день за днем отсутствовал под тем или иным предлогом. Месье Делон, твердо веривший в месмеризм, повел себя честнее: он регулярно посещал заседания и проводил эксперименты.
Байи описывает сцены, свидетелем которых он был в ходе экспертизы, следующим образом. «Большие группы больных, расположившись в несколько рядов вокруг baquet, заряжаются магнетической энергией от следующих источников: от железных стержней, подводящих ее к ним от baquet; от шнуров, обмотанных вокруг тел; от сцепленных больших пальцев рук друг друга и от звуков фортепьяно или приятного голоса, рассеивающих ее в воздухе. Кроме того, пациенты заряжаются энергией непосредственно от пальцев и прута магнетизера, который медленно проводит ими перед их лицами, над макушками, возле затылков и по больным частям тел, всегда точно определяя самые болезненные места. На них магнетизер воздействует пристальным взглядом. Но больше всего энергии пациенты получают от наложения рук и нажима пальцев магнетизера на грудную клетку и брюшную полость. Эти прикосновения часто длятся долго — порой несколько часов.
Состояние пациентов, между тем, весьма разнообразно. Одни спокойны, невозмутимы и не чувствуют в себе никаких изменений. Другие кашляют, плюются, ощущают незначительные боли, местный или общий жар, потеют. Третьи возбуждаются и мучаются судорогами. Эти судороги, поражающие удивительно большое число испытуемых, необычайно сильны и продолжительны. Начавшись у одного пациента, они сразу же охватывают несколько других. Некоторые из припадков, согласно наблюдениям членов комиссии, длились более трех часов. Конвульсии сопровождаются мучительным отхаркиванием мутной густой мокроты, иногда с кровью. Они характеризуются резкими непроизвольными движениями всех конечностей и туловища, сокращениями горловых мышц, помутнением взора и блужданием зрачков, пронзительными криками, рыданиями и безудержным смехом. До или после конвульсий наблюдаются апатия или мечтательность, подавленность и иногда сонливость. При этом пациенты вздрагивают от малейшего неожиданного звука; замечено, что на них сильно влияет изменение такта мелодий, исполняемых на фортепьяно. Резкие движения и оживление мелодий вызывают повторное возбуждение, и припадки возобновляются с новой силой.
Нет ничего более удивительного, чем зрелище этих припадков. Нельзя составить о них представление, не видя их. Наблюдателя одинаково изумляет как полное спокойствие одних пациентов, так и беспокойство остальных — разнообразные, но устойчивые аномалии их поведения и выказываемые ими симпатии. Некоторые пациенты обращают внимание исключительно друг на друга, обнимаются, улыбаются, успокаиваются и проявляют все признаки взаимного расположения и любви. Испытуемые находятся во власти магнетизера: независимо от степени их отрешенности и сонливости, звук его голоса, его взгляд, движение его руки выводят их из этого состояния. Среди припадочных пациентов всегда очень много женщин и очень мало мужчин»298.
Эксперименты длились около пяти месяцев. Едва они начались, как Месмер, встревоженный утратой славы и денег, решил вернуться в Париж. В свое время некоторые высокопоставленные и богатые пациенты, фанатичные приверженцы его системы, последовали за ним в Спа. Один из них, Бергасс, предложил целителю объявить подписку на сто его акций по сто луидоров каждая с условием, что он откроет подписчикам свой секрет и те смогут воспользоваться им по собственному усмотрению. Месмер охотно принял предложение. Ажиотаж был таков, что запланированную сумму299 удалось собрать за несколько дней, а всего по подписке было собрано не менее трехсот сорока тысяч франков.
Разбогатев таким образом, он вернулся в Париж и возобновил свои опыты, пока королевская комиссия продолжала свои. Восторженные ученики Месмера, столь щедро заплатившие ему за инструктаж, прославили его на всю страну и основали во всех главных городах Франции «Общества гармонии» для проведения экспериментов и лечения от всех болезней посредством магнетизма. Некоторые из этих обществ были позорно аморальны, объединяя в своих рядах распутников, получавших извращенное наслаждение от созерцания припадков у юных дев. Многие «магнетизеры» приобрели дурную славу сладострастников, воспользовавшихся моментом для потакания низменным страстям.
Наконец члены комиссии обнародовали свой отчет, составленный знаменитым и несчастным Байи. Благодаря ясной аргументации и строгой беспристрастности содержащиеся в нем выводы никогда не оспаривались. После детального изучения различных экспериментов и их результатов члены комиссии пришли к заключению, что единственным свидетельством в пользу животного магнетизма является его воздействие на человеческое тело; что этого воздействия можно добиться без пассов и прочих магнетических манипуляций; что все эти манипуляции, пассы и церемонии бесполезны, если пациент о них не знает, в силу чего все имевшие место исцеления произошли за счет внушения, а не животного магнетизма.
Этот отчет положил конец славе Месмера во Франции. Вскоре после этого он, прихватив триста сорок тысяч франков, собранных по подписке с приверженцев его доктрины, покинул Париж и отбыл на родину, где в 1815 году умер в почтенном возрасте восьмидесяти одного года. Но посеянные им семена, упав на благодатную почву массового легковерия, принесли свои плоды. У него появились последователи во Франции, Германии и Англии. Они выдвигали еще более экстравагантные идеи и приписывали новому учению возможности, которые его основателю и не снились. Среди прочих можно отметить Калиостро, который неплохо воспользовался данным заблуждением для придания большего правдоподобия своим притязаниям на звание магистра оккультных наук. Однако он не сделал открытий, сопоставимых с открытиями маркиза де Пюизегюра и шевалье Барбарена — честных людей, которые, прежде чем обманывать других, обманули самих себя.
Маркиз де Пюизегюр, крупный помещик из Бузанси, был одним из тех, кто подписался на акции Месмера. После того как сей индивидуум уехал из Франции, маркиз удалился в Бузанси, чтобы испробовать животный магнетизм на местных жителях и в случае успеха излечивать селян от всевозможных болезней. Будучи человеком простодушным и щедрым, он не только магнетизировал стекавшихся к нему больных, но и кормил их. Во всех окрестных селениях и на двадцать миль вокруг его считали наделенным почти божественной силой. Его великое открытие, как он его называл, было сделано случайно. Когда однажды он намагнетизировал своего садовника и увидел, что тот заснул крепким сном, он предположил, что спящий, как и те, кто страдает сомнамбулизмом300, может отвечать на вопросы. Он проверил свое предположение, и садовник дал членораздельный и точный ответ. Маркиз был приятно удивлен: он продолжил эксперименты и пришел к выводу, что в состоянии магнетического сомнамбулизма душа спящего увеличивается и вступает в более тесный контакт с окружающим миром и особенно с ним, маркизом де Пюизегюром. Он обнаружил, что никакие дальнейшие манипуляции не нужны; что он может сообщать пациенту о своих желаниях, ничего не говоря и не подавая никаких знаков; что он, по сути, может общаться с ним мысленно, без какого бы то ни было физического взаимодействия!
Одновременно с этим замечательным открытием маркиз сделал еще одно, делающее не меньше чести его сообразительности. Ему, как и Велентайну Грейтрексу, было в тягость магнетизировать всех визитеров: у него не оставалось времени даже на необходимый для здоровья отдых. Его, встревоженного данным обстоятельством, осенила удачная мысль. Если Месмер говорил, что может магнетизировать куски дерева, то разве ему (Пюизегюру) не под силу магнетизировать целое дерево? Сказано — сделано. На лужайке в Бузанси рос большой вяз, под которым по праздникам танцевали деревенские девушки, а в погожие летние вечера попивали vin du pays301 старожилы. Маркиз отправился к этому дереву и зарядил его магнетической энергией, сперва прикоснувшись к нему руками, а затем отойдя от него на несколько шагов; все это время он направлял потоки магнетического флюида от ветвей к стволу и от ствола к корням. Сделав это, он приказал расставить вокруг дерева круглые сиденья и протянуть к ним прикрепленные к дереву шнуры. Рассевшись по сиденьям, пациенты наматывали шнуры на больные части тел и крепко сцеплялись друг с другом большими пальцами рук, дабы образовать канал непосредственной взаимной передачи флюида.
Таким образом, у маркиза де Пюизегюра было два «конька» — человек с увеличенной душой и магнетический вяз. Насколько он и его пациенты не чаяли в них души, лучше всего передают его собственные слова. Процитируем его письмо к брату, датированное 17 мая 1784 года: «Если вы, мой дорогой друг, не приедете, то не увидите моего удивительного пациента, ибо он уже почти полностью выздоровел. Я по-прежнему применяю целебную энергию, которой обладаю благодаря месье Месмеру. Не проходит и дня, чтобы я не помолился за него, потому что я, оказавшись очень способным учеником, осуществляю множество исцелений больных бедняков со всей округи. Они собираются вокруг моего дерева; сегодня утром их было более ста тридцати. Это наилучший из всех возможных baquet: все его листья — проводники здоровья! Это в большей или меньшей степени чувствуют все больные. Их выздоровление, свидетелем которого вы станете, приведет вас в восторг. Меня огорчает только одно — у меня нет возможности прикасаться ко всем приходящим. Но мой магнетизируемый пациент — моя путеводная звезда — облегчает мне жизнь. Он наставляет меня на путь истинный. Он считает, что вовсе не обязательно дотрагиваться до всех подряд: порой достаточно взгляда, жеста и даже желания. И этому меня обучает один из самых невежественных крестьян в деревне! Находясь в кризисе302, он является самым мудрым, рассудительным и проницательным (ясновидящим) из всех известных мне людей».
В другом послании, рассказывающем о первом опыте с магнетическим деревом, он пишет: «Вчера вечером я привел к нему моего первого пациента. Как только я обмотал его шнуром, он уставился на дерево и с неописуемым изумлением воскликнул: “Что это там?” Затем он уронил голову на грудь и повел себя как самый настоящий сомнамбул. Проводив его по прошествии часа домой, я привел его в чувство. Несколько мужчин и женщин рассказали ему, что он делал до момента пробуждения. Он утверждал, что это неправда, поскольку такой ослабленный и едва ли способный ходить человек, как он, вряд ли спустился бы по лестнице и дошел до дерева. Сегодня я проделал с ним тот же эксперимент, и вновь успешно. Не скрою, мысль о том добре, которое я делаю людям, доставляет мне наслаждение. Мадам де Пюизегюр, ее подруги, мои слуги и приближенные изумлены и восхищены одновременно, но они не испытывают и половины моих чувств. Без моего дерева, которое приносит мне успокоение сейчас и будет приносить его впредь, я находился бы в состоянии возбуждения, несовместимого, по моему мнению, с моим нынешним здоровьем. Не в моих силах передать, насколько это дерево мне дорого».
В другом письме он еще более возвышенно распространяется о своем садовнике с увеличенной душой. Он пишет: «И этот простой крестьянин, рослый и дородный детина двадцати трех лет от роду, ослабленный болезнью, или, скорее, скорбью, и поэтому более других предрасположенный к влиянию любой из великих сил природы, — этот человек, повторяю, наделяет меня знанием и ученостью. Когда он находится в магнетическом состоянии, он больше не мужлан, еле-еле выговаривающий одну-единственную фразу, а существо, названия которому я не берусь подобрать. Мне не нужно с ним говорить: он читает мои мысли и тут же отвечает на них своими. Если кто-нибудь входит в комнату, он, если я (и только я) этого хочу, смотрит на этого человека, обращается к нему и говорит ему то, что я хочу, чтобы он сказал, но делает это не точно под мою диктовку, а сообразно истине. Если же он хочет сказать собеседнику больше, чем, с моей точки зрения, того требует благоразумие, я прерываю поток его мыслей и его речь на полуслове и перевожу их в совершенно иное русло!»
Среди тех, кто посетил Бузанси, дабы увидеть необыкновенные явления собственными глазами, был месье Клоке, королевский сборщик налогов. Страстный любитель чудес и загадок, он с готовностью поверил всему, что ему рассказал месье де Пюизегюр. Кроме того, он написал отчет обо всем, что видел, и принял за чистую монету, проливающий дополнительный свет на развитие данного заблуждения303. Он пишет, что те находившиеся в магнетическом состоянии пациенты, за которыми он наблюдал, выглядели погруженными в глубокий сон, во время которого их способности к физическому восприятию временно «замирали» в пользу умственных способностей. Глаза пациентов были закрыты, они не реагировали на звуки и просыпались только от голоса магнетизера. «Если во время кризиса кто-либо дотрагивался до пациентов или даже до стульев, на которых они сидели, — пишет месье Клоке, — это, как правило, причиняло несчастным сильную боль и страдания, и у них начинались судороги. Во время кризиса они обладают необычной, если не сказать, сверхъестественной способностью, с помощью которой, проведя по представленному им пациенту рукой, они даже сквозь одежду чувствуют, какой орган болен». Другая странность состояла в том, что спящие, способные таким образом диагностировать болезни, заглядывать людям в желудки и назначать лечение, решительно ничего не помнили после того, как магнетизер освобождал их от чар. Времени, которое проходило с момента вхождения в кризис до выхода из него, для них как бы не существовало. Магнетизер мог заставить сомнамбул не только слышать себя, но и следовать за ним. Последнего он добивался, просто показывая на них пальцем, хотя их глаза были все время полностью закрыты.
Таким был животный магнетизм от маркиза де Пюизегюра. Пока он демонстрировал означенные феномены вокруг вяза, в Лионе объявился магнетизер иного рода — шевалье де Барбарен. Этот дворянин полагал, что для погружения пациентов в магнетический сон не нужны никакие атрибуты типа прутьев или baquet, а достаточно лишь усилия воли. Он проверил сей тезис на практике и добился успеха. Он садился у постелей пациентов и магнетизировал их заклинаниями, приводя их в состояние, очень похожее на то, в которое впадали подопечные Пюизегюра. С течением времени в разных местах появилось великое множество магнетизеров — последователей Барбарена, так называемых барбаренистов, которым приписывали несколько удивительных исцелений. В Швеции и Германии, где число этих фанатиков стремительно росло, их называли спиритуалистами, чтобы отличать их от последователей Пюизегюра, которых называли экспериментаторами. Спиритуалисты утверждали, что все проявления животного магнетизма, первопричиной которых Месмер считал рассеянный в природе магнетический флюид, на самом деле являются результатом воздействия одной человеческой души на другую; что после того, как между магнетизером и пациентом однажды устанавливается своего рода психическая связь, первый может воздействовать на последнего с любого, исчисляемого хоть сотнями миль расстояния усилием воли. Один из них описал блаженное состояние магнетического пациента следующим образом: «В таком человеке животный инстинкт достигает степени, максимально возможной в этом мире. Сей ясновидец — нерассуждающее животное, животное в чистом виде. Его наблюдения — это наблюдения души. Он подобен Богу: его взгляд проникает во все тайны природы. Когда его внимание сосредоточивается на каком бы то ни было объекте этого мира — на его болезни, смерти, любимых, друзьях, родственниках, врагах, — на них взирает его душа, и он проникает в причины и последствия их поступков; он становится целителем, прорицателем, священником!304»
Теперь давайте посмотрим, насколько эти таинства прижились в Англии. В 1788 году доктор Менодюк, который сначала был учеником Месмера, а затем — Делона, прибыл в Бристоль и прочел публичные лекции по магнетизму. Их успех был поистине выдающимся. Высокопоставленные и богатые персоны спешно отправились из Лондона в Бристоль, дабы стать пациентами или учениками Менодюка. Доктор Джордж Уинтер в своей «Истории животного магнетизма» дает следующий перечень этих людей: «Их было сто двадцать семь: один герцог, одна герцогиня, одна маркиза, две графини, один граф, один барон, три баронессы, один епископ, пять достопочтенных305 джентльменов и леди, два баронета, семь членов парламента, один священник, два врача, семь хирургов, а также девяносто два уважаемых джентльмена и леди». Позднее доктор Менодюк обосновался в Лондоне, где имел не меньший успех.
Свою деятельность в этом городе он начал с публикации адресованного дамам предложения об организации Гигиенической ассоциации. В нем он превозносил до небес целебный эффект животного магнетизма, ставил себе в заслугу ознакомление с ним англичан и подытоживал свои дифирамбы следующим образом: «Поскольку данный метод врачевания подвластен не только мужчинам и не требует университетского образования, а женщины вообще более склонны к проявлению сочувствия и непосредственно заинтересованы в сохранении здоровья своих детей и заботе о них, считаю своим долгом отблагодарить Вас, дамы, за то неравнодушие, что Вы проявили ко мне во время моего появления на свет, и помочь Вам, насколько это в моих силах, стать еще более полезной и востребованной частью общества. С этой целью я предлагаю организовать в Лондоне Гигиеническую ассоциацию во главе со мной и объединить ее с Парижской. Как только запишутся двадцать дам, будет назначен день первого собрания в моем доме, на котором они должны будут внести полную сумму вступительного взноса — пятнадцать гиней».
В письме Ханны Мор к Хорасу Уолполу306, датированном сентябрем 1788 года, она сообщает о «демонических ритуальных представлениях» доктора Менодюка и добавляет, что он имеет шансы заработать на них сто тысяч фунтов, как это в свое время сделал в Париже Месмер с помощью своих сеансов.
Интерес к животному магнетизму был столь велик, что примерно в то же самое время некий Холлоуэй прочел в Лондоне курс лекций по данному предмету, собрав со слушателей по пять гиней и сколотив таким образом солидный капитал. Художник Лутербург и его жена тоже неплохо заработали на животном магнетизме. Желание людей увидеть их странные манипуляции было настолько велико, что временами вокруг их дома в Хаммерсмите толпилось свыше трех тысяч человек, которым не удалось попасть внутрь. Билеты стоили от одной до трех гиней. Подобно Велентайну Грейтрексу, Лутербург исцелял прикосновением и в конце концов объявил о своей богоданной миссии. В 1789 году был опубликован рассказ о его так называемых чудесах, озаглавленный «Перечень нетрадиционных исцелений, проведенных без лекарств мистером и миссис де Лутербург с Хаммерсмит-Террас. Составлен почитательницей Агнца Божьего. Посвящается Его светлости архиепископу Кентерберийскому».
«Почитательницей Агнца Божьего» была полубезумная старуха Мэри Пратт, относившаяся к супругам де Лутербург с благоговением на грани обожествления. В качестве эпиграфа к своему сочинению она выбрала следующий стих из тринадцатой главы Деяний апостолов: «Смотрите, презрители, подивитесь и исчезните; ибо Я делаю дело во дни ваши, дело, которому не поверили бы вы, если бы кто рассказывал вам». Пытаясь придать деяниям художника-целителя религиозный статус, она считала, что таким рассказчиком должна быть женщина, так как апостол объявил, что мужчине не удастся перебороть недоверие людей307. Она утверждала, что с Рождества 1788 года по июль 1789 года Де Лутербург и его жена вылечили две тысячи человек, «готовых должным образом воспринять божественные прикосновения тех, кому сам Всевышний милостивейше даровал способность нести исцеление всем, кто глух, нем, слеп, хром или парализован».
В своем посвящении архиепископу Кентерберийскому она просила его сочинить новую молитву, обязательную для чтения во всех англиканских и неангликанских церквах, чтобы, не дай Бог, ничто не встало на пути у этого бесценного дара. Кроме того, она призвала всех государственных чиновников нанести визит мистеру и миссис де Лутербург и проконсультироваться с ними на предмет безотлагательного строительства крупной лечебницы и создания объединенного фонда для ее финансирования. Абсурдные воззвания Мэри Пратт привели к тому, что все магнетизеры стали объектами злословия, и Де Лутербурги, дабы отделаться от «почитательницы», уехали из Лондона, не отказавшись, однако, от своих трюков, которые вскружили голову бедной фанатичке и ввели в заблуждение многих других, считавших себя умнее ее.
С того времени до 1798 года англичане почти не уделяли внимания магнетизму. В указанном году была предпринята попытка возродить их веру в него, но это была популяризация скорее минерального, нежели животного магнетизма. Некий Бенджамин Дуглас Перкинс, американец, имевший хирургическую практику на Лестер-сквер, изобрел и запатентовал пресловутые «металлические вытягиватели». Он утверждал, что с помощью этих вытягивателей — двух маленьких, сильно намагниченных кусочков стали, чем-то похожих на пластины отца Хелля, — можно лечить от подагры, ревматизма, паралича и почти от всех остальных болезней, которым подвержен человеческий организм. Их надлежало прикладывать к больной части тела и осторожно, не надавливая, передвигать туда-сюда. Вскоре поползли удивительнейшие слухи, и было напечатано великое множество брошюр, расхваливавших целебное действие вытягивателей, которые продавались по пять гиней за пару. Перкинс быстро богател. Купив новое средство, подагрики забывали о своих болях; перед ним отступал ревматизм; зубную боль, которая зачастую проходит при одном лишь виде дантиста, чудо-пластины Перкинса сводили на нет. Благотворительное Общество друзей308, членом которого он был, оказало изобретению мощную моральную и материальную поддержку. Стремясь к тому, чтобы бедняки, многие из которых были не в состоянии заплатить м-ру Перкинсу за его вытягиватели не то что пять гиней, но и пять шиллингов, также могли пожинать плоды великого открытия, квакеры пожертвовали крупную сумму на строительство и содержание больницы, названной Институтом перкинизма, в которой пациентов магнетизировали бесплатно. За несколько месяцев вытягиватели получили самое широкое распространение, а их счастливый изобретатель стал богаче на пять тысяч фунтов.
Памятуя о целебной силе внушения и желая определить подлинную ценность вытягивателей, Хейгарт, известный врач из Бата, пошел на хитрость. Никоим образом не оспаривая действенность лечения по Перкинсу, доктор Хейгарт в присутствии многочисленных, но пообещавших сохранять конфиденциальность свидетелей пролил свет на истинную причину улучшения состояния больных. Он предложил доктору Фолконеру изготовить деревянные вытягиватели, выкрасить их под цвет стали и посмотреть, не дадут ли они тот же самый эффект. Для экспериментов отобрали пятерых пациентов Батской больницы. У четверых был хронический ревматизм лодыжки, колена, запястья и бедра, а пятый вот уже несколько месяцев страдал подагрой. В назначенный день доктор Хейгарт и его друзья собрались в больнице и с исключительно серьезным видом подвергли испытуемых воздействию поддельных вытягивателей. Ревматики сразу же почувствовали ослабление болей, причем трое из них — весьма существенное. Пациент с больным коленом ощутил в нем потепление и сказал, что может пройти из одного конца комнаты в другой. Он попробовал, и у него получилось, хотя днем раньше он не мог сделать ни шагу. Подагрику быстро полегчало, и те девять часов, что он был на ногах, он ни на что не жаловался; когда же он улегся в постель, боли возобновились. На следующий день на всех больных опробовали настоящие вытягиватели, и они описали свои симптомы почти в тех же выражениях.
Для окончательного подтверждения сделанных выводов несколькими неделями позднее был проведен эксперимент в Бристольском лазарете. Его объектом стал мужчина, у которого была столь тяжелая форма ревматизма плеча, что он, сидя, не мог поднять руку с колена. К больному месту были приложены поддельные вытягиватели, и для пущей солидности один из докторов вел точный отсчет времени с помощью секундомера, а другой при этом протоколировал изменение симптомов. Менее чем через четыре минуты пациент почувствовал себя настолько хорошо, что поднял руку на несколько дюймов без малейшей боли в плече!
Доктор Хейгарт написал отчет о своих наблюдениях и издал его небольшой книгой под названием «О воображении как о причине и лекарстве от болезней на примере поддельных вытягивателей». Это разоблачение нанесло системе доктора Перкинса смертельный удар. Его сторонники и покровители, все еще не желая признать себя обманутыми, испытывали вытягиватели на больных овцах, коровах и лошадях и утверждали, что металлические пластины приносят животным облегчение, а деревянные — нет. Но им никто не поверил, Институт перкинизма был предан забвению, а сам Перкинс покинул Англию, прихватив около десяти тысяч фунтов, чтобы безбедно прожить остаток своих дней в славном штате Пенсильвания.
Так англичане, посмеявшись над магнетизмом, на некоторое время забыли о нем. Охваченной революцией Франции также было не до него. Общества гармонии в Страсбурге и других больших городах худо-бедно существовали до тех пор, пока и ученики и наставники, озабоченные куда более серьезными проблемами, не перестали в них появляться. Доктрину, изгнанную из двух ведущих стран Европы, приютили мечтательные философы Германии. Под их эгидой чудодейственный магнетический сон открывал перед пациентами все новые и новые горизонты: они приобретали пророческий дар, их зрение охватывало весь земной шар, они могли слышать и видеть пальцами ног и рук, а также читать и переводить приложенные к их животам книги на языках, которых не знали. Темные крестьяне, введенные в транс с помощью величественного месмерического флюида, выдавали на-гора философские изречения, превосходившие мудростью все написанное Платоном, рассуждали о загадках разума красноречивее и логичнее всех когда-либо живших на свете метафизиков и объясняли запутанные богословские тезисы с той же легкостью, с какой бодрствующий человек расстегивает пряжки на обуви!
Первые двенадцать лет текущего столетия о животном магнетизме ничего не было слышно ни в одной европейской стране. Даже немцы, возвращенные к реальности грохотом наполеоновских пушек, свержением одних монархов и воцарением других, забыли про свои воздушные замки. В означенный период доктрина томилась безвестностью, из которой ее вывела написанная месье Делёзом и изданная в 1813 году книга «Histoire Critique du Magnйtisme Animal»309. Сей труд вернул полузабытую теорию к жизни. Вопрос о ее истинности или ложности вновь стал предметом междоусобной войны газет, брошюр и книг; многие медицинские светила возобновили исследования с твердым намерением докопаться до правды.
Постулаты, изложенные в знаменитом трактате Делёза, сводятся к следующему310: «Существует флюид, непрерывно выделяемый человеческим телом» и «создающий вокруг нас некую атмосферу», который, «не имея определенного направления течения», не оказывает ощутимого воздействия на окружающих. Он, однако, «поддается направлению усилием воли» и, будучи направленным таким образом, «испускается потоками» с силой, соответствующей энергии, которой мы обладаем. Его движение «подобно излучению светящихся тел»; «свойства его у разных людей различны». Он допускает высокую степень концентрации «и существует также в деревьях». Воля магнетизера, «направляемая несколько раз повторяемым движением руки», способна наполнить дерево флюидом. Большинство людей, в которых он переливает собственный флюид усилием воли, «испытывает ощущение тепла или холода», когда он проводит перед ними рукой, даже не прикасаясь к ним. Некоторые люди, достигнув определенной степени насыщения флюидом, впадают в состояние сомнамбулизма, или магнетического экстаза; находясь в этом состоянии, «они видят, как флюид окружает магнетизера сиянием и светящимися потоками вытекает у него изо рта и из носа, из его головы и рук, распространяя очень приятный запах и придавая особенный вкус пище и воде».
Может показаться, что данных «воззрений» вполне достаточно, чтобы усомниться в компетентности и здравомыслии любого излагающего их врача, но это лишь малая толика удивительных вещей, сообщаемых месье Делёзом. Далее он пишет: «Когда магнетизм вызывает сомнамбулизм, способности человека, погружаемого в это состояние, необычайно усиливаются. Некоторые его наружные органы, особенно органы зрения и слуха, утрачивают свои функции, но чувства, за которые они отвечают, сохраняются. Зрение и слух обеспечиваются магнетическим флюидом, который без участия каких бы то ни было нервов или органов немедленно передает соответствующие образы прямо в головной мозг. При этом сомнамбул, глаза и уши которого бездействуют, не просто видит и слышит, но делает это гораздо лучше, чем когда бодрствует. Он всегда знает, чего от него хочет магнетизер, даже если тот молчит. Он проникает взором внутрь собственного тела и в глубже всего сокрытые внутренности тех, кто, по-видимому, вступает с ним en rapport311, или в магнетический контакт. Чаще всего он видит только те органы, что поражены болезнью или расстройством, и по наитию назначает нужные лекарства. Он обладает пророческим зрением и предчувствием, которые, как правило, его не обманывают. Он излагает свои мысли на удивление легко и красноречиво. Он не лишен тщеславия. Он на какое-то время самостоятельно становится более совершенным существом, будучи направленным магнетизерем в нужное русло; если же мысленный посыл дан неверно, этого не происходит».
Месье Делёз утверждает, что для того, чтобы стать магнетизером и делать все вышеперечисленное, нужно соответствовать следующим условиям и действовать по следующим правилам:
«На время забудьте все ваши познания из области физики и метафизики.
Выбросьте из головы все возможные возражения.
Представьте, что в ваших силах взять болезнь в руку и отбросить ее в сторону.
Приступив к подготовке, первые шесть недель не рассуждайте логически.
Активно стремитесь делать добро, твердо верьте в силу магнетизма и в то, что вы им пользуетесь. Короче, гоните прочь сомнения, страстно желайте добиться успеха и действуйте с простодушием и заботой».
Другими словами, «будьте предельно легковерны, будьте крайне настырны, отвергните весь ранее накопленный опыт и не прислушивайтесь к голосу разума», и вы — магнетизер, который месье Делёзу по душе.
Став таким образом своего рода поводырем, «изолируйте больного от всех, кто может хоть как-то помешать процессу исцеления; оставьте лишь необходимых свидетелей — если нужно, только одного человека; настоятельно попросите их никак не вмешиваться в ваши действия и их результаты, а лишь разделить ваше страстное желание помочь пациенту. Выберите такое место, где вам не будет ни слишком жарко, ни слишком холодно и ничто не будет стеснять ваши движения. Устраните все возможные помехи проведению сеанса. После этого усадите пациента поудобнее, сядьте напротив него на сиденье, которое немного выше того, на котором сидит ваш подопечный, и примите такое положение, чтобы его колени находились между вашими, а ваши ступни — по бокам его ступней. Сначала попросите его полностью довериться вам, думать только о выздоровлении, не удивляться возможным ощущениям и не утруждать себя выяснением их причин, ничего не бояться; не беспокоиться и не тревожиться, если действие магнетизма вызовет кратковременные боли. Далее, сосредоточившись, возьмите его за руки так, чтобы внутренние стороны его больших пальцев соприкасались с внутренними сторонами ваших, а затем устремите на него пристальный взгляд! В этом положении вы должны оставаться от двух до пяти минут — пока не почувствуете, что ваши и его большие пальцы одинаково нагрелись. После этого высвободите руки, отведите их в стороны от больного, одновременно повернув внутренними сторонами наружу, и поднимите их на уровень его головы. Положите руки на его плечи и оставьте их в этом положении примерно на минуту, после чего осторожно проведите ими по его рукам до кончиков пальцев, едва касаясь их (подобно тому, как при ходьбе вы едва касаетесь руками собственного тела). Повторите данный пасс пять-шесть раз, каждый раз поворачивая руки тыльными сторонами внутрь и немного отводя их от тела пациента, прежде чем поднимать. Далее положите руки ему на голову и, выждав какие-то доли секунды, отнимите их и опускайте, проводя ими перед его лицом и выдерживая расстояние в один-два дюйма, до подложечной ямки. Здесь подержите их две минуты, уперевшись большими пальцами в подложечную ямку, а остальными — в подреберья. Затем медленно проведите руками вниз по телу пациента до колен, а лучше, если это вам не в тягость, до кончиков пальцев ног. До конца сеанса повторите всю последовательность (серию) пассов несколько раз. Кроме того, время от времени приближайтесь к пациенту, с тем чтобы класть руки на его заплечье и медленно проводить ими вниз по позвоночнику и бедрам, до колен или ступней. После первой серии пассов можете обходиться без наложения рук на голову больного и делать последующие пассы вдоль рук, начиная с плеч, и вдоль тела, начиная с подложечной ямки».
Такова процедура магнетизирования, рекомендуемая Делёзом. То обстоятельство, что у подвергавшихся ей изнеженных, капризных и нервных женщин начинались судороги, нисколько не удивляет даже наиболее стойких оппонентов животного магнетизма. Сидеть в принужденной позе, заливаясь краской смущения под пристальным взглядом парня, зажавшего твои колени своими и делающего пассы на различных частях твоего тела — этого было вполне достаточно, чтобы довести до припадка любую слабую женщину, особенно предрасположенную к истерии и убежденную в эффективности такого лечения. Столь же понятно, почему во время этой процедуры более уравновешенные и здоровые индивидуумы засыпали. Известны тысячи прецедентов означенных явлений, имевших место в результате данного воздействия. Но являются ли они свидетельством в пользу животного магнетизма? Подтверждают ли они существование магнетического флюида? И без того известно, что тишина, монотонность и длительное расслабленное сидение в одной позе усыпляют, а возбуждение, склонность к подражанию и необузданное воображение в сочетании с неустойчивой психикой вызывают конвульсии.
Книга месье Делёза произвела во Франции настоящую сенсацию, и интерес к животному магнетизму вспыхнул с удвоенной силой. В следующем году начал выходить журнал, посвященный исключительно данному предмету и получивший название «Annales du Magnйtisme Animal»312; немного позднее появилась «Bibliotheque du Magnйtisme Animal»313 и множество других изданий. Примерно тогда же начались магнетические сеансы аббата Фариа по прозвищу «чудотворец», добившегося на этом поприще таких успехов, что его считали человеком, выделяющим больше месмерического флюида и обладающим более сильной волей, нежели большинство людей. Результаты его экспериментов, которые месмеристы столь уверенно считают подтверждением их доктрины, убедительно доказывают, что все дело во внушении, а не в каком-то гипотетическом флюиде. Аббат усаживал своих пациентов в кресло с подлокотниками, приказывал им закрыть глаза и громким властным голосом произносил одно-единственное слово: «Спи!» Он не совершал никаких манипуляций, у него не было baquet — проводника флюида, но это не помешало ему усыпить массу народа. Он хвастался, что за всю свою жизнь ввел таким образом в состояние сомнамбулизма пять тысяч человек. Зачастую возникала необходимость повторить команду три или четыре раза; если же после этого пациент по-прежнему бодрствовал, аббат выходил из затруднительного положения, удаляя его из кресла и заявляя, что тот не поддается магнетическому воздействию. Следует особо подчеркнуть, что магнетизеры не приписывают флюиду универсальную эффективность: магнетизм, утверждают они, не действует на сильных, здоровых, недоверчивых и тех, кто его обдумывает, а действует на тех, кто твердо в него верит, на слабых телом и слабых духом. А чтобы те, кто входит во вторую категорию, но в силу тех или иных причин сопротивляется магнетическим чарам, не нарушали общей стройной картины, апостолы месмеризма заявляют, что в определенных ситуациях магнетизм не действует даже на них. К таким ситуациям относится присутствие насмешника или скептика, которое может ослабить или вовсе свести на нет силу флюида. В своих наставлениях магнетизеру месье Делёз со всей определенностью пишет: «Никогда не магнетизируйте в присутствии любознательных!»314
На этом мы и завершим наш рассказ, ибо нет никакой разумной причины прослеживать далее историю животного магнетизма, особенно в наше время, богатое на феномены, реальность которых неоспорима и которые поражают и ставят в тупик наиболее эрудированную, беспристрастную и дорожащую истиной часть человечества. Изложенного, однако, достаточно, чтобы показать, что если магнетизм и имеет какое-то рациональное зерно, то оно почти не прощупывается под ворохом неверных представлений и преувеличений. С другой стороны, изучив его историю с самого начала, едва ли можно утверждать, что он не принес никакой пользы. В 1784 году Байи писал: «Магнетизм полезен осуждающей его философии хотя бы тем, что пополняет собой перечень известных заблуждений человеческого разума и представляет собой великое испытание силы внушения». Быть может, он по крайней мере хоть немного осветил дорогу тем, кто занят грандиозным исследованием воздействия разума на материю — воздействия, которое люди, вероятно, никогда не поймут до конца. Он, может статься, является дополнительным доказательством силы непобедимого духа и слабости плоти по сравнению с оным, еще одной иллюстрацией изречения вдохновенного Псалмопевца315, считавшего, что «дивно строение наше и внушает благоговение».
Влияние политики и религии на стрижки, бороды и усы
Speak with respect and honour
Both of the beard and the beard’s owner.
— Hudibras316.
Известное изречение апостола Павла, гласящее, что «длинные волосы — позор для мужчины», послужило предлогом для множества необычных законодательных актов со стороны как светских, так и церковных властей. В Англии и Франции стрижки и бороды регламентировались государством со времени введения христианства до XV века.
Мы обнаруживаем, что и в более стародавние времена мужчинам не разрешалось обходиться со своими волосами как им заблагорассудится. Александр Македонский считал, что если солдат носит бороду, то он дает врагу шанс ухватиться за нее и отрубить ему голову, и во избежание этого приказал всей армии побриться и делать это регулярно. Нежелание античного полководца оказывать врагу означенную любезность является прямой противоположностью традиции, бытующей среди североамериканских индейцев, для которых делом чести является отращивание «великодушного локона» для упрощения процедуры снятия скальпа.
Одно время длинные волосы считались в Европе символом верховной власти. Григорий Турский317 писал, что в царствование преемников Хлодвига I ношение длинных и вьющихся волос было исключительной привилегией королевской семьи. Те дворяне, чья власть не уступала королевской, не хотели демонстрировать свое подчиненное положение и отпускали не только очень длинные волосы, но и огромные бороды. Эта привилегированная мода с незначительными изменениями просуществовала до вступления на престол Людовика I Благочестивого, преемники которого вплоть до Гуго Капета также стриглись коротко. Они делали это не столько из благочестия, сколько из желания отличаться от остального населения, все сословия которого, не исключая сервов318, не считались с запретами и отращивали и волосы, и бороды.
Норманны, вторгшиеся в Англию под началом Вильгельма I Завоевателя, стриглись очень коротко и не носили ни бород, ни усов. Когда войско Гарольда II двигалось к Гастингсу, он послал вперед разведчиков для оценки боеспособности и численности сил неприятеля. По возвращении они среди прочего доложили, что «вражьи солдаты зело походят на священников, потому как лица и губы их полностью выбриты». Среди англичан в то время было модно носить длинные волосы и усы, но брить подбородки. Когда надменные победители поделили между собой обширные земли англосаксонских тэнов319 и франклинов320, когда для того, чтобы заставить англичан действительно почувствовать себя покоренными и сломленными, в ход шла любая тирания, последние отращивали волосы, усы и бороды, чтобы как можно меньше походить на своих стриженых и бритых хозяев.
Мужская мода на длинные волосы, вызывавшая крайнюю неприязнь духовенства, была широко распространена во Франции и Германии. В конце XI столетия папа римский издал декреталию321, горячо поддержанную церковными властями всей Европы и гласившую, что длинноволосых мужчин следует при жизни отлучить от церкви и лишить права на заупокойную молитву. Уильям Малмсберийский пишет, что небезызвестный св. Вульфстан, епископ Вустерский, при виде мужчины с длинными волосами приходил в ярость. Он считал эту моду чрезвычайно аморальной, преступной и богомерзкой. Святой отец постоянно носил в кармане маленький нож, и каждый раз, когда кто-нибудь, виновный в «преступлении», становился перед ним на колени для благословения, он коварно выхватывал его и отрезал у человека клок волос. Он бросал их грешнику в лицо и говорил, что если тот не сострижет все остальное, то попадет в ад.
Однако мода при всем своем непостоянстве не поддается нажиму извне, и мужчины, рискуя быть осужденными на вечные муки, не расставались с лишними волосами. В царствование Генриха I Ансельм, архиепископ Кентерберийский322, счел необходимым переиздать пресловутое постановление об отлучении нечестивцев и объявлении их вне закона, но в силу того, что длинные и вьющиеся волосы поощрялись при дворе, угрозы церкви не возымели действия. Волосы Генриха I и его вельмож, локонами ниспадавшие на спины и плечи, стали для набожных scandalum magnatum323. Некий Серло, духовник короля, так горевал из-за отсутствия благочестия у своего повелителя, что произнес перед ним и придворными проповедь из известного текста св. Павла. Нарисованная священником картина пыток, ожидавших их на том свете, была столь ужасна, что некоторые из них, включая самого Генриха, обливались слезами и дергали себя за волосы, будто намереваясь вырвать их с корнем. Видя, какое впечатление произвели его слова, священник решил ковать железо, пока горячо, и, вынув из кармана ножницы, подстриг короля на глазах у его окружения. Некоторые главные придворные согласились подвергнуться той же процедуре, и длинные волосы, по-видимому, ненадолго вышли из моды. Но после того, как первоначальный пыл покаяния поостыл, придворные сочли, что клерикальная Далила лишила их силы324, и менее чем за полгода стали такими же грешниками, как и до стрижки.
Ансельм, архиепископ Кентерберийский, который, прежде чем получить этот высокий чин, был монахом в Беке, в Нормандии325, и заявил о себе в Руане как непримиримый противник длинных волос, не отказался от стремления искоренить их в Англии. Однако его неуступчивость вызывала явное неудовольствие короля, сделавшего окончательный выбор в их пользу. Между ними существовали и другие, более серьезные разногласия; и когда Ансельм умер, король был настолько рад тому, что избавился от него, что с его санкции престол архиепископа пустовал пять лет. Духовенство, однако, не сложило оружие, и со всех церковных кафедр страны звучали анафемы в адрес непокорного длинноволосого поколения. Но все было напрасно.
Стоу, описывая данный период и ссылаясь на еще более древнего летописца, утверждает, что «мужчины, забыв про свой пол и отрастив волосы, превратились в некое подобие женщин» и что когда с возрастом или по иным причинам их волосы портились и выпадали, «они вплетали себе валики и косы из фальшивых волос». Наконец один случай повлек за собой изменение моды. Какому-то придворному рыцарю, который очень гордился своими красивыми локонами, однажды приснилось, что на него, лежащего в постели, набросился дьявол и принялся душить его его же волосами. Он в ужасе проснулся и обнаружил, что ему в рот и впрямь попало много волос. Восприняв сон как предостережение небес и терзаясь угрызениями совести, он решил очиститься от скверны и в ту же ночь обрезал свои роскошные длинные локоны. Вскоре эта история стала притчей во языцех; ею, разумеется, с максимальной выгодой для себя воспользовались церковные проповедники, и примеру рыцаря, который был заметной и влиятельной фигурой, а также признанным, если можно так выразиться, законодателем моды, последовало подавляющее большинство мужчин. Теперь они выглядели почти так же благопристойно, как того в свое время хотел св. Вульфстан, увещевания которого оказались менее эффективны, чем сон щеголя. Однако, как пишет Стоу, «прошло чуть больше года, и все, кто причислял себя к придворным, предались прежнему пороку, стремясь превзойти женщин в длине волос». На короля Генриха чужие сны, похоже, никак не влияли, ибо даже его собственные сновидения не заставили его вторично подставить шевелюру под ножницы священника. Сообщается, что в то время его мучили кошмары. Вспоминая увиденное, он, оскорбивший церковь в этом и других вопросах, лишался дара речи. Чаще всего ему снилось, что все епископы, аббаты и монахи стоят вокруг его кровати и грозятся избить его своими посохами. Это зрелище так его пугало, что он часто вскакивал голым с постели и атаковал призраков с мечом в руке. Лейб-медик Гримбальд, который, как и большинство своих коллег в ту пору, был священнослужителем, ни единым словом не намекал королю, что его сны — результат плохого пищеварения, а каждый раз советовал ему обрить голову, помириться с церковью и искупить свои грехи пожертвованиями в ее пользу и молитвами. Но монарх упорно не желал следовать доброму совету; и лишь год спустя, чуть не утонув во время сильного шторма, он раскаялся в содеянном, коротко подстригся и стал относиться к пожеланиям духовенства с должным почтением.
Во Франции к проклятиям Ватикана в адрес длинных волос едва ли относились с бóльшим уважением, чем в Англии. Тем не менее Людовик VII оказался послушнее своего заморского собрата и, к великому сожалению всех придворных кавалеров, стригся коротко, как монах. Ветреной, надменной и любившей развлечения королеве Алиеноре Аквитанской это не нравилось, и она постоянно упрекала мужа в том, что он подражает монахам не только в прическе, но и в аскетизме. Это стало причиной их взаимного отчуждения. В конце концов она была уличена в неверности стриженому и равнодушному супругу, они развелись, и короли Франции потеряли Аквитанию и Пуату — богатые провинции, которые были ее приданым. Вскоре после этого Алиенора вышла замуж за Генриха, герцога Нормандии, впоследствии ставшего Генрихом II Английским, и тем самым позволила королям Англии закрепиться на исконно французских территориях, что в течение многих столетий было причиной длительных и кровопролитных войн между двумя странами.
Когда в эпоху крестовых походов все щеголеватые молодые люди отправлялись в Палестину, духовенству не составляло большого труда убеждать остававшихся в Европе степенных бюргеров в гнусности длинных волос. В отсутствие Ричарда I Львиное Сердце его английские подданные не только коротко стриглись, но и брились. Уильям Фицосберт, или Длиннобородый, великий народный вождь того времени, заново ввел среди тех, кто гордился своим англосаксонским происхождением, моду на длинные волосы. Он сделал это для того, чтобы они как можно сильнее отличались от горожан и норманнов. Его собственная борода доходила ему до пояса, отсюда и прозвище, благодаря которому он вошел в историю.
Церковь никогда не относилась к бородам так же враждебно, как к длинным волосам. Обычно она позволяла изменчивой моде на бороды идти своим чередом. В царствование Ричарда I англичане носили короткие бороды, а через сто с лишним лет после его смерти их бороды были такими длинными, что были упомянуты в известной эпиграмме, написанной шотландцами, посетившими Лондон в 1327 году по случаю женитьбы Дэвида, сына Роберта Брюса, на Иоанне, сестре короля Эдуарда. Данная эпиграмма, которая была приклеена к двери церкви св. Питера Стенгейта, гласила:
Long beards heartlesse,
Painted hoods witlesse,
Gray coats gracelesse,
Make England thriftlesse326.
Когда император Священной Римской империи Карл V вступил на испанский престол, он не носил бороды. Не следовало ожидать, что раболепные тунеядцы — окружение монархов во все времена — осмелятся выглядеть мужественнее своего повелителя. Почти все придворные немедленно сбрили бороды. Новому веянию не поддались лишь немногие степенные старики, не пожелавшие в преддверии смерти расстаться с бородами, которые они носили много лет. В целом рассудительные испанцы отнеслись к нарушению давней традиции с печалью и тревогой, считая бороду квинтэссенцией всех положительных мужских качеств. В то время была в ходу следующая поговорка:
Desde que no hay barba, no hay mas alma.
(«C тех пор как мы лишились бород, у нас больше нет душ».)
После смерти короля Франции Генриха IV бороды приобрели дурную славу и в этой стране. Это произошло по той простой причине, что его наследник был слишком молод, чтобы отрастить бороду. Некоторые бывшие приближенные великого Беарнца327, в том числе его министр финансов Сюлли, отказывались расстаться с бородами, несмотря на колкости молодого поколения.
Кто не помнит разделение Англии на «круглоголовых» и «кавалеров»328? В то время пуритане считали длинные локоны монархистов средоточием пороков и безбожия, а последние думали, что ум, мудрость и добродетель их оппонентов так же малы, как и их волосы. Волосы человека были отражением его убеждений — как политических, так и религиозных. Чем короче они были, тем набожнее был их обладатель, и наоборот.
Но самое необычное (как своей дерзостью, так и успешностью) правительственное вмешательство в моду на волосы предпринял в 1705 году российский император Петр Великий. К тому времени во всех остальных странах Европы сама мода, веяния которой оказались могущественнее папских и императорских указов, сочла бороду анахронизмом и изгнала ее из цивилизованного общества. Но это лишь подогревало любовь русских к их древнему украшению как к знаку отличия от иностранцев, которых они ненавидели. Петр, однако, решил, что бороды надо сбрить. Будь он человеком, сведущим в истории, он, возможно, и не решился бы на столь деспотичную атаку освященных временем обычаев и предрассудков соотечественников, но он таковым не являлся. Не осознавая и не пытаясь осознать опасность нововведения, самодержец издал указ, согласно которому не только военным, но и гражданским лицам всех сословий, от дворян до крепостных, надлежало сбрить бороды. Понимая, что людям потребуется время, чтобы оправиться от первоначального шока, царь установил определенный срок, по истечении которого каждый россиянин, не пожелавший расстаться с бородой, должен был уплатить откуп в размере ста рублей. Священникам и крепостным было сделано послабление: оставившим бороды надлежало платить по одной копейке за каждый проход через городские ворота. Указ вызвал сильное недовольство, но все помнили о страшной участи, недавно постигшей стрельцов, и тысячам тех, кто хотел бунтовать, не хватило для этого смелости. Как удачно заметил один из авторов «Британской энциклопедии», они решили, что разумнее остаться без бород, нежели рискнуть рассердить того, кто без колебаний оставил бы их без голов. Русский царь в свою очередь оказался умнее пап и епископов прошлого: он не угрожал людям вечными муками, а брал с них плату за непослушание в звонкой монете. Из этого источника в казну много лет поступал весьма существенный доход. В обмен на полученный откуп сборщик выдавал уплатившему маленькую медную монету, которая чеканилась именно с этой целью и называлась «бородовая». На одной ее стороне были выбиты нос, рот, усы и длинная густая борода, увенчанные надписью «Деньги взяты»; всю композицию окружал венок и венчал герб России — двуглавый орел. На другой стороне стоял год чеканки. Каждый бородач должен был предъявлять эту, если можно так выразиться, расписку в получении на входе в любой город. Тех непокорных, которые отказывались платить откуп, ждала тюрьма.
С тех пор европейские правители пытались влиять на моду скорее убеждением, чем принуждением. Ватикан больше не беспокоится о бородах и локонах, и всякий, кому вздумается обрасти волосами, как медведь, может сделать это, не боясь быть отлученным от церкви или лишенным политических прав. В наше время объектом пристального внимания власть имущих являются усы.
Власти не оставляют людям выбора даже в этом вопросе. Религия в него до сих пор не вмешивалась, но, возможно, вмешается в будущем; влияние же политики весьма существенно. До Июльской революции 1830 года329 ни французские, ни бельгийские горожане не отличались особой любовью к данному виду растительности на лице, однако после нее как в Париже, так и в Брюсселе вряд ли был хоть один лавочник без настоящих или фальшивых усов. Во время оккупации Лёвена голландскими солдатами в октябре 1830 года неистощимым объектом для их шуток над бельгийскими патриотами стал тот факт, что те, подчинившись приказу, немедленно сбрили усы. Остряки-голландцы заявляли, что собранных ими усов бельгийцев хватило на то, чтобы набить ими матрасы для всех своих больных и раненых, помещенных в госпиталь.
Последняя нелепая прихоть того же рода имела место сравнительно недавно. В августе 1838 года в немецких газетах появился подписанный королем Баварии ордонанс, запрещавший гражданскому населению под каким бы то ни было предлогом носить усы и предписывавший полиции и другим органам власти арестовывать нарушителей и заставлять их бриться. «Как ни странно, — добавляет «Le Droit», журнал, из которого взят этот факт, — усы, подобно листьям, опадающим с деревьев осенью, немедленно исчезли; все поспешили подчиниться королевскому указу, и никого не арестовали».
Баварский король, небезызвестный рифмоплет, в свое время позволил себе великое множество поэтических вольностей. Эта его вольность не имеет, похоже, никакого отношения ни к поэзии, ни к здравому смыслу. Остается надеяться, что Его Величеству не взбредет в голову окончательно унизить своих подданных, заставив их подстричься наголо.
Крестовые походы
They heard, and up they sprung upon the wing
Innumerable. As when the potent rod
Of Amram’s son, in Egypt’s evil day,
Waved round the coast, up call’d a pitchy cloud
Of locusts, warping on the eastern wind
That o’er the realm of impious Pharaoh hung
Like night, and darken’d all the realm of Nile,
So numberless were they…
All in a moment through the gloom were seen
Ten thousand banners rise into the air,
With orient colours waving. With them rose
A forest huge of spears; and thronging helms
Appear’d, and serried shields, in thick array,
Of depth immeasurable.
— Paradise Lost330.
Каждая эпоха имеет свое безрассудство — план, проект или фантазию, — в которое она себя ввергает, побуждаемая или жаждой наживы, или потребностью в стимулах, или обычной склонностью к подражанию. За недостатком этих мотивов она впадает в безумие, порожденное либо политикой, либо религией, а порой и тем и другим. В основе крестовых походов лежали все вышеперечисленные мотивы, сочетание которых сделало данные акции наиболее удивительным документально зафиксированным примером того, до каких масштабов можно довести массовый энтузиазм. История с непререкаемой серьезностью сообщает нам, что крестоносцы были просто невежественными и свирепыми фанатиками, вставшими на путь крови и слез. Рыцарские романы, напротив, воспевают их набожность и героизм, ярко и страстно повествуют об их высокой нравственности и великодушии, о неувядаемой славе, которой они себя покрыли, и о неоценимых услугах, оказанных ими христианству. В данной главе мы обратимся и к тем и к другим источникам, чтобы выяснить, что же на самом деле воодушевляло разношерстные крестоносные армии. Стремясь пролить свет на эмоции, побуждения и мнения, мы будем опираться на исторические факты331, не пренебрегая романами и поэмами Средневековья.
Чтобы как следует понять умонастроение европейцев332 в то время, когда Петр Пустынник333 проповедовал «священную войну», необходимо изучить многолетнюю предысторию этого подвижничества. Нам придется познакомиться с паломниками VIII, IX и X веков и узнать об их рассказах о пережитых опасностях и увиденных чудесах. Первые паломничества в Святую землю предприняли, по-видимому, обращенные в христианство евреи и те наделенные живым воображением ревнители христианства, которых снедало естественное желание посетить места, которые им хотелось повидать больше всего на свете. После них в Иерусалим потянулись как благочестивые, так и те, чей образ жизни был далек от христианских заповедей. Первые, как и их предшественники, хотели полюбоваться местами, освященными жизнью и страданиями Христа, а вторых вдохновляла быстро получившая широкое распространение точка зрения, согласно которой такого паломничества было достаточно, чтобы очиститься от всех, даже самых тяжких, грехов. Еще одной весьма многочисленной категорией пилигримов были праздношатающиеся субъекты, для которых посещение Палестины было чем-то вроде современной моды на поездки в Италию и Швейцарию. Кроме того, у них появлялась возможность потешить собственное тщеславие, рассказывая по возвращении о своих похождениях. Однако действительно набожных пилигримов было намного больше. С каждым годом их число росло, и наконец их стало так много, что их прозвали «Христовое воинство». Исполненные экстатического восторга, они не боялись опасностей и лишений долгого пути и делали остановки во всех местах, описанных евангелистами. Для них было сущим благословением попить чистой воды из Иордана или принять крещение в тех же водах, где Иоанн крестил Спасителя. С благоговением и наслаждением бродили они в окрестностях Храма334, взбирались на священную Гору маслин335 и на ужасную Голгофу, где Иисус истекал кровью во искупление грехов человеческих. Для этих паломников каждый предмет был драгоценным. Шел интенсивный поиск реликвий. Кувшины с водой из Иордана и корзины с землей с Лысой горы доставлялись домой и по баснословным ценам продавались церквам и монастырям. Более сомнительные реликвии — древо истинного креста336, слезы Девы Марии, самоцветы с ее одежды, ногти с пальцев ног и волосы апостолов и даже палатки, которые помогал делать Павел, — выставлялись на продажу мошенниками в Палестине и доставлялись в Европу «ценою неимоверных лишений и забот». На все деревяшки, продававшиеся как остатки распятия, не хватило бы рощи из ста дубов, а слитых воедино «слез Девы Марии» достало бы на небольшой водоем.
На протяжении более чем двухсот лет паломникам не чинили в Палестине никаких препятствий. Просвещенный Гарун аль-Рашид и его ближайшие преемники поощряли паломничество, бывшее для Сирии одним из главных источников доходов, и обходились с путниками исключительно любезно. Халифы из династии Фатимидов, которые, будучи в других отношениях такими же терпимыми к паломникам, как их предшественники из рода Аббасидов, сильнее них нуждались в деньгах или были менее разборчивы в средствах их добывания, ввели для пилигримов плату за вход в Иерусалим, равнявшуюся одному византину337. Для тех из них, кто совершил утомительный переход через Европу, живя на подаяние, и прибыл к предмету всех своих чаяний без гроша в кармане, это было серьезной проблемой. Немедленно начались гневные протесты, но власти не отменили своего решения. Неплатежеспособные странники были вынуждены оставаться у ворот Священного города до тех пор, пока какой-нибудь богач, прибывший со свитой, не платил и за них. Роберт I Дьявол, герцог Нормандский и отец Вильгельма I Завоевателя, совершивший паломничество вместе со многими другими дворянами высочайшего ранга, по прибытии увидел у ворот множество пилигримов, с нетерпением ожидавших его приезда и внесения им причитавшейся с них входной платы. Он, как и все, к кому до и после него обращались с такой просьбой, выполнил ее.
Суммы, извлекаемые мусульманскими правителями Палестины из данного источника, стали воистину астрономическими в то время, когда число паломников резко возросло. В конце X и начале XI столетий умами христиан владела одна необычная идея. Они верили, что вот-вот наступит конец света, что апокалипсическое тысячелетие близится к концу и что Иисус Христос спустится в Иерусалим вершить над человечеством Страшный суд. Весь христианский мир был в смятении. Неустойчивых в вере, легковерных и грешных, составлявших в то время свыше 95% населения, обуял панический ужас. Бросив свои дома, родных и занятия, они, убежденные в том, что тяготы паломничества уменьшат тяжесть их грехов, толпами устремлялись в Иерусалим дожидаться второго пришествия. Панику усиливали падающие звезды, землетрясения и неистовые ураганы, валившие целые леса. Все эти природные явления, особенно метеоры, расценивались как предвестия скорого светопреставления. Каждый проносившийся над горизонтом метеор наполнял людей тревогой, и всё новые и новые паломники шли в Иерусалим с посохом в руке и котомкой за спиной, моля в пути Всевышнего об отпущении грехов. Мужчины, женщины и даже дети устало плелись к Священному городу в ожидании дня, когда небеса разверзнутся и сын Божий снизойдет с небес. Это выдающееся заблуждение по мере распространения создавало пилигримам дополнительные трудности. На всех дорогах из Западной Европы в Константинополь стало так много попрошаек, что монахи, обычно не скупившиеся на милостыню, теперь экономили ресурсы, дабы не голодать самим, и ничем не помогали путникам. Сотни тех, кто до этого великого наплыва мог рассчитывать на хлеб и мясо из монастырских закромов, радовались ягодам, созревавшим вдоль дорог.
Но это была не главная их проблема. По прибытии в Иерусалим они обнаруживали, что Святой землей завладел более суровый народ. На смену багдадским халифам пришли жестокие турки-сельджуки, относившиеся к паломникам с презрением и отвращением. Турки XI века были злее и нетерпимее сарацин338 десятого. Их раздражал приток в страну огромного числа пилигримов и еще больше беспокоило то, что те, по всей видимости, не собирались ее покидать. Постоянное ожидание Страшного суда удерживало их на месте, и турки, видя во все прибывавших толпах угрозу собственной власти, усложняли паломникам жизнь, подвергая их всевозможным гонениям. Их грабили, избивали кнутами; тем, кто был не в состоянии заплатить золотой византин за проход в Иерусалим, приходилось месяцами дожидаться более состоятельных единоверцев у городских ворот.
Когда первый заразительный страх перед Судным днем пошел на убыль, некоторые паломники, глубоко возмущенные нанесенными им оскорблениями, отважились вернуться в Европу. Везде, где они проходили, они рассказывали благожелательной аудитории о притеснениях христиан. Удивительно, что эти рассказы только усилили манию паломничества. Люди рассуждали так: чем опаснее путешествие, тем больше шансов на искупление тяжких грехов. Они полагали, что невзгоды и страдания только возвысят того, кто их перенес, в глазах Всевышнего, и изо всех городов и деревень устремлялись новые толпы паломников, пожелавших добиться благосклонности небес, дойдя до Гроба Господня339. Так продолжалось почти весь XI век.
На его исходе накопившееся недовольство было готово ко взрыву, и требовался лишь тот, кто поднес бы к нему факел. Наконец такой человек появился. Как и все, на чью долю когда-либо выпадала означенная миссия, Петр Пустынник заявил о себе именно тогда, когда это было нужно, оказавшись достаточно проницательным, чтобы стать выразителем духа времени раньше других. Полный энтузиазма, донкихотства, фанатизма и если не безумный, то близкий к безумию, он идеально подходил на эту роль. Подлинному энтузиазму всегда присущи упорство и красноречие, а этот необычный проповедник обладал обоими качествами в избытке. Он был монахом из Амьена, который, прежде чем принять постриг, служил солдатом. Согласно дошедшим до нас описаниям, он был некрасивым и низкорослым, но имел исключительно проницательные и умные глаза. Как и многие в ту эпоху, он совершил паломничество в Иерусалим и оставался там до тех пор, пока не пришел в бешенство от жестоких гонений на пилигримов. Вернувшись домой, он потряс европейцев красноречивым рассказом о невзгодах их единоверцев.
Прежде чем углубиться в повествование о необычайных результатах проповедей Петра Пустынника, для большего понимания читателем причин их действенности представляется целесообразным вкратце обрисовать состояние умов европейцев того времени. Прежде всего следует обратить внимание на духовенство, деятельность которого оказывала наиболее заметное влияние на судьбы общества. В описываемый период религия играла главенствующую роль в сознании людей и была единственной цивилизующей силой, способной усмирять их животные инстинкты. Церковь пользовалась непререкаемым авторитетом, и, несмотря на то что она держала массовое сознание в самом что ни на есть рабском подчинении в вопросах веры, она давала ему средства защиты от любого другого угнетения, кроме ее собственного. Священнослужители являлись средоточием всей истинной набожности, всех знаний и всей мудрости того времени и, что естественно при таком положении дел, обладали большой властью, которую им эта самая мудрость постоянно советовала расширять. Податные сословия не ждали от королей и дворян ничего, кроме унижений и поборов. Короли правили, опираясь на баронов, или, точнее сказать, усмиряя их, а бароны занимались только тем, что бросали вызов власти королей и всячески притесняли простой народ. Единственной опорой дворянства было духовенство, а оно, неизбежно насаждая суеверие, от которого само было несвободно, вместе с тем проповедовало вселявшую оптимизм доктрину о равенстве всех людей перед Богом. Таким образом, в то время как феодализм не оставлял простолюдинам никаких прав на этом свете, религия обещала им все права на том. Для них, в то время еще не обладавших политическим самосознанием, это было единственным утешением в жизни. Когда церковь, преследуя собственные интересы, призвала к крестовому походу, они с воодушевлением откликнулись на ее призыв. Палестина притягивала их, словно магнит; рассказы пилигримов, посещавших ее в течение двух последних веков, распаляли их воображение и наполняли их праведным гневом; и когда их друзья, наставники и вожди говорили о необходимости войны, это настолько отвечало их собственным мыслям и предубеждениям, что воодушевление перерастало в исступление.
Но если народные массы вдохновляла религия, то мотивы дворянства были иными. Представители данного сословия были жестокими и необузданными людьми, испорченными всеми возможными пороками и не наделенными никакими добродетелями, кроме храбрости. Единственной исповедуемой ими религией была религия устрашения, которая в сочетании с неуемным властолюбием и вела их в Святую землю. Большинство из них имело достаточно грехов, чтобы понести за них наказание. Они могли поднять руку на любого человека и не признавали иного закона, кроме своих страстей. Они игнорировали светскую власть духовенства, но боялись предрекаемых проповедниками адских мук. Война была их ремеслом и усладой их бытия, и неудивительно, что, получив заверение в отпущении всех грехов просто за то, что они последуют своей излюбленной наклонности, с энтузиазмом выступили в поход, став такими же ревностными крестоносцами, как и огромное большинство простолюдинов, ведомых преимущественно религиозными мотивами. Фанатичное желание искупления грехов и любовь к сражениям побуждали дворян отправляться на войну, тогда как у королей и владетельных князей Европы была своя причина поощрять их рвение. Поднаторевшие в политике монархи прекрасно сознавали те выгоды, которые они получили бы от отсутствия в своих владениях столь большого числа неугомонных и кровожадных интриганов, полностью подчинить себе которых было не в их власти. Таким образом, крестовый поход по тем или иным причинам устраивал все население Европы. Участвовать в войне или поддерживать ее хотели все общественные слои: короли и священнослужители — из политических соображений, дворяне — в силу непокорности и жажды власти, а простолюдины — благодаря религиозному рвению и накопившемуся за двести лет желанию отомстить за притеснения единоверцев, умело подогретому их собственными вождями.
Впервые грандиозная идея поднять силы христианского мира, дабы освободить живущих на Востоке христиан от рабства мусульман и вырвать Гроб Господень из рук неверных посетила Петра Пустынника в самой Палестине. Она полностью завладела им и не покидала его даже во время ночных сновидений. Один сон произвел на него такое впечатление, что он искренне уверовал в то, что ему явился сам Спаситель и пообещал ему поддержку и защиту в его священном начинании. Если раньше он и испытывал сомнения в праведности своей затеи, то этого случая оказалось достаточно, чтобы положить им конец.
Покаявшись во всех своих грехах и выполнив прочие паломнические ритуалы, Петр испросил аудиенцию у Симеона, патриарха греко-православной церкви в Иерусалиме. Хотя последний был в глазах Петра еретиком, он все же был христианином и так же остро, как его гость, реагировал на притеснения последователей Иисуса турками. Патриарх полностью поддержал идею Петра и по его предложению написал письма папе и самым влиятельным монархам христианских стран, в которых подробно рассказал о страданиях правоверных и настоятельно попросил властителей защитить их силой оружия. Петр действовал без промедления. Тепло попрощавшись с патриархом, он со всей поспешностью отбыл в Италию. В то время святейший престол занимал папа Урбан II, правление которого было отнюдь не безмятежным. Его предшественник Григорий VII оставил ему в наследство множество разногласий с германским императором Генрихом IV, а он в свою очередь нажил себе врага в лице французского короля Филиппа I, резко осудив его за прелюбодеяние. Пребывание в Ватикане было для него столь опасным, что он нашел убежище в Апулии, где находился под защитой тамошнего герцога Роберта Гвискара340. Туда, по-видимому, и проследовал Петр, хотя ни древние летописцы, ни современные историки не указывают место его встречи с папой. Урбан принял его исключительно радушно, со слезами на глазах прочел послание патриарха Симеона и отнесся к красноречивому рассказу Пустынника с той благосклонностью, что отражала всю глубину его сочувствия бедам христианской церкви. Энтузиазм заразителен, и он, похоже, сразу же передался папе от человека, обладавшего им в неограниченном количестве. Наделив Пустынника соответствующими полномочиями, он отправил его проповедовать идею священной войны всем народам и властелинам христианского мира. Пустынник проповедовал, и многие тысячи европейцев откликались на его проповедь. Его призывы всколыхнули Францию, Германию и Италию, и население этих стран стало готовиться к освобождению Сиона341. Один из хронистов Первого крестового похода, очевидец восторженной реакции Европы на воззвания амьенского аскета342, описал Пустынника того времени. Он пишет, что во всем, что тот говорил или делал, было, казалось, нечто божественное. Простые люди относились к нему столь благоговейно, что выдергивали волосы из гривы его мула и хранили их как реликвии. Во время проповеди он был одет, как правило, в шерстяную рубаху и темную накидку, ниспадавшую до пят. Его руки и ноги оставались обнаженными, и он не ел ни мяса, ни хлеба, поддерживая силы преимущественно рыбой и вином. «Мне неведомо, — пишет летописец, — откуда именно он начал свой путь, но мы видели, как он шел по городам и весям, проповедуя всюду, и простой люд собирался вокруг него такими толпами, делал ему столь щедрые подношения и возносил такие хвалы его святости, что я не припомню никого, кому когда-либо оказывали подобные почести». Так он все шел и шел, неутомимый, несгибаемый и полный религиозного рвения, заражая собственным безумием тех, кто его слушал, пока не забурлила вся Европа.
Пока Пустынник столь успешно взывал к простому люду, папа не менее успешно апеллировал к тем, кто должен был возглавить экспедицию. Он начал с того, что весной 1095 года созвал собор в Пьяченце. На нем римский первосвященник, помимо обсуждения с высшим духовенством вопросов церковного благочиния, принял послов византийского императора, которые сообщили о военных успехах рвавшихся в Европу турок. Участники собора, разумеется, единогласно поддержали выдвинутую папой идею крестового похода и, приняв на себя обязательство проповедовать ее в своих владениях, разъехались по домам.
Однако нельзя было ожидать, что всю необходимую поддержку удастся получить в Италии, и папа переправился через Альпы, дабы лично вдохновить на ратные подвиги воинственных и могущественных сеньоров и рыцарей Франции. То обстоятельство, что при этом он осмелился ступить на территорию, подвластную королю Филиппу, его врагу, ничуть не удивительно. Одни историки считают, что им двигал чисто политический расчет; другие утверждают, что причиной тому был обычный фанатизм — такой же страстный и слепой, как фанатизм Петра Пустынника. По-моему, верно второе. Похоже, что в то время люди зачастую совершали поступки, повинуясь внезапному внутреннему порыву и не думая о последствиях, поэтому можно предположить, что папа, углубившись во Францию, был так же импульсивен в своих действиях, как и те тысячи, что откликнулись на его призыв. В итоге он прибыл на собор в Клермоне, что в провинции Овернь, созванный им для обсуждения текущего состояния церкви, искоренения злоупотреблений и прежде всего подготовки к войне. Стояла чрезвычайно холодная поздняя осень, и земля была покрыта снегом. Семь дней собор заседал при закрытых дверях, а в это время в город со всей Франции стекались огромные толпы людей, рассчитывавших на то, что к ним обратится сам папа. Все города и деревни на мили окрест были заполнены пришлым людом; великое множество тех, кто был не в состоянии заплатить за проживание в частных домах и на постоялых дворах, ставило палатки под деревьями и на обочинах дорог. Вся округа напоминала один огромный лагерь.
На соборе королю Филиппу был вынесен приговор об отлучении от церкви за совершение прелюбодеяния с Бертрад де Монфор, графиней Анжуйской, и за неповиновение верховной власти апостольского престола. Этот смелый шаг наполнил людей глубоким уважением к непреклонности церкви, исполнившей свой долг, невзирая на титул согрешившего. Их любовь к церкви и страх перед ней одинаково возросли, и они с еще большим благоговением ожидали проповеди столь праведного и несгибаемого пастыря. По мере приближения часа, на который было назначено обращение папы к населению, большая площадь перед Клермонским кафедральным собором становилась все более многолюдной. Выйдя из здания собора в полном церковном облачении, папа в сопровождении кардиналов и епископов, также одетых по всей форме, взошел на сооруженный по такому случаю высокий помост, покрытый алым сукном. Среди его блистательного окружения находился тот, кто, не являясь ни епископом, ни кардиналом, был для простого народа более значимой фигурой: на возвышении стоял Петр Пустынник, одетый просто и аскетично. Историки расходятся во мнении, обращался ли Петр к собравшейся толпе или нет, но, поскольку его присутствие не вызывает сомнений ни у кого, логично предположить, что он выступал. Однако наиболее важной была речь, произнесенная папой. Когда он поднял руки, призывая тем самым к тишине, все голоса тут же умолкли. Он начал выступление с подробного рассказа о несчастьях, выпавших на долю христиан в Святой земле. Папа говорил о разорении Палестины лютыми язычниками343, которые убивают правоверных, сжигают их дома, насилуют их жен и дочерей, оскверняют алтари истинного Бога и уничтожают святые мощи. «Вы, — продолжал красноречивый понтифик (а Урбан II был одним из лучших ораторов своего времени), — вы, слышащие меня, исповедующие истинную веру, наделенные Господом властью, силой и величием души; вы, чьи прародители были опорой христианского мира и чьи короли остановили продвижение язычников, — я призываю вас стереть нехристей с лица земли и вызволить угнетенных единоверцев из той пучины, в кою те их ввергли. Гроб Господень находится в руках нечестивых, а святые места их нечестием мараются. О, храбрые рыцари и правоверные, отпрыски непобедимых предков, вы не посрамите их славу! Вы не дадите узам, связывающим вас с женой и детьми, удержать вас от великого дела, а вспомните слова самого Спасителя: “Кто любит отца или мать более, нежели Меня, не достоин Меня; и кто любит сына или дочь более, нежели Меня, не достоин меня… и всякий, кто оставит домы, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли, ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную”»344.
Энтузиазм понтифика передался толпе, и, прежде чем он закончил свое обращение, люди несколько раз издавали одобрительные возгласы. Он сказал, что те, кто возьмется за оружие, чтобы послужить христианству, будут вознаграждены не только на том, но и на этом свете. Он назвал Палестину страной, текущей млеком и медом, которая дорога Всевышнему как арена великих событий, спасших человечество от гибели. Он пообещал будущим крестоносцам, что эта страна будет поделена между ними, а также заверил их, что они получат полное прощение всех совершенных ими преступлений против Бога или себе подобных. «Ступайте же, — добавил папа, — во искупление грехов ваших и знайте, что после того, как придет ваш черед покинуть сей мир, вы обретете неувядаемую славу в мире ином». Собравшиеся на площади больше не могли сдерживать эмоции и прервали оратора громкими криками, хором скандируя: «Dieu le veult! Dieu le veult!»345 Сохраняя завидное присутствие духа, Урбан сообразил, как обратить этот всплеск энтузиазма в свою пользу, и как только воцарилась тишина, продолжил: «Дражайшие братья, сегодня вы провозгласили то, о чем Господь Бог в Евангелии сказал: “Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них”346. Не будь Господа в ваших душах, вы не произнесли бы столь единодушно одни и те же слова; или скорее сам Бог изрек их вашими устами, ибо это он вложил их в ваши сердца. Да будут они вашим боевым кличем, ибо они пришли от Бога. Пускай же воинство Христа, бросаясь на его врагов, выкрикивает лишь сие: “Dieu le veult! Dieu le veult!” Пусть всякий, кто возымеет намерение посвятить себя святому делу, даст о том обет Богу и до выступления в поход будет носить крест Божий на груди или на челе; и пусть тот, кто готов отправиться в путь, поместит сию священную эмблему на плечах в память о заповеди Спасителя нашего: “И кто не берет креста своего и следует за Мною, тот не достоин Меня”»347.
Весть об этой речи348 невероятно быстро достигла самых отдаленных уголков Европы. Даже там она стала известна задолго до прибытия конных гонцов — факт, который расценивался не иначе как сверхъестественный. Но надо сказать, что к тому времени возможность объявления крестового похода обсуждали все кому не лень, и люди были готовы к такому повороту событий.
Относившиеся к идее с энтузиазмом заявляли, что это непременно случится, и реальность совпала с их предсказанием. В то время, однако, подобного стечения обстоятельств было вполне достаточно, чтобы счесть происшедшее чудом, — что все и сделали.
Во Франции и в Германии на протяжении нескольких месяцев после Клермонского собора происходили удивительные вещи. Набожные, фанатичные, нуждающиеся, беспутные, молодые, старые и даже женщины, дети и калеки сотнями записывались в крестоносцы. Во всех деревнях священники вели активную агитацию, обещая бессмертие тем, кто принимал красный крест349, и осыпая самыми страшными угрозами тех поглощенных земными интересами и делами, кто отказывался это сделать или не мог принять решение сразу. Все вступавшие в крестоносцы должники освобождались папским указом от обязательств перед кредиторами; на тех же условиях преступники всех мастей приравнивались к законопослушному населению. Церковь брала имущество крестоносцев под свою защиту, заверяя их в том, что сами св. Павел и св. Петр спустятся с небес, чтобы сторожить их собственность во время их отсутствия. Религиозная экзальтация толпы подогревалась атмосферными явлениями, которые расценивались как предзнаменования. Тогда имело место необычайно яркое северное полярное сияние. Тысячи крестоносцев выходили посмотреть на него и в знак поклонения падали ниц. Оно считалось несомненным предвестием вмешательства Всевышнего и изображением его армий, сражающихся с неверными и разбивающих их наголову. Сообщения о чудесах были повсюду обычным делом. Один монах рассказывал об увиденных им в небе двух гигантских конных воинах, один из которых выглядел как христианин, а другой — как турок. Они сражались друг с другом на огненных мечах, и христианин, разумеется, победил. Говорили, что с неба упало несметное число звезд, падение каждой из которых символизировало гибель врага-язычника. Кроме того, люди верили, что император Карл Великий воскреснет из мертвых и поведет построенное в боевой порядок воинство Христово к победе. Примечательной особенностью массового помешательства был энтузиазм женщин. Повсеместно они уговаривали возлюбленных и мужей забыть про все на свете ради священной войны. Многие из них выжигали себе крест на груди и руках и красили его красной краской, дабы он постоянно напоминал им об их рвении. Другие, еще более фанатичные, точно таким же образом метили слабые конечности малолетних и грудных детей.
Гвиберт Ножанский пишет о монахе, который сделал на лбу крупный надрез в форме креста, залил его каким-то стойким красителем и говорил людям, что это дело рук ангела, явившегося ему во сне. Этот монах был, по всей видимости, скорее жуликом, чем глупцом, потому что за счет своей «святости» он жил лучше всех своих собратьев-пилигримов. На протяжении всего похода крестоносцы одаривали его едой и деньгами, и он, несмотря на нелегкий путь, изрядно потолстел еще до прибытия в Иерусалим. Признай он, что изувечил себя сам, его не считали бы святее остальных, а сказка про ангела действовала безотказно.
Все, кто обладал каким-либо ненужным в походе имуществом, устремились на рынки, дабы обратить его в звонкую монету. В результате земли и дома обесценились на три четверти, а оружие, доспехи и личное снаряжение в той же пропорции подорожали. Зерно, которое прежде из-за ожидаемого неурожая стоило исключительно дорого, внезапно хлынуло на рынок рекой и резко подешевело. Цены на продовольствие упали настолько, что, например, семь овец продавались за пять денариев350. Дворяне закладывали свои поместья иудеям и церкви за гроши или предоставляли городам и сельским общинам своих феодов вольности и привилегии за суммы, от которых несколькими годами ранее они бы с презрением отказались. Земледелец пытался продать свой плуг, а ремесленник — свои инструменты, чтобы купить меч для освобождения Иерусалима. Женщины с той же целью избавлялись от безделушек. Весной и летом того года (1096) на дорогах было полно крестоносцев, торопившихся в города и деревни, определенные в качестве окружных сборных пунктов. Взяв с собой жен и детей, одни ехали в Иерусалим на лошадях, другие — в повозках, а третьи плыли по течению рек в лодках и на плотах. Очень немногие из них знали, где находится Иерусалим. Одни полагали, что до него пятьдесят тысяч миль, другие думали, что доберутся туда всего за месяц, тогда как дети при виде любого города или замка восклицали: «Это Иерусалим? Это тот самый город?»351 Сеньоры и подвластные им рыцари, путешествуя на Восток и желая скрасить утомительные переезды, тешили себя забавой аристократии — соколиной охотой.
Гвиберт Ножанский, писавший только о том, что видел собственными глазами, сообщает, что энтузиазм был столь заразителен, что когда кто-нибудь узнавал о призыве понтифика, он тотчас же отправлялся к соседям и друзьям и уговаривал их ступить вместе с ним на «стезю Господню» (так назывался провозглашенный поход). Пфальцграфы горели желанием отправиться в путешествие; не меньшее воодушевление испытывали и все нижестоящие рыцари. Даже малоимущие распалялись настолько, что никто не задумывался о несоответствии своего материального положения предстоящим затратам или о том, стоит ли продавать ферму, виноградник или поле. Все распродавали имущество по столь низким ценам, словно находились в ужасном плену и стремились как можно скорее заплатить выкуп. Не решившиеся выступить в поход подшучивали и посмеивались над теми, кто столь разорительно для себя избавлялся от собственности, пророча, что их экспедиция будет неудачной, а возвращение и подавно. Но их сарказма хватало ненадолго: уже на следующий день они внезапно впадали в тот же раж, что и остальные. Те, кто прежде смеялся громче всех, сбывали все свое имущество за несколько крон и отправлялись в путь с теми, над кем они так потешались несколькими часами ранее. В большинстве случаев смех выходил им боком, ибо когда становилось известно, что кто-либо проявляет нерешительность или скепсис, его более рьяные соседи посылали ему в подарок вязальную иглу или прялку, выражая тем самым свое презрение. Не желая прослыть малодушными и самими стать объектами насмешек, былые скептики благополучно пополняли собой ряды Христова воинства.
Еще одним феноменом крестового похода было религиозное послушание, заставлявшее простолюдинов и дворян следовать знаменитому постановлению, известному как Божье Перемирие. В начале XI века французское духовенство, сопереживавшее бедам простого народа, но неспособное обуздать жадность и наглость феодалов, попыталось поощрить всеобщую добрую волю, обнародовав уложение под названием Божий Мир. Все, кто изъявлял согласие его выполнять, связывали себя клятвой не мстить ни за какой причиненный ущерб, не пользоваться имуществом, незаконно захваченным у других, и не пускать в ход смертоносное оружие. В награду поклявшиеся получали отпущение всех грехов. Какими бы благими ни были намерения авторов Мира, он не привел ни к чему, кроме клятвопреступлений, и повсюду, как и прежде, царил произвол. В 1041 году церковь предприняла еще одну попытку облагородить полуварварские нравы феодалов и торжественно провозгласила Божье Перемирие. Перемирие действовало с вечера среды до утра понедельника. В это время строго запрещалось под каким бы то ни было предлогом прибегать к насилию или мстить за какой бы то ни было ущерб. Цивилизовать людей такими средствами было невозможно. Большинство не решалось даже пообещать сохранять миролюбие в течение столь чрезмерного периода, как пять дней в неделю; те же немногие, кто его сохранял, с лихвой компенсировали свое послушание в остальные два дня. Впоследствии перемирие было сокращено и подлежало соблюдению с вечера субботы до утра понедельника, но если насилия и кровопролития от этого и стало меньше, то ненамного. На Клермонском соборе Урбан II объявил Божье Перемирие общим церковным законом352. Религиозный пыл был настолько силен, что все поспешили подчиниться. Все второстепенные страсти уступили место главной — крестовому походу. Феодалы больше не притесняли, разбойники не грабили, простой люд не роптал: всех увлек единый порыв, и никто, казалось, ни о чем ином не помышлял.
Лагерные стоянки этих разнородных толп выглядели необычно. Вассалы, вставшие под знамена своего сеньора, ставили шатры вокруг его замка, а те, кто отправился на войну за свой счет, до присоединения к тому или иному предводителю похода жили в бараках и хижинах, возведенных вблизи городов и сел. Луга Франции были уставлены палатками. Поскольку крестоносцы верили, что по прибытии в Палестину получат искупление грехов, сотни из них предавались всевозможным порокам. Пилигримы-сладострастники без стеснения торговались с непотребными девками, на плечах у которых также были красные кресты; чревоугодники давали волю своему аппетиту; пьяные оргии были в порядке вещей. Усердная служба Господу должна была смыть с них все прегрешения и преступления, и они, словно отшельники-аскеты, были искренне убеждены в грядущем спасении своих душ. Данный аргумент побуждал невежд безбоязненно потакать своим страстям, и одновременно с голосами молившихся в лагерях раздавались звуки похотливого разгула.
Первыми в крестовый поход отправились бедняки. Огромные толпы народа присоединились к Петру Пустыннику, которого они, как инициатора, считали наиболее подходящей кандидатурой на роль полководца. Другие примкнули к дерзкому авантюристу, которого историки величают не иначе, как Готье Санавуар, или Вальтер Неимущий, считая его, несмотря на прозвище, отпрыском дворянского рода и искусным воином. Третья, германская, группа сплотилась вокруг монаха Готшалька, о котором известно только то, что он был отъявленным фанатиком. Все эти отряды, которые, если верить историкам, насчитывали в общей сложности триста тысяч мужчин, женщин и детей, состояли из самого подлого европейского сброда. Не обладая ни дисциплиной, ни принципами, ни подлинной храбростью, они проносились по городам и селам словно чума, сея повсюду ужас и смерть. Первыми тронулись в путь ополченцы Вальтера Неимущего. Это было ранней весной 1096 года, всего через несколько месяцев после Клермонского собора. Члены этой разнузданной толпы заботились прежде всего о собственных интересах. Как и их, по сути, номинальный лидер, они были бедны и в поисках средств к существованию были готовы на все. Прокатившись волной по Германии, они вступили в Венгрию, население которой на первых порах относилось к ним довольно благосклонно. Не воспылав в достаточной мере энтузиазмом, чтобы самим присоединиться к крестовому походу, венгры тем не менее хотели внести в него посильную лепту, помогая его участникам. К несчастью, взаимопонимание длилось недолго. Не удовлетворившись провизией, крестоносцы возжелали чужого имущества. Они нападали на крестьянские дома и грабили их, а тех, кто оказывал сопротивление, убивали. Когда они подошли к Землину353, разъяренные венгры собрали большой отряд, атаковали их с тыла, убили великое множество отставших и, собрав их оружие и оторвав от одежд кресты, прикрепили их в качестве трофеев к стенам города. Вальтер, похоже, был не в настроении либо не в состоянии ответить ударом на удар, так как его армия, опустошительная во время грабежей, как стая саранчи, не отразила ни одной атаки полноценного противника. Разгневанные венгры не давали покоя ее тылам, пока она совсем не ушла из их страны. На территории Болгарии Вальтера ждал не лучший прием. Большие и малые города закрывали перед ним ворота, деревни отказывали ему в провианте, а горожане и крестьяне, объединив свои усилия, вырезали его людей сотнями. Продвижение армии напоминало скорее бегство, чем наступление; но нужно было двигаться вперед, и Вальтер продолжал путь, пока не прибыл в Константинополь с войском, которое от голода и сражений уменьшилось на две трети.
Более многочисленное ополчение, ведомое фанатичным Пустынником, следовало за силами Вальтера по пятам, замыкаемое громоздким вещевым обозом и таким количеством женщин и детей, которого хватило бы на отдельную армию. Если и можно было найти более гнусное отребье, чем войско Вальтера Неимущего, то это была рать Петра Пустынника. Имея больше ресурсов, его армия, двигаясь через Венгрию, не опускалась до грабежей, и выбери она маршрут, не проходящий через Землин, она, может статься, пересекла бы эту страну, не прибегая к насилию. Увидев висевшие над городскими воротами оружие и красные кресты своих предшественников, крестоносцы пришли в ярость, и их затаенная дикость вырвалась наружу. Город подвергся беспорядочному штурму, и когда осаждающие не столько за счет смелости, сколько благодаря численному превосходству ворвались в него, они подвергли его всем тем ужасам, что обычно влечет за собой сочетание победы, жестокости и беспутства. Крестоносцы получили от своего вождя полную свободу действий, и сотни жителей несчастного Землина стали жертвами мстительности, похоти и алчности. Разжечь пожар способен любой маньяк, но для его тушения могут потребоваться усилия многих умных людей. Петр Пустынник раздул огонь массового неистовства, но погасить его было не в его власти. Его необузданные приверженцы бесчинствовали до тех пор, пока их не остановил страх возмездия. Когда о бедах, обрушившихся на Землин, стало известно венгерскому королю, он выступил в поход с войском, достаточным для того, чтобы покарать Пустынника. Последний, узнав об этом, снялся с лагеря и удалился в направлении Моравы — широкой и бурной реки, впадающей в Дунай примерно в сорока милях к востоку от Белграда. Там его поджидал отряд разгневанных болгар, стараниями которых переправа через реку стала для него и его людей тяжелым и опасным делом. Огромное их количество утонуло, и многие пали под мечами болгар. В древних хрониках не указаны конкретные потери Пустынника на этой переправе; сообщается лишь, что они были очень велики.
Находившийся в Нише герцог Болгарский, опасаясь нападения, укрепил город, но Петр, наученный горьким опытом, предпочел воздержаться от военных действий. Его армия три ночи простояла лагерем под городскими стенами, и герцог, не желая без нужды озлоблять столь лютое и склонное к грабежам воинство, разрешил горожанам снабдить крестоносцев провизией. На следующее утро Петр мирно снялся с лагеря и проследовал дальше, но несколько отставших от армии бродяг из Германии сожгли мельницу и дом болгарина, с которым, видимо, накануне повздорили. Жители Ниша, которые с самого начала не доверяли крестоносцам и были готовы к самому худшему, немедленно сделали вылазку и отомстили. Мародеры были перебиты, и горожане, преследуя Пустынника, захватили всех ехавших в обозе женщин и детей, а также большое количество скарба. Вслед за этим Петр повернул обратно к Нишу, дабы потребовать от герцога объяснений. Последний беспристрастно констатировал имевшую место провокацию, и Пустыннику нечего было сказать в оправдание столь вопиющего насилия. Начались переговоры, обещавшие быть успешными, и болгары уже хотели освободить женщин и детей, когда группа крестоносцев безо всякого на то приказа свыше попыталась взобраться на стену и захватить город. Попытка Петра применить власть и уладить конфликт оказалась тщетной, горожане напали на его войско, и после короткой, но ожесточенной битвы уцелевшие крестоносцы побросали оружие и разбежались кто куда. Огромная армия, потери которой исчислялись многими тысячами, была разбита наголову.
Утверждают, что после этого брошенный всеми Пустынник укрылся в лесу в нескольких милях от Ниша. Не известно, испытывал ли он после столь сокрушительного поражения муки совести, скорбел ли по погибшим или же его пламенное рвение, успешно преодолев отчаяние, по-прежнему рисовало ему картину конечного триумфа его дела. Недавний предводитель стотысячной армии в одиночестве скитался по лесам, рискуя быть в любой момент обнаруженным и убитым каким-нибудь охочим до преследования болгарином. Наконец он случайно вышел к холму, на котором двое или трое самых храбрых его людей собрали около пятисот крестоносцев, отставших от войска. Они с радостью встретили Пустынника, и после совещания с ним было решено собрать воедино разрозненные остатки армии. На холме были разведены костры; разведчики начали прочесывать окрестности в поисках беглецов. Чтобы привлечь их внимание, сигнальщики регулярно трубили в рога, и до наступления сумерек под началом Пустынника было уже семь тысяч воинов. На следующий день к нему присоединились еще двадцать тысяч человек, и с этим жалким осколком былой рати он проследовал к Константинополю. Тела павших остались гнить в лесах Болгарии.
По прибытии в Константинополь, где его дожидался Вальтер Неимущий, Пустынник был радушно принят византийским императором Алексеем I Комниным. Можно было ожидать, что горечь поражений научит соратников Пустынника элементарной осторожности, но, к несчастью для них, обуздать их буйство и страсть к грабежам оказалось невозможно. Несмотря на то что их окружали друзья, щедро удовлетворявшие все их нужды, они не смогли удержаться от насилия. Напрасно Пустынник призывал их к спокойствию: он был способен усмирить их страсти не больше, чем самый неприметный солдат его армии. Они из чистой злобы подожгли в Константинополе несколько общественных зданий и ободрали с церковных крыш свинцовые полосы, которыми затем торговали на окраинах города. Возможно, именно тогда император Алексей начал относиться к крестоносцам с антипатией, которая впоследствии проявлялась во всех его деяниях, даже когда он имел дело с более благородными армиями рыцарей, прибывшими в Византию после Пустынника. Император, похоже, пришел к выводу, что даже турки представляют меньшую угрозу его власти, нежели эти полчища подонков из Западной Европы, ибо он быстро нашел повод, чтобы ускорить их продвижение в Малую Азию. Петр переправился с Вальтером через Босфор, но бесчинства, творимые людьми Пустынника, были таковы, что он, больше не рассчитывая с таким войском ни на какой благополучный исход, предоставил их самим себе и вернулся в Константинополь под тем предлогом, что ему нужно договориться с приближенными Алексея о снабжении армии провиантом. В рядах крестоносцев, забывших о том, что они находятся на территории врага и в данной ситуации должны думать прежде всего о единстве, произошел раскол. Между ломбардцами и норманнами, которыми командовал Вальтер Неимущий, и франками и германцами, находившимися под началом Петра Пустынника, возникли ожесточенные разногласия. Последние отделились от первых и, избрав своим лидером некоего Рейнальдо, или Рейнгольда, продолжили путь и овладели крепостью Ксеригорд354. Султан Сулейман II355 выступил в поход с превосходящими силами. Отряд крестоносцев, вышедший из крепости и устроивший неподалеку засаду, был застигнут врасплох и разбит наголову, а крепость — окружена со всех сторон. Осада длилась восемь дней, в течение которых христиане претерпевали адские муки из-за нехватки воды. Трудно сказать, сколько еще продержался бы гарнизон благодаря надежде на подкрепление или отчаянному сопротивлению, если бы его вероломный предводитель не отрекся от христианской веры и не сдал крепость в руки султана. Его примеру последовали двое или трое начальников отрядов, а все остальные крестоносцы, отказавшись принять ислам, были безжалостно преданы мечу. Так погибли последние жалкие остатки огромной армии, которая пересекла Европу с Петром Пустынником.
Судьба Вальтера Неимущего и его войска была столь же печальной. Узнав о резне в Ксеригорде, крестоносцы потребовали, чтобы их вождь немедленно повел их против турок. Вальтер, которому для того, чтобы стать хорошим полководцем, не хватало только хороших солдат, был более хладнокровным и понимал всю пагубность такого шага. Имевшихся у него сил было совершенно недостаточно для каких бы то ни было решительных действий на территории, где численное превосходство врага было весьма значительным, а крестоносцы в случае поражения не имели никакой безопасной позиции для отступления; поэтому он высказался против движения вглубь страны до прибытия пополнения. Сей разумный совет не нашел поддержки: армия громко выражала недовольство командиром и готовилась выступить в поход без него. Тогда храбрый Вальтер все же возглавил ее и ринулся навстречу гибели. На пути к Никее (современному Изнику) ему преградила путь армия султана, и завязалась ожесточенная битва, вылившаяся в самую настоящую бойню: из двадцати пяти тысяч христиан двадцать две тысячи были убиты и среди них сам Готье, получивший семь смертельных ран. Остальные три тысячи отошли в Цивитот356 и заняли оборону.
Петр Пустынник, ранее испытывавший отвращение от необузданности тех, кто по его призыву покинул Европу, теперь не находил себе места от постигшего их бедствия. К нему вернулось былое рвение; припав к ногам императора Алексея, Пустынник со слезами на глазах умолял его послать подмогу уцелевшим в Цивитот. Император пошел ему навстречу и отправил отряд, который прибыл как раз вовремя и спас окруженных турками и доведенных до отчаяния крестоносцев от неминуемой гибели. В результате переговоров осада была снята, и последние три тысячи ополченцев Вальтера Неимущего были благополучно переправлены в Константинополь. Алексей слишком настрадался от их варварства в недавнем прошлом, чтобы примириться с их нынешним пребыванием в своей столице; поэтому он приказал им сдать оружие, распорядился выдать каждому из них определенную сумму денег и отправил их обратно на родину.
Пока происходили все эти события, из лесов Германии выходили новые орды устремившихся в Святую землю. Ими командовал фанатичный священник Готшальк, который, подобно Готье и Петру Пустыннику, отправился в путь через Венгрию. О поведении и участи данного воинства, насчитывавшего как минимум сто тысяч человек, известно крайне мало. По всей видимости, их шествие сопровождалось грабежами и убийствами, а несчастные венгры едва не обезумели от их численности и алчности. Венгерский король Кальман предпринял смелую попытку избавиться от них, ибо ярость его подданных была такова, что ее утихомирило бы только полное истребление крестоносцев. Готшальк и его люди понесли наказание не только за собственные преступления, но и за злодеяния своих предшественников. Крестоносцев каким-то образом удалось разоружить, и разъяренные венгры, пользуясь их беззащитностью, расстреляли огромное их количество из луков. Скольким крестоносцам удалось спастись бегством, мы не знаем, но никто из них так и не добрался до Палестины.
Возглавляемые вождями, имена которых история не сохранила, из Германии и Франции отправлялись в путь другие толпы, более жестокие и неистовые, чем все, кто шел до них. Их изуверство намного превосходило самые дикие прихоти спутников Пустынника. Они собирались в шайки численностью от одной до пяти тысяч человек и шли самыми разными дорогами, занимаясь грабежами и убийствами. Они несли на плечах символ крестового похода, но считали, что глупо отправляться в Святую землю для борьбы с турками, оставляя в живых так много евреев — еще более давних врагов Христа. Поклявшись жестоко отомстить этому несчастному народу, они убивали всех иудеев, какие только попадались им на пути, сперва нанося им самые ужасные увечья. Согласно утверждению Альберта Аахенского357, эти изуверы жили в бесстыднейшем распутстве, и сильнее их порочности был лишь их фанатизм. Каждый раз, когда они отправлялись на поиски евреев, они пускали впереди себя гуся и козла, которых считали священными животными, наделенными божественной способностью обнаруживать убежища иноверцев. Только в одной Германии они предали смерти свыше тысячи евреев, несмотря на все попытки духовенства спасти их. Евреи подвергались столь страшным истязаниям, что те из них, кто еще не попал в руки крестоносцев, нередко совершали групповое самоубийство, дабы избежать мучительной смерти.
Избавление Европы от этого бедствия вновь стало уделом венгров. Покончив с евреями во Франции и в Германии, банды собрались воедино и направились в Святую землю все той же дорогой, политой кровью многих из тех трехсот тысяч, что прошли по ней ранее, и готовой к новым жертвам. Общая численность этих банд неизвестна, однако в Венгрии погибло так много их членов, что авторы той поры, не решаясь назвать число убитых даже приблизительно, пишут, что поля были буквально завалены трупами, а воды Дуная на протяжении многих миль были окрашены кровью. Самая страшная резня, в результате которой погибли почти все ранее уцелевшие крестоносцы, имела место у Визельбурга. Пока венгры раздумывали, переправляться ли им через Дунай, чтобы сразиться с крестоносцами на другом берегу, последние преодолели означенную водную преграду и, атаковав с безрассудной отвагой городскую стену, сумели пробить в ней брешь. И в эту минуту, когда победа, казалось, была близка, их внезапно охватил необъяснимый страх. Побросав оружие, охваченные паникой крестоносцы обратились в бегство, не ведая причины и не разбирая дороги. Вооруженные венгры пустились в погоню и беспощадно зарубили такое количество беглецов, что их сброшенные в реку тела, как утверждают, запрудили ее.
Это был наихудший пароксизм охватившего Европу безумия, и когда он закончился, за дело взялись ее рыцари. Эти хладнокровные, рассудительные и вместе с тем исключительно храбрые мужчины стали руководящей и направляющей силой огромного числа европейцев, рвавшихся в Азию. Именно их щедро наделяли самыми лестными эпитетами авторы рыцарских романов, оставляя историкам осуждение подлости и варварства их бесславных предшественников. Наиболее выдающимися из данной плеяды полководцев были Готфрид IV Бульонский, герцог Нижней Лотарингии, и Раймунд IV, граф Тулузский. Остальными четырьмя вождями рыцарского крестового похода358, каждый из которых был отпрыском царственного рода и командовал собственной армией, были: Гуго, граф Вермандуа, младший брат короля Франции Филиппа I; Роберт II Коротконогий, герцог Нормандский, старший брат английского короля Вильгельма II Рыжего; Роберт, граф Фландрский и Боэмунд, князь Тарентский, старший сын прославленного Роберта Гвискара, герцога Апулии и Калабрии. Все эти принявшие крест люди в той или иной мере разделяли фанатизм эпохи, но никто из них не действовал исключительно из религиозных побуждений. Конечно, они были опрометчивыми, но не настолько, как Готье Санавуар; они были набожными, но их набожность была далека от исступления Петра Пустынника; они были жестокими, но их жестокость не шла ни в какое сравнение со свирепостью монаха Готшалька. Их воинственность сдерживалась осторожностью, религиозное рвение — мирскими воззрениями, а дикость — духом рыцарства. Понимая, куда течет стремительный поток народной воли, и не желая, да и не видя для себя выгоды в том, чтобы его сдерживать, они позволили ему подхватить себя в надежде, что он вынесет их туда, где их доселе невыполнимые притязания на увеличение богатства и расширение власти будут наконец-то удовлетворены. Под их знамена встало множество феодалов более низкого ранга, львиную долю которых составлял цвет дворянства Франции и Италии, а остальные были выходцами из Германии, Англии и Испании. Военачальники справедливо опасались, что в случае, если все столь многочисленные армии будут следовать друг за другом, у них неизбежно возникнут проблемы с продовольствием. Поэтому было решено разделиться и двигаться к Константинополю, где армии должны были соединиться вновь, разными маршрутами: Готфрид Бульонский шел через Венгрию и Болгарию, граф Тулузский — через Ломбардию и Далмацию, а остальные вожди — через Апулию. Численность подчиненных им войсковых соединений оценивается по-разному. Греческая принцесса Анна Комнина пишет, что крестоносцев было так же много, как песчинок на морском берегу или звезд на небе. Оценка Фульхерия Шартрского359более убедительна и не столь чрезмерна: он сообщает, что все подразделения, осадившие Никею, столицу Вифинии360, насчитывали порядка ста тысяч конных и шестисот тысяч пеших воинов, не считая священников, женщин и детей. Гиббон считает, что эта цифра преувеличена, но не намного361. Позднее принцесса Анна пишет, что под началом Готфрида Бульонского было восемьдесят тысяч пехотинцев и всадников, предполагая, что у остальных предводителей воинов было столько, что всего их было около полумиллиона. Принцесса скорее всего недооценивает армию Готфрида, поскольку она, по общему признанию, была самой крупной и меньше других пострадала от тягот пути.
Первой ступила на греческую территорию армия графа Вермандуа. После высадки у Диррахия362 он был принят представителями императора со всем возможным почтением и радушием, а его люди были вдоволь обеспечены провиантом. Однако неожиданно и без объяснения причин граф был арестован по приказу императора Алексея и под конвоем доставлен в Константинополь. Различные авторы объясняют предательский и неразумный шаг императора по-разному, единодушно осуждая при этом столь вопиющее нарушение гостеприимства и законности. Наиболее вероятной причиной подобного образа действий представляется та, которую предложил Гвиберт Ножанский. Он утверждает, что Алексей, опасаясь, что крестоносцы хотят свергнуть его с престола, пошел на эту крайность, с тем чтобы принудить графа дать ленную присягу в обмен на освобождение. Император, видимо, полагал, что примеру столь видного принца, как брат короля Франции, сразу же последуют остальные предводители крестового похода. В результате он испытал жестокое разочарование, которого заслуживает всякий, кто совершает несомненное зло для достижения цели, сомнительной с позиций добра. Но политика такого рода вполне соответствовала узости взглядов императора, который в расслабляющей атмосфере придворной роскоши страшился наплыва смелых и амбициозных воинов с Запада и с помощью недостойных средств старался укротить силу, встретиться с которой лицом к лицу ему не хватало смелости. Если пребывание крестоносцев в его владениях и несло в себе угрозу его власти, то он мог легко избежать опасности, просто возглавив крестовый поход и направив энергию его участников на открыто признанный объект их устремлений — завоевание Святой земли. Но вместо того чтобы стать повелителем и верховным вождем крестоносцев, которых он сам ранее в значительной степени воодушевил на поход, отправив к папе эмиссаров с просьбой о помощи, император стал рабом тех, кто его ненавидел и презирал. Несомненно, что относиться с презрением ко всем без исключения крестоносцам его заставляло варварство людей Готье и Петра Пустынника, но это было презрение ограниченного человека, радующегося любому оправданию своей нерешительности и любви к праздности.
Войско Готфрида Бульонского шло через Венгрию, соблюдая строжайшую дисциплину. Подойдя к Визельбургу, он обнаружил лежащие по всей округе искромсанные тела убийц евреев и потребовал от короля Венгрии объяснить, почему его подданные напали на них. Последний подробно рассказал о зверствах, которые те учиняли, и столь аргументированно доказал Готфриду, что венгры действовали исключительно из соображений самообороны, что этот великодушный вождь счел данное объяснение удовлетворительным и проследовал дальше, не напав на венгров и не подвергнувшись нападению с их стороны. По прибытии в Филиппополь363 он впервые узнал о заключении в тюрьму графа Вермандуа. Он немедленно отправил гонцов к императору, потребовав освободить графа и пригрозив в случае отказа опустошить страну огнем и мечом. Пробыв один день в Филиппополе, он выступил в направлении Адрианополя364, где был встречен своими гонцами, сообщившими, что император отказался выполнить его требование. Готфрид, храбрейший и решительнейший из лидеров крестового похода, был человеком, не уклоняющимся от исполнения своих обещаний, и страна была отдана крестоносцам на разграбление. Тут Алексей сделал еще одну большую ошибку. Как только ему стало известно, что предводитель крестоносцев не относится к тем, кто бросается пустыми угрозами, он согласился освободить узника. Поступив несправедливо в первый раз, он повел себя трусливо во второй и научил на свою беду врагов (каковыми крестоносцам теперь приходилось себя считать) тому, что, имея с ним дело, им следует полагаться не на его справедливость, а только на его страх. Годфрид несколько недель простоял лагерем в окрестностях Константинополя, доставив немало беспокойства Алексею, который любыми средствами пытался вырвать у него феодальную присягу, которую ранее получил от Вермандуа. Иногда он действовал так, будто находился с крестоносцами в состоянии войны, и посылал против них войска. Порой он отказывался снабжать их провизией и приказывал не пускать их на рынки, а порой, словно являясь воплощением миролюбия и доброй воли, слал Готфриду дорогие подарки. Наконец честного и прямолинейного крестоносца так утомило показное добродушие императора и настолько измучило его вероломство, что, дав волю своему гневу, он отдал окрестности Константинополя своим солдатам на разграбление. Шесть дней полыхавшие крестьянские дома наполняли Алексея ужасом; но, как и предчувствовал Готфрид, эти костры в конце концов убедили его в ошибочности избранной им тактики. Боясь, что следующим объектом нападения будет непосредственно Константинополь, император отправил к Готфриду гонцов, чтобы попросить о личной встрече и сообщить о своей готовности в доказательство добрых намерений отдать заложником собственного сына. Готфрид согласился встретиться с ним и — то ли затем, чтобы положить конец бессмысленной вражде, то ли в силу каких-то иных причин — принес Алексею вассальную присягу. После этого он был осыпан почестями и в соответствии с удивительным обычаем той эпохи подвергся церемонии «почетного усыновления» императором. Готфрид и его младший брат Балдуин вели себя по такому случаю с должной учтивостью, но им было не под силу обуздать дерзость своих соратников, не желавших вступать ни в какие союзы с человеком, в лицемерии которого они уже неоднократно убеждались. Один из военачальников, граф Роберт Парижский, дошел до того, что уселся на монарший трон, нанеся Алексею оскорбление, которое вызвало у того лишь презрительную ухмылку, но отнюдь не добавило ему доверия ко все прибывавшему крестоносному ополчению. Несмотря на присущее императору вероломство, невозможно отнестись к нему без сострадания, ибо на тот момент его жизнь была одной непрерывной чередой унижений со стороны самонадеянных крестоносцев и не вполне беспочвенных страхов перед злом, которое они могли бы ему причинить, если бы какое-нибудь неблагоприятное обстоятельство натолкнуло их на мысль захватить его империю. Его дочь Анна Комнина с сочувствием отзывается о том, как он тогда жил, и один ученый немец в одном из недавно опубликованных трудов365 повествует об этом, ссылаясь на записи принцессы, следующим образом:
«Чтобы ничем не обидеть крестоносцев, Алексей исполнял все их прихоти и (зачастую) бессмысленные просьбы, даже если это требовало от него значительных физических усилий, в то время, когда он страдал тяжелой формой подагры, которая в конечном счете свела его в могилу. Ни один пожелавший встретиться с ним крестоносец не получал отказа, и он с величайшим терпением выслушивал нудные и велеречивые разглагольствования, которыми они в силу своей болтливости или фанатизма постоянно ему докучали. Император стоически выносил неподобающие и высокомерные выражения, которые они позволяли себе в его адрес, и строго отчитывал тех своих сановников, которые пытались защитить его достоинство от грубых нападок, ибо панически боялся малейших разногласий, видя в них потенциальный источник более масштабных зол. Хотя иноземные графы зачастую являлись к Алексею со свитой, совершенно несовместимой как с их, так и с его титулом, — иногда с целым отрядом рыцарей, полностью заполнявшим монаршие покои, — император не выказывал ни малейшего раздражения. Он принимал их в любое время; чтобы выслушать их пожелания и требования, он нередко садился на трон на рассвете, и вечерние сумерки заставали его на том же месте. Очень часто у него не оставалось времени на еду. Он не мог как следует отдохнуть много ночей подряд, будучи вынужденным довольствоваться беспокойным сном на троне, положив голову на руки. И даже эта дрема непрестанно прерывалась появлением все новых бесцеремонных рыцарей. Когда все придворные, изнуренные дневными заботами и ночными бдениями, не могли больше стоять на ногах и падали от усталости кто на скамьи, а кто на пол, Алексей по-прежнему собирался с силами и с кажущимся вниманием слушал утомительную болтовню латинян366, дабы у тех не было никакой причины для недовольства. Как же мог Алексей, пребывая в состоянии страха и тревоги, вести себя с достоинством, подобающим императору?»
Алексей, однако, должен был в значительной мере винить самого себя в тех унижениях, что выпали на его долю: из-за его неискренности крестоносцы не доверяли ему настолько, что с течением времени расхожей фразой стало утверждение, что император Алексей и греки являются более ожесточенными врагами западных христиан, чем турки и сарацины367. Нет нужды описывать в данной главе, претендующей на статус истории не столько крестовых походов, сколько безумства Европы, население которой в них отправлялось, различные акты подкупа и шантажа, умасливания и враждебности, с помощью которых Алексей ухитрился по мере прибытия в Византию вождей крестоносных армий вынудить их всех стать к нему в ленную зависимость. Так или иначе он добился от каждого из них желанной присяги, принесение которой отнюдь не являлось гарантией ее выполнения, после чего им было дозволено проследовать в Малую Азию. Лишь один предводитель — Раймунд де Сен-Жиль, граф Тулузский, так и не признал византийского императора своим сюзереном368.
Пребывание в Константинополе не принесло крестоносцам никакой пользы. Мелочные разногласия и ссоры с одной стороны и влияние развращенного и утопавшего в роскоши двора — с другой разрушили их прежнее духовное единство и охладили первоначальный пыл. Одно время армия графа Тулузского находилась на грани расформирования, и если бы этот полководец энергично не переправил ее через Босфор, оно скорее всего имело бы место. Высадившись в Азии, крестоносцы в какой-то степени воспрянули духом, а наличие опасности и лишений придало им мужества для выполнения той миссии, за которую они взялись. Первой запланированной военной операцией была осада Никеи, для овладения которой были задействованы все имевшиеся силы.
Первыми к Никее, под стенами которой произошло объединение всех армий, прибыли силы Готфрида Бульонского и графа Вермандуа. В ее осаде принимали участие такие прославленные крестоносцы, как отважный и благородный Танкред369, чье имя и славные деяния увековечены в «Освобожденном Иерусалиме», доблестный епископ Адемар Монтейльский Ле-Пюи370, Балдуин (впоследствии иерусалимский король)371 и Петр Пустынник — простой солдат, лишившийся всех былых привилегий. Предводитель турок-сельджуков иконийский372 султан Кылыч-Арслан I, деяния которого, овеянные ореолом фальшивой романтики, знакомы читателям поэмы Тассо373, где он изображен под именем Сулейман, совершил переход, чтобы отстоять город, но в результате нескольких ожесточенных боев, в которых христиане продемонстрировали изумивший его героизм, был разбит. Турецкий военачальник ожидал увидеть дикую недисциплинированную толпу наподобие вояк Петра Пустынника — людскую массу, в которой нет лидеров, способных добиться повиновения, а вместо этого столкнулся с опытнейшими полководцами того времени, стоявшими во главе армий, фанатичных ровно настолько, чтобы быть жестокими, не являясь при этом неуправляемыми. В этих сражениях обе стороны потеряли многие сотни воинов, и с обеих сторон имело место самое отвратительное варварство. Так, крестоносцы, одержав победу, отрубили у погибших мусульман головы и в качестве трофеев отправили их в корзинах в Константинополь. После того как разгромленный султан временно отступил, осада Никеи возобновилась с удвоенной силой. Турки оборонялись с величайшим упорством и обрушивали на крестоносцев град отравленных стрел. Когда какой-нибудь несчастный погибал под стеной, они спускали железные крючья, подцепляли тело, втаскивали его наверх, а затем, раздев и изувечив труп, сбрасывали его обратно на осаждающих. Последние имели солидные запасы продовольствия, и осада длилась тридцать шесть дней без малейшего ослабления усилий с обеих сторон. Рассказывают множество историй о нечеловеческом героизме христианских вождей — о том, как один человек обращал в бегство тысячу, как стрелы правоверных всегда попадали в цель и др. Один эпизод о Готфриде Бульонском, поведанный Альбертом из Экса374, заслуживает пересказа не только как свидетельство высокого мнения о его доблести, но и как пример заразительного легковерия крестоносцев — легковерия, которое, воодушевляя их на победу, часто ставило их на самую грань поражения. Некий турок громадного роста день за днем появлялся на зубчатых стенах Никеи и, стреляя из огромного лука, убивал великое множество христианских воинов. Каждая пущенная им стрела несла смерть; и хотя крестоносцы раз за разом целились ему в грудь, а он занимал исключительно незащищенную позицию, их стрелы, словно отклоняемые от траектории некоей таинственной силой, падали к его ногам, не причинив ему никакого вреда. Турок казался неуязвимым, и среди крестоносцев вскоре распространился слух, что он — не кто иной, как сам Сатана, непобедимый для простых смертных. Готфрид Бульонский, не веривший в сверхъестественную природу мусульманина, решил по возможности положить конец смятению, от которого опускались руки даже у самых лучших солдат. Взяв огромный арбалет, он встал впереди армии, чтобы испытать на наводящем ужас лучнике твердость своей руки. Стрела, нацеленная прямо в сердце турка, убила его. Сраженный мусульманин пал под горестные стоны осажденных и крики «Deus adjuva! Deus adjuva!»375 — боевой клич осаждающих.
Наконец, когда крестоносцы решили, что преодолели все препятствия, и готовились овладеть городом, они, к своему великому удивлению, увидели развевающийся над крепостными стенами флаг императора Алексея. Его представитель Фатиций, или Татикий, умудрился попасть в город с отрядом греческих войск в том месте, которое крестоносцы не штурмовали и оставили открытым, и уговорил турок сдаться ему, а не латинянам376. Когда последние узнали об этой хитрости, их возмущению не было предела, и солдат с величайшим трудом удалось удержать от возобновления штурма и осады византийского уполномоченного.
Тем не менее армия продолжила свой поход и в силу тех или иных причин разделилась на две части. Одни историки пишут, что это произошло случайно377, а другие в один голос утверждают, что это было сделано для упрощения добывания провианта в пути378. Одно подразделение состояло из отрядов Боэмунда, Танкреда и герцога Нормандского; другим, удалившимся на некоторое расстояние вправо, командовали Готфрид Бульонский и другие вожди. Иконийский султан, который после поражения при Никее интенсивно, но без лишнего шума готовился сокрушить крестоносцев одним мощным ударом, очень быстро собрал под свои знамена все многочисленные племена, которые были ему преданы, и, встав во главе армии, насчитывавшей по самым скромным оценкам не менее двухсот тысяч воинов (главным образом конных), обрушился на первое из вышеупомянутых подразделений христианского войска в Дорилейской долине. Ранним утром 1 июля 1097 года крестоносцы увидели, как передовые отряды турецкой кавалерии мчатся на них по склонам холмов. У Боэмунда, не ожидавшего нападения превосходящих сил султана, едва ли было время, чтобы как следует изготовиться к бою и перевезти больных и раненых в хвост колонны. Христиане, армия которых состояла преимущественно из пехотинцев, отступали по всем фронтам и сотнями гибли под копытами турецких коней и от отравленных стрел мусульманских лучников. Потеряв своих лучших рыцарей, крестоносцы отошли к вещевому обозу, где их преследователи устроили страшную резню, не пощадив ни женщин, ни детей, ни больных, ни раненых. И именно в тот момент, когда положение христиан было хуже некуда, им пришли на помощь подоспевшие Готфрид Бульонский и граф Тулузский, вмешательство которых изменило ход сражения. После упорной схватки турки бежали, и их прекрасно оснащенный лагерь попал в руки врага. Крестоносцы потеряли убитыми около четырех тысяч человек, в том числе нескольких известных вождей, среди которых были граф Роберт Парижский и брат Танкреда Вильгельм. Потери турок, которые не превысили этой цифры, но все же были довольно ощутимыми, вынудили их изменить тактику. Султан был далек от поражения, его армия по-прежнему была гигантской, и он принялся опустошать земли на пути крестоносцев. Последние нашли в турецком лагере обильные запасы продовольствия, но, не зная о вражеской уловке, отнюдь не стремились его экономить и несколько дней подряд наедались до отвала. Вскоре они дорого заплатили за свою глупость. В разоренной Киликии379, через которую крестоносцы двигались к Антиохийскому эмирату, они ужасно страдали от нехватки еды для себя и подножного корма для скота. Над ними висело палящее солнце, лучи которого иссушили то, с чем не смогли справиться пожары, устроенные султаном, и уже на второй день пути воды не было нигде вокруг. Пилигримы умирали по пятьсот человек в день. Лошади разделяли участь людей, и багаж, который ранее везли они, либо перекладывали на собак, овец и свиней, либо бросали совсем. В некоторых бедственных ситуациях, постигших христиан позднее, они думали только о своих сиюминутных прихотях и предавались самому опрометчивому расточительству, но в тот раз они, не скупясь, делились друг с другом последним. Религия, о которой они зачастую забывали в периоды благополучия, служила им опорой в дни невзгод и утешала их на смертном одре, суля вечное блаженство.
Наконец они достигли Антиохийского эмирата, где вода и корм для скота, падеж которого принял к тому времени угрожающие размеры, имелись в изобилии. Обрадованные крестоносцы разбили лагерь и, ничему не наученные горьким опытом голода, вновь принялись пировать.
18 октября они обложили Антиохию380 — хорошо укрепленный город, осада которого и события, которым она послужила причиной, относятся к наиболее выдающимся эпизодам Первого крестового похода. Этот город, который стоял на возвышенности и омывался рекой Оронт381, был очень удачно расположен с точки зрения обороны, а имевшийся у турецкого гарнизона запас провизии позволял выдержать длительную осаду. Христиане также не испытывали недостатка в съестных припасах, но, к несчастью для себя, обходились с ним крайне неразумно. Их войско насчитывало триста тысяч бойцов, и от Раймунда Ажильского382 мы узнаем, что у них было так много продовольствия, что они, как завзятые гурманы, выбрасывали бóльшую часть туши каждого забитого животного и питались исключительно деликатесными частями. Их расточительность была настолько сумасбродной, что менее чем через десять дней голод вновь взглянул им в лицо. После безрезультатной попытки овладеть городом путем coup de main383, они, страдая от голода сами, осадили его, дабы взять измором врага. Но вместе с нуждой пришло охлаждение энтузиазма. Предводители начали уставать от похода. Балдуин ранее отделился от остальной армии и, проследовав к Эдессе384, стал ее правителем путем интриг. Другие вожди уже не чувствовали прежнего воодушевления. Стефан (Этьен), граф Блуа и Шартра, и Гуго Вермандуа, неспособные терпеть лишения, вызванные их собственной глупостью и расточительностью, начали проявлять нерешительность. Даже Петр Пустынник затосковал по дому. Когда среди христиан, доведенных голодом до последней черты, начались случаи каннибализма, Боэмунд и Роберт Фландрский отправились со своими отрядами в экспедицию на поиски провианта. Ее результаты были весьма скромными; но даже то, что удалось добыть, расходовалось неэкономно, и всего через два дня положение стало таким же плачевным, как и прежде. Под предлогом отыскания продовольствия дезертировал со своим отрядом Фатиций, командир греков и представитель Алексея, его примеру последовали некоторые подразделения крестоносцев.
Над оставшимися довлела жестокая нужда, и они старались облегчить свой удел неустанными поисками примет и предзнаменований. Всевозможные природные явления наряду с необыкновенными видениями исступленных фанатиков то воодушевляли, то угнетали осаждающих в зависимости от того, что, согласно их трактовке, они предвещали — победу крестоносцев или их поражение. Однажды пронесся неистовый ураган, поваливший огромные деревья и шатры христианских военачальников. В другой раз лагерь пострадал от землетрясения, которое было расценено как предвестие великой опасности, нависшей над «делом креста». Но появившаяся вскоре после него комета вновь наполнила христиан оптимизмом: живое воображение заставило их поверить в то, что она имеет форму горящего креста, который приведет их к победе. Голод был не самой худшей из выпавших на их долю напастей. Нездоровая пища и загрязненный воздух с окрестных болот вызывали заразные заболевания, которые сводили крестоносцев в могилу быстрее, чем вражеские стрелы. В день умирало по тысяче человек, и захоронение трупов стало в конце концов задачей крайней сложности. И без того незавидное положение крестоносцев усугублялось тем, что каждый относился к своему соседу с растущим подозрением, так как лагерь кишел турецкими лазутчиками, которые ежедневно сообщали осажденным о передвижениях и потерях противника. Со свирепостью, порожденной отчаянием, Боэмунд приказал поджарить заживо двух выявленных им шпионов на глазах у всей армии и в пределах видимости защитников Антиохии. Однако даже этот страшный урок, преподанный шпионам, не привел к уменьшению их числа, и турки по-прежнему были осведомлены обо всем, что происходило в лагере христиан, не хуже их самих.
Когда крестоносцы были доведены до крайней степени отчаяния, они получили благую весть о прибытии из Европы подкрепления с обильным запасом продовольствия. Долгожданный вспомогательный отряд высадился в антиохийской гавани св. Симеона, примерно в шести милях от города. Туда отправилась шумная толпа голодных крестоносцев, сопровождаемая Боэмундом, графом Тулузским и усиленными подразделениями их слуг и вассалов, которые должны были охранять провиант при его доставке в лагерь. Предупрежденный о высадке гарнизон Антиохии пришел в состояние повышенной боевой готовности, и из города вышел корпус турецких лучников, получивший приказ устроить засаду в горах и преградить путь возвращающимся крестоносцам. Турки неожиданно напали на нагруженного провизией Боэмунда в горном ущелье. Большое число его спутников было убито, а он сам, едва избежав гибели, прискакал в лагерь и сообщил о разгроме эскорта. До Готфрида Бульонского, герцога Нормандского и других военачальников уже дошел слух об этой битве, и в ту минуту они готовились прийти на помощь попавшим в засаду. Армия, вдохновленная как боевым духом, так и голодом, тотчас же отправилась в путь и двигалась со всей возможной быстротой, чтобы перехватить победивших турок, пока те со своей добычей не добрались до Антиохии. Это им удалось, и началась яростная битва, которая продолжалась с полудня до захода солнца. Христиане завладели преимуществом и удерживали его; каждый из них сражался так, словно исход боя зависел только от него. Сотни турок погибли в водах Оронта, и более двух тысяч полегло на поле брани. Все продовольствие было отвоевано и под охраной доставлено в лагерь, куда крестоносцы возвращались, распевая «Аллилуйя!» или выкрикивая: «Deus adjuva! Deus adjuva!».
Продовольствия хватило на несколько дней, а при должной экономии его хватило бы на гораздо более длительный период, но вожди не пользовались авторитетом и были не в состоянии осуществлять какой бы то ни было контроль за его распределением. Вот-вот должен был снова наступить голод, и Стефан, граф Блуаский, будучи не в восторге от такой перспективы, покинул лагерь с четырьмя тысячами своих вассалов и обосновался в Александретте385. Моральное воздействие этого дезертирства на оставшихся было чрезвычайно пагубным, и Боэмунд, самый нетерпеливый и честолюбивый предводитель, понимал, что если этому быстро не положить конец, то это приведет к полному провалу похода. Нужно было предпринимать решительные действия: армия роптала по поводу затянувшейся осады, а султан386 собирал войско, чтобы покончить с крестоносцами. Антиохия могла держаться еще месяцы, а измена в лагере христиан при сохранении ими прежней тактики вообще ставила под сомнение овладение городом.
Турецкому князю (эмиру) Антиохии Баги-Сиану служил армянин Фируз, которому была вверена защита башни в той части городской стены, что находилась на стороне горных перевалов. Боэмунд, пользуясь услугами принявшего христианство шпиона, которому он дал при крещении собственное имя, поддерживал с этим командиром постоянную связь и пообещал ему самую щедрую награду в случае, если тот сдаст свой пост крестоносцам. Кто первым сделал предложение о сдаче — Боэмунд или армянин, доподлинно неизвестно, но то, что они быстро пришли к соглашению, не вызывает сомнений. Исполнение задуманного было назначено на одну из ночей. Боэмунд в общих чертах сообщил о сговоре Готфриду и сказал, что пойдет на его осуществление лишь при условии, что в случае захвата города он как вдохновитель сего смелого предприятия удостоится титула князя Антиохийского. Другие лидеры колебались: честолюбие и зависть убеждали их отказать интригану в помощи. Однако по зрелом размышлении они неохотно приняли его предложение, и для вылазки было отобрано семьсот храбрейших рыцарей, истинная задача которых из страха перед лазутчиками держалась от остальной армии в глубокой тайне. Когда подготовка к экспедиции завершилась, был пущен слух, что этим семистам рыцарям приказано устроить засаду отряду армии султана387, который, как утверждали, приближался к Антиохии.
Предательству армянина, который на своей уединенной сторожевой башне принял условленный сигнал о подходе крестоносцев, благоприятствовало буквально все. Ночь была темной и ненастной, не было видно ни одной звезды, а ветер завывал столь яростно, что заглушал все прочие звуки. С неба низвергались потоки воды, и наблюдатели на башнях, ближайших к башне Фируза, не слышали топота рыцарей в полном боевом облачении из-за ветра и не видели их из-за непроглядной тьмы и ливня. Подойдя к стене на расстояние выстрела из лука, Боэмунд послал вперед переводчика для переговоров с армянином. Последний настоятельно попросил крестоносцев поторопиться и попасть в благоприятный интервал, поскольку каждые полчаса стена патрулировалась вооруженной стражей с факелами, которая в ту минуту как раз закончила обход. Военачальники незамедлительно подошли к подножию стены, Фируз спустил им канат, и Боэмунд привязал его к концу лестницы из кожаных ремней, который армянин затем втянул наверх и надежно закрепил. На какое-то мгновение авантюристами овладел страх, и никто не решался начать подъем. Наконец Боэмунд388, подбариваемый сверху Фирузом, начал взбираться наверх, и за ним последовали Готфрид, граф Роберт Фландрский и несколько других рыцарей. Пока они поднимались, за ними следовали другие, и когда на лестнице было около дюжины рыцарей, она под их тяжестью оборвалась. Одетые в тяжелые кольчуги, они полетели вниз и попадали друг на друга с громким лязгом. Сперва они думали, что все пропало, но ветер, проносившийся свирепыми порывами сквозь узкие горные ущелья, издавал такой громкий вой, а вздувшийся от дождя Оронт нес свои воды столь шумно, что стражники ничего не услышали. Лестницу быстро починили, и рыцари, поднимаясь по двое за один раз, благополучно достигали вершины стены. Когда на стену взобралось шестьдесят человек, в ее отдаленном углу замерцал факел патрульного. Спрятавшись за контрфорс389, крестоносцы, затаив дыхание, ждали его приближения. Как только он очутился от них на расстоянии вытянутой руки, его тут же схватили, и, прежде чем он отверз уста, чтобы поднять тревогу, их навсегда закрыло молчание смерти. Затем рыцари быстро спустились по винтовой лестнице башни и, открыв ближайшие ворота, впустили внутрь остальных. В этот момент Раймунд Тулузский, посвященный в план захвата и оставленный во главе основной части войска, услышал звук сигнального рога, означавший, что вторжение произошло, и ведомые им крестоносцы прорвались в город с другой стороны.
Невозможно вообразить зрелище более жуткое, нежели то, что представляла собой обреченная Антиохия в ту ужасную ночь. Крестоносцы бились со слепой яростью, вызванной равно фанатизмом и страданием. Они убивали всех без разбора — мужчин, женщин и детей, и по улицам текли реки крови. Темнота увеличивала число жертв: когда наступило утро, крестоносцы поняли, что отправили на тот свет множество товарищей по оружию, принятых по ошибке за врагов. Сельджукский эмир бежал: сперва в крепость390, а когда там стало небезопасно — в горы, где был пойман и убит. Его седая голова была доставлена в Антиохию как трофей. На рассвете резня прекратилась, и крестоносцы занялись мародерством. Они нашли много золота, драгоценных камней, шелков и бархата, но продовольствия, которое было для них важнее, в городе оказалось немного. Зерна, в частности, было настолько мало, что крестоносцы, к своему сожалению, обнаружили, что положение осажденных было в этом отношении ненамного лучше положения осаждающих.
Прежде чем они обустроились на новом месте и приняли необходимые меры для обеспечения продовольствием, город обложили турки. Персидский султан собрал огромную армию, во главе которой поставил мосульского эмира Кербогу, дав ему наказ стереть полчища неверных с лица земли391. Эмир объединился с Кылыч-Арсланом392, и две армии окружили город. Христианами овладели пораженческие настроения, и многие из них, каким-то образом обманув бдительность осаждающей стороны, бежали в Александретту к графу Стефану Блуаскому, которому они, крайне сгустив краски, поведали о перенесенных ими страданиях и о полной безнадежности продолжения войны. Стефан немедленно свернул лагерь и отбыл в Константинополь. В пути он встретился с императором Алексеем, который с крупными силами спешил овладеть территориями, завоеванными христианами в Азии. Как только император узнал об их бедственном положении, он повернул обратно и проследовал с графом Блуаским в Константинополь, бросив остальных крестоносцев на произвол судьбы.
Весть об этом отступничестве повергла завоевателей Антиохии в еще большее смятение. Все лошади, непригодные для армейских нужд, были умерщвлены и съедены, а собаки, кошки и крысы продавались по баснословным ценам. В пищу шла даже падаль, которой становилось все меньше. С усилением голода начался мор, и вскоре от тех трехсот тысяч крестоносцев, что начали осаду Антиохии, осталось всего шестьдесят тысяч. Но жесточайшие невзгоды, которые уничтожали боевой дух армии, только укрепляли сплоченность ее предводителей; Боэмунд, Готфрид и Танкред поклялись не изменять общему делу до самой смерти. Первый из упомянутых тщетно силился снова воодушевить своих подчиненных на борьбу. Ими овладели усталость и тоска по родине, и его угрозы и посулы не возымели действия. Некоторые из них заперлись в домах и отказывались их покидать. Чтобы заставить их выполнять свой долг, Боэмунд поджег целый квартал, и многие из них погибли в огне, в то время как остальная армия взирала на происходящее с величайшим равнодушием. Вдохновляемый мирскими устремлениями, Боэмунд не имел должного представления о характере рядовых крестоносцев и не понимал религиозного безумия, погнавшего их в таком количестве из Европы. Один более проницательный священник придумал план, который заставил их вновь поверить в собственные силы и вселил в них столь неимоверную доблесть, что всего шестьдесят тысяч исхудавших, больных и голодных фанатиков обратили в бегство откормленное и в шесть раз большее войско султана Персии393.
Этого монаха, уроженца Прованса, звали Петр Варфоломей, и мы никогда не узнаем, кем он был на самом деле — мошенником, религиозным фанатиком или и тем и другим, действовал ли он по собственной воле или же был орудием в чужих руках. Несомненно, однако, что он поднял осажденных на борьбу и стал вдохновителем конечного триумфа крестоносных армий. Когда силы крестоносцев были на исходе и никто из них уже не рассчитывал на победу, Петр явился к графу Раймунду Тулузскому и попросил о встрече по важному делу. Его немедленно пропустили. Визитер сообщил, что несколькими неделями ранее, когда христиане осаждали Антиохию, он спал в своей палатке и был разбужен землетрясением, которое так напугало войско. Охваченный ужасом, он смог лишь воскликнуть «Господи, помоги!» и, обернувшись, увидел, что перед ним стоят двое мужчин, в которых по исходившему от них сиянию он тут же признал святых духов. Один имел облик пожилого человека с тронутыми сединой рыжеватыми волосами, мрачными глазами и длинной седой бородой. Другой был моложе, выше и симпатичнее, а в выражении его лица было больше святости. Говорил только пожилой, который назвался святым апостолом Андреем и велел Петру разыскать графа Раймунда, епископа Ле-Пюи и Раймунда Ажильского и спросить их, почему епископ не увещевает воинов и не осеняет их крестным знамением. Затем апостол подхватил монаха, на котором была только исподняя рубаха, перенесся с ним по воздуху в самый центр Антиохии и привел его в церковь св. Петра, тогдашнюю сарацинскую мечеть. Апостол довел его до колонны рядом с лестницей, по которой они поднялись на южную сторону алтаря, где висели две лампы, светившие ярче полуденного солнца. Его более молодой компаньон, имени которого Петр в то время не знал, стоял в отдалении у ступеней алтаря. Далее апостол проник в толщу земли и извлек из нее наконечник копья, который вложил священнику в руку, сказав, что именно он пронзил грудь распятого Спасителя. Держа Святое Копье, растроганный до слез провансалец попросил апостола разрешить ему забрать реликвию и отдать ее графу Раймунду. Апостол ответил отказом, зарыл копье обратно в землю и сказал, что, когда город будет отвоеван у язычников, Петр должен вновь прийти на это место с двенадцатью избранными и выкопать копье еще раз. После этого апостол доставил его назад в палатку, и оба потусторонних создания растаяли в воздухе. Монах сказал графу, что в то время он не сообщил об этом из опасения, что особы столь высокого ранга отнесутся к его рассказу с недоверием. Когда через несколько дней он выходил из лагеря на поиски еды, ему вновь было видение. В этот раз более молодой святой взирал на него с укоризной. Петр умолял апостола найти более подходящую кандидатуру для возложенной на него миссии, но тот отказался и наказал его за непослушание расстройством зрения. Не понимая причины своего упрямства, он по-прежнему держал увиденное и услышанное в тайне. Третье явление святых состоялось, когда монах-слуга находился со своим рыцарем Вильгельмом в палатке у гавани св. Симеона. На сей раз св. Андрей велел передать графу Тулузскому наказ не купаться по прибытии к Иордану в его водах, а переплыть его в лодке одетым в рубаху и штаны из льняного полотна, которые следовало окропить священной водой из реки. Эту одежду графу надлежало впоследствии хранить вместе со Святым Копьем. Вильгельм, хозяин Петра, не видел апостола, но отчетливо слышал отдававший приказ голос. И вновь провансалец медлил с выполнением поручения, и вновь святые явились ему. Это произошло, когда он был в порту Мамистра и готовился отплыть на Кипр. Св. Андрей сказал Петру, что если тот будет упорствовать и дальше, то будет осужден на вечные муки. После этого монах наконец решился сделать все, что ему довелось пережить и узнать, достоянием гласности.
Граф Тулузский, который, по всей вероятности, состряпал эту небылицу вместе со священником, был, казалось, потрясен услышанным и немедленно послал за епископом Ле-Пюи и Раймундом Ажильским. Войдя в курс дела, епископ, не раздумывая, заявил, что не верит ни единому слову монаха и не станет предпринимать в связи с его рассказом ровным счетом ничего. Граф Тулузский, напротив, имел массу доводов в пользу если не веры, то создания ее видимости, и столь убедительно поведал епископу о выгоде, которую они могли бы извлечь из этой истории, вернув крестоносцам прежний боевой пыл, что последний скрепя сердце согласился организовать поиски священного оружия по всем правилам. Церемония была назначена на второй день после их беседы, и на все остававшееся до нее время Петр был вверен заботам Раймунда, духовника графа. Это было сделано с тем, чтобы лишить непосвященных возможности подвергнуть его, если можно так выразиться, перекрестному допросу и, поставив в тупик, уличить во лжи.
Для предприятия были незамедлительно отобраны двенадцать набожных мужчин, в числе которых были граф Тулузский и его духовник. В условленный день они начали копать с восходом солнца и сделали перерыв на отдых лишь незадолго до заката. Возможно, поиски копья так и не увенчались бы успехом, если бы сам Петр не спрыгнул в яму и не попросил Всевышнего явить реликвию взору ее искателей, дабы она придала осажденным сил и привела их к победе. Те, кто прячет, знают, где искать, и Петр не стал в этом смысле исключением, так как сразу же после его молитвы копье было найдено. Он и духовник Раймунд внезапно заметили в земле его острие, и Раймунд, вытащив оное, поцеловал его со слезами радости на виду у собравшейся в церкви толпы наблюдателей. Оно было тотчас же завернуто в принесенную с этой целью дорогую пурпурную материю и в таком виде показано правоверным, огласившим здание восторженными криками.
В ту же ночь у Петра было еще одно видение, после чего крестоносцы прозвали его «провозвестником воли небес». На следующий день он утверждал, что апостол Андрей и «молодой человек с божественным ликом» явились ему вновь и сообщили, что в награду за стойкую набожность граф Тулузский должен возглавить армию и нести впереди нее Святое Копье, а день, в который оно было найдено, должен считаться религиозным праздником во всех христианских странах. Кроме того, св. Андрей обратил внимание Петра на отверстия в ступнях и ладонях своего милостивого спутника, и монах сделал вывод, что оным является сам СПАСИТЕЛЬ.
Видения Петра настолько возвысили его в глазах крестоносцев, что среди них появились новые «провозвестники». Святые посещали других монахов и сулили победу воинству Христову, если оно будет храбро держаться до конца, и вечную славу погибшим с оружием в руках. Двое дезертиров, которые тайком покинули лагерь, не выдержав тягот и лишений войны, неожиданно вернулись и, разыскав Боэмунда, рассказали ему, что встретили в пути двоих призраков, гневно приказавших им вернуться. Один из дезертиров сказал, что узнал своего брата, убитого в бою несколькими месяцами ранее, и что его голова была окружена нимбом. Другой и вовсе заявил, что обратившийся к нему дух был самим Спасителем, который пообещал наградить его вечным блаженством, если он одумается и вернется к исполнению своего долга, и наказать геенной огненной в случае отказа от креста. О неверии этим людям никто и не помышлял. Армия немедленно воспрянула духом, отчаяние уступило место надежде, воины обрели былую мощь, и муки голода на какое-то время отступили на задний план. Энтузиазм, с которым крестоносцы отправлялись на Восток, воспылал в них с прежней силой, и они громогласно требовали вести их в бой. Вожди охотно откликнулись на их призыв. Битва была для крестоносцев единственным шансом на спасение; и хотя Готфрид, Боэмунд и Танкред отнеслись к истории с копьем с изрядной долей скептицизма, им хватило ума не подвергать сомнению мошенническую проделку, способную обеспечить победу.
Для начала Петр Пустынник был послан в лагерь Кербоги с предложением разрешить конфликт между двумя религиями путем схватки определенного числа самых лучших солдат христианской и мусульманской армий. Кербога с презрением отвернулся от парламентера и сказал, что не может соглашаться на предложения шайки презренных нищих и грабителей. С этим резким ответом Петр вернулся в Антиохию. Христиане тотчас же начали готовиться к нападению на врага, ибо последний был по-прежнему прекрасно осведомлен обо всем, что происходило в их стане. С крепости, находившейся в стенах Антиохии и остававшейся в руках сельджуков, просматривался весь город, и начальнику гарнизона не составляло труда делать выводы о намерениях крестоносцев, наблюдая за их действиями. Утром 28 июня 1098 года на самой высокой крепостной башне был поднят черный флаг, оповестивший осаждающую сторону о том, что христиане собираются сделать вылазку.
Мусульманские полководцы знали, насколько противник пострадал от голода и болезней. Им, в частности, было известно, что у рыцарей осталось не более двухсот лошадей, а пехотинцы больны и истощены. Но они не знали о той невероятной доблести, которую вселило в сердца христиан суеверие. К истории с копьем они относились с величайшим презрением и, уверенные в легкой победе, не утруждали себя подготовкой к отражению атаки. Сообщается, что в ту минуту, когда поднятый над крепостью черный флаг предупредил осаждающих о приближении крестоносцев, Кербога играл в шахматы и с истинно восточным хладнокровием отказался уделить внимание нападению ничтожного, с его точки зрения, врага до завершения партии. Разгром передового сторожевого поста численностью две тысячи человек вывел его из состояния апатии.
Одержав эту первую победу, обрадованные крестоносцы продвигались к горам, надеясь заманить турок туда, где их конница будет неспособна маневрировать. Ведомые герцогом Нормандским, графом Робертом Фландрским и Гуго Вермандуа, они увидели богатый лагерь противника и испытали душевный подъем и прилив мужества от перспективы его захвата. Непосредственно за подразделениями вышеперечисленных вождей следовали силы Готфрида Бульонского и Адемара Ле-Пюиского. Последний был облачен в полный комплект доспехов и, находясь в поле зрения всей армии, нес Святое Копье. Замыкали колонну отряды Боэмунда и Танкреда.
Наконец осознав, что к неприятелю надо относиться со всей серьезностью, Кербога принял решительные меры, чтобы исправить свою ошибку, и, готовясь атаковать христиан с фронта собственными силами, направил им в тыл Кылыч-Арслана. Чтобы утаить данный маневр от противника, он велел поджечь сухую траву, которой была покрыта земля, и Кылыч-Арслан, описав со своей кавалерией широкую дугу за дымовой завесой, благополучно занял указанную позицию. Впереди завязалась ожесточенная битва; стрелы турок сыпались градом, а их хорошо обученные эскадроны топтали христиан копытами, как стерню. Исход сражения был, однако, еще не ясен, потому что христиане обладали позиционным преимуществом и быстро перехватывали инициативу. И в это время у них в тылу появились огромные силы Кылыч-Арслана. Готфрид и Танкред ринулись на подмогу Боэмунду и, стремительно напав на турок, внесли смятение в их ряды. Провансальцы епископа Ле-Пюи бились с воинством Кербоги, оставшись почти без поддержки со стороны других вождей, но присутствие Святого Копья делало героем даже самого захудалого солдата его отряда. Несмотря на это, численность врага по-прежнему казалась беспредельной. Атакуемые со всех сторон, христиане наконец дрогнули и начали отходить, и турки решили, что победа им обеспечена.
И тут один из крестоносцев закричал, что на их стороне сражаются святые. К тому времени поле боя очистилось от дыма сгоревшей травы, который клубами унесся прочь и, гонимый ветром, образовал белые облака причудливой формы, окутавшие отрог удаленного горного хребта. Какой-то фанатик с распаленным воображением, с трудом разглядевший эту картину сквозь поднятую бойцами пыль, призвал соратников взглянуть на армию святых в белых одеяниях и на белых лошадях, мчащуюся им на помощь по склонам гор. Все крестоносцы немедленно обратили взоры на отдаленный дым; вера была в каждом сердце; и по полю пронесся их старый боевой клич: «Так хочет Бог! Так хочет Бог!» Поверив, что на их глазах Господь послал им в подмогу свое войско, христиане взялись за дело столь рьяно, что мусульман охватила паника, и они стали беспорядочно отступать по всем фронтам. Напрасно Кербога пытался их образумить. Страх — чувство, еще более заразительное, чем энтузиазм, и они бежали через горы, как олень, преследуемый сворой гончих. Осознав бесплодность дальнейших увещеваний, оба мусульманских военачальника последовали примеру своих солдат. Оставив почти семьдесят тысяч погибших на поле брани, громадная армия рассеялась по Сирии, Месопотамии и Палестине.
Лагерь с обильными запасами зерна и стадами овец и коров достался неприятелю. Найденные в нем драгоценности, золотые монеты и дорогие бархатные ткани крестоносцы поделили между собой. Танкред преследовал беглецов в горах и награбил не меньше тех, кто остался в лагере. Спасаясь бегством, мусульмане побросали множество ценных вещей и столько чистокровных арабских скакунов, что ни один рыцарь не остался без боевого коня. Потери крестоносцев в сражении при Антиохии составили около десяти тысяч человек.
Их возвращение в город было поистине триумфальным: крепость была сдана, и многие воины турецкого гарнизона приняли христианскую веру, а остальных предали смерти. Епископ Ле-Пюи отслужил благодарственный молебен, к которому присоединилась вся армия, и каждый солдат лично подошел к Святому Копью и принес ему дань уважения.
Ликование длилось несколько дней, и армия шумно требовала вести ее к Иерусалиму — конечной цели крестового похода, однако на данном этапе ни один из ее предводителей этого не хотел. Более благоразумные (Готфрид и Танкред) считали, что в существующих условиях продолжение похода было бы преждевременным, а более честолюбивых (графа Тулузского и Боэмунда) удерживали на месте собственные интересы. Между вождями вспыхнули ожесточенные распри. Как только Раймунд Тулузский, который не участвовал в сражении, а остался в Антиохии для обороны города, увидел, что осады со стороны Кербоги можно больше не опасаться, он потребовал сдачи крепости; другие вожди по возвращении обнаружили, что над ее стенами развевается его знамя. Это сильно оскорбило Боэмунда, который ранее выговорил себе княжение в Антиохии как первоочередную награду за взятие города. Его притязания поддержали Готфрид и Танкред, и после длительных пререканий флаг Раймунда был спущен с башни, а вместо него был поднят стяг Боэмунда, который с этого момента стал князем Антиохийским. Раймунд, однако, настаивал на сохранении за собой одних из городских ворот и прилежащих башен, что очень разозлило Боэмунда и всю армию. В итоге граф стал крайне непопулярной фигурой, хотя его властолюбие было ничуть не менее оправданным, нежели амбиции самого Боэмунда или Балдуина, который в свое время поселился в Эдессе и стал ее первым графом.
Участь Петра Варфоломея заслуживает того, чтобы о ней рассказать. Став после истории с копьем весьма уважаемой и почитаемой персоной, он счел своим долгом не останавливаться на достигнутом и продолжить череду сообщений о видениях, обеспечивших ему столь солидную репутацию. Ненадежность избранного этим монахом способа самоутверждения заключалась в том, что у него, как и у многих других лгунов, была очень плохая память, и его истории порой явно противоречили друг другу. Однажды ночью ему явился св. Иоанн и рассказал одно, а неделю спустя св. Павел поведал совсем другое и пообещал то, что никак не вязалось с посулами его собрата-апостола. Люди той эпохи были исключительно легковерными, и расхождения в рассказах Петра были, по всей видимости, действительно вопиющими, если те, кто в свое время поверил в чудо Святого Копья, отказывались верить в новые чудеса. В конце концов Боэмунд, намереваясь досадить графу Тулузскому, потребовал, чтобы бедный Петр доказал правдивость истории о копье, пройдя ордалию394 огнем. Петр не мог отказаться от обычного для тех времен испытания, тем более что оно было одобрено графом и его духовником Раймундом. Ритуал был назначен на один из ближайших дней. В ночь перед ордалией Петр, следуя обычаю, молился и постился, а утром вышел со злополучным копьем наружу и смело приблизился к костру. Собравшаяся вокруг армия с нетерпением ожидала результата; многие крестоносцы по-прежнему верили, что копье подлинное, а Петр — праведник. После того как Раймунд Ажильский прочел надлежащие молитвы, Петр вошел в огонь. Когда он уже почти прошел сквозь него, боль лишила его присутствия духа. Пламя, помимо прочего, поразило глаза, и, будучи не в силах терпеть мучения и не осознавая своих действий, он развернулся и снова прошел через огонь, вместо того чтобы выйти из него. В результате несчастный получил настолько сильные ожоги, что спасти его было невозможно, и, протянув еще несколько дней, он скончался в страшных муках.
Большинство солдат страдало от ран, болезней и переутомления, и Готфрид — негласный предводитель крестоносцев — решил, что, прежде чем идти на Иерусалим, армия должна отдохнуть. Был июль, и герцог предложил переждать жаркие август и сентябрь в стенах Антиохии и, восстановив силы и пополнив ряды новобранцами из Европы, продолжить поход в октябре. В конечном итоге этот совет был принят, хотя наиболее фанатичная часть войска, недовольная промедлением, продолжала роптать. Тем временем в Константинополь было отправлено посольство во главе с графом Вермандуа, чтобы выразить императору Алексею возмущение его подлым отступничеством от общего дела и заставить его прислать обещанные подкрепления. Граф добросовестно выполнил поручение (на которое Алексей, кстати, никак не отреагировал) и какое-то время оставался в столице Византии, пока его стремление в Святую землю, которое никогда не было особенно сильным, не улетучилось окончательно. Устав от крестового похода и решив больше в нем не участвовать, он сел на корабль и вернулся во Францию.
Несмотря на то что вожди решили остаться в Антиохии еще на два месяца, они не могли так долго ничего не предпринимать. Не будь в Сирии и Месопотамии турок, нападая на которых христианские военачальники давали выход своей запальчивости, они, по всей вероятности, напали бы друг на друга. Готфрид отправился в Эдессу, чтобы помочь своему брату Балдуину выгнать сарацин из его владений; самостоятельные вылазки против них совершали и другие движимые своенравием или властолюбием вожди. Наконец нетерпение стремившейся к Иерусалиму армии стало настолько сильным, что дальнейшее промедление грозило взрывом недовольства, и тогда Раймунд, Танкред и Роберт Нормандский выступили со своими отрядами в поход и обложили небольшой, но хорошо укрепленный город Маарру. Не прошло и недели с начала осады, как из-за присущей крестоносцам расточительности имевшиеся у них съестные припасы иссякли. В результате им вновь пришлось искать продовольствие на стороне и терпеть лишения до тех пор, пока Боэмунд не пришел им на помощь и не взял крепость штурмом. В связи с осадой Маарры Раймунд Ажильский рассказывает легенду, в правдивости которой он искренне убежден. Эта история, на которой основан один из самых красивых фрагментов поэмы Тассо, достойна внимания читателя как отражение духа времени и источник удивительной храбрости, которую проявляли крестоносцы в экстремальных ситуациях. «Однажды, — пишет Раймунд, — Ансельм де Рибомон увидел, как к нему в палатку вошел юный Энгельрам — сын графа де Сен-Поля, убитый у стен Маарры. “Как же случилось, — спросил его Ансельм, — что ты, погибший в бою на моих глазах, жив?” “Ты должен знать, — ответил Энгельрам, — что те, кто сражается за Иисуса Христа, не умрут никогда”. “Но откуда, — продолжал Ансельм, — исходит то необычное сияние, что тебя окружает?” И тогда Энгельрам показал на небо, и Ансельм, подняв глаза, увидел дворец из алмазов и хрусталя. “Оттуда, — сказал Энгельрам, — черпаю я красу, удивляющую тебя. Сие моя обитель, а еще более дивное жилище уготовано тебе, и ты скоро придешь, дабы в нем поселиться. Прощай, завтра свидимся вновь!” С этими словами Энгельрам вернулся на небеса. На следущее утро потрясенный видением Ансельм послал за священником, причастился и, несмотря на то что был совершенно здоров, попрощался с друзьями, сказав им, что скоро покинет сей мир. Когда несколько часов спустя вражеские солдаты сделали вылазку, Ансельм вступил с ними в бой с мечом в руке и был сражен камнем из турецкой пращи, который попал ему в лоб и отправил на небеса, в уготованный ему прекрасный дворец».
Захват Маарры вызвал новые разногласия между князем Антиохийским и графом Тулузским, которые были с величайшим трудом улажены другими вождями. Вновь имели место задержки продвижения армии. Особенно длительная из них произошла у Аркаса, и солдаты были настолько озлоблены, что собирались выбрать новых предводителей, которые повели бы их на Иерусалим. Вследствие этого Готфрид поджег свой лагерь у Аркаса и выступил в поход. К нему тотчас присоединились сотни провансальцев графа Тулузского. Последний, видя, какой оборот приняли дела, поспешил за ними, и все войско проследовало к Священному городу, который так долго манил крестоносцев даже во время лишений и опасностей. У Эммауса395 они встретились с делегацией христиан Вифлеема396, уповавших на скорейшее избавление от угнетения со стороны ненавистных язычников. Само слово «Вифлеем», название родины их Спасителя, звучало для крестоносцев как музыка, и многие из них плакали от радости при мысли о приближении к столь священному месту. Альберт из Экса пишет, что их воодушевление было таково, что в лагере никто не спал и что вместо того, чтобы тронуться в путь на рассвете, они, полные надежды и энтузиазма, выступили незадолго до полуночи. Более четырех часов легионы одетых в кольчуги крестоносцев неустанно продвигались сквозь тьму, и когда солнце озарило безоблачное небо, они увидели башни и бельведеры Иерусалима. Эта панорама привела их в умиление, и, превратившись из жестоких фанатиков в смиренных паломников, они становились на колени и со слезами на глазах кричали друг другу: «Иерусалим! Иерусалим!» Одни целовали священную землю, другие, желая максимально соприкоснуться с ней, ложились на нее в полный рост, а третьи громко молились. Женщины и дети, покинувшие Европу и разделившие с воинами все опасности, тяготы и лишения, выражали радость более бурно; первые — благодаря долго лелеемому религиозному пылу, а вторые — из обычного подражательства397. То, как они молились, плакали и смеялись, едва не заставляло краснеть их более сдержанных попутчиков.
Когда утихла первоначальная радость, армия подошла к городу и окружила его со всех сторон. Почти сразу же начался штурм, но после того, как христиане потеряли несколько самых доблестных рыцарей, они отказались от поспешных действий и стали готовиться к осаде по всем правилам. В сжатые сроки были изготовлены осадные орудия: камнеметные машины, передвижные башни, тараны и так называемая «свинья»398 — покрытый сыромятными кожами деревянный туннель, служивший укрытием тем, кто делал подкоп под стеной. Чтобы укрепить боевой дух и войсковую дисциплину, изрядно ослабленные низменными ссорами вождей, последние прилюдно помирились, пожав друг другу руки, а Танкред и граф Тулузский даже обнялись. Устранить разногласия помогло духовенство, которое горячо ратовало за единение и всепрощение. Кроме того, священники организовали торжественную процессию вокруг города, в которой приняла участие вся армия. При этом во всех местах, которые крестоносцы, руководствуясь евангелиями, считали наделенными особенной святостью, возносились молитвы.
Вся эта активность нисколько не пугала осажденных сарацин. Чтобы как можно сильнее оскорбить презираемых ими христиан, они сколотили примитивные кресты и, закрепив их на стенах, оплевывали и забрасывали их грязью и камнями. Крестоносцев так разгневало поругание символа их веры, что храбрость уступила место свирепости, а воодушевление — безумию. Когда были готовы все осадные орудия, армия возобновила штурм, и каждый ее солдат сражался с решимостью, которую неизменно вызывает чувство личной обиды. Оскорблены были все без исключения, и родовитые рыцари налегали на тараны наравне с пехотинцами. На них обрушивался град стрел и зажигательных снарядов, но удары таранов по-прежнему сотрясали стены, а в это время самые меткие лучники и арбалетчики крестоносного войска, находившиеся на нескольких ярусах передвижных башен, энергично сеяли смерть среди турецкого гарнизона. Расположившись каждый на своей башне, Готфрид, Раймунд, Танкред и Роберт Нормандский часами сражались с неослабевающей энергией, часто встречая достойный отпор, но всегда готовые к возобновлению схватки. Поняв, что имеют дело с серьезным противником, турки оборонялись с величайшим умением и мужеством, пока наступившие сумерки не вынудили крестоносцев приостановить штурм до утра и вернуться в лагерь. В ту ночь христиане спали очень мало. Группы солдат сосредоточенно внимали священникам, служившим торжественные молебны о триумфе креста в последнем великом сражении; и как только наступил рассвет, все были готовы к бою. Женщины и дети оказывали сражающимся посильную помощь. Так, последние бесстрашно бегали туда-сюда под стрелами мусульман, принося воду мучимым жаждой бойцам. Христиане верили, что им помогают святые, и армия, вдохновленная этой мыслью, преодолевала трудности, под тяжестью которых втрое большее, но лишенное означенной веры войско пало бы духом и было бы разбито. Наконец отряд Раймунда Тулузского ворвался в город с помощью лестниц, и в ту же минуту люди Танкреда и Роберта Нормандского взломали одни из ворот. Турки бросились заделывать брешь, и Готфрид Бульонский, видя, что на стене осталось сравнительно мало защитников, спустил со штурмовой башни дощатый мостик и ринулся вперед, а за ним последовали все его рыцари. Мгновение спустя над стенами Иерусалима реял флаг с крестом. Издав еще раз свой грозный боевой клич, крестоносцы устремились в атаку со всех сторон, и город был взят. Несколько часов продолжались ожесточенные уличные бои, и христиане, помня об оскорблении своей веры, не щадили даже стариков, женщин и больных. Ни один из их предводителей не счел себя вправе отдать приказ о прекращении резни, а если бы такой приказ и прозвучал, ему бы никто не подчинился. Огромное число сарацин сбежалось в мечеть халифа Омара; но прежде чем они успели укрепить ее, на них напали христиане. Сообщается, что только в одном этом здании было убито около десяти тысяч мусульман.
Петр Пустынник, которого так долго окутывала пелена забвения, был в тот день вознагражден за все свое рвение и все свои страдания. Как только прекратились уличные бои, жившие в Иерусалиме христиане вышли из укрытий, дабы приветствовать своих освободителей. Они немедленно узнали в Пустыннике пилигрима, который годами ранее столь красноречиво напоминал им о тех унижениях и невзгодах, которые они тогда претерпевали, и обещал поднять на их защиту владетельных князей и простолюдинов Европы. В пылу благодарности они припадали к подолу его одежды и клялись молиться за него по гроб жизни. Многие из них лили слезы у него на плече и приписывали освобождение Иерусалима исключительно его доблести и упорству. Впоследствии Петр занимал в Священном городе какой-то церковный пост, но что это была за должность и какова была дальнейшая судьба амьенца, история умалчивает. Некоторые авторы полагают, что он вернулся во Францию и основал монастырь, однако данное утверждение не является достаточно обоснованным.
Грандиозная цель, ради которой сонмы европейцев покинули свои дома, была наконец достигнута. Иерусалимские мечети были превращены в церкви «истинной веры», а Голгофа и Гроб Господень больше не осквернялись присутствием и владычеством «язычников». Массовое неистовство выполнило свое предназначение и после этого, естественно, пошло на спад. Узнав о взятии Иерусалима, из Европы отправилось в путь множество новых паломников, в числе которых были стремившиеся искупить грех измены Стефан, граф Блуа и Шартра, и Гуго Вермандуа, но это был лишь отголосок прежнего энтузиазма399.
На этом заканчивается история Первого крестового похода. Для лучшего понимания читателем рассказа о Втором необходимо описать временной интервал между ними: совершить краткий экскурс в историю Иерусалима под властью королей-латинян, поведать о затяжных войнах, которые они вели против непокоренных сарацин, и сообщить о скудных, если не сказать ничтожных, результатах столь масштабных и кровопролитных кампаний.
Вскоре после овладения Иерусалимом крестоносцам потребовался признанный лидер, которого они могли бы называть своим королем, и Готфрид Бульонский, менее властолюбивый предводитель, чем Боэмунд или Раймунд Тулузский, неохотно согласился взойти на престол400, столь желанный для последних. Не успел он надеть королевскую мантию, как узнал, что к столице его королевства движется армия сарацин. Не обделенный решимостью и рассудительностью, он постарался развить достигнутый военный успех и, выступив в поход, чтобы сразиться с врагом, прежде чем тот успеет осадить Иерусалим, дал мусульманам бой у Аскалона401 и нанес им сокрушительное поражение. Ему, однако, было не суждено долго наслаждаться своим новым титулом: процарствовав всего девять месяцев, он умер от неизлечимой болезни. Ему наследовал его брат, Балдуин Эдесский402. Этот монарх многое сделал для усиления Иерусалимского королевства и расширения его территории403, но был не в состоянии обеспечить спокойное правление своим преемникам. Первые пятьдесят лет существования этого государства, представляющие большой интерес для студента-историка, крестоносцы постоянно воевали, часто выигрывая сражения и захватывая новые земли, но столь же часто терпя поражения и теряя завоеванное. При этом они с каждым днем становились все слабее и разобщеннее, в то время как сарацины, стремившиеся измотать и уничтожить своих заклятых врагов, делались все сильнее и сплоченнее. Битвы того периода носили в высшей степени рыцарственный характер, и несколько осевших в Сирии рыцарей совершили подвиги, едва ли имеющие аналоги в истории войн. С другой стороны, с течением времени христиане не могли не почувствовать уважения к храбрости сарацин и восхищения их изысканными манерами и относительно высоким уровнем развития, весьма выгодно отличавшимися от грубости и полуварварского состояния тогдашних европейцев. Разница в вероисповедании не смогла удержать их от брачных союзов с темноглазыми девами Востока. Одним из первых женился на сарацинке сам король Балдуин, и со временем среди тех рыцарей, которые решили поселиться на Востоке, такие браки стали не просто частыми, а почти поголовными. Тем не менее перед бракосочетанием с христианами девушкам-мусульманкам приходилось подвергаться обряду крещения. Естественно, что их мужья и дети не так ненавидели сарацин, как те фанатики, которые в свое время покорили Иерусалим и считали, что пощадить иноверца — значит совершить грех, заслуживающий кары Божьей. Вследствие этого при более поздних иерусалимских королях в самых кровопролитных сражениях участвовали те христиане, которые недавно прибыли из Европы, надеясь прославиться или повинуясь фанатизму, и еще не успели обжиться. Они не колеблясь нарушали перемирия, заключенные между поселенцами и сарацинами, и навлекали суровое возмездие на многие тысячи единоверцев, благоразумие которых преобладало над религиозной нетерпимостью и чьим основным желанием было мирное сосуществование.
Эта неутешительная картина имела место до конца 1144 года, когда Эдесса, мощный форпост христиан у северо-восточной границы их владений, была отвоевана сарацинами. Последними командовал эмир Мосула Имад-ад-дин Зенги, могущественный и хитрый монарх, которому после смерти наследовал его сын Нур-ад-дин (Нуреддин), не уступавший отцу во влиятельности и коварстве. Граф Эдесский предпринял попытку вновь овладеть крепостью, но Нуреддин с большой армией пришел осажденным на помощь, разбил графа наголову, вошел в Эдессу и приказал сровнять с землей ее укрепления, чтобы этот город больше никогда не был оплотом Иерусалимского королевства. Дорога на столицу последнего была теперь открыта, и христиан обуял ужас. Они знали, что Нуреддин ждет лишь благоприятной возможности для выступления к Иерусалиму, а ослабленные и разобщенные крестоносные армии были неспособны дать ему сколько-нибудь достойный отпор. Духовенство, снедаемое печалью и тревогой, неоднократно писало папе и государям Европы, убеждая их в целесообразности нового крестового похода для поддержки защитников Иерусалима. Львиную долю палестинских священников составляли французы, которые, разумеется, уповали в первую очередь на соотечественников. Просьбы о помощи, которые они слали Людовику VII, были частыми и настоятельными, и рыцарство Франции вновь заговорило о необходимости защиты родины Иисуса. Европейские короли, предшественники которых не участвовали в крестовом походе из-за того, что это не входило в их планы, начали себя к этому побуждать. Сверх того, нашелся человек, который, обладая красноречием Петра Пустынника, вдохновил простой народ, как это сделал до него амьенский проповедник.
Мы, однако, обнаруживаем, что энтузиазм населения Европы в отношении Второго крестового похода был слабее оного в связи с Первым. Фактически крестоносная мания достигла высшей точки во времена Петра Пустынника и с тех пор неизменно шла на убыль. Третий крестовый поход уступал в массовости Второму, Четвертый — Третьему, и так далее; и в конце концов стремление европейцев в Святую Землю сошло на нет, а Иерусалим перешел к своим прежним хозяевам, что не вызвало в христианском мире никакого потрясения. Существуют различные гипотезы о причинах этого явления. Самая расхожая из них гласит, что Европе надоели вражда с Востоком и «натравливание на Азию». Месье Гизо404 в своих замечательных лекциях по истории европейской цивилизации подвергает этот аргумент справедливой критике и приводит собственный, гораздо более убедительный. В его восьмой лекции говорится следующее: «Согласно распространенному мнению, Европа устала от неоднократных вторжений в Азию. Данное утверждение кажется мне крайне ошибочным. Люди не устают от того, чего они не делают, и их не изнуряют деяния предков. Утомление — ощущение приобретаемое, а не наследуемое. Европейцев тринадцатого столетия не утомили крестовые походы двенадцатого — просто у них были иные устремления. Значительно изменились воззрения, мироощущение и условия жизни. Былые желания, нужды и идеалы остались в прошлом. Люди отказывались верить в то, в чем их прародители были убеждены».
Это скорее всего и есть причина происшедших перемен. Данный вывод становится еще более очевидным при изучении истории крестовых походов и сравнении массовых умонастроений тех периодов, когда предводителями крестоносцев были Готфрид Бульонский, Людовик VII и Ричард I. Сами крестовые походы вызвали кардинальные изменения национальных приоритетов и в значительной мере способствовали развитию европейской цивилизации. Во времена Готфрида дворянство было всевластным и всеугнетающим и одинаково раздражало королей и податные сословия. Находясь в изоляции от этой наиболее невежественной и суеверной общественной прослойки, и короли и простолюдины боролись с деспотизмом аристократии и по мере освобождения делались цивилизованнее. Именно в ту пору во Франции — стране, где крестоносное безумие приняло наибольшие масштабы, — начали набирать силу коммуны405, а монарх стал приобретать реальную власть. Жизнь становилась безопаснее и комфортабельнее, поэтому в период агитации за Второй крестовый поход люди испытывали гораздо меньшее желание сниматься с насиженных мест, чем их предки, которым проповедовали Первый. Пилигримы возвращались из Святой Земли, придерживаясь более либеральных взглядов и обладая более широким кругозором, чем в то время, когда они туда отправлялись. В местах паломничества они столкнулись с цивилизацией, более развитой, нежели их собственная, больше узнали об окружающем мире и, пусть не до конца, но в какой-то мере избавились от предрассудков и порожденного невежеством фанатизма. Позитивное влияние оказал и рыцарский кодекс чести, который, успешно выдержав испытание крестовым походом, значительно облагородил нравы аристократов. Труверы406 и трубадуры407, воспевая любовь и ратные подвиги рыцарей в стихах, приятных всем сословиям, способствовали искоренению мрачных суеверий, которые во времена Первого крестового похода питали, независимо от степени здравомыслия, практически все европейцы. Вследствие этого люди уже не столь рабски внимали увещеваниям церковников и были гораздо самостоятельнее в принятии решений.
В Англии крестовые походы никогда не привлекали к себе такого внимания, как в континентальной Европе; и не потому, что англичане уступали другим нациям в религиозном фанатизме, — просто их заботили более насущные проблемы. После нормандского завоевания Англии ее коренное население долго претерпевало слишком большие невзгоды, чтобы откликаться на беды столь удаленного народа, как христиане Палестины, и не приняло никакого участия в Первом крестовом походе. И даже то весьма немногочисленное английское ополчение, которое участвовало во Втором, состояло главным образом из рыцарей-норманнов и их вассалов, а не англосаксов простого звания — франклинов, крестьян и горожан, большинство которых (как и многие умные люди с тех пор), несомненно, полагало, что сострадание следует проявлять прежде всего к соотечественникам.
Германия была в этом смысле легче на подъем; и в то время как в других странах пик энтузиазма уже давно миновал, немцы продолжали вставать под знамена с крестом, теряя в массовости меньше остальных. В то время они были погружены в трясину варварства глубже своих быстрее прогрессировавших соседей и, как следствие, дольше освобождались от предрассудков. В сущности, страной, из которой во Второй крестовый поход отправилось наибольшее число ее уроженцев по отношению к общей численности населения, была Германия, где он пользовался наибольшей популярностью.
Таково было умонастроение европейцев, когда папа Евгений III, вняв непрестанным мольбам христиан Сирии, поручил св. Бернарду408 проповедь о новом крестовом походе. Возможно, никто не справился бы с этой миссией лучше св. Бернарда. Обладая недюжинным красноречием, он, сообразуясь с требованиями момента, мог заставить аудиторию или плакать, или смеяться, или неистовствовать. Его жизнь являла собой пример столь непреклонной и беззаветной добродетели, что вздумай его противники оклеветать его, их усилия пропали бы даром. Он отказался от высоких церковных постов и довольствовался скромным аббатством в Клерво, чтобы иметь свободное время для отыскания и авторитетного обличения всевозможных злоупотреблений. Любое порочное деяние вызывало с его стороны гневную и бескомпромиссную отповедь; ни один человек не являлся слишком богатым и могущественным, чтобы избежать его упрека, и никто не был слишком бедным и бесправным, чтобы рассчитывать на его сочувствие. Он так же удачно вписывался в свое время, как Петр Пустынник — в свое. Но клервоский аббат апеллировал больше к здравому смыслу, а его предшественник — к эмоциям; Петр Пустынник собрал толпу, а св. Бернард — армию. Оба были одинаково рьяными и настойчивыми, но один — от импульсивности характера, а другой — благодаря осмысленной убежденности в своей правоте и страстному желанию усилить влияние церкви — огромной организации, одним из столпов и украшений которой он являлся.
Один из первых обращенных аббатом на путь истины стоил многих. Суеверный и деспотичный Людовик VII Молодой, терзаясь угрызениями совести из-за позорного массового убийства, которое он санкционировал, отдав на разграбление город Витри, дал обет совершить покаянное паломничество в Святую Землю409. Когда св. Бернард начал проповедовать крестовый поход, король, пребывавший в означенном расположении духа, охотно согласился в него отправиться. Его пример оказал сильное влияние на дворян, многие из которых были бедны из-за опрометчивости отцов, пожертвовавших своими состояниями и привилегиями ради похода на Восток, и стремились обогатиться от завоевания чужих земель. Под их знамена встали те, кому они могли приказывать, и очень скоро была сформирована армия численностью в двести тысяч410 человек. В Везеле, в Бургундии, монарх, поднявшись на помост, прилюдно принял крест из рук св. Бернарда. Присутствовавшие на церемонии несколько представителей высшего дворянства, три епископа и королева Алиенора Аквитанская также стали крестоносцами411, приняв от св. Бернарда кресты для нашивания на плечи, вырезанные им из собственной красной ризы. Аббат зачитал толпе проповедь папы, в которой тот отпускал грехи всем, кто примет участие в «священном паломничестве», и призывал паломников не обременять себя громоздким скарбом и предметами роскоши, а паломников-дворян — не брать с собой собак и соколов, дабы не отклоняться от пути следования, как это случалось с очень многими во время Первого крестового похода.
Командование армией было предложено св. Бернарду, но он, знакомый с военным делом только понаслышке, мудро отказался занять непривычный для себя пост. Проведя в аббатстве Сен-Дени торжественное освящение Людовика как предводителя экспедиции, клирик продолжил путешествие по стране, повсюду воодушевляя ее народ. Люди были настолько высокого мнения о его святости, что считали его пророком и чудотворцем. Многие возбужденные его красноречием и вдохновленные его предсказаниями женщины облачались в мужскую одежду и, бросив мужей и детей, торопились на войну. Св. Бернард написал папе письмо, в котором подробно рассказывал о своих успехах и утверждал, что после его проповеди в некоторых городах не осталось ни одного жителя мужского пола, способного носить оружие, и что во всех замках и городах он видел великое множество женщин, которые оплакивали отправившихся в поход мужей. Однако, несмотря на кажущийся энтузиазм, число тех, кто действительно брался за оружие, было незначительным и несопоставимым с огромными толпами участников Первого крестового похода. Добровольцы, максимальное число которых никак не превышало двухсот тысяч, вряд ли могли уменьшить тогдашнее население Франции до степени, упомянутой св. Бернардом. Таким образом, данное им описание состояния страны больше похоже на красивую сказку, чем на констатацию фактов.
Аббат Сугерий, опытный наставник и советник Людовика, пытался отговорить его от долгого заморского путешествия в то время, когда его присутствие было так необходимо в его собственных владениях. Но короля мучила совесть за Витри, и он страстно желал загладить свою вину единственным способом, который религия той поры считала для этого достаточным. Кроме того, Людовик стремился доказать миру, что если он и бросает вызов светской власти церкви, когда она посягает на его исключительные права, то всецело подчиняется ее постановлениям всякий раз, когда это не расходится с его интересами или соответствует его собственному желанию поступить именно так. Поэтому усилия Сугерия пропали даром, Людовик принял посох паломника в Сен-Дени и стал готовиться к паломничеству.
Между тем св. Бернард отправился в Германию, где его проповедь имела аналогичный успех. Слава о его святости шла впереди него, и повсюду он находил восхищенных слушателей. Тысячи людей, не понимавших ни единого слова из его речей, толпились вокруг него, чтобы хоть краем глаза увидеть человека столь святой жизни; многие рыцари решали послужить кресту и принимали из рук аббата символ священного предприятия. Но германский народ было уже не так легко увлечь за собой, как во времена Готшалька и его последователей. Известно, что немцы, участвовавшие во Втором крестовом походе, численно уступали прежним огромным толпам, в сумме насчитывавшим от двухсот до трехсот тысяч человек и наводнявшим страну, как полчища саранчи. Однако их энтузиазм был весьма значителен и в этот раз. Поверив в необычайные истории о творимых проповедником чудесах, люди со всей страны отправлялись в путь, чтобы на них посмотреть. Говорили, что демоны, завидев его, исчезают, а его прикосновение излечивает даже от самых тяжелых болезней412. В конце концов сам германский король Конрад III уступил его призыву и объявил о своем намерении принять крест.
Организованная Конрадом подготовка к походу шла настолько интенсивно, что менее чем через три месяца он встал во главе армии, которая состояла по меньшей мере из ста пятидесяти тысяч воинов-мужчин413 и огромного числа женщин, решивших отправиться на войну вместе с мужьями и возлюбленными. Женщины-всадницы не отличались от рыцарей-мужчин ни посадкой414, ни доспехами; их предводительница носила позолоченные шпоры и высокие ботинки со шнуровкой, и ее прозвали «златоножкой». Конрад закончил приготовления задолго до французского монарха и, мирно проследовав через Венгрию и Болгарию, в июне 1147 года подошел к Константинополю.
Византийский император Мануил I Комнин, преемник не только власти, но и политики Алексея, с тревогой взирал на новое крестоносное воинство, явившееся для пополнения съестных припасов за счет его столицы и несшее в себе угрозу ее спокойствию. Слишком слабый в военном отношении, чтобы отказать латинянам в проходе через свои владения, слишком недоверчивый по отношению к ним, чтобы оказать им радушный прием, и слишком неуверенный в собственной выгоде от предстоящей войны, чтобы симулировать дружелюбие, которого он не испытывал, император с самого начала повел себя вызывающе. Его подданные, гордясь своим более высоким уровнем развития, называли немцев варварами, а последние, хоть и пребывавшие в полуварварском состоянии, но бывшие как минимум бесхитростными и откровенными, отвечали грекам оскорблением на оскорбление, именуя их двуличными мошенниками и предателями415. Между ними постоянно вспыхивали ссоры416, и Конрад, весьма успешно справлявшийся с поддержанием дисциплины среди своих подчиненных до вступления на территорию Византии, не смог обуздать взрыв массового недовольства по прибытии к Константинополю. В ответ на ту или иную обиду, нанесенную им греками, о которой, впрочем, немногочисленные летописцы той поры сообщают весьма туманно, немцы ворвались в величественный императорский зоопарк, в котором содержалась дорогостоящая коллекция прирученных животных. Он был разбит среди лесов, рощ, пещер и ручьев, чтобы животные, находясь в неволе, как можно меньше отрывались от естественной среды обитания. Оправдывая данное им прозвище, разъяренные немцы разорили прелестное место монаршего отдыха и поубивали или выпустили на волю ценных животных. Мануил, который, согласно летописям, наблюдал за этим варварством из окна своего дворца, не имея достаточно войск или смелости, чтобы положить ему конец, почувствовал к крестоносцам крайнее отвращение и, подобно его предшественнику Алексею, решил избавиться от них при первой удобной возможности. Он отправил Конраду послание, в котором почтительно попросил о личной встрече, но немец отказался появляться в стенах Константинополя. Император, со своей стороны, считал визит в германский лагерь делом унизительным и рискованным, и несколько дней велись переговоры, малоэффективные из-за взаимной неискренности. В конечном итоге Мануил согласился предоставить крестоносной армии проводников по Малой Азии, после чего Конрад переправился с войском через Геллеспонт417 и возглавил авангард и главные силы, поручив командование арьергардом воинственному епископу Фрейзингенскому418.
Историки почти единодушно придерживаются мнения, что коварный грек дал своим проводникам наказ придерживаться маршрута, сопряженного с трудностями и опасностями для армии германского короля. Достоверно известно, что вместо того чтобы вести ее через те области Малой Азии, где можно было запастись водой и провиантом, они завели немцев в дебри Каппадокии419, где те не нашли ни того, ни другого и подверглись неожиданному нападению превосходящих сил сельджукского султана. Как только показалась турецкая армия, проводники, чья измена очевидна из одного этого факта, сбежали, после чего приведенные в пустынную глушь и застигнутые врасплох крестоносцы вступили с врагом в неравный бой. Одетые в тяжелые кольчужные доспехи, немецкие рыцари были не в состоянии нанести серьезный урон легковооруженным турецким конным лучникам, за перемещениями которых они не могли даже толком уследить420. Атакуя то с фронта, то с тыла, проворный враг осыпал их стрелами и заманивал в болота и ямы, откуда они выбирались ценой громадных усилий и значительных потерь. Сбитые с толку тактикой турок, немцы потеряли всякую ориентацию и, вместо того чтобы двигаться вперед, повернули назад. Ослабленные недоеданием, они становились для своих преследователей легкой добычей. Граф Бернгард, один из доблестнейших вождей германской экспедиции, попал со своим отрядом в окружение, и все они полегли под турецкими стрелами. Едва не погиб сам король, получивший две серьезные раны. Враг был настолько упорен, а немцы — настолько неспособны создать даже видимость сопротивления, что когда Конрад наконец добрался до Никеи, он обнаружил, что от прежней внушительной рати в сто тысяч пехотинцев и семьдесят тысяч всадников осталось всего от пятидесяти до шестидесяти тысяч крайне утомленных и потрепанных воинов.
Ничего не зная об измене византийского императора, хотя и предупрежденный, что его следует остерегаться, Людовик VII шел с войском к Константинополю через Вормс и Регенсбург. В Регенсбурге он встретился с посланниками Мануила, отправившего с ними письма, полные таких преувеличений и льстивых восхвалений, что при чтении их епископом Лангрским король, согласно летописи, зарделся от смущения. Цель делегации состояла в том, чтобы добиться от французского монарха обещания пройти по территории Византии мирно и дружелюбно и уступить греческому монарху все грядущие завоевания в Малой Азии. Первая часть предложения была немедленно принята, а вторая, менее обоснованная, — оставлена без внимания. Людовик продолжил поход и, проследовав через Венгрию и византийские земли, расположился лагерем в окрестностях Константинополя.
По его прибытии Мануил послал ему составленное в любезных выражениях приглашение посетить город с небольшой свитой. Людовик сразу же согласился и был встречен императором у входа во дворец. Ради того, чтобы убедить короля Франции уступить империи будущие завоевания, Мануил пустил в ход самые радужные обещания, все ухищрения льстецов и все возможные аргументы. Людовик наотрез отказался давать ленную присягу и вернулся в лагерь, убежденный, что император — не тот человек, которому можно доверять. Переговоры, однако, затянулись на несколько дней, что вызвало сильное недовольство французской армии. Когда же крестоносцы узнали о сговоре Мануила с турецким султаном, их недовольство сменилось яростью. Полководцы настоятельно советовали королю отдать приказ о штурме Константинополя и поклялись сровнять вероломный город с землей. Людовик был не склонен соглашаться на это предложение и, свернув лагерь, переправился в Азию.
Здесь он впервые узнал о несчастьях германского короля и встретился с ним в Никее. Армии двух монархов соединились и вместе отправились вдоль побережья к Эфесу421, однако Конрад, который, по-видимому, завидовал численному превосходству французов и тяготился пусть временным и вынужденным, но все же подчиненным положением по отношению к их королю, внезапно отделился и с остатками своих отрядов вернулся в Константинополь. Мануил был само радушие и любезность. Он так горячо сочувствовал немцу по случаю потерь, понесенных его армией, и столь убедительно проклинал глупость или вероломство своих проводников, что Конрад почти поверил в его искренность.
Продвигаясь в направлении Иерусалима, Людовик настиг врага на берегах Меандра422. Турки отбили французов от переправы, но те подкупили местного крестьянина, который привел их к броду ниже по течению реки. Легко переправившись на другой берег, крестоносцы решительно атаковали турецкое войско и обратили его в бегство. Были ли турки на самом деле разгромлены или просто притворились таковыми, неясно, но последнее кажется более вероятным. Возможно, что, отступая, они хотели заманить захватчиков туда, где их было проще разбить. И если это был их план, то он удался. На третий день после победы крестоносцы подошли к горному перевалу, на вершине которого турки устроили столь искусную засаду, что не наблюдалось ни малейших признаков их присутствия. Когда крестоносцы совершали утомительное восхождение по крутому склону, сверху внезапно сорвался и со страшным грохотом скатился огромный кусок скалы, внесший в их ряды смятение и смерть. В ту же минуту из укрытий вышли турецкие лучники, которые принялись методично обстреливать пехотинцев, и те гибли сотнями за один «залп». Стрелы отскакивали от кольчуг рыцарей, не причиняя им никакого вреда423; турки, видя это, целились в коней, и те вместе с всадниками падали с откоса в стремительный горный поток. Командовавший арьергардом Людовик понял, что армия подверглась нападению, когда увидел спасающихся бегством солдат, многие из которых были ранены. Не имея представления о численности противника, он решительно устремился вперед, дабы своим присутствием прекратить панику, охватившую его подчиненных. Все его старания были тщетны. На тех, кто поднимался, продолжали сбрасывать каменные глыбы, сметавшие и людей, и коней; те же, кому все-таки удавалось добраться до вершины перевала, схватывались врукопашную с превосходящими силами турок и гибли один за другим. Сам Людовик бился не на жизнь, а на смерть, но едва не попал в плен. Наконец, с наступлением сумерек, он с остатками армии вырвался из западни и стал лагерем у Атталии424. Здесь он вернул дезорганизованному и деморализованному ополчению дисциплину и боевой дух и разработал со своими командирами план дальнейших действий. Армия сильно ослабела от голода и болезней, и было решено совершить переход в Антиохию, которая оставалась независимым княжеством со времен Боэмунда Тарентского. В то время ею правил Раймунд, дядя Алиеноры Аквитанской. Полагая, что родство с королевой Франции поможет ему повлиять на ее мужа, князь попытался отвлечь Людовика от главной цели крестового похода — защиты Иерусалимского королевства — и заручиться его поддержкой в деле расширения границ и усиления Антиохийского княжества. Аналогичное предложение сделал граф Триполи. Людовик, однако, отказал обоим и после непродолжительного отдыха проследовал в Иерусалим. До него туда прибыл Конрад, покинувший Константинополь после того, как Мануил дал ему обещание прислать крестоносцам подкрепление, — обещание, которое грек так и не выполнил, да и не собирался выполнять.
После этого для обсуждения дальнейших военных операций был созван большой совет правителей христианских государств Сирии и Палестины и вождей крестового похода. В конечном счете было решено, что на данном этапе интересам крестоносного движения больше отвечает не отвоевание объединенными армиями Эдессы, а осада ими Дамаска, крупного и хорошо укрепленного города, и изгнание оттуда сарацин. Это был смелый план, полное осуществление которого скорее всего обеспечило бы успешный исход войны. Но христианские лидеры так и не осознали необходимости подлинного единства, без которого столь масштабные кампании обычно обречены на провал. Все они хотели достичь поставленной цели, но стремились к ее достижению по-разному. Правители Антиохии и Триполи соперничали друг с другом и с иерусалимским королем. Германский король завидовал французскому королю, а последнему были противны они все. Но Людовик покинул Францию и отправился на Восток, дав о том торжественный обет; его вера, пусть даже и фанатичная, была искренней; и ради успеха предприятия, в которое пустился, он решил не отделяться от союзников.
Осадив Дамаск, христиане действовали столь продуманно и энергично, что с самого начала перевес был на их стороне. По прошествии нескольких недель стало ясно, что благодаря повреждениям, нанесенным фортификационным сооружениям, и слабеющему сопротивлению осажденных сдача города неминуема и является делом недалекого будущего. И в это время глупое и неуместное властолюбие вождей стало причиной разногласий, которые вскоре привели к полному провалу не только осады, но и всего крестового похода. В одной из современных поваренных книг есть фраза, мудрость которой не вызывает сомнений: «Прежде чем готовить зайца, его нужно поймать и убить». Во время описываемых событий предводители крестоносцев подобной мудростью явно не отличались, ибо они принялись ожесточенно бороться за обладание еще не завоеванным городом. Вассалы иерусалимского короля уже правили в Антиохии и Триполи, править в Дамаске захотели двадцать человек, и для определения наиболее достойного претендента состоялся большой совет христианских вождей. На эту дискуссию ушло много драгоценных дней, а тем временем мусульмане, пользуясь бездействием христиан, укрепляли город. Наконец после бурного обсуждения было решено, что правителем Дамаска станет граф Роберт Фландрский, который к тому времени посетил Святую землю уже дважды. Однако другие претенденты отказались его признавать и заявили, что не примут участие в осаде, пока не будет сделан более справедливый выбор. В лагере воцарилась атмосфера подозрительности, поползли самые зловещие слухи об интригах и измене, и в итоге недовольные кандидаты отделились от армии, подошли к городу с другой стороны и начали заведомо обреченную на провал осаду собственными силами. Вскоре к ним присоединилось остальное войско. В результате наиболее уязвимая для штурма и в то время уже основательно разрушенная часть городской стены осталась неприкрытой. Враг немедленно воспользовался ошибкой крестоносцев и, прежде чем те ее осознали, значительно пополнил запасы провианта и отремонтировал поврежденные укрепления. Когда христиане опомнились, было слишком поздно. Огромное войско во главе с могущественным мосульским эмиром Нуреддином, которое форсированными маршами спешило на помощь осажденным, было на подходе. Осада была поспешно прекращена, и крестоносцы возвратились в Иерусалим, не сделав ничего, дабы ослабить противника, но все, чтобы навредить самим себе.
От некогда пламенного энтузиазма не осталось и следа; даже храбрейшие солдаты устали от войны. Конрад, от неистового рвения которого можно было многого ожидать в начале похода, был сломлен неудачами и вернулся в Европу с жалкими остатками немецкого ополчения. Людовик еще какое-то время оставался на Востоке, считая подобное завершение экспедиции делом унизительным, но настойчивые просьбы его советника Сугерия в конце концов убедили его вернуться во Францию. Так окончился Второй крестовый поход. Его история — это хроника одних поражений. Он лишь ухудшил состояние Иерусалимского королевства и не принес ничего, кроме позора, его предводителям и ничего, кроме разочарования и уныния, всем, кто был в нем заинтересован.
Св. Бернард, предрекавший прямо противоположный результат, приобрел после этого дурную славу и разделил незавидную участь многих других пророков, впав в немилость как у соотечественников, так и у иностранцев. Было, однако, немало таких, кто ревностно его защищал и шел наперекор всеобщему недоверию, которое в противном случае похоронило бы его репутацию окончательно. Епископ Фрейзингенский утверждал, что пророки способны пророчить не всегда и что греховные деяния крестоносцев навлекли на них гнев Божий. Но самое оригинальное оправдание св. Бернарда дает в его биографии Жоффруа Клервоский, который упрямо настаивает на том, что крестовый поход не был неудачным. Он пишет, что св. Бернард предсказывал счастливый исход и что фактический исход таковым и являлся, поскольку на небеса вознесся славный сонм новых мучеников. Несомненно, что Жоффруа, которому не откажешь в изобретательности, убедил в своей правоте незначительное количество религиозных фанатиков, но люди с независимым мышлением, в которых не было недостатка даже во времена биографа, остались при своем мнении или, что равносильно, «разумом согласились, а душой воспротивились».
Переходим к рассмотрению Третьего крестового похода и его причин. То массовое безумие, что неуклонно спадало по завершении первой экспедиции, к концу двенадцатого столетия практически или почти угасло, и народы Европы относились к военным приготовлениям своих государей с холодным равнодушием. Но рыцарство как военное сословие по-прежнему процветало и в то время находилось в зените славы. В то время как независимые и годные к военной службе простолюдины отказывались участвовать в новой экспедиции в Святую землю, туда отправлялись профессиональные рыцарские армии. Поэзия, которая явилась катализатором Третьего крестового похода в большей степени, чем религия, была тогда слишком тонким блюдом для грубого вкуса податных сословий, все внимание которых было сосредоточено на более важных заботах. Что же до рыцарей и их вассалов, то они с восторгом слушали прославляющие воинскую доблесть и поклонение избраннице сердца песни менестрелей425, миннезингеров426, труверов и трубадуров, и их охватывало жгучее желание заслужить благосклонность прекрасных дам подвигами в Святой земле. Третий крестовый поход был, безусловно, самым романтическим из всех. Его участники воевали не столько ради Гроба Господня и защиты христианского королевства на Востоке, сколько из желания прославиться в наиболее предпочтительном и едва ли не единственном месте, где это можно было сделать. Они сражались не как фанатики, а как солдаты, делая это не ради религии, а ради военной славы, и не за венцы мучеников, но за взаимность в любви.
Нет нужды подробно освещать события, в ходе которых Саладин добился владычества на Востоке427, и в деталях рассказывать о том, как после ряда боев Иерусалим вновь стал владением мусульман. Христианское население Сирии и Палестины, в том числе его рыцарская прослойка, включая госпитальеров428 и тамплиеров429, погрязло в пучине порока и, раздираемое взаимным недоверием и низменными распрями, не могло оказать достойное сопротивление хорошо подготовленным армиям умного и могущественного Саладина. Однако новости о поражениях латинян на Востоке вызвали крайне болезненную реакцию у европейского рыцарства, верхушка которого была связана с ними узами дружбы и кровного родства. Сначала европейцы узнали о генеральном сражении близ Тивериады430, в котором Саладин почти полностью уничтожил объединенные силы христиан, а затем до них, быстро следуя одно за другим, дошли известия о потере Иерусалима, Антиохии, Триполи и других городов431. Духовенство пребывало в смятении. Папа Урбан III был так потрясен дурными вестями, что занемог от горя, перестал улыбаться и вскоре уснул вечным сном432. Его преемник Григорий VIII переживал их столь же остро, но сумел обрести душевное равновесие и призвал все духовенство христианского мира поднять паству на отвоевание Гроба Господня. Вильгельм, архиепископ Тирский, скромный последователь Петра Пустынника, покинул Палестину, чтобы поведать государям Европы о невзгодах их единоверцев, свидетелем которых он был, и побудить монархов прийти им на помощь. Знаменитый Фридрих I Барбаросса, германский король и император Священной Римской империи, в короткие сроки набрал войско и, добравшись до Малой Азии быстрее всех более ранних предводителей крестоносцев, разгромил сельджуков и взял город Иконий. Его триумфальное шествие длилось недолго: при переходе через горную реку Салеф он, перегревшись на солнце, потерял сознание и утонул, и экспедицию возглавил герцог Швабский433. Последний оказался не столь талантливым полководцем и терпел одно поражение за другим, хотя имел возможность завладеть Антиохией и удерживать ее до прибытия пополнения из Европы434.
Генрих II Плантагенет и Филипп II Август встали во главе, соответственно, английских и французских рыцарей и поддерживали подготовку крестового похода, используя все свое влияние, пока их на какое-то время не отвлекли от него усобицы и взаимные интриги. В январе 1188 года два короля, сопровождаемые блистательными свитами рыцарей, встретились в местечке Жизор, в Нормандии. На встрече присутствовал Вильгельм Тирский, который, демонстрируя незаурядные ораторские способности, доказывал целесообразность новой экспедиции, после чего все собравшиеся связали себя клятвой выступить в поход, чтобы отвоевать Иерусалим. Было также решено, что тех христиан, которые либо не хотят принимать крест, либо по тем или иным причинам не могут этого сделать, следует обложить особым налогом — «Саладиновой десятиной», охватывающей десятую часть всего имущества, движимого и недвижимого. Согласно заключенному соглашению все феодалы (как светские, так и церковные) были обязаны собирать десятину со своих подданных; при этом всякий, кто отказывался вносить свою долю, попадал в полную личную зависимость от сеньора. В то же время тем, кто принимал крест, делалось весьма существенное послабление: никто не имел права преследовать их судебным порядком ни за какие преступления, будь то неуплата долга, грабеж или убийство. По окончании встречи король Франции созвал в Париже королевскую курию435, которая торжественно утвердила эти резолюции, а Генрих II аналогичным образом узаконил их в Руане для Нормандии и в Геддингтоне, графство Нортгемптоншир, — для Англии. Как написал один средневековый историк436, «он обсудил с высшей знатью поход в Святую землю и озаботил всю страну уплатой десятины для его осуществления».
«Озабочены» данным налогом были, однако, не только англичане. Французы также не питали к нему никаких теплых чувств, и есть основания полагать, что после его введения их равнодушие к крестовому походу сменилось отвращением. Даже служители церкви, которые были бы очень рады, если бы миряне пожертвовали половину или даже все свое имущество на их любимое детище, не желали выкладывать ни су из своих кошельков. Милло437 пишет, что некоторые из них протестовали против подати. Среди прочих ею были обложены священники Реймса, которые отправили депутацию к королю с просьбой, чтобы он удовольствовался их молитвами за успех экспедиции, потому что они слишком бедны, чтобы поддержать ее как-то иначе. Филипп Август рассудил по-своему и, чтобы преподать им урок, нанял трех дворян из тех мест разорить церковные земли. Узнав о творящемся произволе, духовенство обратилось за помощью к королю. «Я непременно помогу вам моими молитвами, — снисходительно сказал монарх, — и христианнейше попрошу этих господ оставить духовенство в покое». Он выполнил свое обещание, но сделал это в столь развязной манере, что «господа» без труда поняли намек и продолжили разграбление. Церковники вновь обратились к королю. «Чего вы от меня хотите? — ответил он на их протесты. — Вы откликнулись на мои нужды вашими молитвами, а я поддержал вас своими». Аргумент подействовал: реймсские священнослужители сочли за благо прекратить переговоры и уплатить свою долю Саладиновой десятины.
Эта история наглядно демонстрирует степень непопулярности Третьего крестового похода. Если уж сбору средств на него противилось духовенство, то неудивительно, что простой люд относился к нему еще более неприязненно. Но европейское рыцарство рвалось в бой, десятину успешно собирали, и вскоре армии из Англии, Франции, Бургундии, Италии, Фландрии и Германии были готовы выступить в поход. Однако французский и английский короли, которые должны были его возглавить, были втянуты в междоусобную войну вторжением Ричарда, герцога Аквитанского, больше известного как Ричард Львиное Сердце, во владения графа Тулузского, и запланированное путешествие в Палестину было отложено. Конфликт разгорался, и его скорое разрешение казалось настолько маловероятным, что многие принявшие крест вельможи, не желая дожидаться примирения двух монархов, отправились в Палестину без них.
Наконец в распрю вмешалась смерть, избавившая Генриха II от враждебности недругов и от вероломства и неблагодарности собственных детей. Его сын Ричард немедленно заключил союз с Филиппом Августом, и два молодых, храбрых и импульсивных государя объединили свои усилия для скорейшего осуществления крестового похода. Окруженные многочисленными и сиятельными свитами, они встретились в нормандском местечке Нонанкур, где на виду у своих рыцарей обнялись, как братья, и поклялись оставаться друзьями и верными союзниками до истечения сорока дней по возвращении из Святой земли. Решив искоренить в войске преступления и пороки, самым губительным образом отразившиеся на предыдущих экспедициях, они составили свод законов крестоносной армии. Азартные игры, получившие широкое распространение в первых двух походах, стали благодатной почвой для ссор и кровопролития; и один из законов запрещал любому крестоносцу рангом ниже рыцаря играть в какие бы то ни было игры на деньги438. Рыцарям и священникам это разрешалось, но не дозволялось проигрывать или выигрывать более двадцати шиллингов в день, что каралось штрафом сто шиллингов. В тех же пределах могли играть королевские слуги, однако в случае выхода за установленные рамки они подлежали раздеванию догола и прогону плетьми через расположение армии в течение трех дней. Любой крестоносец, напавший на другого крестоносца и проливший кровь, наказывался отсечением кисти руки, а всякого убийцу своего собрата ожидало привязывание к телу его жертвы и погребение заживо. К великому сожалению множества как порочных, так и добродетельных дам, которым не хватило смелости попытаться обмануть бдительность законодателей ношением мужской одежды, в армии не допускалось присутствие молодых женщин. Но многие гордые и страстные незамужние и замужние женщины становились оруженосцами и сопровождали в походе своих возлюбленных и мужей назло королю Ричарду и с явным пренебрежением к опасности. Единственными женщинами, которые могли участвовать в походе на законном основании, были прачки не моложе пятидесяти лет и другие представительницы прекрасного пола, достигшие этого возраста.
После обнародования этих предписаний объединенное войско совершило переход до Лиона, где разделилось, чтобы, согласно взаимной договоренности монархов, вновь соединиться в Мессине. Армия Филиппа проследовала через Альпы в Геную, где погрузилась на корабли и была благополучно доставлена в место встречи. Силы Ричарда дошли до Марселя и тоже отплыли в Мессину. В пути английский король в силу своей горячности часто ссорился с представителями местного населения, и его соратники, в большинстве своем такие же смелые и безрассудные, как и он сам, весьма рьяно следовали его примеру. В Мессине сицилийцы запрашивали за всё непомерные цены и не снижали их, несмотря на протесты англичан. Последние перешли от угроз к рукоприкладству, а когда это не помогло, принялись грабить неуступчивых торговцев. Результатом были постоянные стычки, в одной из которых Лебрен, любимый слуга Ричарда, расстался с жизнью. На помощь горожанам отовсюду стекалось крестьянство, и вскоре вооруженное противостояние приняло массовый характер. Во главе восстания встал сам сицилийский король Танкред, и Ричард, расценив эту новость как сигнал к ответным мерам и желая отомстить за убийство фаворита, собрал лучших рыцарей и разгромил повстанцев, после чего захватил Мессину и водрузил вместо флага Сицилии свой собственный. Действия англичан очень не понравились королю Франции, который охладел к Ричарду, подозревая, что в планы последнего входит не столько восстановление христианского Иерусалимского королевства, сколько завоевание новых земель для себя. Он, однако, использовал свое влияние, чтобы помирить враждующие стороны, и вскоре после этого, все меньше доверяя союзнику, отплыл в Сирию для участия в осаде Акры.
Ричард оставался на Сицилии еще несколько недель и все это время ничего не предпринимал, что труднообъяснимо при его темпераменте. Судя по всему, английский король отказался от дальнейших конфликтов с сицилийцами и вел беззаботную и помпезную жизнь, забыв среди роскоши о том, ради чего он покинул свои владения, и не осознавая, сколь пагубный пример подает армии. Наконец суеверие солдат напомнило ему о его долге: несколько ночей подряд была видна комета, которая расценивалась крестоносцами как нависшая над ними угроза небесной кары за промедление. Примерно так же они реагировали на падающие звезды, а как-то раз фанатик по имени Иоахим всю ночь напролет бродил по лагерю с обнаженным мечом в руке. Его длинные волосы развевались на ветру; он истошно вопил, пророча крестоносному воинству чуму, голод и прочие бедствия, если оно не отправится в путь немедленно. После этого случая Ричард счел, что далее игнорировать предостережения было бы неразумно, и, принеся смиренное покаяние в недостаточном усердии, свернул лагерь и отплыл к Акре.
Английский флот был застигнут штормом и рассеян, но сам король благополучно пристал к острову Родос с большей частью войска. Здесь он узнал, что три его корабля выброшены на скалистые берега Кипра, правитель которого Исаак Комнин разрешил своим подданным грабить незадачливых мореплавателей и отказался приютить его невесту — принцессу Беренгарию Наваррскую и его сестру. Корабль, на котором находились обе женщины, занесло непогодой в порт Лимасол. Вспыльчивый монарх поклялся отомстить и, собрав все свои суда, поплыл в Лимасол. Исаак Комнин не пожелал извиниться или как-то объяснить свои действия, и Ричард, который был не в том настроении, чтобы от него можно было просто отмахнуться, высадился на острове, наголову разбил посланные против него войска и наложил на Кипр контрибуцию.
Прибыв к Акре, он обнаружил у ее стен все европейское рыцарство. Задолго до этого Ги де Лузиньян, бывший иерусалимский король, собрал доблестных рыцарей Храма и иоаннитов и осадил Акру, которую упорно обороняла армия Саладина, выдающаяся как по численности, так и по дисциплине. Осада длилась почти два года, и крестоносцы прилагали нечеловеческие усилия, дабы заставить противника сдаться. В это время также происходили сражения на открытой местности, не принесшие решающего преимущетва ни той, ни другой стороне, и Ги де Лузиньян начал терять надежду на овладение городом без поддержки европейцев. Он был чрезвычайно обрадован прибытием Филиппа и его рыцарей и для последнего штурма дожидался только Львиного Сердца. Когда английский флот показался у сирийских берегов, в лагере христиан раздался всеобщий крик радости, а когда Ричард со своей свитой ступил на берег, повторный, еще более громкий ликующий клич донесся аж до гор к югу, где находился Саладин со своим войском.
Одной из отличительных черт этого крестового похода было то, что христиане и мусульмане больше не относились друг к другу как варвары, для которых милосердие является преступлением. И те, и другие питали глубочайшее уважение к мужеству и великодушию противника, и во время редких перемирий встречались как друзья. Воины-мусульмане были исключительно любезны с рыцарями-христианами и сожалели лишь о том, что такие прекрасные солдаты не являются магометанами. Христиане в свою очередь превозносили до небес благородство сарацин и печалились при мысли, что такие рыцарственные и доблестные люди запятнаны неверием в истинного Бога. Но когда начинались военные действия, все эти чувства отступали на задний план и разворачивалась борьба не на жизнь, а на смерть.
Подозрительность, закравшаяся в душу Филиппа во время событий в Мессине, по-прежнему терзала его, и двое монархов решили действовать порознь. Вместо совместного штурма города французский король атаковал его в одиночку и был отброшен. Ричард сделал то же самое и с тем же результатом. Филипп попробовал переманить верноподданных солдат Ричарда в свое войско, предложив три золотые монеты в месяц каждому рыцарю, который уйдет из-под английских знамен и встанет под французские. Ричард попытался нейтрализовать это предложение более выгодным и пообещал четыре золотых каждому французскому рыцарю, который присоединится к Английскому льву439. Эта недостойная конкуренция отняла массу драгоценного времени и сильно ослабила дисциплину и боеспособность обеих армий. Она, однако, оказалась полезной в том смысле, что одно лишь присутствие столь крупных войсковых соединений предотвратило снабжение города продовольствием, вследствие чего его население было доведено до истощения. Саладин не спешил приходить осажденным на помощь, не желая ввязываться в генеральное сражение с сомнительным исходом и предпочитая ожидать, пока вследствие распрей враг не ослабеет настолько, что станет легкой добычей. Если бы султан был в курсе истинного положения дел в Акре, он, возможно, изменил бы свой план, но, будучи отрезанным от города, он не знал о страданиях его защитников, пока не стало слишком поздно. После непродолжительного перемирия город был сдан на таких суровых условиях, что Саладин впоследствии отказался их выполнять. Главными требованиями христиан были: возвращение древа истинного креста, захваченного мусульманами в Иерусалиме, уплата контрибуции в двести тысяч золотых и освобождение всех узников-христиан в Акре наряду с двумястами рыцарей и тысячей пехотинцев, взятыми в плен Саладином440. Надо полагать, христианская реликвия не имела большой ценности в глазах монарха-мусульманина, но он все же решил ее сохранить, справедливо рассудив, что она, попав к противнику, воодушевит его сильнее любой победы на поле брани. Поэтому он отказался как от ее возвращения, так и от выполнения всех остальных условий, и Ричард, следуя ранее поставленному ультиматуму, отдал бесчеловечный приказ об умерщвлении всех пленных сарацин.
Завладение городом привело к новым неуместным разногласиям между христианскими вождями. Леопольд VI, герцог Австрийский, без достаточных на то оснований водрузил свой флаг на одной из башен Акры. Как только знамя попалось на глаза Ричарду, тот собственноручно его сорвал и истоптал. Филипп, никоим образом не одобряя поступок герцога, был задет высокомерием Ричарда, и отношения между двумя монархами стали еще более натянутыми. Тогда же между Ги де Лузиньяном и Конрадом Монферратским441 начался нелепый спор о том, кто из них больше заслуживает титула иерусалимского короля. Дурному примеру начальников не замедлили последовать подчиненные, и в стане христиан воцарились зависть, недоверие и враждебность. Когда обстановка накалилась до предела, французский король неожиданно объявил о своем намерении вернуться на родину. Узнав об этом, Ричард вознегодовал и воскликнул: «Вечный позор ему и Франции, если из каких бы то ни было соображений он не исполнит свой долг до конца!» Филиппа, однако, это не удержало. Пребывание на Востоке подорвало его здоровье, и он, всегда стремившийся играть в походе главную роль, решил, что лучше вообще отказаться от участия в нем, чем поневоле уступить пальму первенства Ричарду. Оставив в Акре небольшой отряд бургундцев, он вернулся с остальным войском во Францию, а Львиное Сердце, который среди обилия других соперников не ощутил облегчения, избавившись от главного, мучительно осознал, что шансы на успех предприятия резко упали.
После отплытия Филиппа Ричард заново укрепил Акру, восстановил христианское богослужение в церквах и, оставив христианский гарнизон для обороны города, выступил вдоль побережья к Аскалону. Саладин был начеку и послал ему в тыл легкую кавалерию, а сам, неверно оценив боеспособность противника после отступничества Филиппа, стал провоцировать его на генеральное сражение. Две армии сошлись у Азота442. Завязалась упорная битва, в которой Саладин был разбит и обращен в бегство, и теперь ничто не мешало крестоносцам идти на Иерусалим.
И вновь разлад оказал на них пагубное влияние и помешал Ричарду добиться окончательной победы. Он постоянно сталкивался с сопротивлением других предводителей, которые завидовали его смелости и авторитету. В итоге вместо похода на Иерусалим или даже, как планировалось вначале, на Аскалон443 армия проследовала к Яффе444 и бездействовала до тех пор, пока Саладин вновь не оказался в состоянии вести против нее войну.
Многие месяцы ушли на бесплодные военные действия и на столь же бесплодные переговоры. Ричард хотел отвоевать Иерусалим, но осуществление его желания было сопряжено с проблемами, перед которыми оказалась бессильна даже его храбрая натура. Не последней причиной неудачи была его собственная несносная гордыня, которая оттолкнула от него множество великодушных полководцев, вполне искренне желавших быть его союзниками. Наконец было принято решение выступить к Священному городу, но продвижение армии было настолько медленным и затруднительным, что солдаты роптали, а вожди намеревались повернуть обратно. Стояла жаркая и сухая погода, а воды вокруг практически не было. Саладин завалил на пути крестоносцев колодцы и водоемы, и армия не хотела продолжать путь, страдая от жажды. В Вифлееме был проведен совет, чтобы решить, должно ли войско повернуть назад или двигаться вперед. Было решено и немедленно начато первое. Сообщается, что перед отступлением Ричард взошел на вершину холма, откуда разглядел башни Иерусалима, и что он был настолько потрясен невозможностью прийти на помощь городу, находящемуся так близко, что спрятал лицо за щит и громко зарыдал.
Армия разделилась на две части, меньшая из которых вернулась в Яффу, а бóльшая, возглавляемая Ричардом и герцогом Бургундским, — в Акру. Прежде чем английский монарх сделал все приготовления к возвращению в Европу, в Акру прибыл гонец, сообщивший, что Яффа осаждена Саладином и без незамедлительной поддержки главных сил будет взята. Французы герцога Бургундского так устали от войны, что отказались помочь собратьям в Яффе. Ричард, сгорая от стыда за малодушие недавних союзников, выступил к Яффе с англичанами и успел спасти город. Одно его имя обращало сарацин в бегство — так пугала их его отвага. Саладин относился к этому его качеству с глубочайшим восхищением, и когда Ричард, одержав победу, потребовал мира, охотно согласился. Было заключено перемирие сроком на три года и восемь месяцев, в течение которых христианские паломники могли беспрепятственно посещать Иерусалим, не платя при этом никаких сборов. За крестоносцами сохранялась береговая полоса от Тира до Яффы445. Проявив царственное великодушие, Саладин пригласил многих христиан посетить Иерусалим, и часть вождей, желая полюбоваться Священным городом, воспользовалась приглашением. Многие из них по нескольку дней гостили во дворце султана и возвращались оттуда, расточая похвалы в адрес «благородного язычника». Вопреки одной из сюжетных линий безупречной в художественном отношении, но не всегда исторически достоверной беллетристики сэра Вальтера Скотта, Ричард и Саладин никогда не сражались лицом к лицу. Тем не менее оба восторгались мужеством и величием души противника и заключили мир на условиях, гораздо менее обременительных, нежели те, на которые они согласились бы, не будь этого взаимного преклонения446.
После этого король Англии поспешил вернуться в Европу, потому что гонцы из его страны сообщили ему об интригах против короны, для пресечения которых требовалось его неотложное присутствие в своих владениях. Его длительное заточение в Австрии и освобождение за выкуп слишком хорошо известны, чтобы останавливаться на них подробно. Так закончился Третий крестовый поход, унесший меньше жизней, чем первые два, но не достигший поставленной цели в той мере, чтобы считаться успешным.
По его завершении огонь массового энтузиазма еле тлел, и всех усилий пап и монархов оказалось недостаточно, чтобы его разжечь. В конце концов, померцав, подобно гаснущему костру, он ярко вспыхнул напоследок и погас навсегда.
Последовавший вскоре Четвертый крестовый поход447 был настолько непопулярен и окончился так бесславно, что почти не заслуживает внимания. После смерти Саладина, случившейся через год после подписания мира с Ричардом, его огромная империя распалась на части. Его брат Саиф-ад-дин, или Сафаддин, завладел Сирией и правил ею, сдерживая притязания сыновей Саладина. Когда об этом узнали в Европе, папа Целестин III решил, что самое время проповедовать новый крестовый поход. Но подавляющее большинство европейцев отнеслось к его призывам с холодным безразличием: простолюдины не испытывали рвения, а государи и дворяне были заняты более важными делами в своих владениях. Единственным монархом в Европе, поддержавшим идею понтифика, был германский император Генрих VI, под покровительством которого герцоги Саксонии и Баварии выступили в поход со значительными силами. Высадившись в Палестине, они не нашли поддержки у местных христиан. При либеральном правлении Саладина последние наслаждались спокойной жизнью и терпимостью со стороны мусульман, а приход немцев угрожал и тому, и другому. Вследствие этого христиане Востока относились к немцам как к непрошеным оккупантам и никак не поддерживали их войну с Сафаддином. Эта экспедиция окончилась намного хуже предыдущей: немцы ухитрились не только озлобить сарацин против христиан Иудеи, но и лишиться хорошо укрепленной Яффы, потеряв при этом убитыми девять десятых армии.
Пятый крестовый поход оказался более важным и имел результат, на который его вдохновители никак не рассчитывали, — взятие Константинополя и воцарение французской династии на троне восточно-римских императоров. Каждый папа, как бы сильно он ни отличался от своих предшественников в других отношениях, упорно стремился сохранить доминирующее влияние святейшего престола всеми доступными средствами. Наилучшим подспорьем в этих стараниях были крестовые походы. Пока понтификам удавалось убеждать монархов и дворян Европы сражаться и умирать на Востоке, их собственной власти над умами тех, кто оставался дома, ничто не угрожало. Такова была их цель, и они никогда не интересовались, обещает ли крестовый поход быть успешным, удачно ли выбрано для него время и являются ли достаточными людские и материальные ресурсы. Сумей папа Иннокентий III до такой степени подчинить своей воле непокорных королей Англии и Франции, это, несомненно, укрепило бы его и без того надежные позиции, но Иоанн Безземельный и Филипп Август были поглощены более важными заботами. Оба ранее сильно оскорбили церковь и были от нее отлучены, и оба теперь боролись друг с другом: Филипп завоевывал континентальные владения Англии, поощряя союзные города коммунальными хартиями на самоуправление, а Иоанн с помощью внешних союзников пытался эти владения отвоевать. По этой причине эмиссары папы остались ни с чем, но, как и во времена Первого и Второго крестовых походов, красноречие одного влиятельного проповедника побудило к действию дворян, под знамена которых встали их вассалы и подвассалы. Фульк, епископ Нёйиский, честолюбивый и предприимчивый прелат, полностью разделял идею римского первосвященника и проповедовал крестовый поход везде, где только мог. В итоге благосклонность Фортуны превзошла все его ожидания, поскольку на тот момент оптимизма не внушали ни общее число прозелитов, ни степень их активности. Тибо, граф Шампани, устроил грандиозный рыцарский турнир, на который пригласил всех дворян Франции и соседних стран. На турнире присутствовали свыше двух тысяч рыцарей, их слуги и огромное число зрителей. Явившийся в разгар празднества Фульк счел, что упускать такой шанс никак нельзя, и обратился к толпе с пылкой и проникновенной речью. Молодой, горячий и очень восприимчивый граф де Шампань принял крест из рук епископа. Энтузиазм быстро распространялся. Почин графа Тибо подхватил Людовик, граф Блуа, примеру Людовика последовали другие дворяне, и в целом из двух тысяч рыцарей крест не взяли едва ли полторы сотни. Казалось, что вернулось массовое исступление давно минувших дней. Граф Фландрский, граф Барский, герцог Бургундский и маркиз Монферратский448 дали сигнал всем своим вассалам, и за очень короткое время была снаряжена внушительная армия, готовая отправиться в Палестину.
Тяготы путешествия по суше были слишком хорошо известны, и крестоносцы решили законтрактовать необходимое количество военных и транспортных судов в одном из итальянских государств. Дандоло, престарелый дож Венеции, предложил им галеры республики, но по прибытии в этот город крестоносцы поняли, что слишком бедны, чтобы заплатить даже половину требуемой суммы. Дабы собрать недостающую часть, в ход шли все законные средства; крестоносцы переплавляли столовое серебро, а дамы продавали драгоценности. Верующих призывали вносить пожертвования, но те делали это настолько неохотно и скупо, что было очевидно, что благоразумие подавляющего большинства европейцев сильнее их набожности. Тогда Дандоло предложил крестоносцам перевезти их в Палестину449за счет республики, если они помогут ей отвоевать Зару450 — портовый город, незадолго до этого захваченный у венецианцев королем Венгрии. Крестоносцы согласились, вызвав тем самым сильное неудовольствие папы, который пригрозил отлучить от церкви всех, кто отклонится от похода на Иерусалим. Но, несмотря на угрозы церкви, участники экспедиции так никогда и не достигли Палестины. Была поспешно начата осада Зары. После долгого и упорного сопротивления город сдался на милость победителя, и ничто не мешало крестоносцам отправиться воевать с сарацинами. Однако непредвиденные обстоятельства подсказали честолюбивым вождям другое направление дальнейших действий.
После смерти Мануила Комнина Византийская империя стала жертвой внутренних раздоров. Его сын Алексей II наследовал отцу, но вскоре был убит своим дядей Андроником, который узурпировал власть. Его царствование также было непродолжительным. Исаак Ангел, основатель одноименной династии, поднял против узурпатора восстание, взял его в плен и отдал на растерзание толпы. В итоге Исаак II также был свергнут с престола. Его сместил его брат Алексей, который, стремясь сделать императора неспособным к царствованию, ослепил его и заточил в темницу. И вот теперь угроза свержения нависла над Алексеем III: сын несчастного Исаака, которого тоже звали Алексеем, бежал из Константинополя и, узнав, что крестоносцы осадили Зару, предложил им по завершении осады низложить его дядю, за что посулил исключительно щедрую награду. Царевич пообещал крестоносцам, что если с их помощью он взойдет на престол в исконно отцовских владениях, то подчинит греческую церковь римской, предоставит в их распоряжение десятитысячный греческий отряд для завоевания Святой земли и единовременно выплатит крестоносной армии двести тысяч марок серебром451. Предложение было принято, но с той оговоркой, что некоторые вожди имели право выйти из соглашения в случае его неодобрения папой. Но этого можно было не опасаться. Подчинение раскольников-византийцев святейшему престолу было для понтифика более лакомым куском, нежели полное уничтожение сарацинского владычества в Палестине.
Вскоре крестоносцы двинулись на столицу империи. Их действия, отличавшиеся продуманностью и смелостью, внесли в стан неприятеля такое замешательство, что все попытки узурпатора удержаться на престоле оказались тщетными. После неудачной вылазки против лятинян он оставил город на произвол судьбы, сбежав в неизвестном направлении. Престарелый и слепой Исаак был освобожден из темницы своими подданными, провозглашен императором и приведен во дворец еще до того, как крестоносцы были оповещены о бегстве его врага. Позднее его сын был избран соправителем и стал Алексеем IV.
Однако греческий народ, узнав условия соглашения, почувствовал себя оскорбленным; местное духовенство отказалось подчиняться понтификату. Сначала Алексей пытался склонить подданных к повиновению и уговаривал крестоносцев остаться у Константинополя и содействовать упрочению его положения на троне, которое пока что было довольно шатким. Вскоре, однако, он окончательно утратил популярность у населения и, будучи неспособным исполнить в должной мере финансовые обязательства, восстановил против себя крестоносцев. Наконец, обе стороны объявили ему войну: народ — из-за его тирании, а бывшие союзники — вследствие его вероломности. Он был схвачен во дворце собственной стражей и брошен в тюрьму, а крестоносцы в это время готовились к осаде его столицы. Греки немедленно приступили к избранию нового монарха и, желая иметь над собой человека мужественного, энергичного и упорного, остановили свой выбор на царедворце по имени Алексей Дука, который, обладая чуть ли не всеми возможными пороками, был наделен и указанными добродетелями. Он взошел на престол под именем Мурзуфл452. Одним из первых его деяний стало избавление от более молодого предшественника (старый и слепой Исаак к тому времени уже умер от сердечного приступа и больше не был камнем преткновения): вскоре после смерти отца юный Алексей был убит в тюрьме.
После этого между греками и французами началась беспощадная война. Ранней весной 1204 года крестоносцы стали готовиться к штурму Константинополя. Французы и венецианцы заключили договор о разделе империи — настолько они были уверены в успехе. Эта уверенность привела их к победе, в то время как греки, трусливые, как и все вероломные люди, были парализованы дурными предчувствиями. Всех без исключения историков поражает, что Мурзуфл с его репутацией храбреца и имевшимися в его распоряжении колоссальными ресурсами не смог отразить нападение крестоносцев. Численность латинян не шла ни в какое сравнение с той громадной ратью, которую он мог бы против них выставить; и если их стимулом была богатая добыча, то грекам следовало с не меньшим усердием защищать свои дома и само свое существование как нации. Высадившись с кораблей453, крестоносцы начали интенсивный штурм, который в тот день был отбит, но позднее возобновлен с удвоенной интенсивностью. В итоге они, перебив оказавших сопротивление и отделавшись незначительными потерями, вошли в Константинополь. Мурзуфл бежал, оставив город на разграбление победителей. Найденные ими богатства были огромны. Одних денег оказалось достаточно, чтобы раздать по двадцать марок серебром рыцарям, по десять — всадникам простого звания (оруженосцам и вооруженным слугам) и по пять — пехотинцам454. Крестоносцам также достались ювелирные изделия, бархатные и шелковые ткани, роскошные одежды, редкие вина, экзотические фрукты и много других ценностей. Все это они продали венецианским купцам, а выручку поделили между собой455. Латиняне предали мечу две тысячи жителей Константинополя; но, окажись город менее привлекательным в смысле поживы, жертв, по всей вероятности, было бы намного больше.
Изучая многие кровопролитные войны, пятнающие страницы истории, мы узнаéм, что солдаты, полностью равнодушные к деяниям Всевышнего, безжалостно уничтожают венец его творения — людей, но оставляют в целости и сохранности произведения искусства. Они вырезают женщин и детей, но щадят картины; рубят больных, беспомощных и старых, но не трогают скульптур. Латиняне же, войдя в Константинополь, не пожалели ни Божьих, ни людских созданий, выместив свирепость на первых и принеся вторые в жертву своей алчности. Они разбили на куски множество бесценных бронзовых статуй, чтобы переплавить их в слитки для продажи по себестоимости металла456. Мраморные же изваяния, которые нельзя было утилизовать, разрушались ими из чистой злобы.
Когда латиняне удовлетворили жажду крови и разделили награбленное добро, от французов и венецианцев было отобрано по шесть человек, которые встретились и избрали нового императора, предварительно поклявшись беспристрастно остановить свой выбор на самом достойном из кандидатов. Последними были Балдуин, граф Фландрии и Эно, и Бонифаций, маркиз Монферратский457, и в итоге предпочтение было единогласно отдано первому. Он был тотчас же облачен в императорский пурпур и стал основателем новой династии. Первый латинский император прожил недолго и не успел как следует насладиться властью и укрепить ее для наследников, которые в свою очередь были вскоре сметены. Менее чем через шестьдесят лет правление французов в Константинополе внезапно и бесповоротно завершилось, как это в свое время случилось с Мурзуфлом. Таков окончательный результат Пятого крестового похода.
Несмотря на достаточно благосклонное отношение папы Иннокентия III к взятию Константинополя, разделу Византии и образованию Латинской империи, он сожалел о том, что «пилигримы» не дошли до Святой земли, и при каждом удобном случае заявлял о необходимости нового крестового похода. До 1212 года его настоятельные призывы не приносили ощутимых результатов. Каждую весну и лето в Палестину на помощь единоверцам отправлялись все новые отряды, но они были слишком малочисленны, чтобы всерьез угрожать сарацинам. Эти периодические шествия назывались passagium Martii («мартовский ход») и passagium Johannis («ход в Иванов день»). В них участвовали не только вооруженные ополченцы, но и ведомые религиозным рвением паломники, имевшие при себе лишь посох да кошелек. В конце весны 1212 года во Франции и Германии началось более необычное крестоносное движение. Вняв увещеваниям двух монахов, огромное число мальчиков и девочек (по некоторым оценкам, до тридцати тысяч) выступило в поход в Святую землю. Это, несомненно, были ничем не занятые, брошенные дети, каких много в больших городах, — порочные, дерзкие и готовые на все. Представляется, что монахи преследовали отвратительную цель — под видом отправки в Сирию заманить детей на невольничьи суда и продать в рабство на побережье Северной Африки458. Многие из этих несчастных были посажены в Марселе на корабли, которые, за исключением двух или трех, позднее потерпели крушение у берегов Италии, а все, кто на них был, погибли. Остальные дети добрались до Африки, где были проданы в рабство и угнаны вглубь континента. Другой отряд юных крестоносцев прибыл в Геную, но сообщники монахов, ожидая их всех в Марселе, не имели кораблей в итальянском порту, и генуэзцы заставили детей вернуться домой.
Фуллер в своем замысловатом историческом труде «Священная война» сообщает, что данный крестовый поход был прихотью Сатаны, и дает пояснение, которое сегодня может вызвать усмешку, но к которому именитый ученый муж пришел вполне осознанно и искренне. Он пишет, что «дьявол, пресытившись убийством взрослых мужчин и стремясь излечиться от расстройства желудка, возжелал укрепляющего из крови детей». Так чревоугодники, переев баранины, переходят на ягнятину.
Из трудов других авторов явствует, что проповеди подлых монахов оказали на несмышленых детей такое воздействие, что те носились повсюду как угорелые и кричали «Господи Иисусе, верни нам твой крест!» и что удержать их от похода на Иерусалим не могли ни засовы, ни гнев отцов, ни любовь матерей459.
Сведения об этих удивительных событиях чрезвычайно скудны и туманны. Ни один упоминающий их автор той поры не считает нужным назвать имена монахов, придумавших коварный план, или рассказать, как они были наказаны за совершенное злодеяние. Сообщается, что двоих марсельских купцов — участников прибыльного сговора привлекли к суду за другое преступление и казнили, но ничего не говорится о каких-либо данных ими показаниях в связи с означенным сговором.
Если допустить, что так все и было, то папа Иннокентий III, похоже, не знал истинной причины крестового похода детей, ибо на сообщение, что они в большом количестве взяли крест и идут в Святую землю, он отреагировал восклицанием: «Сии дети бодрствуют, пока мы спим!» Он, очевидно, полагал, что европейцы по-прежнему хотят вернуть себе Палестину и что религиозное рвение их детей является своего рода упреком его собственному равнодушию. Прошло совсем немного времени, и папа взялся за дело, разослав духовенству энциклику460 с призывом к проповеди нового крестового похода. Как обычно, многие охочие до приключений дворяне, которым было больше нечем заняться, приняли крест со своими вассалами. На Четвертом Латеранском соборе, проведенном во время формирования крестоносного ополчения, Иннокентий объявил, что самолично возьмет крест и поведет воинов Христа на защиту его гроба. По всей вероятности, он бы так и сделал, благо фанатизма ему было не занимать, но исполнению его намерения помешала смерть. Его преемник поддержал идею крестового похода, хотя и отказался от участия в нем; и военные приготовления во Франции, Англии и Германии были продолжены. Правители этих стран в походе не участвовали. Единственным монархом, у которого было свободное время или желание покинуть свои владения, оказался король Венгрии Андрей II. К нему с большим немецким войском присоединились герцоги Австрийский и Баварский. Крестоносцы дошли до Спалато461, отплыли на Кипр, а оттуда — в Акру.
Действия венгерского короля как полководца отличались малодушием и нерешительностью. В Святой земле под его началом была весьма боеспособная армия, что явилось полной неожиданностью для сарацин, которые в течение нескольких недель не могли оказать ей сколько-нибудь достойное сопротивление. Он разгромил первый посланный против него отряд и выступил в направлении горы Табор, дабы овладеть важной в стратегическом отношении крепостью, недавно построенной сарацинами. Он беспрепятственно дошел до горной крепости и мог легко ее взять, но на него нашел внезапный приступ трусости, и он, даже не попытавшись это сделать, вернулся в Акру. Очень скоро король вообще отказался от участия в экспедиции и вернулся в свою страну.
Из Европы периодически прибывали запоздавшие подкрепления, и крестоносная армия, новым главнокомандующим которой стал герцог Австрийский, была все еще достаточно велика и могла нанести сарацинам весьма серьезный урон. Посовещавшись с другими вождями, герцог решил, что крестовый поход нужно направить в Египет, который был опорой владычества сарацин в Палестине и откуда султан постоянно посылал войска против крестоносцев. Первым объектом нападения была выбрана Дамьетта — один из главных египетских городов, находящийся в дельте Нила. Вскоре началась ее осада, которая упорно продолжалась, пока крестоносцы не овладели башней на речном мысе, считавшейся ключевой позицией для взятия города.
Празднуя успешное начало осады и растрачивая на взаимное соперничество время, которое следовало использовать для дальнейших действий, они получили известие о смерти мудрого султана Сафаддина. Двое его сыновей, Камель и Кореддин, поделили его империю между собой. Сирия и Палестина достались Кореддину, а Египет предназначался его брату, который одно время выполнял функции наместника этой страны. Египтяне его не любили и подняли восстание, дав крестоносцам такой шанс на победу, какого у них прежде не было. Но они, отличаясь вздорностью и распущенностью с незапамятных времен, не поняли, что настал благоприятный момент, или, поняв это, не сумели им воспользоваться. Пока они грызлись друг с другом под стенами Дамьетты, восстание было подавлено, и Камель прочно утвердился на египетском престоле. Объединившись с Кореддином, он пытался вынудить христиан отойти от Дамьетты: более трех месяцев братья прилагали все усилия, чтобы доставить съестные припасы осажденным или втянуть в генеральное сражение осаждающих. Они не преуспели ни в том, ни в другом, и голод в Дамьетте принял столь ужасающие масштабы, что даже падаль считалась роскошью и продавалась по заоблачным ценам. Дохлая собака стоила больше, чем живой бык во времена изобилия. Негодная пища стала причиной эпидемии чумы, и город больше не мог сдерживать осаду из-за элементарной нехватки мужчин на стенах.
Кореддин и Камель были одинаково заинтересованы в сохранении за собой столь важной позиции и, понимая необратимость сдачи города в случае продолжения осады, вступили в переговоры с предводителями крестоносцев. Они соглашались уступить христианам всю Палестину462, если те выведут войска из Египта. Проявив невероятные глупость и недальновидность, последние отвергли выгодное предложение. Главным виновником случившегося был кардинал Пелагий463, невежественный и упрямый фанатик, который настойчиво убеждал герцога Австрийского, а также французских и английских военачальников в том, что язычники никогда не держат слово и верить их посулам ни в коем случае нельзя. Крестоносцы прервали переговоры и начали штурм Дамьетты, ставший последним. Осажденные почти не оказали сопротивления, понимая его безнадежность, и в город вошли христиане, обнаружившие, что от семидесятитысячного населения осталось всего три тысячи: столь обильный урожай смертей собрали чума и голод.
Крестоносцы провели в Дамьетте несколько месяцев. Местный климат либо ослабил их тела, либо затуманил их разум, ибо они, одержав победу, утратили всю свою энергию и безогляднее, чем когда-либо, предавались разнузданным оргиям. Иоанн Бриеннский, который по праву своей жены был номинальным сувереном Иерусалима, испытывал такое отвращение от малодушия, заносчивости и сварливости предводителей похода, что отделился от них и возвратился со своими рыцарями в Акру. Большие отряды вернулись и в Европу, и кардинал Пелагий, получив в Дамьетте всю полноту власти, мог теперь когда угодно загубить все предприятие. Ему удалось снискать доверие Иоанна Бриеннского, и объединенные силы пошли на Каир. Всего в нескольких часах пути от этого города кардинал осознал недостаточность своей армии для его взятия. Он немедленно повернул назад, но со времени его отбытия уровень воды в Ниле поднялся, шлюзы были открыты, и добраться до Дамьетты было невозможно. Попав в затруднительное положение, он потребовал мира, который ранее с презрением отверг, и, к счастью для себя, узнал, что великодушные Камель и Кореддин все еще хотят его заключить. Вскоре Дамьетта была сдана, и кардинал вернулся в Европу. Озлобленный безрассудством мнимых созников, которые никак не улучшили положение Иерусалимского королевства, Иоанн Бриеннский удалился в Акру скорбеть об утраченной возможности вернуть ему прежнюю столицу и былые размеры. Так закончился Шестой крестовый поход.
Седьмой оказался более успешным. Германский император и король Сицилии Фридрих II часто клялся повести свои войска на защиту Палестины, но столь же часто его удерживали от путешествия более неотложные дела. Кореддин был снисходительным и просвещенным монархом, и в его царствование сирийские христиане могли не опасаться гонений. Однако Иоанн Бриеннский не желал так просто мириться с крушением своих надежд, а римские понтифики всегда были не прочь поссорить европейских и ближневосточных христиан ради упрочения папской власти. Ни один государь того времени не мог стать в этом лучшим подспорьем, чем Фридрих II Гогенштауфен. Чтобы дать императору дополнительный стимул для реализации его давнего намерения, ему предложили жениться на юной принцессе Иоланте, дочери Иоанна Бриеннского и наследнице иерусалимского престола. Фридрих с радостью согласился. Принцессу незамедлительно доставили из Акры в Рим, где была сыграна пышная свадьба. Ее отец отрекся от престола в пользу зятя, и Иерусалим вновь обрел короля, который имел не только желание реализовать свои притязания, но и возможность сделать это без посторонней помощи. Немедленно начались приготовления к новому крестовому походу, и за полгода была сформирована хорошо обученная шестидесятитысячная армия. Матвей Парижский464 информирует нас, что такое же по численности войско было собрано в Англии; и большинство тех, кто пишет о крестовых походах, утверждает то же самое. Когда Иоанн Бриеннский был в Англии (а в ту пору о женитьбе германского императора на его дочери еще никто и не помышлял) и просил Генриха III и английских дворян помочь ему вернуть потерянные территории, он не встретил особой поддержки. Графтон в «Летописях» пишет, что «он опять отбыл без большого утешения». Но когда на сцене появился человек, более влиятельный в европейской политике, английское дворянство было так же готово пожертвовать собой ради дела креста, как и во времена Ричарда Львиное Сердце.
Армия Фридриха расположилась лагерем у Брундизия465, но солдаты подхватили какую-то инфекцию, и отплытие задержалось на несколько месяцев. Между тем императрица Иоланта умерла от родов. Иоанн Бриеннский к тому времени уже пожалел о своем отречении и ожесточился против Фридриха, который относился к нему пренебрежительно и часто его оскорблял. Как только он узнал о смерти дочери, оборвавшей единственную связь между ним и германским императором, начал склонять на свою сторону папу, надеясь с его помощью вернуть себе почетный титул. Папа Григорий IX, человек спесивый, непримиримый и мстительный, таил злобу против императора из-за неоднократного неповиновения последнего его власти и поддержал происки Иоанна больше, чем следовало бы. Фридрих, однако, презирал их обоих и, как только его армия выздоровела, отплыл в Акру. Очень скоро он сам заболел во время плавания и был вынужден вернуться в Отранто — ближайший порт. Григорий, который к тому времени окончательно принял сторону бывшего иерусалимского короля, отлучил императора от церкви за промедление с выступлением в крестовый поход, заявив, что этому не может быть оправданий. Фридрих поначалу относился к отлучению с величайшим презрением, но когда выздоровел, решил дать его святейшеству понять, что он — не тот, кого можно оскорблять безнаказанно, и послал несколько отрядов разорить папские земли. Это, однако, только ухудшило ситуацию, и Григорий отправил в Палестину гонцов, запретив правоверным под страхом суровых наказаний вступать в любые контакты с отлученным предводителем крестоносцев. Таким образом, из-за вражды папы с императором план, который был дорог им обоим, обещал закончиться таким сокрушительным провалом, к какому его не могли привести даже сарацины. Фридрих, который был иерусалимским королем и отправился воевать ради себя, а не ради христианского мира или его представителя, папы Григория, не отказался от крестового похода. Узнав, что Иоанн Бриеннский готовится покинуть Европу, он не стал откладывать собственное отплытие и благополучно прибыл в Акру. Там он впервые ощутил на себе неприятные последствия отлучения. Христиане Палестины отказывали ему в какой бы то ни было помощи и относились к нему с недоверием, если не с отвращением. Тамплиеры, госпитальеры и другие рыцари поначалу не являлись в этом смысле исключением, но в целом были не склонны слепо подчиняться далекому властелину, особенно если это ущемляло их интересы. Поэтому когда Фридрих приготовился идти на Иерусалим без них, они все как один встали под его знамена.
Сообщается, что перед отплытием из Европы германский император вступил с султаном Камелем в переговоры о возвращении Святой земли и что Камель, ревниво оберегавший свои владения от властолюбивого Кореддина, охотно на это согласился при условии, что Фридрих не будет претендовать на подвластную ему и более важную для него территорию — Египет. Но прежде чем крестоносцы достигли Палестины, Камеля избавила от всех опасений смерть брата. Он тем не менее не видел выгоды в том, чтобы бороться с крестоносцами за бесплодный клочок земли и так обильно обагренный кровью христиан и сарацин и предложил заключить перемирие сроком на три года с той лишь оговоркой, что мусульмане могут беспрепятственно отправлять религиозные обряды в Храме466. Фанатичных палестинских христиан этот благополучный итог не устроил. Терпимость, которой они добивались для себя, они не хотели распространять на других и выражали сильное недовольство предоставленной врагам привилегией свободного богослужения. Незаслуженно счастливый удел сделал их дерзкими и высокомерными, и они заявили, что император не имеет права заключать соглашения, пока папа не снял с него отлучение. Фридриху его новые подданные были противны, но, коль скоро тамплиеры и госпитальеры оставались ему верны, он выступил в Иерусалим для венчания на царство. Перед ним закрывали двери все церкви, и он не нашел ни одного священника для совершения обряда коронации. Он слишком долго ни во что не ставил папскую власть, чтобы дрогнуть перед ней теперь, когда она столь несправедливо применялась, и, раз уж не было никого, кто бы его короновал, он весьма мудро сделал это сам. Собственноручно взяв корону, он смело и гордо возложил ее на свою голову. Не было ни восторженных криков толпы, сотрясающих небосвод, ни хвалебных песнопений священников, но множество мечей было вынуто из ножен в знак того, что их владельцы будут защищать нового монарха до самой смерти.
Едва ли следовало ожидать, что Фридрих надолго откажется от своих европейских владений ради нелегкой короны и скудной почвы Палестины. Менее чем за полгода он достаточно натерпелся от новых подданных и хотел вернуться домой, к более важным делам. В то время Иоанн Бриеннский, открыто заключивший враждебный императору союз с Григорием IX, вторгся в его южноитальянские земли во главе папских наемников. Известие об этом заставило его решиться на возвращение. Однако предварительно король Иерусалимский дал понять тем, кто прежде игнорировал его власть, что он является их хозяином, заставив их страдать. Затем, проклинаемый палестинцами, он уплыл в Европу. Так завершился Седьмой крестовый поход, который, несмотря на все препоны и неблагоприятные обстоятельства, принес Святой земле более реальную пользу, нежели любой предыдущий, что оказалось возможным исключительно благодаря напористости Фридриха и великодушию султана Камеля.
Вскоре после отплытия императора появился новый претендент на иерусалимский престол. Это была Алиса, королева Кипра и единокровная сестра той самой Марии, которая, выйдя замуж за Иоанна Бриеннского, сделала его титулярным иерусалимским королем. Но рыцарские ордена остались верны Фридриху, и Алисе пришлось ретироваться.
На столь мирное завершение экспедиции в Европе отреагировали по-разному. Рыцари Франции и Англии на этом не успокоились и задолго до окончания перемирия стали собираться в Восьмой крестовый поход. Удовлетворенность палестинцев тоже была далеко не всеобщей. Многие мелкие магометанские государства, граничившие с Палестиной, не присоединились к мирному договору и постоянно нападали на приграничные города. Беспокойные, как всегда, тамплиеры вели ожесточенную войну с султаном Алеппо, и в итоге были почти полностью уничтожены. Они понесли такие потери, что об этом говорила вся Европа, и многие благородные рыцари брались за оружие, дабы предотвратить гибель прославленного ордена. Узнав о готовящемся походе, Камель счел, что великодушничать более не стоит, и в день истечения срока перемирия перешел в наступление. Он двинулся на Иерусалим и, разбив наголову скудные силы христиан, взял его. Прежде чем весть о случившемся достигла Европы, большая крестоносная армия во главе с королем Наваррским, герцогом Бургундским, графом Бретонским и другими вождями выступила в поход. По прибытии в Палестину крестоносцы узнали, что Иерусалим взят, но султан умер, а султанат раздирают на части претенденты на верховную власть. Разногласия врагов должны были заставить крестоносцев действовать сообща, но, как и во всех предыдущих походах, каждый предводитель-феодал был хозяином собственного войска и распоряжался им по своему усмотрению, не согласовывая свои действия с другими. В результате никакого прогресса достичь не удалось. Один военачальник получал временное преимущество, не имея резервов, чтобы его закрепить и развить, а другой в это время терпел поражение от превосходящих сил противника. Так обстояли дела до битвы при Газе, которую король Наварры проиграл с большими потерями. Дабы спастись от полного уничтожения, ему пришлось заключить кабальный договор с эмиром Карака.
В этот критический момент из Англии прибыло подкрепление во главе с Ричардом, графом Корнуоллом, тезкой Львиного Сердца и наследником его доблести. Его армия была мощна и преисполнена надежды. Воины верили в себя и в своего полководца и выглядели, как мужчины, привыкшие побеждать. Их появление изменило положение дел. Новый султан Египта воевал с султаном Дамаска, и имевшихся у него войск было недостаточно для противостояния двум столь сильным противникам. Поэтому он отправил к английскому графу гонцов, предлагая обменяться пленными и полностью уступая Святую землю. Ричард, не стремившийся воевать просто из любви к войне, сразу же согласился на столь выгодные условия и стал освободителем Палестины, не дав ни одного сражения. После этого египетский султан бросил все силы против своих врагов-мусульман, а граф Корнуолл вернулся в Европу. Так закончился Восьмой крестовый поход, самый успешный из всех467. У христианских стран больше не было повода посылать войска на Восток. Священным войнам, судя по всему, пришел конец: христиане завладели Иерусалимом, Триполи, Антиохией, Эдессой, Акрой, Яффой и почти всей Иудеей; и если бы они жили в мире друг с другом, то без большого труда превозмогли бы подозрительность и враждебность соседей. Одно обстоятельство, столь же непредвиденное, сколь и роковое, разрушило эту радужную перспективу и в последний раз воспламенило энтузиазм и неистовство крестовых походов.
Чингисхан и его преемники пронеслись по Азии подобно тропическому урагану, стирая на своем пути вековые границы. Они шли из ее отдаленных северо-восточных районов и сокрушали одно царство за другим. Среди прочих этими всепобеждающими ордами был разорен Хорезм468 — империя хорезмшахов. Изгнанные из своих домов хорезмийцы, дикий и свирепый народ, прошли с огнем и мечом по югу Азии в поисках нового пристанища. В своем стремительном движении они направились в Египет, султан которого не мог сдержать натиск гигантских полчищ, стремившихся захватить плодородные долины Нила, и постарался направить их в другую сторону. Для этого он послал к их предводителю Барбакану эмиссаров с предложением поселиться в Палестине. Предложение было принято, и прежде чем христиане узнали о приближении хорезмийцев, те вторглись в их страну. Нашествие было столь же неожиданным, сколь и непреоборимым. Орды варваров налетели, как самум, сея огонь и смерть, и подошли к стенам Иерусалима, прежде чем гарнизон успел подготовиться к обороне. Захватчики не щадили ни горожан, ни их имущество; они убивали женщин, детей и священников у алтаря и оскверняли даже древние могилы. Они уничтожали малейшие признаки христианской веры и совершали злодеяния, не имеющие аналогов в истории войн. Около семи тысяч жителей Иерусалима спаслись бегством; но прежде чем они потеряли город из виду, коварный враг поднял над его стенами флаг с крестом, чтобы заманить их обратно. Трюк удался. Несчастные беглецы вообразили, что к городу с другой стороны подошло подкрепление, и повернули обратно. Почти все они были перебиты, и по улицам Иерусалима текли реки крови.
Тамплиеры, госпитальеры и рыцари Тевтонского ордена469 забыли про длительную и ожесточенную взаимную вражду и сплотились, чтобы прогнать лютого врага. Объединившись с остатками других палестинских рыцарей, они закрепились в Яффе и постарались вовлечь в борьбу против общего врага султанов Эмиссы и Дамаска. Первое подкрепление, выставленное мусульманами, насчитывало всего четыре тысячи человек, но Вальтер Бриеннский, правитель Яффы, решил сразиться с хорезмийцами и с этими силами. Битва была настолько беспощадной, насколько позволяли отчаяние одних и предельная ярость других. Она длилась с переменным успехом два дня, когда султан Эмиссы бежал под защиту своих укреплений, а Вальтер Бриеннский попал в плен. Храброго рыцаря распяли на кресте на виду у защитников Яффы, и хорезмский вождь объявил, что тот останется распятым, пока город не сдастся. Вальтер сделал над собой усилие и подал голос, велев своим солдатам не сдаваться и держаться до последнего. Но его самопожертвование оказалось напрасным. Рыцари понесли такие потери, что в живых остались лишь шестнадцать госпитальеров, тридцать три тамплиера и три тевтона. Они с жалкими остатками пехоты бежали в Акру, и у Палестины появились новые хозяева.
Сирийские султаны хотели иметь в соседях не свирепых хорезмийцев, а христиан. Даже египетский султан пожалел, что помог варварам, и объединился с правителями Эмиссы и Дамаска, дабы прогнать их с захваченных земель. Хорезмийцы, которых осталось всего двадцать тысяч, были не в состоянии справиться с союзниками, угрожавшими им со всех сторон. Султаны нанесли им ряд поражений, и против них восстали крестьяне. Шло время, и хорезмийцев оставалось все меньше. Победители их не щадили. Их вождь Барбакан был убит, и после пяти лет отчаянного сопротивления они были полностью истреблены, а Палестина вновь стала владением сарацин.
Незадолго до опустошительного нашествия хорезмийцев в Париже тяжело заболел Людовик IX. В горячечном бреду ему привиделось, что христиане бьются с мусульманами у стен Иерусалима и терпят сокрушительное поражение. Видéние произвело на суеверного короля глубокое впечатление, и он торжественно поклялся, что в случае выздоровления совершит паломничество в Святую землю. Когда в Европе стало известно о бедах Палестины и об ужасной резне в Иерусалиме и Яффе, Людовик Святой вспомнил про свой сон. Более чем когда-либо прежде уверовав, что это было знамение небес, он вознамерился возглавить крестоносное воинство и выступить в поход для спасения Гроба Господня. С этого момента он сменил королевскую пурпурно-горностаевую мантию на скромную саржу пилигрима. Все его помыслы были направлены на осуществление задуманного, и хотя королевству было трудно без него обойтись, он планомерно готовился его покинуть. Папа Иннокентий IV восхищался благочестивым рвением короля и оказывал ему всяческое содействие. Он написал Генриху III Английскому, дабы начать крестоносное движение в его владениях, и призвал всех духовных и светских лиц Европы вносить пожертвования. Уильям Лонгсуорд, знаменитый граф Солсбери, взял крест и возглавил большое число храбрых рыцарей и пехотинцев. Однако простой люд не воспылал фанатизмом ни во Франции, ни в Англии. Были собраны большие армии, но широкие народные массы больше не одобряли крестовых походов. Охлаждению энтузиазма немало способствовали налоги для их финансирования. Отказ стать крестоносцем больше не считался позорным поступком даже для рыцаря. Рютбёф, французский менестрель того времени (1250), сочинил диалог крестоносца и некрестоносца, перевод которого на английский язык читатель найдет в «Фаблио»470 Уэя. Крестоносец использует все аргументы, чтобы уговорить некрестоносца взяться за оружие и забыть обо всем ради святого дела. Более убедительные доводы некрестоносца свидетельствуют о том, что менестрель на его стороне. На одно из самых настойчивых увещеваний своего друга-крестоносца он отвечает:
I read thee right, thou holdest good
To this same land I straight should hie,
And win it back with mickle blood,
Nor gaine one foot of soil thereby;
While here dejected and forlorn
My wife and babes are left to mourn;
My goodly mansion rudely marred,
All trusted to my dogs to guard.
But I, fair comrade, well I wot
An ancient saw of pregnant wit
Doth bid us keep what we have got;
And troth I mean to follow it471.
Такие настроения царили повсюду, и неудивительно, что Людовик IX занимался формированием армии и проведением других подготовительных мероприятий целых три года. Когда все было готово, он отплыл на Кипр в сопровождении королевы, двоих братьев — графов д’Анжу и д’Артуа — и длинной вереницы самых родовитых рыцарей Франции. Третий брат Людовика граф де Пуатье остался, чтобы набрать еще один крестоносный корпус, и последовал за королем несколько месяцев спустя. Армейские подразделения объединились на Кипре и насчитывали до пятидесяти тысяч человек, не считая англичан Уильяма Лонгсуорда. И вновь крестоносцев поразила какая-то заразная болезнь, жертвами которой стали многие сотни. Вследствие этого было решено оставаться на Кипре до весны. В указанный срок Людовик и все его войско погрузились на корабли и отправились в Египет, но сильная буря рассеяла флот, и король приплыл к Дамьетте лишь с несколькими тысячами воинов. Они, однако, были исполнены надежды и рвались в бой; и, несмотря на то что султан Мелик-шах стянул к побережью неизмеримо большее войско, было решено сделать попытку высадиться, не дожидаясь остальной армии. Сам Людовик нетерпеливо выпрыгнул из лодки и ступил на берег, и армия, вдохновленная его исступленной смелостью, последовала за ним, выкрикивая старый боевой клич первых крестоносцев: «Dieu le veult! Dieu le veult!» Среди турок началась паника. Их кавалерийский отряд попытался напасть на крестоносцев, но рыцари врыли свои большие щиты глубоко в береговой песок и положили на них копья остриями вверх. Тем самым они создали столь внушительный заслон, что турки, побоявшись атаковать его, развернулись и фактически обратились в бегство. В это время по рядам сарацин прошел ложный слух, что султан убит. Смятение тут же стало всеобщим и в итоге вылилось в полный разгром: Дамьетта была сдана, и в ту же ночь победители устроили в городе свой штаб. Немногим позднее прибыли солдаты, отделившиеся от полководца из-за шторма, и теперь Людовик мог рассчитывать на завоевание не только Палестины, но и самого Египта.
Однако излишняя самонадеянность оказалась для его армии губительной. Достигнув столь многого, крестоносцы решили, что все трудности позади, и предавались праздности и удовольствиям. Когда по приказу Людовика они пошли на Каир, это были уже не те люди. Успех не воодушевил их, а лишил твердости духа; невоздержанность привела к заболеваниям, а заболевания обострялись непривычно жарким климатом. Продвижение крестоносцев к Мансуре, что на пути к Каиру, было приостановлено Танисским каналом, на противоположном берегу которого для сдерживания их переправы выстроились сарацины. Людовик приказал навести мост, и были начаты строительные работы под прикрытием двух «кошачьих зáмков» — высоких передвижных башен. Вскоре сарацины уничтожили их, забросав «греческим огнем»472 — зажигательными снарядами того времени, и Людовику пришлось подумать о других средствах осуществления своего замысла. Один крестьянин за солидное вознаграждение согласился показать брод, и граф д’Артуа с одной тысячей четырьмястами воинов выступил для переправы, а Людовик остался с основной частью войска, чтобы отразить возможное нападение сарацин. Граф д’Артуа благополучно переправился и разгромил отряд, посланный для противодействия его высадке на берег. Упоенный победой, смелый граф забыл о малочисленности своего подразделения и неотступно следовал за охваченным паникой противником до Мансуры. В итоге он оказался полностью отрезанным от главных сил, а мусульмане, осознав это, осмелели и пошли ему навстречу, усиленные гарнизоном Мансуры и подкреплениями из соседних районов. Враги сошлись лицом к лицу. Христиане сражались отчаянно, но постоянно прибывавшие вражеские отряды в конце концов окружили их со всех сторон, лишив всякой надежды не только на победу, но и на спасение. Граф д’Артуа был убит одним из первых, и когда Людовик пришел на помощь его бойцам, доблестный авангард был почти полностью перебит. От тысячи четырехсот человек осталось всего триста. Битва закипела с утроенной яростью. Французский король и его войско демонстрировали чудеса храбрости, а сарацины, которыми командовал эмир Кеккидун, бились так, словно вознамерились одним последним решительным ударом истребить новую европейскую рать, высадившуюся на их берегах. Когда выпала вечерняя роса, христиане вышли из сражения у Мансуры победителями и в большинстве своем были этому рады. Себялюбие не позволяло им признать, что отступление сарацин не было бегством, но их вожди со всей очевидностью понимали, что это фатальное сражение окончательно дезорганизовало христианскую армию и похоронило все надежды на грядущий триумф473.
Осознав горькую правду, крестоносцы потребовали мира. Султан настаивал на немедленном выводе войск из Дамьетты и требовал доставить Людовика в качестве заложника в обеспечение выполнения данного условия. Крестоносцы сразу от этого отказались, и переговоры были прерваны. Было решено отступать, но проворные сарацины, атаковавшие христиан то с фронта, то с тыла, сделали это крайне трудным делом и в больших количествах отсекали отставших солдат от главных сил. Сотни крестоносцев утонули в Ниле; голод и заболевания косили тех, кто избежал всех прочих напастей. Сам Людовик так ослабел от болезни, недоедания и уныния, что еле держался в седле. Из-за всеобщей неразберихи он оказался отрезанным от свиты и, больной и изнуренный, был вынужден пробираться через незнакомые египетские пески почти в полном одиночестве. Короля сопровождал только один рыцарь — Жоффруа де Сержин, который привел его в жалкую лачугу в маленькой деревушке, где тот пролежал несколько дней, с часу на час ожидая смерти. Наконец он был обнаружен и взят в плен сарацинами, которые оказывали ему все почести, полагавшиеся особе его ранга, и, узнав, чтó ему довелось пережить, относились к нему с должным состраданием. Их стараниями он быстро выздоровел, после чего начались переговоры о выкупе.
Кроме денег сарацины потребовали уступить им Акру, Триполи и другие палестинские города. Последнее Людовик решительно отверг и держался так мужественно и независимо, что султан назвал его самым гордым из виденных им язычников. После долгих торгов султан отказался от первоначальных условий, и в конце концов договор был заключен. Дамьетта отошла к мусульманам, было подписано десятилетнее перемирие, а Людовика и всех пленных крестоносцев освободили за десять тысяч золотых византинов. После этого Людовик удалился в Яффу и потратил два года на придание ей, Цезарее и остальным владениям христиан в Палестине должной обороноспособности. Затем он возвратился на родину, сильно прославившись как праведник, но очень незначительно как военачальник.
Матвей Парижский пишет, что в 1250 году, когда Людовик был в Египте, «тысячи англичан были полны решимости отправиться на священную войну, но король строго охранял порты и удержал подданных в своих владениях». Когда пришла весть о неудачах и пленении французского короля, их пыл охладел, и крестовый поход теперь только воспевали, но не обсуждали.
Во Франции реакция была совершенно иной. Новость о взятии короля в плен повергла страну в оцепенение. В деревнях вдруг появился фанатичный монах из Сито, который проповедовал крестьянам, заявляя, что ему явилась Дева Мария с целой армией святых и мучеников и велела поднять пастухов и батраков на «защиту креста». Проповедник обращался только к ним и был настолько красноречив, что вокруг него толпились тысячи людей, готовых идти за ним куда угодно. Пастбища и поля опустели, и пастухи, или pastoureaux474, как их называли, собрались в отряды, насчитывавшие в общей сложности свыше пятидесяти тысяч (по утверждению Милло, до ста тысяч475 человек). Королева Бланка Кастильская, которая была регентшей в отсутствие короля, поначалу их поддерживала, но вскоре они запятнали себя такими бесчинствами, что встречали сопротивление со стороны тех, кто ранее относился к ним доброжелательно. Их путь был отмечен грабежами, убийствами и осквернениями святынь; и все добропорядочные люди, поддерживаемые властями, объединялись для борьбы с ними476. В конце концов pastoureaux, потеряв убитыми три тысячи человек, разбежались кто куда. Многие авторы утверждают, что они понесли более значительные потери.
В 1264 году десятилетнее перемирие истекло, и Людовик Святой, побуждаемый двумя весомыми мотивами, решил предпринять вторую экспедицию в Палестину. С одной стороны, его подталкивал к этому фанатизм, а с другой — желание упрочить свое реноме полководца, которое пострадало сильнее, чем это можно было заключить из речей придворных льстецов. Папа, разумеется, одобрил его затею, и европейские рыцари вновь активизировались. В 1268 году Эдуард, наследник английского престола, объявил о своем решении присоединиться к крестовому походу, и папа (Климент IV) разослал священнослужителям послание с призывом оказать святому делу моральную и материальную поддержку. В Англии они согласились пожертвовать десятую часть всей церковной собственности. Кроме того, в Михайлов день в соответствии с парламентским указом взималась двадцатая часть урожая зерновых и движимого имущества всех светских лиц.
Несмотря на увещевания немногих трезвомыслящих государственных деятелей, полагавших, что процветающее королевство может в итоге разориться, Людовик готовился к походу. Воинственное дворянство охотно делало то же самое, и весной 1270 года король с шестидесятитысячной армией отплыл на Восток. Из-за непогоды он был вынужден пристать к Сардинии и там изменил свои планы. Вместо того чтобы плыть в Акру, как было задумано вначале, он решил высадиться в Северной Африке, в Тунисе. Правитель этой страны ранее выразил благорасположение к христианам и их религии, и Людовик, похоже, надеялся обратить его в свою веру и заручиться поддержкой в борьбе с султаном Египта. «Я почел бы за честь, — говорил он, бывало, — стать крестным отцом сего мусульманского короля!» Преисполненный этой идеей, он ступил на африканский берег недалеко от древнего города Карфагена, но понял, что крупно просчитался. Тунисский эмир не пожелал ни отказаться от своей религии, ни хоть как-то помочь крестоносцам. Напротив, он двинул против них все силы, какие только сумел быстро поднять по тревоге. Французы, однако, закрепились на местности и разбили мусульман, нанеся им значительный урон. Кроме того, они добились некоторого прогресса, сражаясь с подошедшими подкреплениями, но вспыхнувшая в войске эпидемия положила их успехам конец. Солдаты умирали по сто человек в день. Такие же опустошения производил в их стане противник. Сам Людовик Святой заболел одним из первых. Его организм был ослаблен переутомлением; еще перед тем как покинуть Францию, он был не в состоянии выдержать вес полного комплекта своих доспехов. Вскоре опечаленным солдатам стало ясно, что жить их любимому монарху осталось недолго. Он угасал несколько дней и умер в Карфагене на пятьдесят шестом году жизни, к великой скорби армии и подданных. Людовик IX является одним из самых выдающихся правителей в истории. Он стал образцовым королем для клерикальных авторов, в глазах которых даже его недостатки превратились в достоинства, потому что его деяния совпадали с интересами церкви. Менее предвзятые историки, осуждая канонизированного монарха за фанатизм, признают за ним массу хороших и редких качеств и соглашаются с тем, что он ни в чем не отставал от своего времени, а во многом его опережал.
Ранее его брат Карл Анжуйский в результате переворота на Сицилии стал королем этой страны. Еще не зная о смерти Людовика, он отплыл из Мессины с немалым пополнением. Высадившись рядом с Карфагеном, он и его войско продвигались вглубь материка под бравурные звуки барабанов и труб. Вскоре Карл узнал, сколь неуместно его приподнятое настроение, и разрыдался на глазах у всей армии, чего в его положении не устыдился бы ни один воин. С эмиром Туниса был быстро заключен мир, после чего французская и сицилийская армии вернулись домой.
В Англии к крестовому походу отнеслись настолько прохладно, что даже наследник престола собрал лишь полуторатысячный отряд. С ним принц Эдуард приплыл из Дувра в Бордо, рассчитывая застать там французского короля. Но Людовик Святой покинул город несколькими неделями ранее, и принц последовал за ним на Сардинию, а оттуда — в Тунис. Прежде чем он достиг берегов Африки, Людовика не стало, и Франция подписала с Тунисом мирный договор. Эдуард, однако, решил не отказываться от крестового похода. Прибыв на Сицилию, он перезимовал в этой стране и постарался увеличить свое небольшое войско. Весной он уплыл в Палестину и благополучно добрался до Акры. Палестинских христиан, как обычно, раздирали взаимные недоверие и вражда. Госпитальеры и тамплиеры были, как всегда, озлоблены и несговорчивы по отношению друг к другу и ко всем остальным. Прибытие Эдуарда заставило их отвлечься от недостойных препирательств и сплотиться в одной последней попытке полного освобождения страны, ставшей их родиной. Быстрыми темпами была сформирована внушительная рать в шесть тысяч воинов для придания силам английского принца и проведены подготовительные мероприятия для возобновления военных действий. Султан Бейбарс, он же Бендокдар477, — свирепый мамлюк478, занявший престол в результате кровавого переворота, — воевал со всеми своими соседями и по этой причине не мог сконцентрировать все силы против христиан. Эдуард воспользовался этим и, храбро выступив к Назарету, разгромил турок и овладел городом. Это был его единственный успех. Жаркая погода стала причиной болезни в его войсках, и он сам, душа экспедиции, заболел одним из первых. Некоторое время спустя, когда он медленно выздоравливал, какой-то гонец захотел переговорить с ним по важным вопросам и напрямую передать ему донесения. Когда принц занимался их изучением, вероломный вестник выхватил из-за пояса кинжал и ударил его в грудь. Рана, к счастью, оказалась неглубокой, и Эдуард смог оказать сопротивление. Громко взывая о помощи, он вступил в борьбу с наемным убийцей и заколол его его же кинжалом479. На зов принца сбежались его приближенные, которые нашли его истекающим кровью и, изучив кинжал, установили, что тот отравлен. Рана была немедленно очищена, и великий магистр ордена тамплиеров прислал противоядие, полностью нейтрализовавшее действие яда. Кемден в одном из своих исторических трудов придерживается более популярной и, конечно, более красивой версии этой истории, согласно которой принцесса Элеонора, безумно влюбленная в своего мужа, высосала яд из его раны, рискуя собственной жизнью. Говоря словами старины Фуллера, «жаль, что такая прелестная история вряд ли правдива и что такое эффективное средство, как женский язычок, помазанный добродетелью нежной любви, едва ли пригодилось».
Эдуард подозревал, и, несомненно, не без основания, что убийца был подослан египетским султаном. Однако явных доказательств тому не имелось, а со смертью наймита главный ключ к разгадке тайны был утерян навсегда. Поправившись, Эдуард готовился к наступлению, но султан, стесненный защитой интересов, которые он на тот момент считал более важными, предложил крестоносцам заключить мир. Те рассчитывали, что проявление слабости со стороны врага станет для темпераментного Эдуарда дополнительным стимулом продолжения войны, но он в силу обстоятельств также не видел в том выгоды. До Палестины дошло известие о смерти его отца, короля Генриха III, и он, понимая необходимость возвращения в Англию, согласился на условия султана — сохранение за христианами их владений в Святой земле и объявление перемирия сроком на десять лет. Затем принц уплыл на родину, подведя таким образом черту под последним крестовым походом.
О дальнейшей судьбе Святой земли можно рассказать в нескольких словах. Христиане, забыв о своих былых страданиях и о том, насколько недоверчивы и мстительны те, с кем в силу территориальной смежности им приходилось иметь дело, первыми нарушили перемирие, ограбив нескольких торговцев-египтян недалеко от Маргата. Султан немедленно отомстил за беззаконие, захватив Маргат, и война вспыхнула вновь. Маргат храбро защищался, но без подкреплений из Европы был обречен. Следующим пал Триполи, затем — другие города, и наконец в руках христиан осталась только Акра.
Гроссмейстер тамплиеров собрал небольшое, но преданное ему войско и с небольшим вспомогательным отрядом короля Кипра приготовился стоять насмерть за последнее владение ордена. Материковая Европа осталась глуха к его призыву о помощи, силы неприятеля были неисчислимы, и доблесть рыцарей оказалась бесполезной. В той роковой осаде были уничтожены почти все защитники города. Поняв, что сопротивление бессмысленно, кипрский король бежал, а гроссмейстер, сражаясь во главе своих рыцарей, погиб, получив множество ран. Из страшной бойни смогли вырваться лишь семеро тамплиеров и столько же госпитальеров. Победившие мусульмане подожгли город, и правление христиан в Палестине закончилось навсегда.
Весть о падении Акры вызвала смятение и скорбь у европейского духовенства, которое постаралось еще раз возбудить в народах энергию и энтузиазм ради отвоевания Святой земли. Но массовая мания себя исчерпала; пламя воодушевления угасло естественным образом и не могло разгореться больше никогда. То тут, то там какой-нибудь единичный рыцарь объявлял о своей решимости отправиться в новый крестовый поход, и время от времени какой-нибудь монарх вскользь поощрял эту идею, но забывал о ней почти сразу же по завершении обсуждения, возобновляемого при напоминаниях, все менее настойчивых и все более редких.
Ну и каков же был конечный итог всех этих баталий? Европа истратила на них миллионные суммы и принесла им в жертву два миллиона своих детей, а горстка сварливых рыцарей правила в Палестине меньше двухсот лет! Даже если бы христианский мир удерживал ее и поныне, возможная выгода от этого не окупила бы понесенного ущерба. Но, несмотря на религиозный фанатизм, породивший крестовые походы, и безрассудство крестоносцев, экспедиции на Восток имели не только дурные последствия. Феодалы, соприкоснувшись в Азии с цивилизацией, превосходившей европейскую, неизбежно облагораживались сами; простолюдины добивались пусть незначительных, но все же улучшений своего правового статуса; короли, больше не находясь в состоянии войны с дворянством, имели время для принятия полезных законов; человеческий разум извлек из тяжелого опыта кое-какие уроки и, сбрасывая оковы суеверия, в которых его так долго держала римская церковь, готовился пустить ростки грядущей Реформации480. Так всеведущий и располагающий людьми и событиями Господь делал добро из зла и продвигал народы Запада на более высокие ступени развития и благоденствия, извлекая пользу из того самого фанатизма, что побуждал их идти войной против наций Востока. Вообще говоря, эта тема гораздо интереснее, чем может показаться на первый взгляд, и при детальном рассмотрении со всех сторон заняла бы куда больше места, чем позволяет запланированный объем этой книги. Анализируя ее, студент-философ может сделать собственные выводы, и ему не найти лучшей сферы применения своих способностей, чем исследование этого европейского безумия — его пользы и вреда, причин и последствий.
Охота на ведьм
What wrath of gods, or wicked influence
Of tears, conspiring wretched men
t’afflict,
Hath pour’d on earth this noyous pestilence
That mortal minds doth inwardly infect
With love of blindness and of ignorance?
Spenser’s Tears of the Muses481.
Countrymen. Hang her! beat her! kill her!
Justice. How now? Forbear this violence!
Mother Sawyer. A crew of villains — a knot
of bloody hangmen! set to torment me!
I know not why.
Justice. Alas, neighbour Banks! are you a
ringleader in mischief? Fie! to abuse an aged
woman!
Banks. Woman! a she hell-cat, a witch! To
prove her one, we no sooner set fire on the
thatch of her house, but in she came run —
ning, as if the devil had sent her in a
barrel of gunpowder.
Ford’s Witch of Edmonton482.
Вера в то, что бестелесные духи могут возвращаться в этот мир, коренится в той возвышенной надежде на бессмертие, которая является как основным утешением человека, так и величайшей победой его разума над бренностью бытия. Мы и без откровения свыше чувствуем, что внутри нас есть то, что не умрет никогда; и весь наш жизненный опыт лишь заставляет нас еще крепче держаться за это благодатное чаяние. Но в Средние века эта же вера стала источником множества суеверий, которые в свою очередь породили разгул насилия и массовый ужас. На протяжении двух с половиной столетий европейцы были убеждены не только в том, что духи ходят по земле, чтобы вмешиваться в дела людей, но и в том, что люди обладают силой, позволяющей им вызывать злых духов, дабы с их помощью вредить другим людям. Народы обуял страх, подобный эпидемии; никто не считал ни себя, ни свое имущество защищенным от козней дьявола и его присных. Человек объяснял все свои невзгоды происками ведьм. Если налетевший ураган разрушал его амбар, он полагал это результатом ведовства; если случался падеж скота, если его члены охватывала болезнь или внезапно умирал кто-то из близких ему людей, он видел в этом не промысл Божий, а деяния какой-нибудь соседской старухи, сварливость, уродство или помутившийся рассудок которой побуждал невежд объявлять ее ведьмой. Это слово было на устах у всех. На этой почве последовательно помешались Франция, Италия, Германия, Англия, Шотландия и скандинавские страны, где долгие годы возбуждалось столько дел о ведовстве, что о других преступлениях говорили редко или не говорили вовсе. Всё новые тысячи несчастных людей становились жертвами жестокого и абсурдного заблуждения. Во многих городах Германии, о чем более подробно будет рассказано ниже, за это мнимое преступление казнили в среднем по шестьсот человек в год, то есть по два в день, если не считать воскресений, когда, надо полагать, даже это умопомрачение в крайних формах не выражалось.
Не вызывает сомнений, что многих добросовестных людей, разгоряченному суеверию которых хватало небольшой, но авторитетной поддержки, чтобы вылиться в опустошительную ярость, ввело в заблуждение неверное толкование знаменитой фразы: «Ты не должен позволять ведьмам жить» — одного из Моисеевых законов. Во все эпохи человек пытался вступить в контакт с потусторонними созданиями и проникнуть с их помощью в тайны грядущего. Ясно, что и во времена Моисея были шарлатаны, наживавшиеся на людском легковерии и оскорблявшие Всевышнего своими претензиями на прорицание. Отсюда и закон, который Моисей, повинуясь божественному волеизъявлению, провозгласил против святотатцев, приписывающих себе способность предсказывать будущее, но отнюдь не являющийся, как считали суеверные маньяки Средневековья, подтверждением наличия такой способности у простых смертных483. Из наиболее авторитетных источников явствует, что древнееврейское слово, трансформировавшееся в других языках в venefica и witch484, означает «отравительница», «предсказательница», «чародейка» или «гадалка». В эпоху охоты за ведьмами таковыми называли тех, кто, как считалось, способен не только предсказывать будущее, но и вредить людям и их собственности с помощью колдовства. Эта способность, как полагали, приобреталась только путем заключения определенного соглашения с самим дьяволом, которое подписывалось кровью и в соответствии с которым тот, кто в него вступал, отказывался от крещения и продавал нечистому свою бессмертную душу без права выкупа.
Даже сегодняшние естествоиспытатели и философы не могут объяснить многие природные феномены. Поэтому неудивительно, что в то время, когда люди знали о законах природы еще меньше, они относили за счет сверхъестественных сил все, что не могли объяснить иначе. В наши дни любой первоклассник разбирается в явлениях, которые тогда были недоступны пониманию мудрейших старцев. Школьник знает, почему высоко в горах можно в определенных случаях увидеть на небе сразу три или четыре солнца и почему фигура человека, находящегося на одной высоте, проецируется в перевернутом и увеличенном до гигантских размеров виде на поверхность, расположенную на другой. Всем нам известно о странных проявлениях самовнушения при ряде болезней; мы знаем, что ипохондрикам грезятся видения и призраки и что были случаи, когда люди искренне считали себя чайниками для заварки. Наука открыла нам глаза на многие вещи и отбросила прочь жуткие фантазии, к которым наши прародители прибегали для объяснения этих и других феноменов. Сегодня человека, который мнит себя волком, отправляют в больницу, а не на эшафот, как во времена ведьмомании, и все образованные люди знают, что на земле, в воздухе и воде нет никаких духов, которые, как некогда считалось, часто их посещают.
Прежде чем углубляться в историю охоты на ведьм, нелишне вспомнить, как церковники формировали в своих мифах нелепое олицетворение зла. Мы должны ознакомиться с primum mobile485 и понять, каким виделся людям тот, кто давал ведьмам в обмен на их души способность причинять страдания другим, пользуясь колдовскими приемами. Дьявола считали высокорослым, уродливым, покрытым шерстью призраком с рогами, длинным хвостом, копытами и крыльями дракона. В таком обличье он постоянно изображался монахами в их ранних мираклях и мистериях486. В этих представлениях он был одним из главных действующих лиц и выполнял те же функции, что и клоун в современных пантомимах. Видя, как святые колотят дьявола дубинками, и слыша, как он воет от боли, когда уходит хромая, изувеченный ударом какого-нибудь удалого праведника, публика веселилась от души. Св. Дунстан487 обычно проделывал с ним свой знаменитый трюк: он хватал его за нос раскаленными докрасна щипцами и не отпускал до тех пор, пока «скалы и отдаленные лощины» не «оглашались его криками». Некоторые святые плевали дьяволу в лицо, что приводило его в ярость; другие отрезали куски от его хвоста, который, однако, всегда отрастал вновь. Тем самым он получал по заслугам, что очень нравилось зрителям, ибо все они помнили о тех пакостях, которые он подстраивал им и их праотцам. Люди верили, что дьявол старается поставить им подножку, для чего кладет свой длинный невидимый хвост у них на пути и внезапно дергает им в нужный момент; что он часто напивается, ругается, как извозчик, и настолько злобен и шаловлив в подпитии, что устраивает бури и землетрясения, губит урожаи и разрушает амбары, хлева и жилые дома правоверных; что он, дабы скоротать долгие зимние вечера, вгоняет в людей невидимые вертела, а также ходит по трактирам и угощается лучшими явствами, платя за них золотыми монетами, которые на следующее утро неизменно превращаются в куски сланца. Cчиталось также, что иногда, приняв образ крупного селезня, он прячется в камышах и нагоняет на усталых путников панический ужас мерзким кряканьем. Читатель, вероятно, помнит строки Бёрнса из его обращения к «дья’олу» («De’il»), столь удачно отражающие распространенное в старину поверие на этот счет:
Ae dreary, windy, winter night,
The stars shot down wi’ sklentin light,
Wi’ you mysel’ I got a fright
Ayont the lough;
Ye, like a rash-bush, stood in sight,
Wi’ waving sough.
The cudgel in my nieve did shake,
Each bristled hair stood like a stake,
When wi’ an eldritch stour, “quaick! quaick!”
Among the springs
Awa’ ye squattered, like a drake,
On whistling wings488.
Во всех дошедших до нас историях о дьяволе, имевших хождение в те времена, он фигурирует как безобразное, ничтожное, шкодливое привидение, получающее удовольствие от всевозможных причудливых проделок над многострадальным человечеством. Похоже, что первым, кто описал его без обычного глумления, был Мильтон. До него никто не изображал ангела, низринутого в бездну из-за своей гордыни, исполненным величия и достоинства богоборцем. Образы врага рода человеческого, созданные всеми прежними авторами, попросту смехотворны; Мильтон же сделал его по-настоящему страшным. В этом отношении средневековые писатели-теологи проявили себя как бездарные графоманы. Они, несомненно, стремились представить князя тьмы как можно более ужасным, но в их Сатане нет ничего величественного и истинно устрашающего. Напротив, это низкий, подлый бес, которого легко одурачить и выставить на посмешище. Однако, как удачно подметил один современный автор489, тема эта серьезнее, чем может показаться на первый взгляд. Изваяние какого-нибудь индуистского божества в диком, гротескном обличье и нелепой позе, извлеченное из первоначального антуража и экспонируемое в музее при свете дня, кажется просто смешным; но мысленно верните его во тьму построенного в его честь зловещего храма, вспомните о принесенных ему жертвах, истекавших кровью на алтаре или раздавленных псевдоколесницей, и ваш сарказм сменится отвращением и ужасом. Таким образом, если относиться к суеверным видениям предков как к обычному безумию, то можно какое-то время потешаться над их недомыслием, но если вспомнить, что неверные и зловещие представления о первопричине зла породили веру в ведовство, которая пропитала все общественные слои и подвигнула умнейших и терпимейших на убийства и деяния, едва ли менее жестокие, что при этом умные и красивые люди, молодежь и старики, мужчины и женщины посылались на костер или эшафот, то все ощущения и эмоции уступят место изумлению оттого, что такое вообще могло произойти, и чувству горького унижения при мысли о том, что страшное заблуждение было столь же продолжительным, сколь и всеобщим.
Рассказывая о дьяволе, нельзя пройти мимо несметного количества подчиненных ему демонов, которым в воззрениях гонителей ведьм отводилась немаловажная роль. Труды Беккера, Лелуайе, Бодена, Дельрио и Де Ланкра490 изобилуют описаниями отличительных черт бесов и функций, которые те якобы выполняют. Данные, легшие в основу нижеследующего беглого обзора представлений о ведьмах, я, проделав немалый объем работы, почерпнул как у этих авторов, трое из которых участвовали в судебных процессах над ведьмами и базируются в своих сочинениях на признаниях подозреваемых и показаниях свидетелей, так и из более поздней книги месье Жюля Гарене. Тех, кто хочет узнать больше, я отсылаю к трудам по данному вопросу. На каждой их странице достаточно сведений, чтобы содрогнуться от стыда и ужаса; но наше повествование не будет запятнано вещью столь несказанно унизительной и отвратительной, как их полный перечень. Отобранное характеризует массовую веру в полном объеме; обратившись к произведениям демонологов за более подробной информацией, читатель только потеряет время. Вникая в неописуемые прихоти извращенных умов, он не узнает ничего нового, если только он, подобно Стерну491, не нуждается в дополнительных подтверждениях того, «каким зверем является человек». В этом случае он найдет там многое, что убедит его в том, что данное сравнение оскорбительно для зверя.
Считалось, что земля кишит миллионами демонов обоего пола, многие из которых, как и род людской, происходят по прямой линии от Адама, который после грехопадения был введен в заблуждение бесами, явившимися в обличье прекрасных женщин. Демоны необычайно быстро «плодятся и размножаются». Их тела состоят из прозрачного воздуха, и они могут легко проникать сквозь самые твердые вещества. Они не имеют постоянного местопребывания, а беспокойно носятся туда-сюда в необъятном пространстве. Собираясь в огромных количествах, они поднимают вихри в воздухе и бури на водах и находят наслаждение в уничтожении красот природы и творений человеческих рук. Хотя они размножаются как обычные живые твари, их количество постоянно пополняется душами умерших грешников, мертворожденных младенцев, женщин, умерших от родов, и мужчин, убитых на дуэлях. Считалось, что их полным-полно в воздухе, что множество несчастных мужчин и женщин при каждом вдохе втягивают их тысячами через рот и нос и что демоны, поселившись в их пищеварительном тракте или других органах, мучают их болями, всевозможными болезнями и ночными кошмарами. Св. Григорий Никейский рассказывает о монахине, которая забыла перед ужином произнести benedicite492 и осенить себя крестным знамением и в итоге вместе с салатом-латуком проглотила демона. Многие пишут, что демонов так много, что их невозможно сосчитать, однако Вир493утверждает, что их не более семи миллионов четырехсот пяти тысяч девятисот двадцати шести и что они разделены на семьдесят два отряда, у каждого из которых есть начальник. Демоны способны принимать любой образ. Демоны, принимающие мужской облик, называются инкубами, а принимающие женский — суккубами. Порой их обличье мерзко, а иной раз они перевоплощаются в создания, превосходящие красотой все существа материального мира.
Несмотря на допущение, что дьявол и его легионы могут являться людям в любое время, обычно полагали, что он предпочитает для этого ночь с пятницы на субботу. Когда человеческий облик принимает сам Сатана, в его внешности всегда есть что-то необычное. Его кожа либо слишком темна, либо чересчур светла; он или слишком высок, или слишком низок; некоторые части его тела несоразмерны остальным. Чаще всего у него изуродованы ноги, и ему приходится скручивать и прятать под одеждой хвост, ибо в кого бы он ни перевоплощался, избавиться от этого бремени он не может. Иногда он превращается в дерево или реку, а однажды, как мы узнаéм от Вира, обернулся адвокатом. В царствование Филиппа IV Красивого он явился одному монаху темным всадником на крупном черном скакуне, затем — монахом ниществующего ордена, после этого — ослом и в конце концов — колесом от кареты. Нередки случаи, когда и дьявол и нижестоящие демоны превращаются в красивых молодых мужчин и, успешно пряча хвосты, женятся на прелестных молодых женщинах, которые имеют от них детей. Последних легко распознать: они непрестанно орут, высасывают молоко не менее чем у пяти кормилиц и никогда не толстеют.
Все демоны подвластны людям, уступившим князю тьмы свои бессмертные души за привилегию пользования их услугами в течение определенного периода. Колдуны и ведьмы поручают им самые трудные дела; все, что они приказывают, беспрекословно выполняется, за исключением добрых дел, когда демоны отказываются повиноваться и вместо этого причиняют зло своим хозяевам.
Временами по соизволению Сатаны происходит сборище демонов и ведьм. Оно называется шабашом, потому что имеет место по субботам494, сразу после полуночи. Шабаш проводится то для одной местности, то для другой и как минимум раз в год устраивается на Брокене495 или на других высоких горах как общее собрание нечистой силы всего христианского мира.
Как правило, дьявол выбирает для шабаша перекресток четырех дорог или, если это неудобно, место по соседству с озером. Впоследствии на этом месте ничего не растет, так как раскаленные ступни демонов и ведьм выжигают плодородный слой почвы и делают ее бесплодной навсегда. Тех колдунов и ведьм, которые по получении приказа о сборе на шабаш не являются или опаздывают, демоны в наказание за невнимательность или отсутствие пунктуальности стегают розгами из змей или скорпионов.
Французы и англичане полагали, что ведьмы летают верхом на помельях, а итальянцы и испанцы — что сам дьявол в обличье козла переносит их по воздуху на спине, удлиняющейся или укорачивающейся в зависимости от числа ведьм, которым он хочет таким образом помочь. Ни одна ведьма, отправляясь на шабаш, не может, как бы ни старалась, покинуть дом через дверь или окно. Обычно ведьмы удаляются через дымоход, откуда они без малейших усилий вылетают на помеле, а возвращаются через замочную скважину. Чтобы утаить отсутствие ведьмы от ее соседей, какой-нибудь демон, повинуясь приказу, перевоплощается в нее и лежит в ее постели, симулируя болезнь, до самого конца шабаша.
По прибытии всех колдунов и ведьм к месту встречи начинаются сатанинские ритуалы шабаша. Приняв свое излюбленное обличье большого козла с одним лицом на голове и с другим на ляжках, дьявол садится на трон, и все присутствующие по очереди подходят к нему, дабы засвидетельствовать свое почтение, и целуют его в лицо на заду. После этого он назначает церемониймейстера и вместе с ним осматривает колдунов и ведьм на предмет наличия у них тайной отметины, означающей, что они являются его собственностью. Эта метка496 всегда нечувствительна к боли. Те, у кого ее еще нет, помечаются церемониймейстером, а дьявол одновременно дает им прозвища. Затем все они принимаются петь и плясать самым неистовым образом и делают это до тех пор, пока не появляется некто страстно желающий быть принятым в их общество. В этом случае они утихомириваются, а после того, как вновь прибывший отрекается от спасения души, целует дьявола, плюет на Библию и дает клятву подчиняться ему во всем, начинают танцевать с прежним задором и распевать следующее:
Alegremos, Alegremos!
Que gente va tenemos!
Через час-другой они обычно устают от бурного веселья и тогда рассаживаются и пересчитывают злодейства, совершенные ими со времени последнего сборища. Оказавшихся недостаточно зловредными по отношению к ближним наказывает сам Сатана: он порет виновных терновником или скорпионами, пока на них не остается живого места и они не могут ни сидеть, ни стоять.
По завершении данной церемонии участников шабаша развлекают танцующие жабы. Тысячи этих тварей выпрыгивают из недр земли и, встав на задние лапки, пляшут под музыку, исполняемую дьяволом на волынке или трубе. Рептилии обладают даром речи и умоляют ведьм вознаградить их за танец плотью некрещеных младенцев. Ведьмы обещают сделать это впредь. Дьявол призывает их помнить о своем обещании и сдержать слово, после чего топает ногой, и жабы мгновенно исчезают под землей. На очищенном таким образом пространстве начинается сервировка трапезы, во время которой демоны и ведьмы жадно пожирают разные омерзительные блюда497. Порой, однако, им подают изысканные явства на золотых тарелках и дорогие вина в хрустальных бокалах, но такой милости удостаиваются лишь те из них, кто совершил чрезвычайно много злодеяний после предыдущего шабаша.
После пиршества возобновляются танцы, но те, кто больше не находит в них удовольствия, услаждают себя пародией на священный обряд крещения. Для ее проведения вновь созываются жабы, которых обрызгивают грязной водой; при этом дьявол крестится, а ведьмы восклицают «In nomine Patrica Aragueaco Petrica, agora! agora! Valentia, jouando goure gaits goustia!», что означает: «Именем Патрика, Петрика Арагонского, сейчас, сейчас, конец всем нашим невзгодам!»
Когда дьявол хочет получить особенное удовольствие, он заставляет ведьм сбрасывать одежды и танцевать перед ним; при этом у каждой есть по две дохлые кошки: одна привязана к шее, а другая, символизирующая хвост, — к заду. Когда кукарекает петух, все они исчезают и шабаш заканчивается.
Таково краткое изложение воззрений, столетиями господствовавших почти во всей Европе и далеко не изжитых даже в наши дни. В разных странах они имели свои отличия, но в основных моментах были одинаковы во Франции, Германии, Великобритании, Италии, Испании и Скандинавии.
Французские летописи раннего Средневековья изобилуют сообщениями о подозреваемых в колдовстве, однако до Карла Великого сколько-нибудь серьезных наказаний за данное преступление не существовало. «Этот монарх, — пишет месье Жюль Гарене498, — несколько раз приказывал выдворить из своих владений всех некромантов, астрологов и ведьм, но их число с каждым днем возрастало, и он в конце концов счел необходимым прибегнуть к более суровым мерам. В связи с этим он издал несколько эдиктов, вошедших в один из капитуляриев499 — Capitulaire de Baluse. Ими запрещалось всякое колдовство, чародейство и ведовство; тех, кто каким бы то ни было образом вызывал дьявола, составлял приворотные зелья, поражал бесплодием мужчину или женщину, вызывал грозы и бури, губил урожай, иссушал молоко у коров или насылал боли и недуги на других людей, ждала смертная казнь. Всех признанных виновными в этих отвратительных деяниях следовало казнить сразу же по вынесении приговора, дабы избавить землю от бремени и скверны их присутствия; даже те, кто обращался к ним за советом, могли быть также преданы смерти500».
С того времени преследования за ведовство упоминаются постоянно, особенно французскими историками. Приписать кому-либо это преступление было настолько легко, а доказать невиновность в нем — так трудно, что всякий раз, когда сильный хотел погубить слабого и не мог вменить ему в вину что-то иное, ему оставалось обвинить недруга в ведовстве, и тот был почти наверняка обречен. Примеры того, как такое обвинение становилось предлогом для самых яростных гонений как на отдельных людей, так и на целые общины, в действительности неугодные власть имущим либо по политическим, либо по религиозным соображениям, знают, надо полагать, все. Наиболее известны истребление штедингов в 1234 году и тамплиеров с 1307 по 1313 год, казнь Жанны д’Арк в 1429 году и аррасский процесс 1459 года. Первое, возможно, известно меньше остальных, что, однако, не делает его наименее примечательным. Нижеследующий рассказ о нем, взятый из написанного доктором Кортюмом интересного исторического труда501 о средневековых конфедерациях республиканского типа, покажет, как ужасающе просто облеченные властью светские и церковные волки использовали обвинение в ведовстве в качестве повода для ссоры с овцами-простолюдинами.
Фризы, населяющие область между Везером и Зёйдер-Зе, долгое время славились любовью к свободе и успешной борьбой за нее. Еще в XI столетии они, сопротивляясь посягательствам норманнов и саксов, образовали общую конфедерацию, разделенную на семь зеландий (округов), представители которых ежегодно собирались под большим дубом в Аурихе, неподалеку от Упштальбоома. Здесь они502 решали свои дела без вмешательства со стороны церковников и властолюбивых дворян из соседних земель, которых это крайне возмущало. Уже тогда они имели верные понятия о представительном правительстве. Депутаты от народа обсуждали его проблемы, облагали его необходимыми налогами и, следуя архаичным патриархальным традициям, выполняли почти все функции нынешних представительных собраний. В конце концов архиепископ Бременский, граф Ольденбургский и другие окрестные феодалы объединились против этой части фризов, известной как штединги503, в союз и после многолетнего вооруженного противостояния и сеяния раздоров в их рядах сумели подчинить их своей власти. Но покорить штедингов, свято придерживавшихся своих древних законов, позволивших им достичь необычайно высокой для той поры степени гражданской и религиозной свободы, оказалось очень непросто. В 1204 году они подняли восстание в защиту древних обычаев своей страны, отказались платить подати светским и десятину церковным феодалам, нарушившим их мирное уединение, и выбили множество угнетателей со своей территории. Двадцать восемь лет храбрые штединги без посторонней помощи сражались с войсками бременских архиепископов и ольденбургских графов и в 1232 году разрушили хорошо укрепленный замок вельможи Слуттерберга рядом с Дельменхорстом, построенный им для совершения грабительских набегов на владения крестьян.
Поскольку совладать с недюжинной отвагой этих бедных людей обычными средствами ведения войны их притеснители так и не смогли, архиепископ Бременский обратился к папе Григорию IX за духовной поддержкой. Этот прелат принял в деле живое участие: объявив штедингам анафему как еретикам и занимающимся ведовством, он воодушевил всех правоверных на содействие их уничтожению. В 1233 году большая армия грабителей и фанатиков вторглась в земли штедингов, убивая всех и сжигая все на своем пути. В своей ярости они не щадили ни женщин, ни детей, ни больных, ни стариков. Штединги, однако, сплотились в огромную рать, разбили оккупантов наголову и убили в сражении их предводителя, графа Бурхарда Ольденбургского, и многих начальников его отрядов.
Последовало новое обращение к папе, и на северо-западе Германии был провозглашен крестовый поход против штедингов. В своем послании папа призвал всех епикопов и мирских владык взяться за оружие и стереть гнусных ведьм и колдунов с лица земли. «Штединги, — писал его святейшество, — совращены дьяволом; они отреклись от всех Божьих и человеческих законов, опорочили церковь, опоганили святые таинства, обращались к ведьмам для вызывания злых духов, проливали кровь, как воду, лишали жизни священников и придумали адский план распространения поклонения дьяволу, коего они чтят под именем Асмодей. Дьявол является им в разных обличьях: иногда как гусь или утка, а иной раз — в виде бледного черноглазого юноши с меланхоличным выражением лица, чьи объятия наполняют их сердца вечною ненавистью к церкви Христовой. Дьявол председательствует на их шабашах, где все они лобызают его и танцуют вокруг него. Засим он окутывает их кромешною тьмою, и все они, мужчины и женщины, предаются самому непристойному и омерзительному блуду».
Воодушевленный папским посланием, германский император Фридрих II также объявил штедингов вне закона. Ради их уничтожения взялись за оружие епископы Ратцебурга, Любека, Оснабрюка, Мюнстера и Миндена, к которым присоединились герцог Брабантский, графы Голландский, Клевеский, Маркский, Ольденбургский, Эгмондский, Дистский и многие другие могущественные дворяне. Вскоре была сформирована сорокатысячная армия, выступившая под командованием герцога Брабантского в земли штедингов. Последние решительно поднялись на борьбу за свободу и само свое существование, но смогли выставить против превосходящих сил противника лишь одиннадцать тысяч мужчин, способных держать оружие. Они сражались отчаянно, но тщетно. Восемь тысяч их погибло на поле брани; был истреблен целый народ; разъяренные завоеватели рыскали по побежденной стране, убивали женщин, детей и стариков, угоняли скот, сжигали леса и дома и разоряли захваченные земли.
Столь же абсурдным, но действенным было обвинение, выдвинутое против тамплиеров в 1307 году, когда они стали неугодны монархам и высшим церковным сановникам христианского мира. Своими богатством, влиянием, гордостью и дерзостью они нажили себе массу врагов; против них шли в ход самые разные обвинения, но их не удавалось ниспровергнуть до тех пор, пока против них не было выдвинуто обвинение в колдовстве. Оно достигло своей цели, и тамплиеры были уничтожены. Их обвиняли в том, что они продали души дьяволу и отправляют все адские ритуалы шабаша ведьм. Заявляли, что они, принимая в орден новичка, заставляют его отказываться от спасения души и проклинать Иисуса Христа; что затем они принуждают его участвовать во множестве богомерзких обрядов, целовать вышестоящих рыцарей в щеку, пупок и зад и трижды плевать на распятие; что всем членам ордена запрещается вступать в связь с женщинами, но разрешается безудержно предаваться всем видам содомского греха; что, если по несчастливой случайности тамплиер нарушает сей запрет и рождается ребенок, все члены ордена собираются вместе и бросают младенца друг другу, как волан, пока он не испустит дух; что после этого они поджаривают тельце на медленном огне и смазывают вытопленным из него жиром волосы и бороду большого идола, символизирующего дьявола. Утверждали также, что в случае смерти рыцаря-храмовника его труп сжигают и смешивают пепел с вином, которое дают выпить всем членам ордена. Филипп IV Красивый, который, по всей вероятности, придумал бóльшую часть этих обвинений, стремясь утолить свою неукротимую ненависть к ордену, издал указ о немедленном аресте всех тамплиеров в своих владениях. Позднее папа принял сторону короля Франции, заклеймив орден почти с той же горячностью, и по всей Европе тамплиеры были брошены в тюрьмы, а их движимость и недвижимость конфискованы. Сотни их во время пытки на дыбе сознавались даже в самых нелепых из приписываемых им преступлений, что усиливало направленный против них народный гнев и радость их врагов. Правда, когда их снимали с дыбы, они отрицали все ранее сделанные признания; но это обстоятельство лишь подогревало массовое возмущение и расценивалось как еще одно преступление. Оно усугубляло тяжесть предыдущих обвинений, и их сразу же приговаривали к костру как упорствующих в ереси. Пятьдесят девять этих несчастных были сожжены на медленном огне на одном из полей в пригороде Парижа. Они до самого последнего момента отстаивали свою невиновность и отвергали помилование в обмен на признание вины. Подобные действа устраивались и в провинциях; и в течение четырех лет едва ли был месяц, когда не происходила казнь одного или нескольких храмовников. В конце концов в 1313 году разыгрался последний акт этой трагедии: были сожжены великий магистр Жак де Моле и его соратник Жоффруа де Шарне, приор504Нормандии. Невозможно вообразить злодеяние более зверское и равно позорное как для монарха, положившего ему начало, и папы, его поддержавшего, так и для их современников, не воспрепятствовавших чудовищной несправедливости. Сознание того, что злоба немногих смогла породить подобное обвинение, унизительна для тех, кто желает ближним добра, но еще более унизителен тот факт, что миллионы людей приняли клевету за чистую монету.
Следующий из наиболее пресловутых случаев обвинения политического противника в колдовстве — расправа над Жанной д’Арк. Примеров подобного преследования, когда такое обвинение стало оправданием политической или религиозной ненависти, можно привести еще много. Тем не менее лучше сразу перейти к рассмотрению буллы папы Иннокентия — своего рода факела, воспламенившего длинную вереницу аналогичных актов и имевшего ужасные последствия для христианского мира. Нужно, однако, проследить события тех нескольких лет, что предшествовали ее появлению, чтобы лучше понять мотивы, побудившие церковь обнародовать этот страшный документ.
В конце XIV и начале XV веков в разных частях Европы было сожжено множество осужденных за ведовство. Естественным результатом жестоких гонений на ведьм явился рост числа добровольно называвших себя таковыми. Те находившиеся под страхом наказания обвиняемые, которые имели порочный и злобный нрав, хотели обладать приписываемой им силой, чтобы отомстить обвинителям, и выдавали желаемое за действительное. До нас дошли многочисленные сообщения о полубезумных персонах, обнаруженных за бормотанием заклинаний, посредством которых они, как считалось, вызывали дьявола. Если уж и религия и закон видели в этом состав преступления, то неудивительно, что люди, слабые умом и сильные воображением, особенно нервического склада, мнили себя наделенными теми ужасными способностями, о которых говорили все кому не лень. Их, убежденных в своей виновности не меньше окружающих, казнили без промедления.
По мере нагнетания массовой истерии католическое духовенство старалось приписать занятия колдовством тем религиозным сектам, зачинателям Реформации, которые к тому времени стали представлять угрозу церкви. Если обвинение в ереси не могло гарантировать их уничтожение, то обвинение в колдовстве и ведовстве всегда достигало цели. В 1459 году его жертвой пало братство вальденсов505 в Аррасе, члены которого по ночам особым образом поклонялись Богу в безлюдных местах. В городе ходили слухи, что в пустынной глуши, где они собираются, им является дьявол в человеческом образе и зачитывает из большой книги свои законы и указы, которым все они обещают повиноваться; что затем он раздает им деньги и еду, дабы обязать их ему служить, после чего они предаются всевозможным непристойностям. На основании этих слухов в Аррасе были схвачены и заключены в тюрьму несколько зажиточных горожан и дряхлых слабоумных старух. В ход, естественно, была пущена дыба — надежное средство заставить обвиняемых признаться во всем. Монстреле506 в своей хронике пишет, что их пытали до тех пор, пока некоторые из них не признали себя виновными по всем пунктам и не добавили, что видели на своих ночных сборищах многих высокопоставленных особ — прелатов, сеньоров, бальи507 и мэров городов, имена которых следователи сами ранее им назвали. Некоторых из оговоренных таким образом бросили в узилище и подвергли столь ужасным пыткам, что эти несчастные, презрев здравый смысл ради избавления от нестерпимой боли, также признались в полночных встречах с дьяволом, которому они поклялись верно служить. После этих признаний суд вынес свой приговор. Неимущих старух, как обычно в таких случаях, повесили и сожгли на рыночной площади; более состоятельные «преступники» избежали наказания, уплатив крупные суммы денег. Вскоре после этого стало известно, что разбирательство было проведено с вопиющими нарушениями процессуальных норм, а у судей были мотивы для личной мести многим более влиятельным, нежели они сами, персонам из числа обвиняемых. Впоследствии парижский парламент объявил приговор незаконным, а судей — преступниками, но его arret508 был вынесен слишком поздно, чтобы помочь тем, кто заплатил штраф, или покарать официальных лиц, совершивших должностное преступление, поскольку с тех пор прошло уже тридцать два года.
Тем временем во Франции, Италии и Германии число обвинений в ведовстве стремительно росло. Как ни странно, то обстоятельство, что выдвигались они главным образом против еретиков, не мешало последним верить в возможность совершения этого преступления не меньше самих католиков. Мы обнаруживаем, что в более поздние времена лютеране и кальвинисты выискивали ведьм усерднее, чем это когда-либо делали до них католики, — столь глубокие корни пустило суеверие. Любой другой вопрос веры мог быть предметом обсуждения, но ведовство все конфессии полагали столь же неоспоримым фактом, как достоверность Священного Писания или существование Бога.
Однако в ранний период данного поветрия гонения направлялись столпами католической церкви. Считалось, что распространение ереси предвещает пришествие Антихриста. Флоримонд в своем труде об Антихристе открыл секрет этих судебных преследований. Он пишет: «Все, кто указал нам признаки скорого явления Антихриста, согласны в том, что сие тягостное событие приближается приумножением магии и ведовства; да и было ли время, пораженное скверною так же сильно, как наше? Места, отведенные в наших судах для подсудимых, забиты обвиняемыми в сем грехе. Для процессов над ними не хватает судей. Наши темницы переполнены ими. Не проходит и дня, чтобы мы не обагряли рук кровью, осуждая их на смерть, или не возвращались домой в замешательстве и ужасе от услышанных нами жутких признаний. И дьявол, надо отдать ему должное, проявляет себя столь искусным мастером своего дела, что сколько бы его рабов мы не отправляли на костер, из их пепла восстает не меньшее число новых».
Здесь Флоримонд изложил общее мнение римской церкви, но никому из вовлеченных в эти судилища никогда не приходило в голову, что если дьявол, порождающий так много новых ведьм взамен уничтоженных, действительно существует, то он находится на службе у церкви и именуется манией преследования. Но что было, то было. Чем больше ведьм они сжигали, тем больше оных обнаруживали, и это привело к тому, что все женщины незнатного рода стали молить Бога о том, чтобы он не дал им состариться. Сочетание преклонного возраста, бедности и слабоумия являлось достаточной гарантией смерти на костре или эшафоте.
В 1487 году в Швейцарии был сильный ураган, опустошивший Констанц и четырехмильную зону вокруг города. Две убогие старухи, которых соседи долгое время подозревали в ведовстве, были арестованы по абсурдному обвинению в том, что они вызвали бурю. Несчастные были растянуты на дыбе. Отвечая на вопросы истязателей, они, не помня себя от боли, признались, что имели обыкновение встречаться с дьяволом, которому продали свои души, и что по их приказу он поднял бурю. По вздорному и богохульному обвинению их приговорили к смерти. В сборнике образцов судебных документов Констанца напротив имени каждой из них сделана простая, но показательная запись: convicta et combusta509.
Об этом и о сотнях других дел должным образом сообщалось церковным властям. Случилось так, что в то время церковь возглавлял понтифик, который уделял теме ведовства самое пристальное внимание и в своем намерении искоренить зло сделал для этого больше, чем кто-либо еще. Ян Баптист Гибо, избранный на папский престол в 1485 году под именем Иннокентия VIII, был искренне встревожен обилием ведьм и выпустил против них устрашающий манифест. В своей знаменитой булле 1488 года он призвал народы Европы к спасению церкви Христовой на земле, которой угрожает коварный Сатана, и поведал о тех ужасах, что достигли его ушей: о том, как множество людей обоего пола вступают в связь с исчадиями ада; как с помощью заклинаний они насылают порчу на людей и животных; как они разрушают супружескую верность, делают женщин бесплодными и уменьшают прирост скота и как они губят хлеба, виноград, плоды деревьев и полевые травы. Для того чтобы столь отвратительные преступники больше не оскверняли землю своим присутствием, он назначил в каждой стране инквизиторов510 и наделил их апостольской властью выносить смертные приговоры и приводить их в исполнение.
Можно со всей определенностью утверждать, что повальная охота на ведьм, ведьмомания, началась именно тогда. В Европе появилась категория мужчин, занимавшихся исключительно выискиванием и сжиганием ведьм. Наиболее известным из гонителей национального масштаба был Шпренгер из Германии. В своем пресловутом сочинении «Malleus Maleficarum»511 он регламентировал процедуру ведьмовского процесса и ввел порядок допроса, прибегая к которому инквизиторы в других странах могли наилучшим образом устанавливать вину подозреваемых. Вопросы, всегда подкрепляемые пытками, были крайне нелепы и омерзительны. Инквизиторы должны были спрашивать у подследственных, практикуют ли те полночные свидания с дьяволом, посещают ли шабаши ведьм на Брокене, общаются ли с духами, могут ли поднимать вихри и низвергать молнии и имели ли они половое сношение с Сатаной.
И инквизиторы сразу же взялись за дело: итальянец Куман отправил на костер сорок одну бедную женщину только в одной провинции, а немец Шпренгер сжег столько осужденных, что их число точно не установлено, но все авторы сходятся в том, что оно достигало более пятисот человек в год. То, что признания несчастных жертв были очень похожи, считалось дополнительным доказательством их вины. Но это сходство легко объяснимо. Всем им задавали одни и те же вопросы из «Malleus Maleficarum», и инквизиторы всегда добивались нужных им ответов с помощью пыток. Множество людей, чье воображение получало обильный исходный материал из задаваемых им жутких вопросов, каялись даже в том, о чем пытальщики их не спрашивали, надеясь таким образом избежать дыбы и умереть без лишних мук. Некоторые заявляли, что имеют от дьявола детей; но на столь безумное признание не решалась ни одна мать, даже в крайнем отчаянии. В этом сознавались только бездетные, и их сразу сжигали как недостойных жить.
Боясь, что пыл врагов Сатаны со временем остынет, сменявшие друг друга папы назначали новые следственные комиссии. Одна была назначена в 1494 году Александром VI, другая — в 1521 году Львом X и третья — в 1522 году Адрианом VI. Все они были наделены одними и теми же полномочиями — разыскивать и уничтожать — и выполняли свои ужасные функции с исключительным усердием. В одной только Женеве в 1515 и 1516 годах было сожжено пятьсот так называемых «протестантских ведьм». Есть основания полагать, что главным пунктом обвинения в этом деле была ересь, а ведовство фигурировало лишь как отягчающее обстоятельство. Бартоломео де Спина приводит еще более устрашающую статистику. Он сообщает, что в 1524 году в округе Комо к смерти за колдовство было приговорено не менее тысячи человек и что в течение нескольких последующих лет среднее число жертв ведьмомании превышало сто человек в год. Один инквизитор, Реми, ставит себе в большую заслугу осуждение и сожжение девятисот человек за пятнадцать лет.
Во Франции около 1520 года костры, на которых сжигали ведьм, пылали почти во всех городах. Даней в «Диалогах о ведьмах» пишет, что их было так много, что указать их число можно только приблизительно. Людское сознание было настолько порабощенным, что друзья и родственники подсудимых полностью одобряли действия инквизиторов. Жена или сестра убийцы могла сочувствовать его участи, но жены и мужья колдунов и ведьм не знали жалости. Дело в том, что в данном случае жалость была опасна, ибо считалось, что если человек не занимается ведовством, то он не может сопереживать страданиям ведьмы. Оплакивать оную означало самому попасть на костер. Несмотря на это, в ряде областей народ не побоялся дать выход своему гневу. Так, инквизитор одного сельского прихода в Пьемонте сжигал ведьм в таких количествах и такими темпами, что там вскоре не осталось ни одной семьи, не лишившейся при этом хотя бы одного из членов. В итоге селяне подняли восстание, и инквизитор был несказанно рад, что сумел спастись бегством, оставшись целым и невредимым. Позднее архиепископ диоцеза продолжил процесс по делу тех, кого этот инквизитор держал в тюрьме.
Несколько обвинений настолько противоречили здравому смыслу, что узников тут же освободили; остальных ждал более суровый, но обычный удел. Некоторые из них обвинялись в том, что они, согласно свидетельствам заслуживающих доверия людей, принимали участие в полночной пляске ведьм под расщепленным молнией дубом. Мужья части этих женщин (двое из которых были молодыми и красивыми) божились, что в означенное время их жены сладко спали в их объятиях, но это не помогло. Их показания были внесены в протокол, однако архиепископ сказал им, что они были обмануты дьяволом и собственными чувствами. Правда, заявил он, состоит в том, что в кроватях находились подобия жен, внешне ничем не отличавшиеся от оригиналов, а последние в это время были далеко и танцевали дьявольский танец под дубом. Честные мужья были сбиты с толку, а их жены — немедленно сожжены.
В 1561 году пять несчастных женщин из Вернье были обвинены в том, что они превратились в кошек и в таком обличье посетили шабаш демонов, где шныряли вокруг Сатаны, командовавшего сборищем в образе козла, и танцевали, дабы его потешить, у него на спине. Их признали виновными и сожгли512.
В 1564 году трое колдунов и одна ведьма предстали перед председателями суда Сальвером и д’Авантоном. Растянутые на дыбе, они сознались, что намазали выгульные площадки для овец адскими мазями, чтобы убить животных, и посетили шабаш, где видели большого черного козла, который разговаривал с ними и заставлял их целовать его. Во время церемонии все они держали в руке по зажженной свече. Всех их казнили в Пуатье.
В 1571 году на Гревской площади Парижа был сожжен известный колдун Труа Эшель. В присутствии Карла IX, маршалов де Монморанси и де Реца и господина Дюмазиля, королевского врача, он признался, что способен совершать удивительнейшие вещи с помощью дьявола, которому продался. Он пространно описывал вакханалии демонов, приносимые ими жертвы, распутства, которым они предаются с молодыми соблазнительными ведьмами, и различные способы приготовления дьявольской мази для уничтожения скота. Он сказал, что в разных частях Франции у него есть свыше тысячи двухсот соучастников колдовства. Их он назвал королю, и многие из них были впоследствии арестованы и казнены.
Два года спустя в Доле уроженец Лиона Жиль Гарнье был предан суду как loup-garou, или оборотень, который рыскал ночами по окрестностям и поедал маленьких детей. Обвинительный акт, зачитанный Анри Камю, доктором права и советником короля, гласил, что он, Жиль Гарнье, напал на двенадцатилетнюю девочку, затащил ее в виноградник и там убил зубами и руками, выглядевшими как волчьи лапы; что оттуда он зубами оттащил по земле ее истекавшее кровью тело в лес Ла-Серр, где съел бóльшую его часть за один присест, а то, что от него осталось, отнес домой жене; что в другой раз, за восемь дней до Дня всех святых, он вцепился зубами в другую девочку и сожрал бы ее, если бы ее не спасли крестьяне, ставшие невольными свидетелями преступления, и что ребенок несколько дней спустя умер от полученных ран; что через пятнадцать дней после того же Дня всех святых он, будучи опять в обличье волка, съел мальчика тринадцати лет, предварительно оторвав ему зубами ногу с бедром и спрятав их для завтрака. Кроме того, он обвинялся в том, что давал волю тем же дьявольским и противоестественным наклонностям даже в человеческом облике, задушил в лесу мальчика, намереваясь его съесть, и совершил бы это преступление, если бы ему не помешали заметившие его соседи.
После того как пятьдесят свидетелей дали показания против Жиля Гарнье, он был вздернут на дыбе. Он признал себя виновным по всем пунктам обвинения. После этого он вновь предстал перед судьями, и доктор Камю объявил от имени парламента Доля следующий приговор:
«Принимая во внимание, что на основании показаний заслуживающих доверия свидетелей Жиль Гарнье признан виновным в гнусных преступлениях — ликантропии513 и ведовстве, настоящий суд постановляет: сегодня перевезти его, означенного Жиля, отсюда к месту казни на телеге в сопровождении палача (maitre executeur de la haute justice514), где он будет привязан означенным палачом к столбу и сожжен заживо, а его пепел — развеян по ветру. Суд также приговаривает его, означенного Жиля, к возмещению судебных издержек.
Составлено в Доле января 18-го дня, 1573 года».
В 1578 году парижский парламент несколько дней слушал дело Жака Ролле. Он также был признан виновным в том, что является loup-garou, и в том, что во время одного из превращений убил и съел маленького мальчика. Он был сожжен заживо на Гревской площади.
В 1579 году население окрестностей Мелена было настолько встревожено увеличением числа ведьм и loup-garous, что для избавления от этой напасти был созван особый совет. На нем было принято постановление, согласно которому все ведьмы и те, кто к ним обращается, должны были караться смертью; та же участь ожидала всевозможных предсказателей и чародеев. В следующем году Руанский парламент рассматривал тот же вопрос и постановил, что обладание grimoire, или книгой заклинаний, является достаточным доказательством ведовства и что все, у кого будут найдены такие книги, будут сжигаться заживо. В 1583 году в той же связи состоялись три совета в разных районах Франции. Бордоский парламент строго предписал всем священнослужителям искоренять ведовство с удвоенной силой. Турский парламент был столь же категоричен и выразил опасение, что если пособники дьявола не будут стерты с лица земли, то на христиан снизойдет Божья кара. Реймсский парламент был особенно беспощаден к noueurs d’aiguillette, то есть «наводящим порчу, поражая бессилием», — лицам обоего пола, находящим удовольствие в предотвращении осуществления брачных отношений и богоугодного продолжения рода. Тот же парламент объявил грехом ношение амулетов для защиты от ведовства и, дабы сделать это занятие подсудным, узаконил церемонию изгнания беса, признанную более эффективным средством борьбы с агентами дьявола и обращения их в бегство.
Случай ведовства, наделавший в свое время много шума, произошел в 1588 году в одном из селений в горах Оверни, примерно в двух лье от Апшона. Когда один тамошний дворянин стоял у окна, мимо проходил его друг, возвращавшийся домой с охоты. Дворянин спросил друга, хорошо ли тот поохотился, на что последний сообщил, что на равнине на него напал крупный и свирепый волк, в которого он выстрелил, но промахнулся, и что затем он достал из ножен охотничий нож и отрезал у зверя переднюю лапу, когда тот бросился ему на горло, чтобы загрызть. Закончив рассказ, охотник запустил руку в сумку, чтобы вытащить лапу, но к своему ужасу увидел, что это кисть женской руки с обручальным кольцом на пальце. Дворянин сразу же узнал кольцо своей жены, «что, — говорится в обвинительном акте против нее, — заставило его заподозрить ее в злодеянии». Он немедленно отправился на поиски супруги и обнаружил, что она сидит на кухне у огня, пряча руку под фартуком. Он в бешенстве сорвал с нее фартук и увидел, что у нее нет кисти руки, а культя все еще кровоточит. Ее заключили в тюрьму и сожгли в Риоме в присутствии нескольких тысяч зрителей515.
В разгар этих казней проблески милосердия были редкостью. Случаев оправдания по суду в делах о ведовстве известно очень мало. Едва ли не единственным примером возврата к здравому смыслу является снятие парижским парламентом обвинения с четырнадцати подсудимых в 1589 году. Четырнадцать человек, приговоренных к смерти за ведовство, подали апелляционную жалобу в парижский парламент, ранее по политическим мотивам изгнанный в Тур. Парламент назначил следственную комиссию из четырех человек, в которую вошли Пьер Пигре, хирург короля, и Леруа, Ренар и Фалезо — лейб-медики других профилей. Эти господа должны были посетить приговоренных и обследовать их тела на предмет наличия дьявольской меты. Пигре, изложивший обстоятельства дела в своем труде по хирургии (книга VII, гл. 10), пишет, что визит проходил в присутствии двух членов Королевского совета516. Приговоренные были раздеты донага, и врачи очень внимательно осмотрели их тела, коля их булавками во все обнаруженные отметины517, чтобы проверить последние на нечувствительность к боли, всегда считавшуюся несомненным доказательством вины. Испытуемые, однако, реагировали на уколы весьма живо; некоторые из них очень громко кричали. «Мы обнаружили, — продолжает Пьер Пигре, — что это очень бедные и глупые люди. Были среди них и сумасшедшие. Многие из них проявляли полное безразличие к жизни, а один или двое страстно желали смерти, видя в ней избавление от страданий. Мы пришли к заключению, что они больше нуждаются в медицинской помощи, нежели в наказании, о чем и доложили парламенту. Засим их дело было принято к дополнительному рассмотрению, и парламент после тщательного обсуждения постановил отпустить сих бедняг по домам без наложения на них какого-либо наказания».
Таково было ужасающее положение дел в Италии, Германии и Франции XVI столетия, еще далекое от кульминации массового безумия. Давайте посмотрим, что в тот же период происходило в Англии. Реформация, искоренившая на своем пути великое множество заблуждений, резко остановилась перед этим, самым чудовищным из всех. Лютер и Кальвин так же твердо верили в ведовство, как и сам папа Иннокентий, а их последователи проявили себя более рьяными гонителями ведьм, чем католики. Доктор Хатчинсон в своем труде о ведовстве утверждает, что в Англии ведьмомания началась позднее и была менее свирепой, чем на континенте. Верно лишь первое утверждение, ибо, несмотря на то что и в Англии и в Шотландии охота за ведьмами началась позже, она была в этих странах не менее яростной, чем в других.
Прошло свыше пятидесяти лет со времени издания буллы Иннокентия VIII, прежде чем английские законодатели сочли необходимым принять более суровые законы против колдовства, чем уже действовавшие. Первым законодательным актом, где колдовство фигурирует как отдельная категория преступлений, был статут 1541 года. В гораздо более ранний период много людей было предано смерти за колдовство в сочетании с другими злодеяниями, но никого не казнили за присутствие на ведьмовском шабаше, вызывание бурь, поражение скота бесплодием и прочую сказочную ахинею материковой Европы. В 1551 году были приняты два статута: первый касался лжепророков, что, несомненно, было вызвано главным образом мошенничествами Элизабет Бартон, «святой девы» из Кента, имевшими место в 1534 году; второй был направлен против колдовства. Однако даже это постановление не считало уголовно наказуемым деянием колдовство в целом, а предусматривало смертную казнь лишь для тех, кто с помощью заклинаний, заговоров и сделок с дьяволом покушался на жизнь ближних. Наконец Елизаветинский статут 1562 года классифицировал колдовство как преступление исключительной тяжести, независимо от того, угрожает оно жизни, здоровью и собственности людей или нет. Можно в известной степени утверждать, что именно тогда и началось преследование ведьм в Англии. Как и во всех остальных европейских странах, оно достигло своего апогея в начале XVII века.
Рассказ о ряде случаях охоты на ведьм в Англии XVI века позволит читателю получить более точное представление о развитии этого великого заблуждения, чем моментальный переход к тому богатому событиями периоду его истории, когда занимались своим бесчеловечным ремеслом Мэтью Хопкинс и его подручные. Ряд таких процессов имел место в последние годы правления Елизаветы. В это время англичане получили весьма детальное представление о последствиях ведовства. Читая проповеди Ее Величеству, епископ Джуэл завершал каждую из них пламенной молитвой о защите ее от козней ведьм. Однажды в 1598 году он изрек следующее: «Вашей светлости может показаться интересным, что за последние четыре года число ведьм и ведунов в королевстве Вашей светлости возросло неимоверно. От наводимой ими порчи подданные Вашей светлости чахнут порою до смерти; лица их бледнеют, плоть гниет, речь делается невнятною, рассудок помутняется! Молю Всевышнего, дабы никогда не поразили они никого знатнее сего подданного!»
Заразительный страх ведовства постепенно распространялся по деревням. По мере того как укоренялось пуританское вероучение, этот страх разрастался и, естественно, тянул за собой вереницу гонений. Англиканская церковь издавна заявляет (и имеет на это все основания), что она находилась под влиянием позорного суеверия той эпохи в меньшей степени, чем все прочие христианские конфессии, однако даже она не избежала его полностью. Один из наиболее вопиющих документально зафиксированных примеров жестокости и заблуждения пятнает именно эту церковь и до самого последнего времени упоминался в одной ежегодной лекции в Кембриджском университете.
Речь идет о знаменитом деле ведьм из Уорбойса, казненных примерно через тридцать два года после принятия Елизаветинского статута. Несмотря на то что за это время ведьмовских процессов зафиксировано мало, очень многое, к сожалению, указывает на то, что массовые предрассудки в части ведовства были доведены до крайности. Во всех областях Англии многие женщины лишились жизни без всякого суда, оклеветанные и растерзанные толпой. Число их установить невозможно.
Дело Уорбойсских ведьм заслуживает подробного рассказа не только из-за пристального внимания, которое вот уже долгие годы уделяют ему преподаватели университета, но и по причине исключительной абсурдности показаний, на основании которых люди, здравомыслящие во всех остальных отношениях, отправили себе подобных на эшафот.
Главными действующими лицами этой необыкновенной драмы были семьи сэра Сэмюела Кромвеля и м-ра Трогмортона, имевших поместья недалеко от Уорбойса в графстве Хантингдон. М-р Трогмортон растил несколько дочерей, старшая из которых, Джоан, была меланхоличной и одаренной богатым воображением девушкой, чья голова была забита историями о призраках и ведьмах. Как-то раз она случайно проходила мимо избы особы по прозвищу матушка Сэмюел — очень старой, очень бедной и очень уродливой женщины. Матушка Сэмюел с черным чепцом на голове сидела у двери и вязала; когда простодушная молодая леди привлекла внимание старухи, та отвела глаза от рукоделия и пристально на нее посмотрела. Мисс Джоан тут же вообразила, что чувствует внезапную боль во всех членах, и с того дня при каждом удобном случае сообщала сестрам и всем окружающим, что матушка Сэмюел навела на нее порчу. Другие дети подхватили молву и каждый раз, когда попадали в поле зрения внушавшей страх старухи, действительно пугались до судорог.
Мистер и миссис Трогмортон, будучи ничуть не умнее своих детей, верили нелепым россказням последних, а леди Кромвель — приятельница миссис Трогмортон — приняла все это близко к сердцу и решила подвергнуть ведьму испытанию «Божьим судом». Ее затею поддержал премудрый сэр Сэмюел, и воодушевленные этим дети Трогмортонов дали волю воображению, которое, похоже, было исключительно живым. Вскоре они придумали целую кучу злых духов-мучителей, насланных на них матушкой Сэмюел, дабы те постоянно их терзали, и дали им имена. Они утверждали, что злобная ведьма вызвала из преисподней семерых духов специально для того, чтобы доводить их до припадков; а поскольку дети и в самом деле были припадочными, взрослые еще больше верили в их правоту. Этих духов звали Первый Шлепок, Второй Шлепок, Третий Шлепок, Унылый, Спертое Дыхание, Не Выговоришь и Дерганье.
Трогмортона-отца настолько измучили эти пустые фантазии, в которые он, однако, был весьма склонен поверить, что решительно отправился к избе, где матушка Сэмюел жила с мужем и дочерью, и притащил упирающуюся старуху на территорию своего поместья. Там их поджидали леди Кромвель, миссис Трогмортон и ее дочери, вооруженные длинными булавками, чтобы колоть ими ведьму и посмотреть, пойдет ли у нее кровь. Леди Кромвель, которая, по-видимому, усердствовала больше других, сорвала чепец с головы старухи, вырвала у нее пук седых волос и отдала его миссис Трогмортон, дабы та сожгла его и тем самым защитила их всех от будущих козней ведьмы. Неудивительно, что подвергнутая истязаниям женщина была склонна отвести душу в невольном проклятии в адрес мучителей. Так она и сделала, и те запомнили ее слова навсегда. Тем не менее ее волосы были сочтены надежным амулетом, и ее, полуживую от ужаса и жестокого обращения, отпустили домой. Более года Кромвели и Трогмортоны продолжали подвергать ее гонениям и заявлять, что насланные ею бесы поражают их болями и судорогами, заставляют прокисать молоко в их кастрюлях и не дают беременеть их коровам и овцам. В разгар бессмысленной травли заболела и умерла леди Кромвель. Остальные «жертвы ведовства» подсчитали, что ее смерть случилась ровно через год и три месяца после того, как матушка Сэмюел ее прокляла, и вспомнили, что ей несколько раз снились ведьма и черный кот, которым, ясное дело, был сам князь тьмы.
После этого сэр Сэмюел Кромвель счел своим долгом предпринять против колдуньи, стараниями которой он стал вдовцом, более энергичные меры. Год и три месяца вкупе с черным котом из ночных кошмаров не оставляли места сомнениям. О том, что матушка Сэмюел скорее всего является сообщницей дьявола, судачили уже все соседи, а ее внешность, к несчастью для нее, идеально соответствовавшая расхожему представлению о ведьмах, лишь укрепляла их в этом подозрении. Похоже, что в итоге несчастная женщина даже себе во вред поверила, что она — та, кем все ее считают. Насильно приведенная в дом м-ра Трогмортона во время одного из обычных припадков у его дочери Джоан, она получила от него и сэра Сэмюела Кромвеля приказ изгнать беса из юной леди. Ей велели повторять ритуальное заклинание и добавить: «Поелику я ведьма и виновница смерти леди Кромвель, приказываю тебе, демон, выйти из сей девицы!» Она сделала то, что от нее требовали, и, сверх того, призналась, что ее муж и дочь занимаются ведовством вместе с ней и, как и она, продали души дьяволу. Вся семья была немедленно арестована и отправлена в Хантингдонскую тюрьму.
Немногим позже начался суд под председательством г-на судьи Феннера, на котором все припадочные дочери м-ра Трогмортона дали показания против матушки Сэмюел и ее семьи. Всех троих подвергли пыткам. Испытывая невыносимые муки, старуха признала себя ведьмой, наведшей порчу на молодых леди и вызвавшей смерть леди Кромвель. Муж и дочь, более сильные духом, нежели их злополучная жена и мать, не признались ни в чем и настаивали на своей невиновности до последнего. Всех троих приговорили к повешению и последующему сожжению тел. Молодая и симпатичная дочь вызывала у многих сострадание, и ей посоветовали притвориться беременной, чтобы казнь, хоть ненадолго518, отложили. Бедная девушка гордо отказалась, заявив, что не желает прослыть и ведьмой, и блудницей. Ее слабоумная старая мать ухватилась за идею продления жизни на несколько недель и заявила, что беременна. Судьи корчились от смеха, к которому присоединилась сама несчастная жертва, и это было сочтено дополнительным доказательством того, что она ведьма. 7 апреля 1593 года вся семья была казнена.
Сэр Сэмюел Кромвель как владелец манора519 получил из конфискованной собственности Сэмюелов сумму 40 фунтов, которую превратил в дарственный фонд для ежегодного выделения 40 шиллингов на проповедь или лекцию о чудовищности ведовства и особенно данного случая, читаемую доктором или бакалавром богословия Куинс-колледжа, Кембридж. Мне не удалось установить, когда именно сия ежегодная лекция канула в Лету, но похоже, что в 1718 году, когда доктор Хатчинсон опубликовал свой труд о ведовстве, этого еще не случилось.
Чтобы проследить историю ведьмомании на Британских островах без нарушения хронологии, нам придется коснуться событий, имевших место в Шотландии в рассматриваемый период XVI века до восшествия Иакова VI520 на английский престол. Логично предположить, что шотландцы — народ, известный своей богатой мифологией с древнейших времен, — были погружены в мрачное суеверие, являющееся предметом нашего изучения, глубже своих южных соседей. Сохранению среди шотландцев древних верований в определенной степени способствовали почвенно-климатические особенности их страны. Легенды о привидениях, домовых, духах, являющихся незадолго до смерти или вскоре после нее, злых водяных, заманивающих корабли и топящих людей, и многих других таинственных созданиях были частью культурного наследия жителей туманных горных долин Хайленда и живописных равнин и холмов Лоуленда521. Их деяния, как добрые, так и злые, увековечивались в поэмах и глубже укоренялись в сознании людей, потому что «стихи окружали их ореолом величия». Однако длань закона была призвана карать за колдовство как за преступление per se522 лишь в то время, когда религиозные реформаторы принялись самым кардинальным образом толковать Священное Писание в свою пользу. То, что папа Иннокентий VIII сделал для Германии и Франции, проповедники Реформации сделали для Шотландии. Перестав быть просто одним из объектов веры, колдовство попало в свод законов, и всех добропорядочных подданных и истинных христиан призывали к беспощадной борьбе с ним. В 1563 году девятый парламент королевы Марии Стюарт принял постановление о введении смертной казни для ведьм и тех, кто обращается к ним за помощью; и огромное большинство шотландцев сразу же охватил заразительный страх перед дьяволом и его беспощадными агентами. Особы высочайшего ранга разделяли и поощряли заблуждение простолюдинов. Обвинения в ведовстве выдвигались и против них. Было установлено, что благородные леди занимаются оккультизмом и если и не являются ведьмами, то никак не из-за отсутствия желания.
Среди дам, что приобрели печальную известность, стремясь осуществить свои зловещие планы с помощью дьявола, можно упомянуть знаменитую леди Бакли из Бренксхолма (знакомую всем читателям сэра Вальтера Скотта), графиню Лотиан, графиню Ангус, графиню Атолл, леди Керр, графиню Хантли, Юфимию Макалзин (дочь лорда Клифтонхолла) и леди Фоулис. Одной из знатных особ противоположного пола, обвиненных в ведовстве, был сэр Льюис Боллантайн, вице-председатель Высшего уголовного суда Шотландии, который, если верить Скоту из Скотстарвета, «встретился из любопытства с колдуном Ричардом Грэмом» и попросил его вызвать дьявола. Колдун согласился и вызвал нечистого in propriâ personâ во дворе своего дома в Кенонгейте, и «вице-председатель Высшего уголовного суда пришел от увиденного в такой ужас, что занемог и умер». Так, путем вздорных наветов, завистники губили репутацию тех, кого ненавидели; хотя в данном случае создается впечатление, что сэру Льюису действительно достало глупости предпринять попытку, вмененную ему в вину, и что единственной недостоверной частью этой истории является успешный исход эксперимента.
Враги Джона Нокса523 придумали похожую историю, в которую с готовностью поверили католики, радовавшиеся любой возможности опозорить этого известнейшего бичевателя пороков их церкви. Был пущен слух, что он и его письмоводитель пришли на погост церкви св. Андрея с намерением вызвать святых, дабы с ними посовещаться, но из-за ошибки в заклинаниях им явился сам Cатана. Письмоводителя, гласила молва, так напугали большие рога, выпученные глаза и длинный хвост Cатаны, что он сошел с ума и вскоре умер. Сам же Нокс оказался-де более крепким орешком и не испугался.
Первым в материалах ведьмовских процессов, проведенных в Высшем уголовном суде Шотландии, значится дело Дженет Боумен, приговоренной к смерти в 1572 году, через девять лет после принятия постановления Марии Стюарт. Никакие подробности ее преступлений не сообщаются; напротив ее имени имеется единственная запись: «осуждена и сожжена». Не стоит, однако, делать вывод, что за эти девять лет не было ведьмовских процессов и казней, ибо из документов, которые хранятся в Адвокатской библиотеке Эдинбурга и подлинность которых не вызывает сомнений524, явствует, что Тайный совет525 наделял постоянно живущих в одной местности дворян и священников (охватывая при этом всю территорию Шотландии) полномочиями допрашивать, судить и казнить ведьм в границах своих церковных приходов. Никаких официальных записей о жертвах приговоров этих судов не сохранилось; но если принять на веру хотя бы четвертую часть случаев, о которых говорится в преданиях, то их число повергает в ужас. После 1572 года записи о казненных за ведовство в материалах Высшего уголовного суда учащаются, но их число в среднем не превышает одной в год — еще одно доказательство того, что суды над ведьмами проводились главным образом местными судебными органами. Последние, по-видимому, отправляли ведьм на костер так же легко и часто, как нынешние мировые судьи приговаривают браконьера к колодкам и тюремному заключению.
Взрослея, Иаков VI все больше интересовался ведьмовскими процессами. Один из них — по делу Джелли Дункан, Доктора Фиана и их сообщников (1591) — полностью завладел его вниманием и, несомненно, в какой-то мере вызвал к жизни известный труд по демонологии, написанный им вскоре после суда. Если учесть, что подсудимые покушались на жизнь короля, и принять во внимание интерес последнего к ведовству, то не стоит удивляться тому, что он внимательно следил за рассмотрением дела и укрепился в предрассудках и суевериях в силу необычности оного. Ни одно судебное разбирательство не характеризует заблуждения шотландцев в части ведовства столь наглядно, как это. В этом деле необычно все — и число обвиняемых, и нелепость улик, и реальные злодеяния, совершенные частью подсудимых.
Джелли Дункан, главная обвиняемая на процессе, была служанкой помощника бейлифа526Транента — маленького городка в Хаддингтоншире, примерно в десяти милях от Эдинбурга. Несмотря на то что она была не старой и уродливой (каковыми обычно являлись судимые за ведовство), а молодой и привлекательной, соседи на основании некоторых подозрительных деталей ее поведения вот уже долгое время считали ее ведьмой. Она, по-видимому, занималась лечением больных нетрадиционными методами. Некоторые из проведенных ею исцелений были настолько удачными и неожиданными, что достопочтенный заместитель бейлифа, хозяин девушки, который, как и его соседи, относился к ней с подозрением, считал их не иначе как чудотворными. Дабы установить истину, он принялся ее пытать, однако она упорно отказывалась признаться в сношениях с дьяволом. Существовало поверье, что ни одна ведьма не признáется до тех пор, пока на ее теле не будет обнаружена метка Cатаны. Кто-то из присутствовавших напомнил об этом помощнику городского судьи, и после тщательного осмотра на горле несчастной Джелли была найдена «печать дьявола». Пытка была возобновлена, и когда адские муки сломили силу духа служанки, она наконец признала, что действительно является ведьмой, которая продала душу дьяволу и осуществляла все свои исцеления с его помощью. Это противоречило общепринятому представлению о ведьмах, согласно которому дьяволу больше нравится насылать болезни, чем избавлять от них, но Джелли Дункан от этого лучше не стало. Ее пытали до тех пор, пока она не назвала всех своих сообщников, среди которых был некий Каннингем (именитый колдун, известный как Доктор Фиан), степенная и почтенная колдунья Эгнис Сэмпсон, Юфимия Макалзин (ранее упомянутая дочь лорда Клифтонхолла) и около сорока других лиц, включая жен некоторых уважаемых эдинбуржцев. Все они были задержаны, и Шотландия забурлила в предвкушении необычайно громких разоблачений.
Примерно двумя годами ранее Иаков внезапно покинул свои владения и любезно отправился в Данию, чтобы привезти в Англию свою невесту — датскую принцессу, чей корабль задержался из-за непогоды в гавани Упсло. Пробыв несколько месяцев в Копенгагене, он отплыл с молодой невестой на родину и 1 мая 1590 года, попав на пути в сильнейший шторм, едва не приведший к кораблекрушению, благополучно прибыл в Лейт527. Как только в Шотландии стало известно об аресте Джелли Дункан и Фиана, все те, кто считал себя вправе выстраивать причинно-следственные связи, исходя исключительно из собственных воззрений, заговорили о том, что эти присные дьявола и их соучастники вызвали с его помощью бурю, поставившую под угрозу жизни короля и будущей королевы. Джелли под пыткой признала, что это правда, и все пораженное ужасом королевство ожидало подтверждения ее слов дополнительными фактами.
«Степенную и почтенную» Эгнис Сэмпсон, привлеченную к суду на основании показаний Джелли Дункан, подвергли пытке приспособлением для стискивания пальцев. Не прошло и часа, как она выдала все секреты нечестивой шайки и созналась в том, что Джелли Дункан, Доктор Фиан, Мэриан Линкап, Юфимия Макалзин, она сама и свыше двухсот других ведьм и колдунов имели обыкновение собираться в полночь в церкви городка Норт-Берик и встречаться с дьяволом; что там они сговорились убить короля; что к этому их подстрекал сам Cатана, который громогласно заявил, что Иаков — самый опасный противник из всех, которые ему когда-либо попадались, и что детям дьявола не будет на земле покоя, пока королю не придет конец; что дьявол хотел, чтобы на этих сборищах звучало немного музыки, и что Джелли Дункан обычно играла для него на трубе или варгане528 рил529, под который танцевали все ведьмы и колдуны.
Иаков был весьма польщен тем, что дьявол назвал его самым опасным противником из всех, когда-либо ему попадавшихся. Он приказал привести Джелли Дункан во дворец и заставил ее сыграть ему тот же самый рил, который она исполняла на плясках ведьм в церкви.
Доктор Фиан, то бишь Каннингем, школьный учитель из Транента, был подвергнут пытке наряду с остальными. Этот человек пользовался дурной славой, готовил и продавал яды и занимался магией. Хотя он и не был виновен в том нелепом вздоре, что ему инкриминировали, не вызывает сомнения, что формальный повод для его ареста имелся. Вздернутый на дыбу, он не признавался ни в чем и так долго оставался несломленным, что к нему применили пытку колодками. Он держался до тех пор, пока его измученный организм не утратил способность к сопротивлению и не впал в спасительное бесчувствие. Когда было замечено, что он полностью обессилел и потерял сознание и что язык у него прилип к нёбу, колодки были сняты. Его стали приводить в чувство, и при первом неясном проблеске возвращающегося сознания его, еще до конца не понимающего, что происходит, убедили подписать полное признание, строго соответствовавшее признаниям Джелли Дункан и Эгнис Сэмпсон. Затем его вернули в тюремную камеру, откуда через два дня он каким-то образом сумел сбежать. Вскоре он был пойман и предстал перед Высшим уголовным судом, на заседании которого присутствовал сам Иаков. Теперь Фиан отрицал свою вину по всем пунктам ранее подписанного им признания, после чего король, разъяренный его «неподатливым своенравием», велел пытать его еще раз. Ему вырвали ногти щипцами и насквозь проткнули глаз длинными иглами, но он даже не вздрогнул. Тогда ему опять надели колодки, в которых, цитирую изданную в то время брошюру530, он оставался «столь долго и перенес столь много ударов, что его ноги были раздроблены так мелко, как только возможно; притом кости и плоть были истолчены настолько, что вытекло великое множество крови и костного мозга, вследствие чего пытаемый навсегда утратил способность ходить».
Признания всех обвиняемых, проходивших по данному делу, были во многом поразительно схожи. Складывается впечатление, что они и в самом деле пытались убить короля с помощью заговоров и прочих колдовских приемов. Скорее всего Фиан, владевший полным набором трюков, обычных для его ремесла, обманывал их мнимыми привидениями, в силу чего многие из них были действительно уверены в том, что видели дьявола. В целом их показания сводятся к следующему.
Сатана, бывший, разумеется, лютым врагом реформированной религии, опасался женитьбы короля Иакова на принцессе-протестантке. Чтобы избежать пагубных для сил зла последствий такого шага, он решил покончить с королем и его невестой, вызвав шторм после их отплытия к берегам Шотландии. Сперва Cатана пустил по воде густой туман в надежде, что королевский корабль из-за плохой видимости сядет на мель. Когда этот план провалился, он приказал Доктору Фиану, удостоенному в силу наибольшей образованности чести быть его доверенным лицом, созвать ведьм и колдунов на встречу с их властелином, на которую всем им надлежало приплыть по открытому морю в ситах.
В канун Дня всех святых531 они собрались в количестве свыше двухсот, включая Джелли Дункан, Эгнис Сэмпсон, Юфимию Макалзин, некую Барбару Нейпир и нескольких колдунов, расселись по ситам и «самым естественным образом поплыли по океану». Какое-то время спустя они встретили Сатану, который держал в когтистых лапах кошку, предварительно протащенную девять раз сквозь огонь. Ее он дал одному из колдунов, велев бросить ее в море и крикнуть «Hola!»532. Это было сделано со всей торжественностью, и в тот же миг океан начал содрогаться, воды громко зашумели, волны стали высокими, как горы, и «воздели длани к сумрачному небу». Ведьмы и колдуны храбро проплыли через поднятую ими бурю и, высадившись на шотландском берегу, взяли сита в руки и направились процессией к населенной призраками норт-берикской церкви, где дьявол решил прочесть проповедь. Джелли Дункан, музыкант ведьмовского отряда, вприпрыжку бежала впереди, играла на варгане и пела:
Cummer, go ye before, cummer, go ye;
Gif ye will not go before, cummer, let me!533
Подойдя к церкви, участники процессии обошли ее против движения солнца534. Потом Доктор Фиан подул в замочную скважину входной двери, которая немедленно отворилась, и ведьмы вошли в церковь. Поскольку внутри стояла кромешная тьма, Фиан подул на свечи, которые тут же зажглись, и вошедшие увидели дьявола, восседающего на кафедре проповедника. На князе тьмы были черные сутана и шляпа, и ведьмы приветствовали его криком «Здравствуй, повелитель!». Его тело было твердым, как железо; его лицо внушало ужас, а нос походил на орлиный клюв; у него были большие горящие глаза; его руки и ноги были покрыты шерстью; у него были длинные когти на руках и ногах; он говорил очень хриплым голосом. Прежде чем начать проповедь, он сделал поименную перекличку своих «прихожан» и спросил, хорошо ли они ему служат и удалось ли предпринятое ими покушение на жизнь короля и его невесты.
Грей Мейл, старый сумасшедший колдун, выступавший в роли церковного сторожа, имел глупость ответить, что «король, хвала Всевышнему, до сих пор цел и невредим», после чего дьявол в ярости спустился с кафедры и дал ему затрещину. Затем он снова поднялся на кафедру и начал проповедь, в которой приказал ведьмам и колдунам быть ему преданными слугами и совершать все посильные злодеяния. Юфимия Макалзин и Эгнис Сэмпсон, которые были храбрее остальных, спросили Сатану, принес ли он фигурку или изображение короля Иакова, дабы они наслали на последнего боли и недуги, втыкая туда булавки. Прародитель лжи535 на сей раз сказал правду, признав, что забыл это сделать, и Юфимия Макалзин отчитала его за невнимательность. Ее тотчас поддержали Эгнис Сэмпсон и некоторые другие женщины, но дьявол ничуть не обиделся. Когда они перестали браниться, он пригласил их всех на роскошную трапезу. Участники оной разделили между собой выкопанный по такому случаю недавно захороненный труп, и больше ничего съестного Сатана им не дал. В вопросе питья он оказался более радушным хозяином и выставил им столько превосходного вина, что они вскоре захмелели. Джелли Дункан заиграла на трубе одну старинную мелодию, сам дьявол пустился в пляс с Юфимией Макалзин, и к ним присоединились остальные. Так они веселились до первых петухов.
Эгнис Сэмпсон, или «мудрая женщина из Кейта», как ее называли, добавила в своем признании ряд других деталей. Она заявила, что в одну из более ранних ночей она вызвала страшную бурю на море, бросив в него кошку, к лапам которой были привязаны четверо мужчин. Она также утверждала, что в ту ночь, когда ведьмы предприняли грандиозную попытку утопить короля Иакова, они не встречались с дьяволом, проплыв какое-то время по морю, а отправились в плавание вместе с ним, и что Сатана, находясь на некотором удалении впереди, был виден смутно и перекатывался по высоким волнам, обличьем и размерами напоминая громадный стог сена. В пути ведьмам и колдунам попался обильно нагруженный вином и другими ценными товарами иностранный корабль, который они взяли на абордаж и, выпив все вино и вдоволь повеселившись, потопили.
Некоторые из этих разоблачений казались чересчур неправдоподобными даже исключительно легковерному Иакову, и он неоднократно восклицал, что ведьмы, как и их хозяин, «крайне лживы». Но те сознавались во многих других вещах менее абсурдного свойства, в которых они, вне сомнения, были действительно повинны. Так, Эгнис Сэмпсон сообщила, что ей было поручено отправить короля на тот свет, смазав его белье сильнодействующим ядом. Джелли Дункан имела обыкновение угрожать соседям, говоря, что пришлет за ними дьявола, отчего многие недостаточно уравновешенные люди пугались до судорог и оставались припадочными до самой смерти. Доктор Фиан, не задумываясь, оказывал пособничество и подстрекал к убийствам, избавляя от врагов с помощью яда всех тех, кто мог ему за это заплатить. Юфимия Макалзин также была далека от невинности. Нет никаких сомнений, что она замышляла убийство короля и прибегнула для осуществления замысла к таким средствам, которые ей подсказало суеверие той поры. Она была преданной помощницей Ботуэлла, которого многие ведьмы обвинили в том, что он подсказал им время, благоприятное для убийства короля. Все они были признаны виновными и приговорены к повешению и последующему сожжению. Барбара Нейпир, признанная виновной по всем пунктам обвинения, кроме присутствия на сборищах в берикской церкви, избежала смертного приговора. Король был очень этим недоволен и пригрозил предать присяжных суду по обвинению в преднамеренной юридической ошибке. Тогда они пересмотрели свой вердикт и попросили у короля извинения за допущенный промах. Иаков остался удовлетворен, и Барбару Нейпир повесили вместе с Джелли Дункан, Эгнис Сэмпсон, Доктором Фианом и двадцатью пятью другими осужденными. Участь Юфимии Макалзин была еще страшнее. Ее связь с дерзким преступником Ботуэллом и причастность к отравлению одного или двух человек, стоявших у нее на пути, были сочтены заслуживающими самого сурового наказания, предусмотренного законом. Вместо обычных в таких случаях смерти на виселице и последующего сожжения ей уготовили «быть привязанной к столбу и сожженной заживо дотла». 25 июня 1591 года бесчеловечный приговор был приведен в исполнение.
Эти судебные процессы имели самые пагубные последствия для всей Шотландии. Помещики и приходские священники, наделенные Тайным советом соответствующими полномочиями, судили и приговаривали к смерти пожилых женщин, следуя предельно упрощенной процедуре. Больше всех пострадали те, кто все еще оставался в лоне римской церкви, так как после разоблачения лютой ненависти дьявола к королю и королеве, исповедующим протестантство, считалось, что все католики заключили союз с силами зла, дабы вредить шотландскому королевству. По самым скромным подсчетам, на протяжении тех тридцати девяти с лишним лет, что минули со дня принятия постановления Марии Стюарт до вступления Иакова на английский престол, в Шотландии казнили в среднем по двести ведьм в год, а всего таким образом было умерщвлено около восьми тысяч человек. По имеющимся данным, в первые девять лет среднегодовое число казнимых не составляло и пятидесяти, зато в 1590–1593 годах оно равнялось более чем четыремстам.
Последнее рассмотренное нами дело было, как я уже отметил, из ряда вон выходящим. Составить более общее представление о ведьмовских процессах в Шотландии читателю поможет дело Изабел Гауди, которое, избавляя его от утомительного и крайне неприятного изучения всех судебных разбирательств, достаточно полно их характеризует, несмотря на то, что оно имело место несколько позже царствования Иакова. Эта женщина, измученная постоянным преследованием со стороны соседей, добровольно отдала себя в руки правосудия и сделала признание, весьма характерное для того времени. Она, несомненно, была маньячкой самого необычного свойства. Она заявила, что заслуживает быть растянутой на железной дыбе и что, даже если ее разорвут на части скачущие в разные стороны дикие лошади, это не загладит ее вины. Гауди назвала множество сообщников — около пятидесяти женщин и несколько мужчин. Согласно ее признанию, они разрывали могилы некрещенных младенцев, части тел которых использовали в своих ритуалах. Когда им хотелось погубить чей-либо урожай, они впрягали в плуг жаб, и в следующую ночь сам Сатана вспахивал им землю и делал ее неплодородной на весь сезон земледелия. Эти ведьмы и колдуны могли принимать почти любой образ, но обычно предпочитали кошачий или заячий, чаще последний. Изабел рассказала, что как-то раз, она, будучи лжезайцем, подверглась ожесточенному преследованию со стороны своры гончих и чудом избежала смерти. Ощущая горячее дыхание собак, она добежала до своего дома. Ей удалось спрятаться за сундуком и произнести заклинание, единственно способное превратить ее обратно в человека. Вот оно:
Hare! hare!
God send thee care!
I am in a hare’s likeness now;
But I shall be a woman e’en now!
Hare! hare!
God send thee care!536
Она сказала, что, если ведьм в заячьем обличье кусают собаки, на их человеческих телах всегда остаются следы укусов; но ни одна ведьма, насколько она знала, не была загрызена насмерть.
Когда дьявол назначал общее сборище ведьм, им, согласно обычаю, следовало добираться туда по воздуху либо на помельях, либо на стеблях овса или фасоли, произнося в полете следующие слова:
Horse and pattock, horse and go,
Horse and pellats, ho! ho! ho!537
Они обычно оставляли дома метлу или треногий табурет, которые, будучи положенными в постель и должным образом заколдованными, принимали человеческий облик и сохраняли его до их возвращения. Это делалось для того, чтобы соседи не узнали об их отсутствии.
Она сообщила также, что дьявол даровал своим любимым ведьмам слуг-бесов, дабы те о них заботились. Этих бесов звали Ревущий Лев, Адский Вор, Служи-ей-самой, Горлопан, Ни-о-чем-не-беспокойся и т.д. Они были известны своими нарядами, которые, как правило, были желтого, темно-мышиного, бирюзового, светло- или темно-зеленого цвета. Сатана никогда не называл ведьм по именам, данным им при крещении, и не разрешал им называть так друг друга в его присутствии. Такое нарушение дьявольского этикета всегда вызывало у него сильнейший гнев. Но поскольку как-то называть их было надо, он, перекрещивая их в их собственной крови, давал им новые имена: Способная-и-решительная, С-ней-хоть-куда, Вызови-ветер, Проказница-ветрогонка, Поколоти-их-Мэгги, Бой-баба и другие в том же роде. По части имен, которыми называли его самого, дьявол был не особенно привередлив; не любил только прозвище Черный Джон. Случись какой-нибудь ведьме произнести, забывшись, эти слова, он неизменно набрасывался на нее и нещадно избивал или терзал ее плоть подручными средствами. Другие имена его не волновали, и однажды он дал одному известному колдуну указание звать его на помощь, трижды ударив по земле и крикнув: «Поднимайся, подлый вор!»
После этого признания было осуждено и казнено много людей. Неприятие ведовства в массовом сознании стало настолько сильным, что почти все обвиняемые в нем были с тех пор обречены; оправдательные приговоры выносились в среднем по одному делу из ста. Выискивание ведьм стало ремеслом, и немало корыстных проходимцев рыскало по стране, имея в своем арсенале длинные булавки для втыкания в плоть тех, кто подозревался в сношениях с нечистой силой. Тогда, как, впрочем, и в наши дни, не было чем-то необычным наличие на теле пожилого человека участка, полностью нечувствительного к внешним раздражителям. Обнаружение такого участка и являлось целью «охотников за ведьмами538», и те несчастные, которые не истекали кровью при уколе в это место, были обречены на смерть539. Если их и не сажали тут же в тюрьму, их жизнь превращалась в сущий ад из-за непрестанной травли со стороны соседей. Дошедшие до нас письменные источники со всей наглядностью свидетельствуют, что многие бедные женщины претерпевали при этом такие страдания, что предпочитали умереть. Сэр Джордж Макензи, который был генеральным прокурором Шотландии в разгар процессов над ведьмами и искренне верил в существование таковых, приводит несколько примечательных случаев такого рода в «Уголовном праве», впервые изданном в 1678 году. Он пишет: «Когда я был помощником судьи и выезжал допрашивать женщин, сделавших признание в судебном порядке, одна из них, убогое и беспомощное созданье, рассказала мне по секрету, что призналась она не потому, что виновна, а потому, что, будучи бедною, работает за пропитание и, прослыв ведьмой, понимает, что умрет с голоду, ибо ни одна живая душа отныне не предоставит ей ни стола, ни ночлега, и что люди будут избивать ее и травить собаками, вследствие чего ей хочется покинуть сей мир. Засим она горько разрыдалась и на коленях призвала Господа в свидетели сказанного». Хотя сэр Джордж не был полностью свободен от предрассудков своего времени, он был достаточно проницателен, чтобы понимать, насколько опасно для общества чрезмерное поощрение ведьмовских процессов. Он был убежден, что три четверти их несправедливы и необоснованны. В вышеупомянутом труде он пишет, что те, кого обвиняют в этом преступлении, обычно являются бедными и невежественными мужчинами и женщинами, которые не понимают сути обвинения и принимают за ведовство собственные суеверные страхи. Один бедняга, ткач по профессии, сознался в том, что он колдун, а когда его спросили, почему он так считает, ответил, что «видел, как дьявол, подобный мухе, танцевал вокруг свечи!». Одна простодушная женщина, которая верила, что она ведьма, лишь потому, что ее таковой считали, спросила судью, может ли кто-либо быть ведьмой и не знать об этом. Сэр Джордж добавляет, что все подозреваемые подвергались жестоким пыткам со стороны тюремщиков, которые полагали, что, истязая заключенных, совершают богоугодное деяние; «и я знаю, — пишет этот гуманный и просвещенный юрист, — что такое обращение спровоцировало подавляющее большинство признаний, чего несчастные доказать не могли, ибо единственными тому свидетелями были те, кто их пытал; однако судьям следовало со всей серьезностью изучить возможность того, что подсудимые, претерепев страдания, спешно сознались во всем, что им инкриминируется, и впоследствии не отважились отказаться от признания, дабы избежать повторения оных». Другой автор540, столь же твердо убежденный в реальности ведовства, приводит еще более прискорбный пример женщины, решившей, что лучше быть казненной как ведьма, чем жить опозоренной. Зная, что в один из ближайших дней трех других ведьм ожидают виселица и костер, эта женщина послала за приходским священником и призналась в том, что продала душу Сатане. «Тогда она предстала перед судом и была осуждена на казнь наряду с остальными. Доставленная к месту казни, она хранила молчание во время первого, второго и третьего призывов к покаянию, а засим, осознав, что пора вставать и идти к столбу, поднялась и громко прокричала: “Все, кто меня видит, знайте, что сейчас я умру как ведьма на основании моего собственного признания и снимаю со всех, особливо со святых отцов и судей, вину за мою смерть. Ее я целиком возлагаю на саму себя. Моя кровь останется лишь на моей совести. И, поелику должна я прямо сейчас нести ответ пред Отцом небесным, заявляю, что неповинна в ведовстве, как безгрешное дитя. Однако, обвиненная в нем одной злобной женщиной и брошенная в узилище под именем ведьмы, лишенная мужа и подруг и не видящая ни единой надежды на избавление, я сделала сие признание, дабы уйти из жизни, от коей устала и предпочла смерть”». Подтверждением исключительного упрямства и ослепления гонителей ведьм может служить тот факт, что церковник, рассказывающий эту историю, увидел в предсмертной речи несчастной женщины лишь еще одно доказательство того, что она ведьма. Поистине, «нет более слепых, чем те, кто не хочет видеть».
Пора, однако, вернуться к Иакову VI, который по праву разделил с папой Иннокентием, Шпренгером, Боденом и Мэтью Хопкинсом сомнительную славу главного врага и главного же поощрителя ведовства в одном лице. В конце XVI века многие ученые мужи как на континенте, так и на Британских островах старались освободить массовое сознание от иллюзий по этой части. Из них наиболее знамениты Вир (Германия), Пьетро д’Апоне (Италия) и Реджинальд Скот (Англия). Их труды привлекли внимание фанатичного Иакова, который, помня невольно вырвавшийся у дьявола комплимент своим достоинствам борца со злом, был полон решимости и впредь оставаться «его самым опасным противником». В 1597 году он опубликовал в Эдинбурге свой знаменитый трактат по демонологии. Цель его написания можно уяснить из следующего отрывка предисловия. «Ужасающее обилие, — пишет король, — в наше время и в нашей стране сих мерзостных рабов дьявола — ведьм и ведунов — подвигнуло меня, возлюбленный читатель, на сочинение нижеследующего трактата, увидевшего свет никоим образом, уверяю, не ради демонстрации моих собственных учености и изобретательности, но единственно из осознания необходимости разрешить, насколько сие в моих силах, сомнения многих в том, что означенные нападки Cатаны действительно имеют место быть и что орудия их осуществления достойны самой суровой кары. Тем самым я стремлюсь опровергнуть окаянные суждения главным образом двух современных авторов. Первый из оных, англичанин Скот, не стыдится оспаривать в своей книге реальность такого явления, как ведовство, и тем самым разделяет заблуждение древних саддукеев541, отрицавших существование духов. Второй, германский врач Вир, издал публичное оправдание всевозможных приверженцев чернокнижия, дозволяющее им безнаказанно творить злодеяния и со всей очевидностью изобличающее автора как одного из представителей сего ремесла». В другой части данного трактата, написанного в форме диалога, чтобы «сделать его более приятным и доступным», автор сообщает: «Ведьм дóлжно предавать смерти согласно закону Божьему, равно как и гражданскому, имперскому и внутригосударственному праву всех христианских стран, поелику сохранять жизнь тем и не разить тех, кого Господь велит разить, столь сурово карая за столь отвратительное богоотступничество, для судьи означает не только нарушать закон, но и совершать, бесспорно, не менее тяжкий грех, нежели тот, что взял на душу Саул, пощадив Агага542». Король также полагает, что это преступление настолько ужасно, что считать его совершение доказанным можно на основании неприемлемых в делах о других преступлениях свидетельских показаний малолетних детей, не понимающих сущности присяги, и лиц, имеющих дурную репутацию; но, чтобы за преступление, в делах о котором так трудно выносить оправдательный приговор, не осуждали невинных, он рекомендует всякий раз прибегать к ордалиям. Он пишет: «Можно пользоваться двумя надежными приемами: первый — суть нахождение предположительно дьявольской меты и испытание ее на нечувствительность, а второй — плавание связанных ведьм по воде, ибо, как в том случае, когда убийца, вина коего еще не доказана, в любое время после совершения злодеяния прикасается к убиенному и из тела оного начинает хлестать кровь, как бы взывающая к небесам об отмщении (знак свыше, отведенный Всевышним для изобличения повинных в сем чудовищном преступлении), так и здесь Господу было угодно (дабы люди могли распознавать гнусных ведьм), чтобы вода отказывалась принимать в свои глубины тех, кто отряхнул с себя священную воду крещения и тем самым добровольно отказался от сего блага. Сие вернее, нежели полагаться на то, что очи ведьм проливают слезы (угрожайте им и пытайте их, как заблагорассудится), когда они впервые раскаиваются (Бог не дозволяет им тайно упорствовать в столь ужасном злодеянии), ибо они, особливо женщины, могут в иных случаях лить слезы по малейшему поводу, когда им вздумается, что роднит их с крокодилами и не свидетельствует о раскаянии».
Если уж такие доктрины открыто пропагандировались первым человеком королевства, который, излагая их, не насиловал общественное мнение, а потакал оному, то неудивительно, что прискорбное заблуждение набирало силу и ширилось, пока охота на ведьм и ведунов не приобрела масштаб национальной эпидемии. Репутацию, которой король лишился, убоявшись обнаженного меча, он с лихвой компенсировал отвагой на ниве дьяволоборчества. Пресвитерианская церковь Шотландии была ему в этом самой рьяной помощницей, особенно в те периоды затишья, когда она не ссорилась с ним по вопросам религии и исключительных прав.
Вступив в 1603 году на английский престол, Иаков стал правителем народа, наслышанного о его славных деяниях на означенном поприще и восторгавшегося оными. Сам он ни на йоту не изменил своим давним предрассудкам, и его приход послужил сигналом к развязыванию в Англии столь же яростных гонений на ведьм, как и в Шотландии. Они, собственно говоря, в незначительной степени имели место уже в последние годы царствования Елизаветы; но первый парламент Иакова выступил с инициативой подвести под них новую законодательную базу. Иаков был польщен расторопностью парламентариев, и в 1604 году было принято соответствующее постановление. После второго чтения в палате лордов законопроект прошел через комиссию из двенадцати епископов. Им постановлялось, «что тот, кто воспользуется каким бы то ни было заклинанием или иным колдовским приемом и вызовет любого злого духа, вступит с таким духом в сговор, будет с ним советоваться или споспешествовать ему, при первом нарушении закона подлежит заключению в тюрьму сроком на один год и выставлением к позорному столбу через каждые три месяца, а при втором — смертной казни».
Похоже, что менее строгое наказание налагалось лишь изредка. Во всяком случае во всех сохранившихся протоколах судебных заседаний той поры говорится либо о повешенных и затем сожженных ведьмах, либо о ведьмах, сожженных живьем без предварительного удушения. В период, охватывающий царствование Иакова, гражданские войны при его преемнике, Долгий парламент543, узурпацию власти Кромвелем и правление Карла II, охота за ведьмами не прекращалась ни разу, претерпев единственный спад интенсивности при Кромвеле и индепендентах. Доктор Заккери Грей, редактор одного из изданий «Гудибраса», в одном из комментариев к поэме сообщает, что он лично внимательно прочитал список трех тысяч ведьм, казненных во времена одного только Долгого парламента. По существующим оценкам, в 1600–1679 годах в Англии казнили в среднем по пятьсот ведьм в год, что в сумме равняется ни много ни мало сорока тысячам. Некоторые из этих судебных дел заслуживают рассмотрения. Бóльшая их часть очень похожа на те, к которым мы уже обращались, но два или три высвечивают новые грани массового суеверия.
Словосочетание «ланкаширские ведьмы», употребляемое в наше время как комплимент в адрес очаровательных леди этого графства, известно каждому, но историю его происхождения знают не все. Главным действующим лицом этой трагедии был подлый мальчишка по фамилии Робинсон. Много лет спустя он признался, что его отец и другие люди подговорили его дать ложные показания против несчастных «ведьм», отправленных после этого на костер. Этот громкий процесс состоялся примерно в 1634 году. Юный Робинсон, отец которого был лесорубом и жил в пограничном районе Пендл-Форест, что в графстве Ланкашир, распускал множество слухов о некоей матушке Дикенсон, которую называл ведьмой. Когда эти слухи достигли ушей местных властей, за мальчиком послали и строго его допросили. Не запинаясь и не уклоняясь от прямых ответов, он поведал удивительную историю и казался таким бесхитростным и честным, что никто из услышавших рассказ не усомнился в его правдивости. Он сообщил, что как-то раз, бродя по лесной поляне и собирая ежевику, он увидел перед собой двух борзых и подумал, что это собаки какого-нибудь соседского дворянина. Будучи заядлым охотником, паренек решил воспользоваться случаем и, заметив поблизости зайца, дал собакам команду его преследовать. Ни одна, ни другая даже не шелохнулись. Разозлившись, он, намереваясь наказать борзых, схватился за хлыст, и тут одна из них обернулась женщиной, а вторая — маленьким мальчиком. Он сразу узнал в женщине матушку Дикенсон. Она предложила ему деньги, чтобы склонить его продать душу дьяволу, но он отказался. После этого она вынула из кармана уздечку, потрясла ею над головой мальчика-оборотня, и тот мгновенно превратился в лошадь. Затем матушка Дикенсон подхватила юного Робинсона, вскочила на лошадь и, усадив мальчика впереди себя, взмыла ввысь и понеслась со скоростью ветра над лесами, полями, болотами и реками. Приземлившись у входа в какой-то большой амбар, ведьма спешилась и, взяв мальчика за руку, вошла с ним внутрь. Там он увидел семь старух, которые тянули за семь веревок, свисавших с крыши. Пока они это делали, с веревок падали на пол крупные куски мяса и сливочного масла, буханки хлеба, миски с молоком, горячие пудинги, кровяные колбасы и другие деревенские лакомства. В процессе этих колдовских манипуляций старухи корчили такие страшные рожи и имели такой зловещий вид, что мальчик не на шутку испугался. После того как старухи означенным образом сварганили достаточно яств для обильной пирушки, они принялись за еду, потустороннее происхождение которой едва ли умаляет тот факт, что их гастрономические пристрастия были несколько более утонченными, нежели вкусы тех шотландских ведьм, которые, согласно признанию Джелли Дункан, лакомились плотью мертвеца в старой берикской церкви. Мальчик добавил, что, как только старухи сели ужинать, для участия в трапезе явилось множество других ведьм, ряд которых он назвал поименно.
По навету Робинсона-младшего было арестовано много людей, а его самого водили по церквам, дабы он показал сопровождающим его судебным исполнителям колдуний, которых видел в амбаре. Всего было брошено в тюрьму около двадцати человек, восьмерых из которых, включая матушку Дикенсон, на основании одних лишь голословных показаний приговорили к смерти и казнили. Ни один из негодяев, состряпавших клеветническую басню, так и не был привлечен к суду, а Робинсон-старший изрядно поправил свое финансовое положение, шантажируя тех, кто был достаточно богат, чтобы откупиться от «разоблачения».
Среди того человеческого мусора, что обрел известность и процветание во время долгой гражданской войны544, самым известным следователем по делам лиц, обвиняемых в ведовстве545, был Мэтью Хопкинс. Этот выскочка в 1644 году жил в городке Мэннингтри, графство Эссекс, и сделался весьма видной фигурой, обнаружив на телах нескольких несчастных «ведьм» «печать дьявола». Похоже, что репутация, которую он при этом снискал своей сноровкой, придала ему уверенности и энергии. Прошло совсем немного времени, и каждый раз, когда по Эссексу шла молва о какой-нибудь новой ведьме, можно было не сомневаться, что Мэтью Хопкинс уже прибыл по нужному адресу и помогает судьям своими познаниями о «подобной сволочи», как он называл подозреваемых. Наконец его авторитет возрос настолько, что он присвоил себе титул «Генеральный охотник за ведьмами» и отправился в путешествие по графствам Норфолк, Эссекс, Хантингдон и Суссекс с единственной целью — разоблачать ведьм. За год Хопкинс отправил на костер шестьдесят несчастных. Для распознавания ведьм следователь обычно прибегал к испытанию на плавучесть, за которое так горячо ратует в своей «Демонологии» король Иаков. Руки и ноги подозреваемых крестообразно связывали друг с другом: большой палец правой руки привязывали к большому пальцу левой ноги, и наоборот. Затем их заворачивали в большую простыню или попону и клали спиной на поверхность пруда или реки. Если они тонули, их друзьям и родственникам оставалось утешаться их невиновностью, но это был их конец; если же они держались на воде, что обычно происходило, если их клали на нее аккуратно, это также был их конец, поскольку их признавали виновными в ведовстве и сжигали.
Другое испытание состояло в том, что подозреваемых заставляли читать наизусть «Отче наш» и «Символ веры»546. Утверждали, что ни одна ведьма не способна сделать это правильно. Если испытуемая пропускала или невнятно произносила хоть одно слово, что в ее эмоциональном состоянии было вполне естественно, ее считали виновной. Считалось, что ведьмы не могут проливать больше трех слез, причем только из левого глаза. Так сознание многими людьми своей невиновности, дававшее им силы переносить незаслуженную пытку, не дрогнув, истолковывалось беспощадными истязателями как доказательство вины. В ряде приходов применялся тест, заключавшийся в сравнении весов обвиняемой и церковной Библии. Если женщина, заподозренная в ведовстве, оказывалась тяжелее, ее отпускали на свободу. Профессиональным охотникам за ведьмами такой образ действий казался чересчур гуманным. Хопкинс всегда настаивал на том, что самыми законными следственными приемами являются испытание на нечувствительность с помощью булавки и тест на плавучесть.
Следователь имел обыкновение путешествовать по графствам как важная персона: сопровождаемый двумя ассистентами, он всегда останавливался на самом богатом постоялом дворе и всегда за счет местных властей. Хопкинс включал в стоимость своих услуг двадцать шиллингов с города, совокупные расходы на проживание в нем и сбор за проезд туда и обратно. Все это он требовал независимо от того, обнаруживал ведьм или нет. Если «охота» завершалась успешно и выносился один или несколько смертных приговоров, он взимал еще по двадцать шиллингов за каждого казнимого. Неизменный коммерческий успех позорного промысла, продолжавшегося около трех лет, сделал Хопкинса столь надменным и алчным, что он стал ненавистен людям всякого звания. Преподобный м-р Гол, священник из Хьютона, Хантингдоншир, написал памфлет, где подверг его притязания уничтожающей критике и назвал его обыкновенным докучливым шарлатаном. В ответ Хопкинс отправил хьютонским властям гневное письмо, в котором заявил о своем намерении посетить их город, но поинтересовался, много ли в нем найдется таких же ярых приверженцев ведовства, как м-р Гол, и готовы ли отцы города принять его с обычным гостеприимством, буде он окажет им столь великую честь. Угрозы ради он добавил, что если он не встретит должного приема, то «вообще проигнорирует их графство и отправится туда, где сможет заниматься своим ремеслом и карать не только самовластно, но и удостаиваясь благодарности и вознаграждения за труды». Администрацию Хьютона сия страшная угроза оставить ее в покое не слишком встревожила. Она весьма мудро не уделила внимания ни самому следователю, ни его посланию.
В своем памфлете м-р Гол описывает один из применявшихся Хопкинсом следственных методов, который, несомненно, приносил ему весьма ощутимый доход. Эта, с позволения сказать, проверка даже отвратительнее, чем испытание на плавучесть. Автор пишет, что Генеральный охотник за ведьмами не раз выводил подозреваемую на середину комнаты и приказывал ей сесть на табурет или стол «по-турецки» или в какой-либо иной неудобной позе. Если она отказывалась сидеть подобным образом, ее связывали прочными веревками. Далее Хопкинс оставлял в комнате своих помощников, дабы те наблюдали за женщиной двадцать четыре часа, в течение которых ее запрещалось кормить и поить. Предполагалось, что за это время один из подвластных ей бесов проникнет в комнату и будет сосать у нее кровь. Поскольку бес мог явиться в обличье осы, мотылька, мухи или другого насекомого, в двери или окне проделывалось отверстие, чтобы он мог попасть внутрь. Наблюдателям предписывалось глядеть в оба и стараться убить любое появившееся в комнате насекомое. Если какая-нибудь залетная муха улетала или заползала в щель, избежав смерти, то ее полагали ведьмовским бесом, признавали женщину виновной и приговаривали к сожжению, а мастер своего дела Хопкинс получал двадцать шиллингов премиальных. Так, однажды после появления в комнате четырех мух, которых не удалось убить, он заставил одну старуху сознаться, что у нее в услужении находятся четыре беса, которых зовут Илемазар, Бродячий Дурачок, Тюкни-в-макушку и Грайзел-обжора.
В какой-то степени утешает то, что этот мошенник попал в западню, которую расставлял другим. Разоблачение, сделанное м-ром Голом, и его собственная жадность ослабили его влияние среди судей, а население, начавшее понимать, что от его преследования не застрахованы даже самые добродетельные и невинные, относилось к нему с нескрываемым отвращением. В одной из деревень графства Суффолк он был схвачен толпой и обвинен в том, что сам является колдуном. Против него было выдвинуто одно издревле известное обвинение, гласившее, что он посредством колдовства выманил у сатаны некий справочник, в который тот вписал имена всех ведьм Англии. «Так, — сказали люди, — ты и находишь ведьм: не с Божьей помощью, но с дьяволовой». Напрасно Хопкинс отрицал свою вину. Людям не терпелось подвергнуть его испытанию, которому он подвергал своих жертв. Его быстро раздели и связали ему вместе большие пальцы рук и ног. Затем его завернули в попону и бросили в пруд. Одни авторы сообщают, что он поплыл по воде и что его оттуда вытащили, судили и казнили, не озаботившись поиском иных доказательств его вины. Другие утверждают, что он утонул. Несомненно одно — ему пришел конец. Поскольку никаких записей о процессе над ним и его казни нет ни в одном судебном реестре, представляется наиболее вероятным, что он погиб от рук толпы. Батлер увековечил этого негодяя в следующих строках «Гудибраса»:
Hath not this present Parliament
A lieger to the devil sent,
Fully empower’d to treat about
Finding revolted witches out?
And has he not within a year
Hang’d threescore of them in one shire?
Some only for not being drown’d,
And some for sitting above ground
Whole days and nights upon their breeches,
And feeling pain, were hang’d for witches;
And some for putting knavish tricks
Upon green geese or turkey chicks;
Or pigs that suddenly deceased
Of griefs unnatural, as he guess’d;
Who proved himself at length a witch,
And made a rod for his own breech547.
Профессиональные охотники за ведьмами появились и в Шотландии. Они были известны как «общественные укалыватели» и, как и Хопкинс, получали гонорар за каждую обнаруженную ведьму. На состоявшемся в 1646 году процессе по делу Дженет Пистон судьи городка Долкейта «велели Джону Кинкеду из Транента, общественному укалывателю, применить к ней свои навыки. Он нашел две отметины, оставленные дьяволом, ибо она не чувствовала, как в означенные отметины входила булавка, а по извлечении булавки оные не кровоточили. Когда ее спросили, куда, по ее мнению, ей втыкались булавки, она показала на участок тела, удаленный от подлинной зоны уколов. Длина булавок составляла три дюйма»548.
В итоге общественных укалывателей развелось так много, что им перестали доверять. От их услуг отказывались судьи; и в 1678 году Тайный совет Шотландии соизволил выслушать жалобу одной добродетельной женщины, которую один из них незаслуженно изобличил, и выразил мнение, что общественные укалыватели — обычные мошенники.
Однако сотням других невинных жертв подобного суждения высшей инстанции узнать не довелось. Массовое заблуждение поощрялось и английским и шотландским парламентами, которые, наделяя беспринципных молодчиков определенными полномочиями, принуждали судей и священников обеспечивать им поле деятельности и принимать во внимание добываемые ими «улики». Здесь представляется уместным рассказать о судьбе одного несчастного пожилого джентльмена, павшего жертвой коварного Хопкинса в 1646 году. М-р Луис, почтенный клирик более чем семидесяти лет от роду, который вот уже пятьдесят лет был пастором прихода Фремлингем в графстве Суффолк, был заподозрен в ведовстве. Ярый роялист, он, по-видимому, не вызывал у современников сочувствия; и даже его собственные прихожане, которым он так долго и верно служил, отвернулись от него, как только на него пало зловещее подозрение. Попав в руки Хопкинса, прекрасно знавшего, как получать признания от непокорных, старик, рассудок которого в какой-то мере помутился с возрастом, сознался в том, что он колдун. Он сказал, что имеет в своем распоряжении двух бесов, постоянно подстрекающих его к совершению злодеяний, и что однажды, когда он гулял по берегу моря, один из них уговаривал его пожелать вслух, чтобы судно, паруса которого едва виднелись на горизонте, затонуло. Он-де поддался на уговоры и увидел, как корабль скрылся в водяной пучине. После этого признания он был предан суду и приговорен к смерти. На суде в нем возобладало былое здравомыслие. Он не признал себя виновным ни по одному пункту и подверг Хопкинса перекрестному допросу, проявив немалый такт и скрупулезность. По вынесении приговора он попросил отслужить по нему заупокойный молебен. Просьба была встречена отказом, и он отпевал себя сам по пути на эшафот.
Одна бедная шотландка была казнена на основании еще более абсурдной улики. Джон Бейн, общественный укалыватель, показал под присягой, что, войдя к ней в дом, он услышал, как она разговаривает с дьяволом. Женщина в свое оправдание сказала, что имеет глупую привычку разговаривать сама с собой, и некоторые соседи подтвердили ее заявление, но суд принял показания укалывателя. Он поклялся, что никто, не являясь ведьмой или колдуном, сам с собой не разговаривает. А после того как на теле подозреваемой была найдена «печать дьявола» — дополнительное доказательство ее вины, признанное решающим, она была «осуждена и сожжена».
С 1652 по 1682 год число ведьмовских процесов с каждым годом уменьшалось, а оправдания по суду уже были не столь редкими, как прежде. Сомневаться в ведовстве было уже неопасно. Приговоры, выносимые сельскими судами на основании нелепейших «доказательств», по-прежнему имели место, но, когда присяжных напутствовали земские судьи, те проявляли более гуманный и философский подход к делу. Образованные люди (число которых в ту пору ограничивалось весьма узкими рамками привилегированных сословий) постепенно начинали открыто выражать неверие в современные им случаи ведовства, хотя им недоставало смелости вообще отрицать существование такового. Между ними и приверженцами старых воззрений, которые называли новоявленных скептиков саддукеями, вспыхивали ожесточенные споры. Дабы убедить маловеров в ошибочности их доводов, ученый и преподобный Джозеф Гланвил написал знаменитый труд, первая часть которого, «Sadducismus Triumphatus», задумана как философское исследование ведовства и способности дьявола «принимать обличья смертных», а вторая, «Известные случаи», изобилует тем, что автор считает достоверными примерами ведовства своего времени.
Тем не менее прогресс в массовом сознании шел медленно. В 1664 году в Сент-Эдмондсбери преподобный сэр Мэтью Хейл приговорил двух женщин, Эми Дьюни и Роуз Каллендер, к сожжению на костре на основании исключительно смехотворных улик. Эти старухи, чье уродство побуждало соседей считать их ведьмами, пошли в лавку за селедкой, и торговец отказался их обслуживать. Возмущенные его предвзятостью, они не поскупились на брань. Вскоре после этого заболела дочь торговца, и разнеслась молва, что старухи, которым не продали селедку, наслали на нее порчу. Эта девушка страдала эпилепсией. Чтобы разоблачить Эми Дьюни и Роуз Каллендер, ей плотно завязали глаза платком и приказали «ведьмам» дотронуться до нее. Те так и сделали, и с ней немедленно случился припадок. После этого старух посадили в тюрьму. Позднее к девушке прикоснулся человек, не имевший к делу никакого отношения, и сила ее самовнушения была такова, что, решив, что это снова ведьмы, она забилась в конвульсиях с прежним неистовством. Это, однако, обвиняемым не помогло.
Нижеследующий отрывок из опубликованного отчета о данном судебном процессе продемонстрирует характер принятых во внимание доказательств:
«Сэмюел Пейси из Лейстоффа (добродетельный, рассудительный муж), приведенный к присяге, сообщил, что во вторник, 10 октября сего года, его младшую дочь Дебору примерно девяти лет от роду внезапно поразила столь сильная хромота, что она не могла устоять на ногах, и так продолжалось до 17-го числа того же месяца, когда она попросила отнести ее на берег у восточной, обращенной к морю стороны дома; и, когда она там сидела, Эми Дьюни пришла в дом допрашиваемого купить селедки, в чем ей было отказано. Засим она приходила еще дважды, но, получив оба раза отказ, уходила, недовольно ворча. В это время у ребенка начались ужасные припадки, во время коих она чувствовала такую боль в животе, словно туда втыкали иглы, и визжала, как щенок; и так продолжалось до 30-го числа того же месяца. Допрашиваемый далее поведал, что Эми Дьюни уже давно пользуется дурною славой ведьмы и что его дитя в паузах между припадками непрестанно громко на нее жалуется, полагая ее виновницей своей болезни и говоря, что означенная Эми мерещится ей и пугает ее; он же, заподозрив, что означенная Эми — ведьма, обвинил ее в насылании порчи на ребенка и посадил в колодки. Два дня спустя у его старшей дочери Элизабет начались столь необычные и сильные припадки, что домочадцы не могли удержать ее рот открытым, не вставив туда чего-нибудь; а когда младшая дочь пребывала в таком же состоянии, они применяли к ней то же средство. Оба ребенка горестно жаловались, что Эми Дьюни и другая женщина, одежду и наружность коей они описали, являются им, мучают их и выкрикивают “Се Эми Дьюни! Се Роуз Каллендер!”, представляясь таким образом обоюдно. Их припадки были неодинаковы. Иногда они прихрамывали на правую ногу, иногда — на левую, а порою делались столь болезненно чувствительными, что не выносили чужих прикосновений. Иной раз они, прекрасно чувствуя себя в других отношениях, теряли либо слух, либо зрение. Порою они обе лишались дара речи на один, два, а как-то раз — на восемь дней. Временами они падали в обморок, а когда теряли дар речи, их охватывал приступ кашля, и их рвало слизью и английскими булавками, а однажды они извергли большой двухпенсовый гвоздь и свыше сорока булавок, причем сей гвоздь и множество булавок он, допрашиваемый, самолично видел среди рвоты. Гвоздь и булавки были предъявлены в суде. Так дети страдали два месяца, в течение коих допрашиваемый часто заставлял их читать из Нового Завета и, когда они доходили до слов “Господи Иисусе” или “Христос”, замечал, что они не могут их произнести и у них начинаются припадки. Дойдя же до слова “Сатана” или “дьявол”, они произносили его с особенным нажимом и изрекали: “Сие причиняет боль, но заставляет меня говорить весьма хорошо”. Видя, что дети мучаются безо всякой надежды на исцеление, он отвез их в Ярмут к своей сестре Маргарет Арнольд, уповая на то, что перемена климата пойдет им на пользу.
Следующей для дачи свидетельских показаний была вызвана Маргарет Арнольд. Принесши присягу, она сказала, что примерно 30 ноября Элизабет и Дебора Пейси приехали к ней в дом вместе с ее братом, который рассказал ей о происшедшем и сообщил, что считает своих детей жертвами ведовства. Она, сиречь допрашиваемая, отнеслась к услышанному без особого доверия, ибо полагала, что дети обманули отца, собственноручно положив булавки себе в рот. Посему она вынула все булавки из своей одежды и прошила ее нитками. Однако, несмотря на это, девочки в ее присутствии порою исторгали по меньшей мере тридцать булавок и мучились в жутких корчах, во время коих сетовали на Эми Дьюни и Роуз Каллендер, говоря, что, как и прежде, видят их и слышат, как те им угрожают; что они видят, как по дому бегают мышеподобные твари, и что одна из сестер поймала таковую, бросила ее в камин и услышала звук, обычно издаваемый в подобных случаях крысами. В другой раз, когда младшая дочь находилась вне дома, существо, похожее на пчелу, попыталось залезть к ней в рот, после чего истошно вопящая Дебора вбежала в дом и, прежде чем допрашиваемая подошла к ней, забилась в конвульсиях и выблевала двухпенсовый гвоздь с широкой шляпкой. После этого допрашиваемая спросила девочку, откуда взялся гвоздь, и та ответила: “Пчела принесла гвоздь и запихнула его мне в рот”. В иные моменты старшая дочь рассказывала допрашиваемой о мухах, принесших английские булавки. Далее у нее начинались судороги, и она извергала такие булавки. Однажды означенный ребенок сообщил, что видит мышь, и заполз под стол, дабы ее найти, после чего, казалось, опустил что-то в карман передника со словами “Она ее поймала”. Засим девочка подбежала к камину и бросила это в огонь, и допрашиваемая узрела нечто вроде вспышки выстрела, хотя признает, что не видела в руках ребенка ровным счетом ничего. Как-то раз сей ребенок, утратив дар членораздельной речи, но целиком сохранив все прочие способности, бегал туда-сюда по дому и, будто шикая на расшумевшуюся домашнюю птицу, громко шипел “Т-с-с-с! Т-с-с-с!”; однако допрашиваемая ничего, что могло бы вызвать подобную реакцию, не увидела. Наконец ребенок во что-то вцепился и швырнул сие в огонь. Позднее, когда девочка заговорила, допрашиваемая спросила ее, что она видела в тот раз. Девочка ответила, что видела утку. В другой раз младшая дочь после припадка сказала, что ей являлась Эми Дьюни, грозившаяся либо ее утопить, либо перерезать ей горло, либо погубить ее как-то иначе. В другой раз обе они попрекали Эми Дьюни и Роуз Каллендер словами: “Отчего вы не приходите сами? Почему вы присылаете своих бесов мучить нас?”»
Одним из свидетелей на этом процессе был знаменитый сэр Томас Браун, автор «Распространенных заблуждений». Излагая свою точку зрения относительно состояния потерпевших, он выразил полную уверенность в том, что те заколдованы. Он сказал, что недавно в Дании были разоблачены ведьмы, которые истязали своих жертв точно так же — внедряя в их тела английские булавки, иглы и гвозди. Он сообщил, что обычно в подобных случаях дьявол воздействует на человеческие тела естественным образом, то есть провоцируя выделение излишков телесных жидкостей; что в данном конкретном случае нечистый поразил людей необычно тяжелыми формами недугов, которым те обычно подвержены; что припадки, о которых идет речь, имеют, вероятно, естественный характер и лишь усиливаются искусностью дьявола и злобой означенных ведьм.
Заслушав показания свидетелей, сэр Мэтью Хейл обратился к присяжным. Он сказал, что во избежание неточностей не хотел бы подытоживать услышанное в полном объеме и что есть две вещи, в отношении которых присяжные должны вынести свой вердикт: заколдованы дети или нет и является ли колдовство, если таковое имело место, результатом действий подсудимых. Он также сказал, что нисколько не сомневается в том, что те являются ведьмами; во-первых, потому, что на это указывает Священное Писание, а во-вторых, потому, что мудрость всех народов, особенно английского, дала людям законы против ведовства, подразумевающие их веру в реальность такого преступления. Судья призвал присяжных внимательно изучить совокупность улик и помолил Всевышнего о склонении их к верному выбору в том нелегком деле, что выпало на их долю, дабы они не совершили таких равно богопротивных деяний, как осуждение невинных и оправдание виновных.
После этого присяжные удалились на совещание и примерно через полчаса вынесли вердикт о признании подсудимых виновными по всем пунктам, которых было тринадцать. На следующее утро девочки, от недомогания которых не осталось и следа, пришли с отцом на постоялый двор, где сэр Мэтью Хейл снимал комнату. Отвечая на вопрос о времени начала выздоровления дочерей, м-р Пейси сказал, что они были совершенно здоровы через полчаса после вынесения приговора.
Многочисленные попытки убедить несчастных женщин признать себя виновными ни к чему не привели, и обе они были повешены.
В период с 1694 по 1701 год на одиннадцати ведьмовских процессах председательствовал главный судья Холт. Свидетельские показания и улики были обычными для такого рода дел, но Холт каждый раз столь успешно апеллировал к здравому смыслу присяжных, что все подсудимые были оправданы. Страна, казалось, начинала понимать, что абсурдному кровопролитию нужно положить конец. Время от времени в каком-нибудь отдаленном приходе возбуждалось новое судебное дело о ведовстве, но такие случаи больше не считались чем-то само собой разумеющимся. Напротив, они, насколько можно судить, привлекали к себе большое внимание, и одно это обстоятельство позволяет со всей уверенностью утверждать, что они становились редкими.
В 1711 году лорд-главный судья Пауэлл вел процесс по делу о ведовстве, на котором присяжные, невзирая на все вышесказанное и обычные нелепость и противоречивость свидетельских показаний, настаивали на вынесении обвинительного приговора, вследствие чего просвещенный судья сделал все от него зависящее, чтобы заставить их принять правильное решение. Обвиняемой была некая Джейн Уэнем, больше известная как Уокернская ведьма, а лицами, предположительно пострадавшими от ее козней, являлись две молодые женщины — Торн и Стрит. Один из свидетелей, м-р Артур Чонси, показал, что наблюдал некоторые из припадков у Энн Торн, которые всегда прекращались по произнесении молитвы или в тех случаях, когда к ней приходила Джейн Уэнем. Он рассказал, что неоднократно колол подсудимую в руки, но ни разу не добился кровотечения; что видел, как ее вырвало булавками, хотя ни одной из оных в ее одежде или где-либо поблизости от нее не было, и что он сохранил несколько штук и готов их продемонстрировать. Судья, однако, сказал ему, что в этом нет необходимости, ибо это, должно быть, английские булавки.
Другой свидетель, м-р Френсис Брэгг, показал, что после того, как Энн Торн нашла в своей подушке странные «лепешки» из заколдованных перьев, он загорелся желанием их увидеть. Он вошел в комнату, где они лежали, взял две штуки и сравнил их друг с другом. Обе они были круглой формы, немного больше монеты пять шиллингов; и он заметил, что перышки расположены в изящном и любопытном порядке, на одинаковом расстоянии друг от друга, образуя множество радиусов круга, в центре которого их кончики сходятся. Он сосчитал перья и обнаружил, что в каждой лепешке их ровно тридцать два. Потом он попытался вытянуть два или три пера и увидел, что все они скреплены вместе каким-то клейким веществом, которое, прежде чем лопнуть, семь-восемь раз вытягивалось в нить. Вытащив несколько перьев, он удалил пальцами клейкое вещество и обнаружил под ним в центре лепешки несколько спутанных коротких волосков черного и серого цвета, в которых с абсолютной уверенностью распознал кошачью шерсть. Он также сообщил, что Джейн Уэнем призналась ему, что заколдовала подушку и занимается колдовством вот уже шестнадцать лет.
Здесь судья прервал свидетеля и сказал, что очень хотел бы увидеть колдовскую лепешку, и, казалось, удивился, услышав, что ни одной не сохранилось. Его светлость спросил свидетеля, почему тот не сберег хотя бы одну или две из них, и узнал, что все они были сожжены, с тем чтобы избавить заколдованную от мучивших ее болей, чего нельзя было в полной мере добиться никакими иными средствами.
Некто Томас Айрленд показал, что, услышав несколько раз возле своего дома громкие кошачьи мяуканье и вой, он вышел наружу и спугнул животных, которые стаей побежали к избе Джейн Уэнем. Он клятвенно заверил суд, что мордочка одной из кошек была очень похожа на лицо Джейн Уэнем. Другой свидетель, Бёрвилл, дал аналогичные показания и поклялся, что часто видел кошку с лицом подсудимой. Когда однажды он был в спальне Энн Торн, туда вошло несколько кошек, в том числе вышеупомянутая. Этот свидетель хотел помочь суду гораздо более длинным рассказом, но был прерван судьей, который сказал, что изложенного вполне достаточно.
В свою защиту подсудимая сказала лишь, что «чиста перед законом». Затем ученый судья подытожил результаты судебного следствия, и присяжным осталось определить, являются ли заслушанные ими свидетельства достаточно веским основанием для лишения обвиняемой жизни. После долгого обсуждения они вынесли вердикт о ее виновности на основании свидетельских показаний. Тогда судья спросил их, признают ли они ее виновной в общении с дьяволом в обличье кошки. Премудрый старшина присяжных со всей серьезностью ответствовал: «Мы признаем ее виновной в сем». Далее просвещенный судья крайне неохотно перешел к вынесению смертного приговора, однако, приложив немалые усилия, в конечном итоге добился помилования, и несчастную старуху освободили.
В 1716 году одну женщину и ее дочь, которой было всего девять лет, повесили в Хантингдоне за то, что они-де продали души дьяволу и вызвали бурю, сняв чулки и взбив мыльную пену. Судя по всему, это были последние английские ведьмы, казненные по решению суда. С тех пор до 1736 года простой народ временами издавал прежний клич и не раз ставил под угрозу жизни безвинных женщин, подвергая их разного рода диким испытаниям, но уравновешенность тех, кто с высоты своего положения рано или поздно задает тон убеждениям и нравам неимущих слоев, постепенно меняла ситуацию к лучшему. Страх перед ведьмами перестал быть повальным и не покидал лишь тех, чей разум был опутан застарелыми предрассудками и темными суевериями. В 1736 году уголовный статут Иакова I был наконец исключен из свода законов и больше не пятнал репутацию страны. Отныне колдуны, предсказатели, чародеи и иже с ними подлежали только общепринятому наказанию, предусмотренному для мошенников и самозванцев, — тюремному заключению и выставлению к позорному столбу.
В Шотландии ведьмомания прошла в своем развитии через те же стадии и постепенно угасла по мере становления цивилизации. Прогресс, как и в Англии, шел медленно и вплоть до 1665 года почти не наблюдался. В 1643 году Высший церковный суд рекомендовал Тайному совету учредить постоянную комиссию, состоящую из «разумных дворян или государственных чиновников», для судебного преследования ведьм, число которых за последние годы, как утверждали, неимоверно возросло. В 1649 году было принято постановление, которое подкрепляло первоначальный статут королевы Марии Стюарт, объясняло некоторые неясные пункты последнего и предусматривало суровые наказания не только для самих ведьм, но и для всех, кто заключает с ними соглашения, пытаясь с их помощью либо проникнуть в тайны будущего, либо как-то навредить другим людям или их собственности. В течение последующих десяти лет массовое помешательство на почве ведовства было, возможно, более неистовым, чем когда-либо еще; в этот период было казнено свыше четырех тысяч осужденных. Это явилось следствием парламентского постановления и беспримерной жестокости судей; последние постоянно жаловались, что на месте двух однажды сжигаемых ими ведьм на следующий день появляется десять, и не понимали, что сами являются тому причиной. В 1659 году только в одном судебном округе, включающем Глазго, Эр и Стерлинг, были сожжены семнадцать несчастных, уличенных в заключении сделки с Сатаной. Был день (7 ноября 1661 года), когда Тайный совет отрядил в провинции как минимум четырнадцать следственных комиссий. В следующем году охота на ведьм была, по-видимому, уже не столь ожесточенной. В 1662–1668 годах, несмотря на то что упомянутые выше «разумные дворяне и государственные чиновники» по-прежнему судили и осуждали, перед Высшим уголовным судом Шотландии предстала только одна обвиняемая такого рода, да и та была оправдана. Тогда же за ложное обвинение одной женщины в ведовстве общественный укалыватель Джеймс Уэлш был приговорен к публичному прогону плетьми по улицам Эдинбурга — факт, сам по себе подтверждающий, что теперь суд высшей категории анализировал показания такого рода гораздо тщательнее, чем в былые годы. Просвещенный сэр Джордж Макензи, которого Драйден549 назвал «благородным умом Шотландии», прилагал все усилия, чтобы ввести в судебную практику то правило, что признания ведьм немногого стоят, а к показаниям укалывателей и других заинтересованных лиц следует относиться с недоверием и подозрением. Это противоречило устоявшейся практике и спасло много невинных жизней. Несмотря на то что он твердо верил и в древнее и в современное ему ведовство, он не закрывал глаза на зверства, ежедневно совершаемые именем правосудия. В своем труде по шотландскому уголовному праву, опубликованном в 1678 году, он пишет: «Мерзость сего преступления заставляет меня утверждать, что оно, как ни одно другое, подразумевает наличие исключительно веских доказательств; и я признаю виновными как истинных ведьм и ведунов, так и тех жестоких и слишком скорых на расправу судей, кои сжигают людей, сочтенных таковыми, тысячами». В том же году сэр Джон Клерк решительно отказался от членства в следственной комиссии на процессах по делам обвиняемых в ведовстве, аргументируя свое решение тем, что он «сам недостаточно искусный колдун, дабы точно определять виновность других». Воззрения сэра Джорджа Макензи нашли столь благосклонный прием у судей Сессионного суда550, что в 1680 году ему было поручено отчитаться перед ними о делах, заведенных на нескольких женщин, находившихся в тюрьме в ожидании судебного разбирательства. Сэр Джордж заявил, что против них нет никаких улик, кроме их собственных признаний, которые нелепы, противоречивы и исторгнуты пытками. Их немедленно освободили.
Следующие шестнадцать лет Сессионный суд ведьмовскими процессами не занимался. Ни одно из таковых за это время в протокол не внесено. Однако в 1697 году слушалось дело, равное по абсурдности любому из тех, что отличали мрачное царствование Иакова. Одиннадцатилетняя девочка по имени Кристиана Шо, дочь Джона Шо из Баргаррана, была припадочной и, обладая злобным нравом, обвинила свою служанку, с которой часто ссорилась, в том, что та навела на нее порчу. К несчастью, ей поверили. Подстрекаемая к рассказам о дьявольских напастях, якобы насылаемых служанкой, она в конечном итоге сочинила басню, в которой фигурировал двадцать один человек. Против них не было никаких улик, кроме измышлений лживого ребенка и признаний, сделанных ими под пытками, но на этом основании лорд Блентайр и остальные члены комиссии, специально назначенной Тайным советом для рассмотрения дела, осудили на смерть по меньшей мере пять женщин. Их сожгли на лугу в Пейсли. Проходивший по делу колдун, некий Джон Рид, также приговоренный к сожжению, повесился в тюрьме. Жители Пейсли были убеждены в том, что его повесил сам дьявол, дабы он перед смертью не открыл множество нечистых секретов ведовства. Этот процесс вызвал бурное негодование большинства шотландцев. Преподобный м-р Белл, один из авторов той поры, отметил, что в данном случае «в ведовстве обвинялись лица, более добродетельные и достойные, нежели большинство тех, кто их оклеветал». Он добавляет, что с наибольшим усердием за вынесение обвинительного приговора ратовали «отдельные священники, известные излишним рвением и легковерием, и некоторые заправские ведьмоловы из Глазго и его окрестностей»551.
После этого процесса имел место еще один, на сей раз семилетний перерыв в гонениях, после чего вниманием общественности завладела зверская жестокость толпы в Питтенуине. Двух женщин обвинили в том, что они заколдовали нищего бродягу, который был припадочным или притворялся таковым с целью вызвать к себе сострадание. Их бросили в тюрьму и пытали, пока они не признались. Одна из них, Дженет Корнфут, совершила побег, но на следующий день была схвачена отрядом солдат и доставлена обратно в Питтенуин. На подходе к городу она, к несчастью для себя, была встречена разъяренной толпой, состоявшей преимущественно из рыбаков и их жен, которые схватили несчастную, чтобы испытать ее на плавучесть. Они отвели ее на берег моря, обвязали канатом и прикрепили другой его конец к мачте стоявшего у пристани рыболовного судна. Затем ее несколько раз окунули в воду. Когда женщина была уже полумертвой, моряк на судне обрубил канат и толпа вытащила ее на берег. Затем какой-то дюжий головорез притащил дверь от своей хижины и положил ее бесчувственной женщине на спину. Толпа собирала на берегу крупные камни и наваливала их на дверь до тех пор, пока несчастную не раздавило насмерть. Местные власти на это никак не отреагировали; что до солдат, то они с удовольствием наблюдали за происходящим. Эта достойная наказания нерадивость вызвала громкий общественный протест, но никакого расследования так и не провели. Это произошло в 1704 году.
Следующим судебным делом, о котором мы узнаéм, является дело Элспет Рул, признанной виновной в ведовстве лордом Анструзером в округе Дамфрис в 1708 году. Она была приговорена к клеймению щеки каленым железом и изгнанию из королевства Шотландия до конца жизни.
И вновь наступило длительное затишье. В 1718 году отдаленное графство Кейтнесс, где заблуждение годами пребывало в своем первозданном виде уже после того, как оно сошло на нет на остальной территории страны, было вновь потрясено сообщением о ведовстве. Один простодушный плотник, Уильям Монтгомери, смертельно ненавидел кошек; и именно эти животные по той или иной причине повадились устраивать на его заднем дворе свои «концерты». Он долго ломал голову над тем, почему из всех жителей данной местности именно он удостоился таких мучений. Наконец пришел к глубокомысленному заключению, что его истязают не кошки, а ведьмы. Это мнение разделяла его служанка, которая клялась, что часто слышала, как вышеупомянутые кошки разговаривают друг с другом человеческими голосами. Когда в следующий раз незадачливые твари собрались в излюбленном месте, доблестный плотник был начеку. Вооруженный топором, шотландским кинжалом и палашом, он набросился на кошек. Одной из них он поранил спину, другой — бедро, третьей изувечил топором лапу, но ни одной не поймал. Несколько дней спустя в приходе умерли две пожилые женщины, и говорили, что при осмотре тел на спине одной из них был обнаружен след от недавнего ранения и найден похожий рубец на бедре другой. Плотник и его служанка были уверены, что это те самые кошки, и об этом принялось судачить все графство. Люди настороженно ждали подтверждения зловещей молвы дополнительными фактами, и вскоре всеобщее ожидание было удовлетворено. Стало известно, что Нэнси Гилберт, убогая старуха более чем семидесяти лет от роду, лежит в постели со сломанной ногой. Поскольку она была достаточно уродливой для ведьмы, утверждали, что она является одной из тех кошек, которым так сильно досталось от плотника. Последний, узнав о массовом подозрении, заявил, что отчетливо помнит, что нанес одной из кошек удар тупой стороной палаша и, должно быть, сломал ей ногу. Нэнси незамедлительно вытащили из постели и бросили в тюрьму. Прежде чем ее стали пытать, она дала вполне естественное и логичное объяснение перелому ноги; но к ее рассказу отнеслись с недоверием. Профессиональные ухищрения палача заставили ее рассказать другую историю, и она созналась, что действительно является ведьмой, раненной Монтгомери в указанную ночь, и что две недавно умершие женщины тоже были ведьмами, как и еще около двадцати человек, которых она назвала. Муки оторванной от дома и подвергнутой пытке бедной женщины были таковы, что на следующий день она скончалась в тюрьме. К счастью для тех, кого она оговорила в своем признании, Дандас из Арнистона, в то время генерал-адвокат короны, написал помощнику главного судьи графства, некоему капитану Россу из Литлдина, письмо, в котором предостерег его от начала судебного разбирательства, «слишком сложного и находящегося вне юрисдикции нижестоящего суда». Сам Дандас очень тщательно изучил протокол предварительного допроса свидетелей и был настолько убежден в явной вздорности всего дела, что наложил запрет на всякое дальнейшее судопроизводство по нему.
Мы узнаéм, что через четыре года тот же помощник главного судьи графства Кейтнесс принял самое непосредственное участие в другом ведьмовском процессе. Невзирая на полученное ранее предупреждение о том, что впредь все дела такого рода подлежат рассмотрению исключительно судами высшей категории, он приговорил к смертной казни одну старуху из Дорноха, обвиненную в насылании порчи на соседских коров и свиней. Эта бедная женщина была сумасшедшей; она смеялась и хлопала в ладоши при виде разведенного для нее «веселого огня». У нее была дочь с изувеченными руками и ногами, и один из пунктов обвинения гласил, что она использовала дочь как пони для поездок на шабаши и что дьявол собственноручно подковал ее и сделал калекой.
Это была последняя казнь ведьмы в Шотландии. В 1736 году соответствующие уголовные законы были отменены, и, как и в Англии, единственными наказаниями, допустимыми к применению в отношении всевозможных магов и колдунов, были объявлены порка, выставление к позорному столбу и тюремное заключение.
Однако мрачное суеверие еще много лет цеплялось за жизнь и в Англии и в Шотландии и в ряде районов далеко не изжило себя и по сей день. Но прежде чем мы проследим его историю после, если можно так выразиться, юридической смерти, нам придется взглянуть на ужасающее опустошение, произведенное им в материковой Европе с начала XVII до середины XVIII века. Больше всего от него пострадали Франция, Германия и Швейцария. Число тех, кто стал его жертвами в этих странах в XVI веке, читателю уже известно, но в начале XVII оно было так велико, особенно в Германии, что, не будь документально подтверждено официальными судебными протоколами, было бы почти невозможно поверить, что люди могли быть ввергнуты в такое заблуждение и безумие. Как выразился ученый и неутомимый Хорст552, «мир, казалось, походил на огромный сумасшедший дом, где выкидывают свои номера ведьмы и бесы». Бытовало поверье, что Сатана готов по первому требованию любого человека поднять вихрь, навлечь молнию, принести вред растениям и животным или подорвать здоровье и поразить параличом конечности людей. Эту веру, столь оскорбительную для величия и милосердия Создателя, разделяли и самые набожные представители духовенства. Те, кто в утренних и вечерних молитвах обращался к единственному истинному Богу и восхвалял Его ради благотворного влияния на сев и урожай, были уверены, что людям, легко поддающимся соблазну, ничего не стоит заключить соглашение с силами преисподней, дабы нарушать Его законы и препятствовать исполнению Его милосердных желаний. Эту унизительную доктрину провозглашали все папы, сменявшие друг друга по нисходящей линии, начиная с Иннокентия VIII, и она так быстро приобретала новых сторонников, что общество казалось разделенным на две большие группы — заколдовывающих и заколдовываемых.
В следственную комиссию, назначенную Иннокентием VIII для судебного преследования ведьм в Германии, входили Якоб Шпренгер, печально известный своим трудом по демонологии под названием «Malleus Maleficarum», ученый юрисконсульт Генрих Инститорис553 и епископ Страсбургский. Члены комиссии «отправляли правосудие» главным образом в Бамберге, Трире, Кёльне, Падерборне и Вюрцбурге и в общей сложности, по самым скромным подсчетам, отправили на костер свыше трех тысяч несчастных. Количество «ведьм» росло с такой быстротой, что в Германии, Франции и Швейцарии постоянно назначались новые комиссии. В Испании и Португалии ведьмовские процессы были прерогативой инквизиции. Поиск документальных материалов о деятельности этих мрачных, но, к счастью, больше не существующих трибуналов554 — дело бесперспективное; но даже приблизительная оценка числа их жертв повергает в ужас.
О том, как проводились такие процессы в других странах, известно намного больше. Немец Шпренгер и французы Боден и Дельрио оставили после себя великое множество записей о зверствах, творимых, разумеется, во имя правосудия и религии. Боден, пользовавшийся в XVII веке огромным авторитетом и влиянием, пишет: «Судебное разбирательство по делу о сем преступлении должно проводиться особым образом. Тот, кто в подобных случаях придерживается общепринятого порядка отправления правосудия, извращает самый дух закона — как божественного, так и человеческого. Обвиняемым в ведовстве нельзя выносить оправдательный приговор, если только не яснее ясного преступный умысел обвинителя, ибо раздобыть веские доказательства совершения сего таинственного преступления так трудно, что из миллиона ведьм, следуя общей методе, нельзя было бы осудить ни одну!» Охотник за ведьмами Анри Боге, именовавший себя Великим судьей ведьм на территории прихода Сен-Клод, составил свод правил преследования таковых, который состоит из семидесяти статей и не уступает в жестокости кодексу Бодена. В этом документе он утверждает, что одно лишь подозрение в ведовстве является достаточным основанием для немедленного ареста и пытки подозреваемого. Если арестованный, пишет он, бормочет, глядит в пол и совсем не плачет, то все эти признаки являются несомненными доказательствами его вины! Согласно Боге, во всех делах о ведовстве следует принимать во внимание свидетельства детей против родителей; показания лиц с дурной репутацией, клятвам которых нельзя доверять при разрешении обычных спорных вопросов, должны иметь законную силу, если они клянутся, что кто-то наслал на них порчу! Кто, узнав, что эта дьявольская доктрина была повсеместно принята на вооружение светскими и церковными властями, удивится тому, что тысячи и тысячи несчастных отправлялись на костер, что в Кёльне на протяжении многих лет сжигали по триста ведьм ежегодно, что в приходе Бамберг данная цифра равнялась четыремстам, а в Нюрнберге, Женеве, Париже, Тулузе, Лионе и ряде других городов — двумстам?
Можно упомянуть некоторые из этих процессов, придерживаясь хронологии их проведения в разных частях материковой Европы. В 1595 году жители одной из деревень неподалеку от Констанца слышали, как их односельчанка, разозленная тем, что ее не пригласили принять участие в народных гуляниях по случаю праздника, бормотала что-то себе под нос, и позднее видели, как она шла полями к холму, где пропала из виду. Примерно через два часа началась сильная гроза, в результате чего танцоры промокли до нитки и был нанесен значительный ущерб сельскохозяйственным угодьям. Эту женщину, которую и раньше подозревали в ведовстве, схватили, посадили в тюрьму и обвинили в том, что она вызвала грозу, наполнив ямку в земле вином и помешав его палочкой. Ее пытали, пока она не призналась в содеянном, и на следующий вечер сожгли заживо.
Примерно в то же самое время двоих жителей Тулузы обвинили в том, что они в полночь протащили по улицам распятие, время от времени останавливаясь, чтобы плевать на него и пинать ногами, и произнося в промежутках заклинание, чтобы вызвать дьявола. На следующий день буря с градом серьезно повредила сельскохозяйственные культуры, и дочка одного из городских сапожников вспомнила, что слышала ночью проклятия колдунов. Ее рассказ повлек за собой арест подозреваемых. Были использованы обычные средства для получения признаний. Колдуны признались, что могут поднимать бури, когда им этого хочется, и назвали несколько человек, обладающих подобными способностями. Они были повешены и затем сожжены на рыночной площади; семеро из упомянутых ими людей разделили их участь.
В 1599 году были казнены Хоппо и Штадлин, два известных колдуна из Германии. Согласно обвинительному заключению, они вовлекли в свои преступные козни от двадцати до тридцати ведьм, которые занимались тем, что вызывали у женщин выкидыши, низвергали молнии с неба и заставляли непорочных дев производить на свет жаб. Последний пункт был подтвержден клятвенными заверениями нескольких юных потерпевших! Штадлин признался, что убил семь младенцев в утробе одной женщины.
Боден высоко оценивает деятельность французского охотника за ведьмами Ниде, который добился осуждения столь многих, что сбился со счета. Одни из этих ведьм одним словом заставляли людей падать замертво, другие продлевали женщинам беременность с девяти месяцев до трех лет, а третьи посредством определенных заклинаний и ритуалов поворачивали лица своих врагов вверх ногами или перемещали их на затылки. Хотя ни одного свидетеля, который бы это подтвердил, так ни разу и не нашлось, ведьмы сознавались, что могли это делать и делали. Для отправки их на костер больше ничего и не требовалось.
В Амстердаме одна сумасшедшая девушка призналась, что способна вызывать бесплодие у крупного рогатого скота и наводить порчу на свиней и домашнюю птицу, просто произнося волшебные слова «Turius und Shurius Inturius!». Ее повесили и сожгли. Другая жительница того же города, Корнелис ван Пурмерунд, была арестована на основании разоблачений, сделанных первой. Некая свидетельница, давая показания, сообщила, что однажды посмотрела в окно лачуги обвиняемой и увидела, что та сидит у огня и что-то неразборчиво говорит дьяволу. Она была уверена, что собеседником Корнелис является дьявол, потому что услышала, как тот ей ответил. Немногим позже прямо из пола появились четыре черные кошки, протанцевавшие вокруг ведьмы на задних лапах около получаса. Затем они исчезли со страшным грохотом, оставив после себя неприятный запах. Корнелис также была повешена и сожжена.
В Бамберге, что в Баварии, с 1610 по 1640 год казнили порядка ста ведьм ежегодно. Одна подозреваемая в ведовстве женщина была задержана потому, что ребенок, красоту которого она расхвалила до небес, вскоре после этого заболел и умер. На дыбе она призналась, что дьявол наделил ее силой причинять зло тем, кого она ненавидит, произнося лестные слова в их адрес. Если она с излишней горячностью восклицала «Ай да силач!», «Ай да красавица!», «Ай да милое дитя!», дьявол понимал, чего она хочет, и тотчас поражал объекты мнимого восторга болезнями. Каким был конец этой несчастной, догадаться нетрудно. Многие женщины были казнены за внедрение посторонних предметов в тела тех, кто их раздражал. Такими предметами обычно являлись кусочки дерева, гвозди, волосы, яичная скорлупа, стекляшки, обрывки белья и даже горячая зола и ножи. Бытовала вера, что они остаются в теле до тех пор, пока ведьмы не признаются или не будут казнены, и тогда выходят из кишечника, изо рта, из носа или из ушей. Современная медицина знает немало случаев, когда девушки глотали иголки, которые затем выходили из рук, ног и других частей тела. Но ученые того времени расценивали эти необычные явления не иначе как вмешательство дьявола, и каждая иголка, проглоченная какой-либо служанкой, стоила жизни какой-нибудь старухе. Мало того, если в результате было не больше одной осужденной, жительницы прихода могли считать, что им повезло. Следователи редко ограничивались одной жертвой. Разоблачения, сделанные на дыбе, охватывали в большинстве случаев не меньше десятка.
Из всех дошедших до нас отчетов о ведьмовских процессах самым страшным является тот, что относится к Вюрцбургскому делу 1627–1629 годов. Хаубер, который приводит список осужденных по нему в книге «Acta et Scripta Magica», отмечает в послесловии, что тот далеко не полон и что всего было сожжено так много людей, что перечислить всех просто невозможно. Данный отчет, относящийся только к городу, а не ко всей провинции Вюрцбург, содержит имена ста пятидесяти семи осужденных, сожженных за два года на двадцати девяти казнях, в среднем по пять-шесть человек за казнь. В списке среди прочих значатся три комедианта, четыре трактирщика, три члена муниципального совета, четырнадцать священников кафедрального собора, жена бургомистра, жена и дочь аптекаря, два соборных певчих, Гёбель Бабелин — самая красивая девушка в городе, а также жена, два малолетних сына и дочь муниципального советника Штольценберга. Одна и та же участь постигла богатых и бедных, молодых и старых. Во время седьмой из означенных казней был сожжен двенадцатилетний мальчик-бродяга и четверо неизвестных мужского и женского пола, найденных спящими на рыночной площади. Тридцать два человека из общей массы были, по-видимому, скитальцами обоего пола, которые, не сумев дать удовлетворительного объяснения относительно рода своих занятий, были обвинены в ведовстве и признаны виновными. Количество детей в списке ужасает. На тринадцатой и четырнадцатой казнях сожгли четверых — девятилетнюю девочку, ее еще более малолетнюю сестру, их мать и тетю, прелестную молодую женщину двадцати четырех лет. Жертвами восемнадцатой казни стали двое мальчиков двенадцати лет и пятнадцатилетняя девочка, а девятнадцатой — девятилетний наследник знатного рода Ротенханов и двое других мальчиков, одному из которых было десять, а другому — двенадцать лет. В списке значатся Баунах и Штайнахер — самый толстый и самый богатый вюрцбуржцы. Поддержанию мании в Вюрцбурге, как и на остальной территории Европы, способствовали добровольные признания в ведовстве, сделанные ипохондриками и психически больными людьми. Некоторым жертвам из списка не приходилось винить в своей судьбе никого, кроме самих себя. К тому же многие, включая вышеупомянутых жену и дочь аптекаря, называли себя колдуньями, торгуя при этом ядами или пытаясь с помощью заклинаний вызвать дьявола. Тем не менее на протяжении всего Вюрцбургского процесса обвиняемые находились в плену суеверия не меньше судей. Растленные особы, которые при обычных обстоятельствах стали бы ворами или убийцами, добавляли к своим порокам страстное желание колдовать, надеясь добиться либо власти над ближними, либо безнаказанности под защитой Сатаны. Одной из тех, кого сожгли во время первой казни, была проститутка, которую застали за произнесением заклинания, посредством которого, как полагали, можно вызвать дьявола в образе козла. Хорст приводит этот превосходный образчик человеческой глупости в своей «Библиотеке колдовства». Вот эта белиберда, которую-де следует произносить медленно, выполняя множество обрядов и манипуляций:
Лалле, Бахера, Маготте, Бафиа, Даям,
Вагот Ханехе Амме Нагаи, Адоматор
Рафаэеь Иммануил Христус,
Гетраграмматон
Агра Йод Лой. Король! Король!
Считалось, что последние два слова, весьма угодные Сатане, который любит, чтобы его называли королем, нужно выговаривать быстро, повышая голос до пронзительного крика. Если же сразу после этого он не появляется, необходимо произнести еще одну магическую формулу. Эта абракадабра, которой придавалось огромное значение и которую, за исключением двух последних слов, следует произносить наоборот, звучит так:
Анион, Лалле, Саболос, Садо, Патер, Азиель
Адонай Садо Вагот Агра, Йод,
Бафра! Приди! Приди!
Полагали, что ведьме, которая хочет отделаться от дьявола, порой затягивающего свои визиты до бесконечности, достаточно произнести опять же наоборот, но на сей раз — от начала до конца, следующее заклинание, после чего нечистый, как правило, исчезает, оставляя после себя удушливый запах:
Целианелле Хеотти Бонус Вагота
Плисос сотер озех уникус Беельцебуб
Дакс! Приди! Приди!
Эта тарабарщина вскоре стала известна всем праздношатающимся и дурашливым мальчишкам Германии. Многие несчастные обитатели улиц, повторявшие ее ради забавы, поплатились за недомыслие жизнью. Трое таковых, в возрасте от десяти до пятнадцати лет, были заживо сожжены в Вюрцбурге только за это. И, разумеется, все остальные мальчики в городе еще больше уверовали в силу заклинания. Один из них признался, что добровольно продал бы душу дьяволу, если бы смог его вызвать, за каждодневный хороший обед со сладкими пирогами и лошадку для верховой езды. Вместо того чтобы выпороть охочего до удовольствий юнца за глупость, его повесили и сожгли.
По числу сожженных ведьм небольшой Линдгеймский приход приобрел, если такое возможно, даже более дурную славу, чем Вюрцбург. В 1633 году там была разоблачена и сожжена с тремя сообщницами знаменитая ведьма Анна Помп, которая якобы поражала своих врагов болезнями, просто взглянув на них. Ежегодно в данном приходе, где проживало не более тысячи человек, сжигали в среднем по пять ведьм. С 1660 по 1664 год это число равнялось тридцати. Если бы эта жуткая пропорция действовала на территории всей Германии, вряд ли тогда хоть одна немецкая семья не потеряла бы хоть одного из своих членов.
В 1627 году в Германии была очень популярна сатирическая песенка под названием «Druten Zeitung», то есть «Газета ведьм». Она, согласно титульному листу экземпляра, отпечатанного в 1627 году в Смалькальде, представляет собой «рассказ об удивительных событиях, имевших место во Франконии, в Бамберге и Вюрцбурге, тех жалких людишках, кои от жадности иль честолюбия продались дьяволу, и о том, как они в итоге были вознаграждены; положен на музыку и подлежит исполнению под мелодию Доротеи». В ней весьма детально изображаются страдания ведьм на костре; описывая жуткие гримасы боли на их лицах и вопли, которыми сжигаемые живьем сотрясали воздух, поэт дает волю остроумию. Низменная уловка, к которой прибегнули для того, чтобы заставить одну ведьму сделать признание, расценивается в этих виршах как исключительно удачная шутка. Эта женщина никак не хотела сознаваться в сговоре с силами зла, и следователи предложили палачу нарядиться в медвежью шкуру, нацепить рога, хвост и прочие дьявольские атрибуты и в таком виде войти к ней в темницу. Несчастная, не сумев во мраке тюремной камеры распознать обман, стала жертвой собственных суеверных страхов. Она решила, что перед ней сам повелитель преисподней, и, когда лжедьявол велел ей не падать духом и предложил избавление от власти недругов, встала перед ним на колени и поклялась впредь служить ему телом и душой. Германия, возможно, единственная европейская страна, где масштабы ведьмомании были так велики, что столь отвратительный стишок сумел завоевать любовь народа:
Man shickt ein Henkersknecht
Zu ihr in Gefîängniss n’unter,
Den man hat kleidet recht,
Mit einer Bärnhaute,
Als wenns der Teufel wär;
Als ihm die Drut anschaute
Meints ihr Buhl kam daher.
Sie sprach zu ihm behende,
Wie lässt du mich so lang
In der Obrigkeit Hände?
Hilf mir aus ihren Zwang,
Wie du mir hast verheissen,
Ich bin ja eben dein,
Thu mich aus der Angst entreissen
O liebster Buhle mein!555
Далее несравненный поэт сообщает, что, обращаясь к палачу с просьбой о помощи, ведьма и не помышляла о том, что ей суждено стать куском жареного мяса, и предваряет сей комментарий словами: «Ну разве не потеха!» («Was das war für ein Spiel!») Как брошенные в воздух перья указывают направление ветра, так и эта дрянная песенка характеризует состояние умов на момент ее сочинения.
Все любители истории знают о знаменитом суде над Марешаль д’Анкр, казненной в Париже в 1617 году. Хотя ведовство и было одним из пунктов выдвинутого против нее обвинения, к смерти ее приговорили главным образом за то, что она использовала в своих интересах Марию Медичи, оказывая тем самым косвенное влияние на безвольного Людовика XIII. Ее кучер показал, что как-то в полночь в одной из церквей она принесла в жертву петуха, а другие свидетели поклялись, что видели, как она тайком ходила к известной ведьме Изабелле. Когда подсудимую спросили, что помогало ей оказывать столь необычно большое влияние на мать наследника престола, она бесстрашно ответила, что не имела над ней никакой иной власти, кроме той, что сильный ум всегда имеет над слабым. Она умерла, проявив недюжинную твердость духа.
Два года спустя в Лабуре, у подножия Пиреней, произошли события, оказавшиеся намного ужаснее всех тех, что когда-либо прежде имели место во Франции. Парламент Бордо, шокированный числом ведьм, заполонивших, согласно утверждениям, Лабур и его окрестности, отрядил для выяснения обстоятельств одного из своих членов, знаменитого Пьера Деланкра, и своего председателя Эспеньеля, наделив их всей полнотой власти для наказания преступников. Они прибыли в Лабур в мае 1619 года. Впоследствии Деланкр написал книгу, в которой выставил на всеобщее обозрение все свои тогдашние «подвиги», совершенные в битве с «силами зла». Она полна мракобесия и абсурда, но на приведенные в ней фактические данные о количестве судебных процессов и казней и сообщения о необычных признаниях, исторгнутых пыткой у несчастных подследственных, вполне можно положиться.
Причину того, что Лабур стал пристанищем для множества ведьм, Деланкр видит в том, что местность, где это случилось, является гористой и неплодородной! Многих из них он распознавал по пристрастию к курению табака. Из этого можно заключить, что он разделял точку зрения короля Иакова, считавшего табак «дьявольским сорняком». На начальной стадии расследования комиссия судила примерно по сорок человек в день. Количество оправдательных приговоров в среднем не составляло и 5%. Все ведьмы признавались в том, что посещали великие домданиели, или шабаши. На этих оргиях дьявол восседал на большом позолоченном троне; иногда он был в образе козла, иногда — одетого во все черное дворянина в сапогах со шпорами и со шпагой, а чаще всего выглядел как бесформенная масса, наподобие ствола расщепленного молнией дерева, неясно виднеющегося в темноте. Обычно ведьмы отправлялись на домданиель, оседлав вертела, вилы или помелья, а по прибытии предавались вместе с демонами кутежу и разврату. Как-то раз они имели наглость устроить нечестивое празднество в самом центре Бордо. Трон князя тьмы стоял в середине Гальенской площади, заполненной до отказа ведьмами и колдунами, прибывшими из самых разных мест, даже из далекой Шотландии.
Уже двести бедняг были повешены и сожжены, а число подсудимых все не уменьшалось. Многих из них, растянутых на дыбе, спрашивали, что сказал Сатана, когда узнал, что члены комиссии действуют столь сурово. Они, как правило, отвечали, что это его, похоже, не слишком заботит. Некоторые заявляли, что имели смелость упрекнуть его в том, что он позволил казнить их подруг, говоря: «Стыдись, лживый дьявол; ты обещал, что они не умрут! Вот, значит, как ты сдержал слово! Они сожжены и стали кучей пепла!» Подобные упреки дьявола не обижали: распорядившись прервать увеселения на домданиеле и явив взорам присутствующих иллюзорные, необжигающие костры, он побуждал их пройти сквозь огонь и утверждал, что костры, зажигаемые палачом, не более болезненны. Затем ведьмы вопрошали, где же находятся их подруги, если те живы, на что прародитель лжи неизменно отвечал, что они счастливо живут в далекой стране, видя и слыша все происходящее, и что если присутствующие назовут по имени тех, с кем хотят поговорить, то услышат в ответ их голоса. Далее Сатана столь удачно подражал голосам покойных ведьм, что вся аудитория поддавалась на обман. После того как он отвечал на все протесты, оргии возобновлялись и длились до первых петухов.
Кроме того, Деланкр проявил изрядное усердие, решая судьбу психически больных людей, судимых за ликантропию. Некоторые арестованные без всяких пыток сознались в том, что они оборотни, которые нападали по ночам на овец и рогатый скот, убивали и пожирали. Один юноша из Безансона, полностью осознавая, сколь страшная участь ему уготована, добровольно сдался члену комиссии Эспеньелю и признался, что является слугой могущественного демона, который известен как Повелитель Лесов и регулярно превращает его в подобие волка. Повелитель Лесов принимал такое же обличье, но был гораздо крупнее, свирепее и сильнее. В полночные часы они вдвоем рыскали вблизи пастбищ, душили охранявших отары сторожевых собак и убивали больше овец, чем могли съесть. По словам молодого человека, он получал от этих вылазок огромное наслаждение и, разрывая клыками теплое овечье мясо, выл от переполнявшей его радости. Этот юноша был не одинок в ужасном признании; многие другие добровольно сознавались, что они оборотни, и гораздо больше людей делали это под пыткой. Такие преступления считались слишком отвратительными, чтобы совершивших их можно было вешать и затем сжигать, поэтому в большинстве случаев оборотней приговаривали к сожжению заживо с развеиванием пепла по ветру. Степенные и ученые доктора богословия открыто подтверждали возможность подобных метаморфоз, ссылаясь главным образом на библейское предание о вавилонском царе Навуходоносоре. Веря, что тот превращался в быка, они не могли допустить, что их современники не способны с Божьего дозволения и благодаря способности, дарованной дьяволом, становиться волками. Они также заявляли, что признание обвиняемого в достаточной мере свидетельствует о его виновности и не требует наличия других доказательств. Дельрио сообщает, что одного обвиняемого в ликантропии дворянина пытали не менее двадцати раз, но он все никак не признавался. Тогда ему дали выпить какого-то опьяняющего зелья, под воздействием которого он сознался, что является оборотнем. Дельрио приводит этот эпизод, чтобы продемонстрировать исключительную беспристрастность следователей. Они никогда не сжигали человека, не получив от него признание; и если одной пытки было для этого недостаточно, а подопечный еще не был полностью изможден, его пытали снова и снова, хоть двадцать раз! Если уж такие зверства совершались во имя веры, мы вправе воскликнуть:
Quel lion, quel tigre égale en cruauté,
Une injuste fureur qu’arme la piété?556
Процесс над злосчастным Урбеном Грандье — священником из Лудена, якобы заколдовавшим обитательниц монастыря сестер-урсулинок этого городка, — был, как и в случае с Марешаль д’Анкр, возбужден по обвинению, к которому прибегнули, дабы погубить противника самым доступным законным путем. Это громкое дело, которое несколько месяцев держало в напряжении Францию и истинная подоплека которого была известна даже в то время, заслуживает в контексте нашего повествования лишь беглого упоминания. Его породила не патологическая боязнь колдовства, столь распространенная в ту пору, а злобные интриганы, поклявшиеся сжить врага со свету. В 1634 году опровергнуть подобное обвинение было невозможно; обвиняемый не мог, если перефразировать Бодена, «сделать яснее ясного преступный умысел обвинителей», и отрицание им своей вины, сколь угодно вразумительное, честное и откровенное, было не в состоянии перевесить свидетельства безумных женщин, считавших себя заколдованными. Чем нелепее и противоречивее были их показания, тем весомее казался тот аргумент его оппонентов, что монашки одержимы бесами. Он был сожжен заживо и умер в страшных муках557.
Редкостный случай повального страха перед ведовством произошел в 1639 году в Лилле. Набожная, но не совсем психически нормальная дама Антуанетт Буриньон открыла в этом городе школу для девочек. Однажды, войдя в классную комнату, она вообразила, что видит большое количество черных ангелочков, витающих над головами детей. Не на шутку встревоженная, она рассказала об этом ученицам и велела им остерегаться дьявола, чьи бесы парят над ними. Глупая женщина повторяла эту историю изо дня в день, и Сатана с его слугами стали единственной темой для разговоров не только между девочками, но и между ними и учителями. Вскоре одна из учениц сбежала из школы. Когда ее вернули обратно и допросили, она сказала, что не убегала, а была унесена дьяволом и что она — ведьма с тех пор, как ей исполнилось семь лет. Услышав это заявление, некоторые другие школьницы стали корчиться в судорогах, а придя в себя, признались, что они тоже ведьмы. В конце концов все они, в количестве пятидесяти, запудрили друг дружке мозги до такой степени, что сделали коллективное признание в ведовстве и поведали, что посещают домданиели, или сборища демонов, летают по воздуху на помельях, лакомятся плотью младенцев и могут проползать через замочные скважины.
Жителей Лилля эти разоблачения поразили. Духовенство поспешило начать расследование; многие священники, надо отдать им должное, открыто заявили, что все это дело не стоит выеденного яйца, — многие, но не большинство, которое энергично настаивало на том, что признания детей имеют законную силу и что нужно сжечь их всех как ведьм в назидание другим. Несчастные родители со слезами на глазах умоляли следователей-капуцинов сохранить жизнь их юным чадам и настойчиво утверждали, что те — не ведьмы, а жертвы ведовства. Это мнение в конечном счете и одержало верх. Антуанетт Буриньон, вбившая детям в головы абсурдные и опасные мысли, была обвинена в ведовстве и допрошена следственной комиссией. Обстоятельства дела представлялись настолько неблагоприятными для нее, что она решила не дожидаться повторного допроса. Изменив, насколько это было в ее силах, внешность, Буриньон поспешно убралась из Лилля, избежав преследования. Останься она в городе еще на четыре часа, ее сожгли бы по приговору суда как ведьму и еретичку. Остается надеяться, что она, независимо от дальнейшего местопребывания, осознала всю опасность вторжения в неокрепшие детские души и что ей больше никогда не доверяли работу с детьми.
Герцог Брауншвейгский и курфюрст Майнцский были поражены исключительной жестокостью, практикуемой при пытках подозреваемых в ведовстве, и убеждены в том, что ни один добродетельный судья не сочтет исторгнутое болью и противоречивое по сути признание доказательством, достаточно веским для казни обвиняемого. Сообщается, что герцог Брауншвейгский пригласил в свой дом двух ученых иезуитов, известных своим непримиримым отношением к ведьмам, чтобы продемонстрировать им жестокость и нелепость существующих методов допроса. В городской темнице как раз находилась женщина, обвиняемая в ведовстве, и герцог, предварительно проинструктировав штатных палачей, отправился туда с двумя иезуитами, чтобы услышать ее признание. Отвечая на серию искусных наводящих вопросов, бедняжка, испытывая крайние мучения и повинуясь принуждению, призналась, что часто посещала шабаши демонов на Брокене; что видела там двоих иезуитов, приобретших своими гнусностями дурную славу даже среди ведьм; что видела, как они принимали образы козлов, волков и других животных, и что многие известные ведьмы рожали от них за раз по пять, шесть и семь детей с жабьими головами и паучьими ногами. Когда ее спросили, далеко ли означенные иезуиты, она ответила, что те в комнате, рядом с ней. Герцог Брауншвейгский увел своих изумленных друзей прочь и рассказал им про свою уловку. Для обоих, знавших о своей невиновности и содрогавшихся при мысли о том, что их ожидало бы, вложи в уста обвиняемой подобное признание не друг, а враг, услышанное явилось убедительным доказательством того, что тысячи людей страдают безвинно. Одним из иезуитов был Фридрих Шпее, автор изданной в 1631 году книги «Cautio Criminalis»558. Этот труд, вскрывающий ужасную подноготную ведьмовских процессов, оказался для Германии исключительно благотворным: Шонбрунн, архиепископ и курфюрст Майнцский, полностью запретил пытки в своих владениях, и его примеру последовали герцог Брауншвейгский и другие владетельные князья. Число подозреваемых в ведовстве тут же сократилось, и накал мании стал ослабевать. В 1654 году курфюрст Бранденбургский издал в отношении дела подозреваемой Анны из Эллерброка рескрипт559, запрещающий применение пыток и заклеймивший испытание ведьм на плавучесть как несправедливое, жестокое и обманчивое.
Это было началом рассвета после затянувшейся тьмы. Суды больше не приговаривали к смерти сотни ведьм ежегодно. В Вюрцбурге — этом городе ведьмовских костров — теперь сжигали только по одной ведьме в год, тогда как сорок лет назад казнили по шестьдесят. С 1660 по 1670 год суды курфюршеств постоянно заменяли выносимые провинциальными трибуналами смертные приговоры пожизненным заключением или клеймением на щеке.
Более взвешенное мировосприятие постепенно избавляло массовое сознание от иллюзий. Ученые мужи освобождались от пут разлагающего суеверия, а власти — как светские, так и церковные — боролись с заблуждением, которое прежде так долго поощряли. В 1670 году парламент Нормандии осудил нескольких женщин на смерть по традиционному обвинению в полете на домданиель верхом на помельях, но Людовик XIV заменил приговор пожизненной ссылкой. Парламент выразил протест, направив королю нижеследующий примечательный запрос. Читатель, вероятно, будет рад ознакомиться с этим документом, который приводится полностью. Он важен тем, что представляет собой последнюю попытку законодательного собрания защитить массовое заблуждение; используемые в нем аргументы и приводимые примеры в высшей степени любопытны. Тот факт, что Людовик XIV не поддался на увещевания, делает ему честь.
«Запрос парламента Руана, направленный королю в 1670 году
Сир, ободряемые переданною Вашим Величеством в наши руки в провинции Нормандия властью судить и карать за преступления, и более всего за преступления ведьмовской природы, угрожающие религии гибелью, а народам — разорением, мы, Ваш парламент, выражаем Вашему Величеству скромный протест в отношении ряда дел такого рода, недавно нами рассмотренных. Мы не можем оставить письмо, отправленное с соизволения Вашего Величества генеральному прокурору сей провинции с целью отсрочки приведения в исполнение смертного приговора, вынесенного некоторым обвиняемым в ведовстве, и приостановки судопроизводства по ряду других дел, без внимания и не указать на возможные последствия. То же самое относится к письму от Вашего статс-секретаря, выражающему намерение Вашего Величества заменить означенным преступницам смертную казнь пожизненною ссылкой и предоставить генеральному прокурору и наиболее ученым членам парижского парламента решать, должны ли мы, руанский парламент, рассматривая дела о ведовстве, придерживаться судебной практики парижского парламента и других парламентов королевства, отличной от нашей.
Хотя ордонансы королей — Ваших предшественников — запрещали парламентам принимать во внимание королевские указы, ущемляющие их полномочия, мы, зная, как и все королевство, о том радении, кое Ваше Величество проявляет ради блага своих подданных, и не желая изменять традиционным для нас покорности и повиновению Вашим приказам, приостановили, согласно Вашему распоряжению, все означенное судопроизводство, надеясь, что Ваше Величество, сознавая степень тяжести такого преступления, как ведовство, и пагубность тех последствий, к коим может привести освобождение осужденных за него от должного наказания, соизволит дать согласие на дальнейшее отправление правосудия и приведение в исполнение приговоров в отношении признанных виновными. Что же до полученного нами письма от Вашего статс-секретаря, откуда нам стало известно о решении Вашего Величества не только заменить вынесенный ведьмам смертный приговор пожизненною ссылкой из провинции, но и вернуть им все движимое и недвижимое имущество, то по поводу их преступлений — наитягчайших из всех возможных — Ваш парламент считает своим долгом ознакомить Вас со всеобщим и единодушным мнением, сложившимся у населения сей провинции относительно оных; более того, должное разрешение вопроса означало бы исполнение воли Божьей и облегчение страданий Ваших подданных, которые стонут под гнетом угроз такого рода лиц и каждодневно ощущают на себе воздействие оных в виде необычных и смертоносных хворей, их поражающих, и невиданного ущерба, их собствености наносимого.
Вашему Величеству хорошо известно, что нет на свете злодеяния богопротивнее ведовства, подрывающего самые основы религии и влекущего за собою неслыханные мерзости. Потому-то, сир, Священное Писание и объявляет смертный приговор ведьмам, а святая церковь и их святейшества римские папы предавали их анафеме и издавали церковно-правовые постановления, неизменно предусматривавшие самые суровые наказания за ведовство ради удержания паствы от совершения сего преступления; и потому оно во все времена повергало церковь Франции, вдохновляемую набожностью Ваших предшественников, в такой ужас, что она, не считая пожизненное заключение — наказание, максимально возможное в пределах ее юрисдикции, — достаточно суровым, предоставляла решение участи таких преступников усмотрению светских властей.
Точка зрения, разделяемая всеми народами, состоит в том, что таких преступников следует приговаривать к смертной казни; того же мнения придерживались все древние народы. Законы Двенадцати таблиц560, бывшие основой римского права, предписывают такое же наказание. В этом сходились все юристы, равно как и установления императоров, особенно Константина и Феодосия, кои, просветленные Евангелием, не только возобновили применение сего наказания, но и лишили всех лиц, признаваемых виновными в ведовстве, права обжалования приговора, объявив их недостойными монаршей милости. А Карл VIII, сир, побуждаемый тем же, издал тот прекрасный и суровый ордонанс (cette belle et sйvere ordonnance), что под угрозой штрафа, тюремного заключения или освобождения от должности предписывал судьям карать ведьм, сообразуясь с обстоятельствами дела, и одновременно гласил, что те, кто отказывается давать показания против ведьмы, подлежат наказанию как ее сообщники, а те, кто, наоборот, свидетельствует против нее, должны вознаграждаться.
Исходя из означенных соображений, сир, и во исполнение столь священного ордонанса Ваши парламенты своими постановлениями назначают наказания, соответствующие характеру преступления; и Ваш парламент Нормандии ни разу до настоящего времени не находил, что его процессуальное право отличается от принятых в других судебных органах, ибо во всех книгах, затрагивающих сей предмет, приводится несметное количество судебных постановлений, осуждающих ведьм на сожжение, колесование и иные виды наказания. Примеры тому следующие: решения, принятые в царствование Хильперика I, о коих можно прочесть у Григория Турского в “Истории франков”, кн. VI, гл. 35; все постановления парижского парламента, принятые в соответствии со старинной юриспруденцией королевства и приводимые Имбером в “Судебной практике”; все те, что были приняты против ведьм из графства Артуа и упомянуты Монстреле в 1459 году; постановления того же парламента: от 13 октября 1573 года — против Мари ле Фьеф, уроженки Сомюра; от 21 октября 1596 года — против господина де Бомона, сославшегося в свое оправдание на то, что он искал помощи дьявола лишь затем, чтобы снимать порчу и исцелять от болезней; от 4 июля 1606 года — против Франсиса Дюбоза; от 20 июля 1582 года — против Абель Деларю, уроженки Куломье; от 2 октября 1593 года — против Руссо и его дочери; от 1608 года — против другого Руссо и некоего Пелея, сознавшихся в ведовстве и поклонении дьяволу в образе козла на шабаше; решение от 4 февраля 1615 года — против Леклерка, кой обжаловал приговор орлеанского парламента, был осужден за посещение шабаша и, как и двое его соучастников, умерших в тюрьме, сознался в том, что почитал дьявола, отказался от крещения и веры в Бога, танцевал ведьмовской танец и участвовал в сатанинских жертвоприношениях; решение от 6 мая 1616 года — против некоего Леже, по сходному обвинению; помилование, дарованное Карлом IX Труа Эшелю за выдачу сообщников, но позднее отмененное из-за повторного колдовства с его стороны; постановление парижского парламента, о коем в 1595 году писал Морнак; судебные решения, принятые вследствие поручения, данного Генрихом IV господину Деланкру, члену парламента Бордо; от 20 марта 1619 года — против Этьена Одибера; решения, принятые судебной палатой Нерака 26 июня 1620 года в отношении ряда ведьм; те, что приняты парламентом Тулузы в 1577 году — о чем написано у Григория Тулузского — в отношении четырехсот человек, обвиняемых в том же преступлении и поголовно отмеченных дьявольскою печатью. Помимо всего вышеперечисленного, хотелось бы напомнить Вашему Величеству о различных постановлениях парламента Прованса (в особенности о вынесенном в 1611 году по делу Гофреди), о постановлениях парламента Дижона и решениях ренского парламента, имевших место вследствие вынесения приговора маршалу де Ре, сожженному за ведовство в 1441 году в присутствии герцога Бретонского. Все эти примеры, сир, подтверждают, что обвинение в ведовстве всегда каралось смертью парламентами Вашего королевства, и оправдывают единообразие судопроизводства в подобных случаях.
Таковы, сир, мотивы, которыми руководствовался Ваш парламент Нормандии при вынесении смертных приговоров тем, кто недавно предстал перед ним по указанному обвинению. Если же когда-либо в прошлом и случалось так, что парламенты Франции, включая нормандский, приговаривали виновных к наказанию менее суровому, нежели смертная казнь, то происходило это потому, что степень их вины позволяла сохранить им жизнь: Ваше Величество и те короли, что правили до Вас, дали разного рода трибуналам, уполномоченным ими вершить правосудие, полную свободу определять наказание на основании имеющихся улик.
Сославшись на множество авторитетных источников и поведав о предписываемых человеческими и божественными законами наказаниях за ведовство, мы смиренно просим Ваше Величество еще раз подумать о необычайных последствиях злобных козней тех, кто им занимается: о смертях от неведомых болезней, часто являющихся результатом их угроз, об утрате Вашими подданными движимости и недвижимости, о доказательствах вины, постоянно выражающихся в нечувствительности дьявольских мет на телах обвиняемых, о внезапном переносе тел из одного места в другое, о жертвоприношениях, ночных сборищах и прочих фактах, подтверждаемых клятвенными заверениями древних и современных писателей, многими очевидцами — как сообщниками преступлений, так и людьми, не имевшими в судебных разбирательствах никакой иной заинтересованности, кроме любви к истине, и, более того, признаниями самих обвиняемых. Нижайше просим Вас, сир, обратить внимание и на то, что разные дела о ведовстве имели меж собой так много общего, что даже самые невежественные из осужденных, сознаваясь в содеянном, рассказывали, по сути, об одних и тех же обстоятельствах и почти одинаковыми словами, о чем сообщают в своих сочинениях на эту тему наиболее знаменитые авторы и в чем Ваше Величество может всецело убедиться, ознакомившись с материалами судебных процессов, проведенных Вашими парламентами.
Таковы, сир, истины, столь тесно связанные с принципами нашей религии; и сколь бы удивительными они ни были, никому до сих пор не удалось подвергнуть их сомнению. Если же кто, пытаясь это сделать, и ссылался на так называемый канон561 Анкирского собора и на отрывок из «Духа и души» — трактата св. Августина562, то эти попытки были безосновательны, и Ваше Величество может легко убедиться, что ни то, ни другое не заслуживает доверия. Усомниться в подлинности означенного канона заставляет то, что он противоречит решениям всех последующих церковных соборов, и то, что кардинал Бароний и все ученые толкователи сходятся в том, что его нет ни в одном старинном издании. В тех же изданиях, где он есть, он изложен на другом языке и находится в прямом противоречии с двадцать третьим каноном того же собора, осуждающим колдовство в полном соответствии со всеми предыдущими установлениями. Даже если предположить, что сей канон был действительно провозглашен на Анкирском соборе, следует отметить, что это произошло во II веке, когда главной заботой христианской церкви была борьба с язычеством. Поэтому можно утверждать, что он осуждает тех женщин, кои говорили, что способны, подобно Диане и Иродиаде, передвигаться по воздуху, преодолевая при этом огромные расстояния, и запрещает проповедникам выдавать эту ложь за явь, с тем чтобы удержать людей от поклонения лжебогиням; однако он не ставит под сомнение власть дьявола над человеческим телом, реальность коей подтверждается Евангелием. Что же, сир, до мнимого отрывка из св. Августина, то общеизвестно, что написал его не он, потому как писатель, кем бы тот ни был, цитирует Боэция563, умершего более чем через восемьдесят564лет после смерти св. Августина. Кроме того, в пользу этого еще убедительнее говорит тот факт, что сей духовный отец доказывает существование колдовства во всех своих сочинениях, особенно в “О граде Божием”, где в первой книге, в 25-м вопросе утверждает, что колдовство — суть связь человека и дьявола, к коей все добрые христиане должны относиться с отвращением.
Учитывая все вышесказанное, члены Вашего парламента надеются, что Вы, сир, проявите присущую Вам справедливость и соблаговолите принять во внимание скромные протесты, кои они позволили себе выразить. Побуждаемые совестью и служебною необходимостью, они доводят до сведения Вашего Величества, что постановления против представших перед ними колдунов и ведьм были вынесены по зрелом размышлении со стороны всех присутствовавших судей, кои не допустили никаких отклонений от всеобщей юриспруденции королевства и действовали на благо Ваших подданных, ни один из коих не чувствует себя защищенным от злокозненности таких преступников. Вследствие этого мы просим Ваше Величество дозволить нам привести в исполнение вынесенные нами приговоры и продолжить судопроизводство в отношении других лиц, обвиняемых в том же преступлении; и тогда благочестие Вашего Величества не позволит омрачить Ваше правление решению, противоречащему принципам той священной религии, ради торжества коей Вы всегда весьма успешно прибегали и к законотворчеству, и к военной силе».
Людовик, как было сказано выше, оставил просьбу без внимания. Жизни старых женщин были спасены, и судебные преследования просто за колдовство, а не за конкретные преступления, были прекращены на всей территории Франции. В 1680 году был принят уголовный закон, действие которого распространялось не на ведьм и колдунов де-юре, а на тех, кто по тем или иным причинам приписывал себе колдовские и провидческие способности, и отравителей.
Так приблизительно в одно и то же время мракобесие, теснимое просвещением, постепенно сдавало свои позиции в Германии, во Франции, в Англии и Шотландии. Этот процесс продолжался до середины XVIII века, когда представления о ведовстве были наконец причислены к отжившим и вера в него сохранилась лишь в среде самого отсталого плебса. Тем не менее вспышки безумия столь же неистового, как и когда-либо прежде, еще дважды имели место. В первый раз это произошло в Швеции в 1669 году, а во второй — в Германии аж в 1749 году. Оба эти случая заслуживают самого пристального внимания. Первый из них представляет собой одно из самых поразительных документально зафиксированных проявлений ведьмомании, а по части жестокости и абсурда является непревзойденным.
Когда шведскому королю доложили, что жители маленькой деревушки Моры в провинции Далекарлия очень страдают от ведьм, он назначил для выяснения ситуации комиссию из священников и мирян и наделил ее всей полнотой власти для наказания виновных. 12 августа 1669 года комиссия прибыла в злополучное селение к вящей радости его доверчивых обитателей. На следующий день все население деревни, насчитывавшее до трехсот человек, собралось в церкви. Была произнесена проповедь, «провозгласившая ничтожность тех, кто позволил дьяволу себя обмануть», и прочитана пылкая молитва, дабы Господь избавил Мору от напасти.
Затем собравшиеся в полном составе проследовали к дому приходского священника и заполонили ведущую к нему улицу, после чего члены королевской комиссии призвали всех, кому хоть что-нибудь известно о случаях ведовства, выйти вперед и рассказать правду. Толпа разразилась слезами; мужчины, женщины и дети заплакали и зарыдали, и каждый пообещал вспомнить и сообщить все, что знает. В таком настроении они были отпущены по домам. На следующий день селян созвали вновь, и некоторые из них публично дали показания под присягой. В результате семьдесят человек, в том числе пятнадцать детей, угодили в тюрьму. Кроме того, было арестовано большое число жителей соседнего прихода Эльфдаль. Подвергнутые пыткам, все задержанные признали себя виновными. Они рассказали, что неоднократно собирались в расположенном рядом с перепутьем гравийном карьере, где облачались в ночные сорочки и танцевали, «кружась в хороводе снова и снова». После этого они выходили на перепутье и трижды призывали дьявола: в первый раз — тихо, во второй — несколько громче, а в третий — очень громко, произнося каждый раз следующие слова: «Предшественник, приди и перенеси нас в Блокулу!» Тот неизменно реагировал на зов и являлся пред очи собравшихся. Обычно он выглядел как старичок в сером верхнем платье и красно-синих чулках с чрезвычайно длинными подвязками. Кроме того, он носил шляпу с высокой тульей, обмотанной лентами из многоцветного льна, и имел длинную рыжую бороду, доходившую ему до пояса.
Сперва дьявол спрашивал своих присных, согласны ли они служить ему душой и телом. Получив утвердительный ответ, он приказывал им подготовиться к путешествию в Блокулу. Первым делом требовалось запастись «соскобленными кусочками алтарей и церковных часов». Далее Предшественник давал им рог с какой-то мазью, которой они намазывались. По завершении приготовлений он приводил ведьмам животных для полета верхом — лошадей, ослов, козлов и обезьян, выдавал им по седлу, молотку и гвоздю, давал команду отправляться, и они уносились прочь. У них на пути не было никаких преград. Они пролетали над церквами, высокими стенами и горами и в итоге спускались на зеленый луг, где находилась Блокула. На эти сборища ведьмы брали с собой как можно больше детей, потому что дьявол, по их словам, «терзал и стегал их, если они не привозили ему детей565, в той мере, в каковой они утрачивали его благорасположение».
Многие родители частично подтвердили эти показания, заявив, что дети не раз рассказывали им о том, как их ночью похищали и уносили к Блокуле, где дьявол избивал их до синяков. По утрам они находили на себе отметины, но те вскоре исчезали. Была допрошена одна девочка, которая со всей определенностью заявила, что ведьмы унесли ее по воздуху и что во время полета на большой высоте она произнесла священное имя Иисуса. Она тотчас упала на землю и сильно поранила бок. «Дьявол, однако, подобрал ее, излечил рану и унес к Блокуле». Она добавила (и ее мать подтвердила сказанное ею), что и по сей день «чувствует крайне сильную боль в боку». Для судей это оказалось решающим доводом, целиком и полностью убедившим их в правдивости ее показаний.
Блокулой, куда ведьмы свозили детей, назывался большой дом с воротами «на красивом лугу, казавшемся им бескрайним». В одной из комнат дома находился очень длинный стол для ведьмовских трапез, а в других «стояли весьма приглядные и изысканные кровати, отведенные им для сна».
После совершения ряда церемоний, посредством которых ведьмы брали на себя обязательство служить Предшественнику телом и душой, они приступали к трапезе, состоявшей из супа с капустой и беконом, овсяной каши, хлеба с маслом, молока и сыра. Дьявол каждый раз садился во главе стола и иногда играл ведьмам, пока те ели, на арфе или скрипке. Насытившись, они танцевали, встав в кружок, — когда одетые, когда нагишом, — непрестанно изрыгая проклятия и богохульства. Некоторые женщины из числа обвиняемых добавляли подробности столь мерзкие и непристойные, что повторить их не представляется возможным.
Однажды дьявол притворился мертвым, чтобы понаблюдать за реакцией ведьм. Те сразу громко запричитали, и каждая пролила по нему три слезы. Это настолько его обрадовало, что он вскочил и крепко обнял тех, кто горевал сильнее прочих.
Таковы основные детали, изложенные детьми и подтвержденные признаниями взрослых ведьм. Более нелепые заявления не делались прежде ни в одном суде. Многие подсудимые выдвигали логически безупречные опровержения; но члены комиссии не приняли их во внимание. Один из них, пастор местного прихода, в ходе следствия заявил, что однажды ночью (он сказал, когда именно) его поразила столь мучительная головная боль, что он не может объяснить ее ничем, кроме ведовства. Уточняя свою мысль, он добавил, что, по всей вероятности, у него на макушке отплясывали десятка два ведьм. Это сообщение вызвало неподдельный ужас у набожных дам из числа зрителей, шумно выразивших свое удивление тем, что дьяволу оказалось по плечу причинить боль столь доброму христианину. Одна злосчастная ведьма, будучи уже в когтях смерти, призналась, что ей очень хорошо известна причина головной боли священника. Дьявол, сказала она, снабдил ее кувалдой и большим гвоздем, который она должна была вогнать в череп доброго христианина. Она какое-то время била по гвоздю молотом, но череп оказался необычайно толстым, и все ее усилия пропали даром. При этих словах аудитория изумленно загудела. Благочестивый пастырь возблагодарил Всевышнего за исключительную крепость своего черепа и приобрел славу твердоголового на всю оставшуюся жизнь. Неясно, собиралась ли ведьма таким образом пошутить, но ее слова были расценены как признание в преступлении, совершенном с особой жестокостью. На основании этих столь же ужасных, сколь и смехотворных признаний семьдесят человек были осуждены на смерть. Двадцать три из них были сожжены на одном костре в деревне Мора на глазах у тысяч радостных зрителей. На следующий день там же и точно так же были убиты пятнадцать детей, которых принесли в жертву кровавому Молоху суеверия. Остальные тридцать два человека были казнены в Фалуне — близлежащем городке. Кроме того, пятьдесят шесть детей были признаны виновными в ведовстве незначительной тяжести и приговорены к различным, менее суровым наказаниям: прогону сквозь строй, тюремному заключению и публичной порке раз в неделю в течение года.
Впоследствии это дело долго считалось одним из самых убедительных документально зафиксированных доказательств широкого распространения ведовства. Как же люди, желая создать или подтвердить какую-нибудь теорию, искажают факты себе на пользу! Лживых фантазий нескольких больных детей, поощряемых родителями и вызванных на откровенность суеверными односельчанами, оказалось достаточно, чтобы учинить массовую расправу над населением деревни и ее окрестностей. Если бы вместо следователей, так же глубоко увязших в трясине невежества, как и те селяне, с которыми им пришлось иметь дело, отрядили несколько человек, несгибаемых в поисках истины и крепких умом, насколько же иным был бы конечный результат! Одних бедных детей из числа сожженных поместили бы в лечебницу, другим задали бы хорошую порку, легковерие родителей подверглось бы осмеянию, а жизни семидесяти человек были бы спасены. Вера в ведовство не изжита в Швеции и по сию пору, но, к счастью, примеров прискорбного умопомрачения, подобных приведенному, в анналах этой страны больше нет.
Примерно в то же самое время колонисты Новой Англии566 были напуганы похожими историями о кознях дьявола. Массы неожиданно обуял страх; подозреваемых в ведовстве арестовывали день за днем и в таких количествах, что тюрьмы оказались переполнены. Девушка по фамилии Гудвин — дочь каменотеса, страдавшая ипохондрией и припадками, — вообразила, что пожилая ирландка Гловер навела на нее порчу. Двое ее братьев, также, по-видимому, припадочных, пришли к тому же выводу и громко жаловались на то, что дьявол и старуха Гловер их истязают. Временами их суставы настолько плохо им повиновались, что они не могли пошевелиться, а иногда, говорили соседи, их тела были такими гибкими, что кости казались мягкими, как сухожилия. Предполагаемую ведьму схватили и, поскольку она не смогла безошибочно прочесть молитву Господню, признали виновной и казнили.
Однако массовые волнения не утихли. Одной жертвы было мало, и люди, разинув рты, ждали новых разоблачений. Неожиданно у двух истеричных девушек из другой семьи начались каждодневные припадки, и по всей колонии разнесся слух о ведовстве. Ощущение удушья в гортани, столь обычное при истерии, пациентки относили за счет самого дьявола, который-де засовывал им в дыхательные горла комья грязи, чтобы они задохнулись. Они чувствовали уколы шипов во всех частях тела, а одну из них рвало иглами. Случай с этими девушками, одна из которых была дочерью, а другая — племянницей м-ра Парвиса, священника кальвинистской церкви, привлек к себе такое внимание, что все слабонервные колонистки начали приписывать себе сходные недуги. Чем больше они размышляли об оных, тем сильнее верили в их реальность. Это умственное расстройство было не менее заразным, чем бубонная чума. Одна за другой женщины падали в обморок, а придя в сознание, утверждали, что видели призраков ведьм. В тех семьях, где было три или четыре девочки, последние оказывали на больное воображение друг дружки такое воздействие, что с ними случалось по пять-шесть припадков в день. Одни рассказывали, что им является сам дьявол, который держит в руке свиток пергамента и говорит, что, если они подпишут соглашение о передаче ему своих бессмертных душ, он немедленно избавит их от припадков и прочих телесных хворей. Другие заявляли, что видят только ведьм, которые дают им аналогичные обещания и угрожают, что не избавят их от болей и недугов до тех пор, пока они не согласятся стать собственностью дьявола. Если они отказывались, ведьмы щипались, кусались и кололи их длинными булавками и иголками. Свыше двухсот человек, упомянутых зловредными выдумщицами, были брошены в узилище. Они были всех возрастов и социальных групп; многие имели безупречную репутацию. Прежде чем к колонистам вернулось здравомыслие, не менее девятнадцати задержанных были осуждены и казнены. Самое ужасное в этой истории то, что одной из жертв стал ребенок всего пяти лет от роду. Некоторые женщины поклялись, что неоднократно видели его в обществе дьявола и что он часто кусал их своими маленькими зубками за отказ от подписания соглашения с князем тьмы. Испытываемое нами омерзение едва ли способен усилить тот факт, что за то же самое преступление эти безумные поселенцы судили и казнили собаку!
Некто Кори упорно отказывался признавать себя виновным в предъявленном ему нелепом обвинении. В соответствии с принятой в таких случаях практикой он был задавлен насмерть567. Сообщается, что, когда этот несчастный в предсмертной агонии высунул язык, шериф Новой Англии, руководивший экзекуцией, схватил трость и затолкал оный обратно в рот. Если когда-нибудь и существовал демон в человеческом образе, то им был этот шериф — человек, который, возможно, знал, что правда не на его стороне, но находил утешение в своем мнимом благочестии, думал, что оказывает Всевышнему большую услугу и «надеялся попасть в рай, превратив землю в ад». Еще ни в коей мере не разуверившись в ведовстве, люди, лишившиеся родных и близких в результате массовых гонений, стали интересоваться, не проводятся ли все эти судебные разбирательства при содействии дьявола. Разве нельзя допустить, что враг рода человеческого вложил в уста свидетельниц ложные показания или что сами свидетельницы являются ведьмами? Все мужчины, которым грозила опасность потерять жену, ребенка или сестру, моментально становились приверженцами данной теории. Отрезвление было столь же внезапным, как и первоначальное помешательство. Все колонисты практически одновременно пришли к выводу об ошибочности содеянного. Судьи прекращали процессы по делам даже тех, кто уже признал себя виновным. Последних отпускали на свободу сразу же после того, как они отказывались от всего, в чем ранее повинились, и большинство из них с трудом вспоминали признания, вырванные из них пыткой. Восемь человек, которых уже предали суду и приговорили к смертной казни, были освобождены. Припадки у девушек случались все реже, и они все меньше жаловались на козни дьявола. Судья, вынесший первый смертный приговор на волне массового умопомрачения, испытал такую горечь и стыд, что предложил ежегодно отмечать день, когда это произошло, всеобщим покаянием и постом. Он по-прежнему верил в ведовство; ничто не поколебало его представлений на этот счет, но, к счастью для общины, заблуждение приняло благоприятный оборот. Его чувства разделяла вся колония; присяжные заседатели, принимавшие участие в процессах о ведовстве, открыто каялись в церквах, а в тех, кто так или иначе пострадал от гонений, видели безвинных жертв, а не сообщников Сатаны.
Сообщается, что индейские племена Новой Англии были весьма озадачены безрассудством поселенцев и считали, что те или принадлежат к низшей расе, или более греховны, нежели живущие по соседству колонисты-французы, на которых, как говорили индейцы, «Великий дух не насылает ведьм».
Вернувшись на европейский материк, мы узнаем, что после 1680 года люди стали еще умнее в вопросе отношения к ведовству. На протяжении двадцати лет население Европы могло придерживаться своих былых воззрений на этот счет, но правительства в большинстве случаев не подкрепляли их казнями. Эдикт Людовика XIV нанес суеверию удар, от которого оно так и не оправилось. В протестантских кантонах Швейцарии последняя казнь ведьмы состоялась в Женеве в 1652 году. Различные германские монархи, не имея возможности положить конец ведьмовским процессам как таковым, неизменно заменяли смертный приговор тюремным заключением тем подсудимым, которые обвинялись просто в колдовстве, не связанном ни с какими другими преступлениями. В 1701 году Томазий568, профессор университета города Галле, выпустил свой знаменитый трактат «De Crimine Magiae»569, нанесший еще один удар издыхающему чудищу массового безумия. Тем не менее столь сильную веру, как вера в ведовство, нельзя было искоренить в одночасье; аргументы ученых мужей не доходили до деревень и деревушек, но все же приносили благие плоды, не давая означенной вере выливаться в очередные гонения и жертвы, за счет которых она так долго процветала и усиливалась.
Случилось так, что ведьмомания заявила о себе еще раз; подобно смертельно раненному дикому зверю, она собрала все оставшиеся силы для последнего броска, по которому можно судить о ее былой мощи. Германия, взрастившая страшное заблуждение в колыбели, ухаживала за ним и у смертного одра, и Вюрцбургу, где под одним и тем же предлогом было совершено столько убийств в прошлом, было суждено стать местом последнего такого убийства. Будучи не менее зверским, чем первые, оно ничуть не умалило дурную славу этого города. Данный случай очень похож на те, что имели место в шведской деревне Мора и Новой Англии, за исключением числа жертв. Он произошел аж в 1749 году и вызвал изумление и отвращение у остальной Европы.
Несколько монашек одного из женских монастырей Вюрцбурга думали, что кто-то наслал на них порчу; они, как и все страдающие истерией, временами чувствовали приступы удушья. С ними часто случались припадки, и одна из них, которая глотала иголки, извлекала их из нарывов, образовывавшихся на различных участках тела. Власти расценили это как ведовство, и была арестована молодая женщина Мария Рената Зенгер, которую обвинили в том, что она вошла в союз с дьяволом и заколдовала пять монашек. Последние на суде показали, что не раз видели, как Мария перелезала через стены монастыря в обличье свиньи и как, забравшись в винный погреб, пила самое лучшее вино, пока не пьянела, а затем вдруг принимала свой обычный, человеческий облик. Другие монашки утверждали, что она имела обыкновение бродить по крыше в образе кошки, часто залазила к ним в спальню и пугала их жуткими завываниями. Было также сказано, что она, обернувшись зайцем, выдаивала все молоко у коров, пасущихся на монастырских лугах; что она, бывало, играла в спектакле на сцене лондонского театра на Друри-лейн, в тот же вечер возвращалась на помеле в Вюрцбург и вызывала у юных монашек боли во всем теле. На основании этих показаний Зенгер была осуждена и сожжена заживо на рыночной площади Вюрцбурга.
Здесь наш устрашающий перечень убийств на почве известного суеверия завершается. С тех пор вера в ведовство покинула густонаселенные районы и сохранилась лишь в отдаленных деревнях и тех краях, которые слишком пустынны, труднодоступны и суровы, чтобы стать прибежищем цивилизации. Неотесанные рыбаки и необразованные чернорабочие все еще относят всякое природное явление, которое не могут объяснить, на счет дьявола и ведьм. Каталепсию, это удивительное заболевание, невежественные болтуны по-прежнему считают творением Сатаны; а ипохондрики, не знающие научного объяснения их недугу, искренне верят в реальность своих галлюцинаций. Просвещенный читатель едва ли может себе представить, в какой мере заблуждение такого рода бытует в самом сердце Англии в наши дни. Многие старые женщины постоянно подвергаются ожесточенной травле со стороны соседей, дающих волю презрению и угрозам только потому, что объекты их нападок в силу своей дряхлости уродливы, недоброжелательны, порой слабоумны и внешне олицетворяют те черты, которые издревле традиционно приписываются ведьмам. Это позорное суеверие сохранилось в былых масштабах даже вблизи больших городов. И если оно не приводит к человеческим жертвам, то единственно потому, что просвещенность, нашедшая отражение в современных законах, не допускает повторения мерзостей XVII столетия. Можно найти сотни свидетелей, которые расскажут под присягой вещи не менее абсурдные, нежели те, что заявлял бесславный Мэтью Хопкинс.
В «Ежегодном сборнике образцов судебных документов» за 1760 год приводится пример веры в ведовство, показывающий, насколько живуче данное суеверие. В лестерширской деревушке Глен между двумя старухами вспыхнула ссора: они яростно обвиняли друг друга в ведовстве. В итоге конфликт зашел так далеко, что спорщицы решили проверить обоснованность взаимных обвинений опытным путем и сошлись на том, что обе они подвергнутся испытанию на плавучесть. Сказано — сделано: они разделись до ночных сорочек, а созванные по такому случаю односельчане привязали им крест-накрест большие пальцы рук к большим пальцам ног и, обвязав каждую веревкой вокруг талии, бросили их в омут. Одна сразу же пошла ко дну, а другая какое-то время барахталась у поверхности воды, и селяне, сочтя это верным признаком ее виновности, вытащили ее на берег и потребовали немедленно выдать всех товарок по ремеслу. Она сказала, что в соседней деревне Бёртон живут несколько старух — «таких же ведьм, как она». К счастью для нее, толпа удовлетворилась этой расплывчатой информацией и, дождавшись человека, который изучал астрологию (являясь, таким образом, в ее глазах кем-то вроде доброго колдуна570, тотчас проследовала во главе с ним в Бёртон на поиски остальных преступниц. Придя в деревню и какое-то время посовещавшись, они направились к дому старухи, которую подозревали больше других. Бедная женщина при их приближении заперла наружную дверь и, высунувшись из окна одной из комнат на втором этаже, осведомилась у непрошеных гостей о цели визита. Те сообщили, что она обвиняется в ведовстве и что они пришли затем, чтобы окунуть ее в воду, добавив, что ей просто необходимо согласиться на ордалию, дабы, если она невиновна, все остальные об этом узнали. После того как она наотрез отказалась покинуть дом, толпа взломала дверь и силой отвела ее к глубокому гравийному карьеру, наполненному водой. Они связали вместе большие пальцы ее рук и ног и бросили в воду, где продержали несколько минут, дважды или трижды вытаскивая и погружая обратно с помощью каната, один конец которого был обвязан вокруг ее талии. Так и не решив, ведьма она или нет, они в конце концов отпустили ее, или, точнее говоря, оставили на берегу, чтобы она шла домой, если придет в себя. На следующий день они провели тот же эксперимент на другой женщине, а позднее — на третьей; но, к счастью, все жертвы «Божьего суда» остались живы. На той же неделе многие зачинщики произвола были задержаны и предстали перед судом четвертных сессий571. Двое из них были приговорены к выставлению к позорному столбу и тюремному заключению сроком на один месяц, а более двадцати — оштрафованы на небольшие суммы за словесное оскорбление и угрозу физическим насилием и связаны обязательством соблюдать общественное спокойствие в течение года.
«В 1785 году, — пишет Арнот в своем сжатом обзоре «Уголовных процессов в Шотландии», — в секте раскольников была, согласно обычаю, прочитана с кафедры ежегодная исповедь в грехах, национальных и персональных, среди коих в числе первых была особо упомянута “Отмена парламентом уголовного закона о преследовании ведьм, противоречащая ясно изложенным Божьим законам”».
В Англии до сих пор есть немало домов, к порогу которых прибита подкова, являющаяся, согласно поверью, наилучшим средством защиты от ведовства. Если какой-нибудь премудрый доброхот попытается ее отодрать, то ему за усердие скорее переломают кости, чем выразят благодарность. Случись вам оказаться в Лондоне и попасть на Кросс-стрит, в Хаттон-Гарден, пройти оттуда в Блидинг-Харт-Ярд и услышать историю одного дома в том районе, которую все еще рассказывают и в которую многие по-прежнему верят, и вы с изумлением спросите себя, могло ли нечто подобное произойти в XIX веке. В то, что леди Хаттон — жена знаменитого сэра Кристофера572, светского льва и блестящего танцора времен Елизаветы, — была ведьмой, многие верят так же самозабвенно, как и в Евангелие. Можно посетить комнату, где дьявол по истечении срока договора, заключенного с леди Хаттон, собственноручно схватил ее, чтобы утащить в Тофет573. Вам покажут насос, об который он ее ударил, и сообщат, что название Блидинг-Харт-Ярд574 указывает на то, что на этом месте было найдено сердце, которое сатана вырвал своими железными когтями у нее из груди. Мне не известно, сохранилась ли на двери этого населенного призраками дома подкова, приколоченная после описанных событий для отпугивания других ведьм. Один из его прежних жильцов пишет, что «около двадцати лет назад какие-то пришлые старухи неоднократно просили впустить их в дом, дабы убедиться, что она находится на прежнем месте. Одна из них, явно сумасшедшая и одетая в лохмотья, два раза постучала в дверь так громко, как это делают заправские ливрейные лакеи, и, войдя внутрь, направилась через переднюю прямо к подкове. Когда женщина плюнула на оную и выразила сожаление, что та не позволяет ей вредить, у и без того удивленных жильцов глаза полезли на лоб. Вдоволь поплевав на подкову и попинав ее ногами, она невозмутимо повернулась и, не сказав никому ни слова, вышла из дома. Эта несчастная, возможно, намеревалась пошутить, но не исключено, что она мнила себя ведьмой. В Сафрон-Хилле, где она жила, ее так прозвали невежественные соседи, питавшие к ней немалые страх и отвращение».
Проявления массовой веры в ведовство имели место аж в 1830 году в Гастингсе и его окрестностях. Одна пожилая женщина, проживавшая на канатном дворе этого города, имела настолько отталкивающую наружность, что все невежды, которые ее знали, неизменно называли ее ведьмой. Она ходила согнувшись в три погибели, а ее взгляд, несмотря на весьма преклонный возраст, был необычайно ясным и злобным. Она носила красный плащ и опиралась на костыль; всем своим видом она олицетворяла самый что ни на есть beau ideal575ведьмы. Полностью подтверждая тот факт, что человеку всего милее ощущение власти над себе подобными, старуха сознательно поощряла массовое суеверие; ни в коей мере не пытаясь улучшить свою репутацию, эта женщина, казалось, получала истинное наслаждение от того, что она, такая старая и убогая, держит в страхе так много счастливых и здоровых людей. Робкие девушки, случайно сталкиваясь с ней, приседали от страха, и многие из них старались обходить ее за версту. Подобно ведьмам прошлого, она не скупилась на проклятия в адрес тех, кто ее оскорблял. Ребенок женщины, которая жила через дом от нее, был хромым от рождения, и мать постоянно утверждала, что, когда она была на сносях, старуха ее заколдовала. Ее рассказу верили все соседи. Люди, помимо всего прочего, приписывали старухе способность принимать образ кошки. Многие из этих безвредных созданий были едва не затравлены до смерти ватагами мальчишек и взрослых мужчин, которые каждый раз ожидали, что животное явится перед ними в истинном обличье матушки (имярек).
В том же городе жил рыбак, который был объектом непрестанной травли из-за того, что про него говорили, что он продался дьяволу. Ходили слухи, что он может проползать через замочную скважину и что он сделал из своей дочери ведьму, с тем чтобы иметь больше власти над ближними. Думали также, что он способен сидеть на остриях булавок и иголок и не чувствовать боли. Этому испытанию его при каждом удобном случае подвергали собратья по ремеслу. В пивных, которые он регулярно посещал, они часто вставляли длинные иглы в обивку стула таким образом, чтобы рыбак, садясь, не мог не уколоться. Результат этих экспериментов неизменно укреплял веру рыболовов в сверхъестественные способности коллеги. Утверждали, что в подобных случаях он никогда даже не вздрагивал от боли. Таким было состояние умов в славном городе Гастингсе несколько лет назад; весьма вероятно, что оно ничуть не изменилось до сих пор.
Данное суеверие оказалось на редкость живучим на севере Англии. В Ланкашире полным-полно знахарей — шарлатанов, якобы излечивающих от болезней, вызванных дьяволом. О деятельности этих «целителей» можно судить по случаю, описанному в «Хертфорд реформер» от 23 июня 1838 года. Знахарь, о котором идет речь, известен как Умелец и имеет большую клиентуру в графствах Линкольн и Ноттингем. Из статьи явствует, что какой-то простофиля, имя которого не упоминается, в течение примерно двух лет страдал от болезненного нарыва и безрезультатно лечился у нескольких докторов. Его друзья — как односельчане, так и жители окрестных деревень — были уверены, что в его недуге повинна нечистая сила, и настоятельно рекомендовали обратиться к знахарю. Он последовал совету и отправил свою жену к Умельцу, который жил в Нью-Сент-Суитинсе, что в графстве Линкольн. От этого невежественного шарлатана она узнала, что заболевание мужа является следствием козней дьявола, вызванных ближайшими соседями, которые прибегнули к определенному колдовскому ритуалу. Описанный им обряд полностью совпадает с тем, который выполнили Доктор Фиан и Джелли Дункан, чтобы погубить короля Иакова. Он заявил, что соседи, подстрекаемые ведьмой, на которую он указал, взяли немного воска, размягчили его над огнем и вылепили из него фигурку, которой в меру своих способностей придали сходство с ее супругом. Затем они проткнули сие изваяние со всех сторон булавками, прочли «Отче наш» наоборот и помолились дьяволу, дабы он причинил мучения человеку, которого эта фигурка изображает, подобно тому, как они ее пронзили. Чтобы нейтрализовать воздействие сатанинского ритуала, знахарь прописал некое снадобье и дал женщине амулет, который ее муж должен был носить на той части тела, где болезнь проявлялась больше всего. Кроме того, пациент должен был каждый день читать вслух 109-й и 119-й псалмы из Псалтири, без чего лечение не возымело бы действия. Гонорар, затребованный знахарем за консультацию, равнялся одной гинее.
Вера в исцеление, как это часто бывает, оказалась настолько эффективной, что после трех недель выполнения означенных предписаний больной действительно почувствовал себя намного лучше. «Чудодейственный» амулет, который шарлатан дал его жене, впоследствии открыли и обнаружили, что внутри находится кусок пергамента, испещренный какими-то кабалистическими символами и знаками планет.
Ближайшие соседи выздоравливающего были не на шутку встревожены тем, что знахарь по настоянию оного приступил к каким-то одному ему известным ритуалам, чтобы наказать их за ведовство, к которому они, разумеется, и не думали прибегать. Дабы обезопасить себя от возмездия, они заплатили другому «умельцу», из Ноттингемшира, который сообщил им, как изготовить амулет, который надежно убережет их от любых козней недоброжелателей. Автор книги, где описан данный случай, подытоживает рассказ о нем, сообщая, что «вскоре после того, как знахарь проконсультировал жену больного, он, согласно сделанной им записи, обнаружил, что болезнь ее мужа порождена не Сатаной, как он полагал ранее, а Всевышним и что пациенту суждено в той или степени пребывать в этом состоянии до конца жизни».
Около 1830 года один мошенник зарабатывал подобным образом себе на жизнь в окрестностях Танбридж-Уэлса. Он занимался этим несколько лет и брал за свои советы огромные деньги. Этот субъект заявлял, что он седьмой сын седьмого сына и вследствие этого наделен чудесной способностью исцелять от всех болезней, особенно ведьмовской природы. К нему обращались не только бедняки, но и дамы, разъезжавшие в экипажах. Гонцам тех, кто ним посылал, часто приходилось проезжать по шестьдесят, а то и по семьдесят миль в один конец; но в дополнение к щедрому вознаграждению за визит клиенты оплачивали все его дорожные расходы. Шарлатану было лет восемьдесят, и его исключительно почтенная наружность была ему ценным подспорьем. Его звали не то Оки, не то Окли.
Во Франции суеверие, о котором идет речь, распространено в наши дни даже больше, чем в Англии. Гарене в своем историческом обзоре магии и колдовства в этой стране приводит свыше двадцати примеров, имевших место с 1805 по 1818 год. В последнем году из упомянутых было проведено не менее трех судебных разбирательств, поводом для которых послужила эта унизительная вера; мы же рассмотрим только одно из них. В январе 1818 года Жюльен Дебурде, каменщик пятидесяти трех лет от роду, постоянно проживавший в деревне Тилуз неподалеку от Бордо, внезапно заболел. Не зная причины болезни, он наконец заподозрил, что его кто-то заколдовал. Он сообщил об этом своему зятю Бридье, и они вдвоем отправились за советом к местному дурачку Будуэну, который слыл чародеем и расколдовывателем. Этот человек сказал им, что Дебурде, безусловно, заколдован, и предложил сходить вместе с ним к старику по фамилии Ренар, в котором он видел несомненного виновника происшедшего. В ночь с 23 на 24 января все трое тайком пришли в дом Ренара и обвинили его в том, что он поражает людей болезнями с помощью дьявола. Дебурде пал перед ним на колени и горячо помолил его о возвращении былого здоровья, взамен пообещав никак не преследовать его за совершенное зло. Старик, не стесняясь в выражениях, заявил, что он вовсе не колдун, а когда неугомонный Дебурде настоятельно потребовал снять с него порчу, сказал, что ничего не знает ни о какой порче и не будет ее снимать. Тогда вмешался дурачок Будуэн, расколдовыватель, который сообщил компаньонам, что никакое ослабление болезни невозможно, пока старик не признаéт своей вины. Чтобы заставить его признаться, они зажгли принесенные с этой целью серные спички и поднесли их к его носу. Через несколько минут старик, задыхаясь, упал и, казалось, умер. Визитеры были сильно напуганы и, решив, что они убили человека, вынесли его из дома и бросили в близлежащий пруд, надеясь, что те, кто его найдет, подумают, что он случайно упал туда сам. Пруд, однако, был не очень глубоким, и когда холодная вода привела старика в чувство, он открыл глаза и сел. Дебурде и Бридье, которые задержались на берегу, чтобы посмотреть, чем все закончится, еще сильнее, чем прежде, боялись, что старик донесет на них. Поэтому они вошли в пруд, схватили беднягу за волосы, жестоко его избили, а затем погрузили в воду и продержали там до тех пор, пока он не захлебнулся.
Через несколько дней всех троих арестовали по обвинению в убийстве. Дебурде и Бридье были признаны виновными лишь в непредумышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и приговорены к клеймению на спине и пожизненной каторге. Расколдовыватель Будуэн был оправдан как душевнобольной.
Далее месье Гарене сообщает, что Франция времени написания книги (1818) кишит типами, которые сделали своим ремеслом изгнание бесов и выискивание ведьм. Он добавляет, что многие священники сельских приходов поощряют суеверие прихожан, прибегая к экзорцизму576 всякий раз, когда какой-нибудь глупец вобьет себе в голову, что в него вселился демон. Для борьбы с этим злом он рекомендует отправить всех экзорцистов — и светских, и церковных — на каторгу и выражает уверенность в том, что после этого ведьм и одержимых заметно поубавится.
Можно привести массу других примеров этой упорно цепляющейся за жизнь веры, имевших место в недавнем прошлом как во Франции и в Великобритании, так и во всех остальных европейских странах. Некоторые заблуждения укоренились настолько глубоко, что время над ними не властно. Губительное древо, некогда затенявшее землю, возможно, и срублено ценой титанических усилий со стороны мудрецов и философов; солнечные лучи, может быть, и падают туда, где прежде в безопасности и тени ютились ядовитые твари; но разветвленные корни по-прежнему тянутся под землей и могут быть обнаружены усердными землекопами. Какой-нибудь новый король вроде Иакова I может создать им условия для прорастания, а еще более зловредный римский папа вроде Иннокентия VIII может сделать так, что хилый росток окрепнет и зазеленеет. Но все же отрадно сознавать, что состояние исступления миновало, что неистовое безумие уступило место сравнительно безобидной глупости и что сегодня мы сталкиваемся лишь с единичными проявлениями суеверия, жертвы которого в былые времена исчислялись десятками тысяч, а приверженцы — миллионами.
Изощренные отравители
Pescara. The like was never read of.
Stephano. In my judgement,
To all that shall but hear it, ‘twill appear
A most impossible fable.
Pescara. Troth, I’ll tell you,
And briefly as I can, by what degrees
They fell into this madness.
— Duke of Milan577.
К ужасному методу отравления ядами, действующими столь медленно, что неискушенному наблюдателю кажется, что жертва постепенно угасает от болезни, развившейся в силу естественных причин, человек прибегал во все времена. Те, кого интересует история вопроса, могут прочесть главу о тайных ядах из «Истории изобретений» Бекманна, где приводится ряд примеров их использования, почерпнутых у древнегреческих и древнеримских авторов. С начала XVI века это преступление, по-видимому, становилось постепенно все более распространенным, пока в XVII веке не захлестнуло Европу, подобно эпидемии чумы. Оно часто совершалось мнимыми ведьмами и колдунами и в конечном счете стало одной из отраслей образования среди всех тех, кто так или иначе подвизался на поприще магии и оккультизма. На двадцать первом году царствования Генриха VIII был принят закон, отнесший отравление медленно действующим ядом к разряду особо тяжких преступлений. Признанные виновными в нем подлежали варке заживо.
Одним из первых по времени совершения, но едва ли вторым по степени жестокости в сравнении с любым другим злодеянием такого рода является убийство сэра Томаса Овербери, который в 1613 году впал в немилость при дворе Иакова I. Краткий рассказ об этом станет подходящим введением в историю мании отравления, охватившей Францию и Италию пятьдесят лет спустя.
Роберт Керр, юноша-шотландец, быстро привлек внимание Иакова I и был осыпан почестями, по всей видимости, лишь в силу своей красоты. Иакова даже при жизни подозревали в гнуснейшем из пороков; и чем больше мы изучаем его биографию в настоящее время, тем сильнее становится это подозрение. Как бы то ни было, красавчик Керр, даже на людях подставлявший гладкую щечку для отвратительных поцелуев своего могущественного покровителя, быстро шел в гору. В 1613 году он был назначен государственным казначеем Шотландии и возведен в звание пэра Англии с присвоением титула виконта Рочестера. Ему были уготованы и другие знаки монаршей милости.
В этом стремительном восхождении он не остался без друга. Сэр Томас Овербери, королевский письмоводитель (как явствует из некоторых угроз в его собственных письмах, активно пособничавший порочным наклонностям Иакова и посвященный в его опасные тайны), использовал все свое закулисное влияние для ускорения продвижения Керра, который его, без сомнения, так или иначе за это вознаграждал. Дружба Овербери с Керром — если таковая вообще возможна между подобными людьми — этим не ограничивалась: Овербери также играл роль entremetteur578, помогая Рочестеру поддерживать прелюбодейскую интрижку с леди Френсис Хоуард, женой графа Эссекса. Эта особа была подвержена неистовым страстям и напрочь лишена всякого стыда. Муж был ей обузой, и, чтобы от него избавиться, она подала на развод на основании, признанию в котором любая благопристойная и утонченная женщина предпочла бы смерть. Скандальный судебный процесс завершился в ее пользу, и сразу по вынесении вердикта начались грандиознейшие приготовления к ее бракосочетанию с лордом Рочестером.
Сэр Томас Овербери, ранее охотно содействовавший своему патрону в его любовной связи с графиней Эссекс, очевидно, считал, что женитьба на столь одиозной женщине может затормозить карьеру оного. По этой причине он использовал весь свой авторитет и все свое красноречие, дабы отговорить Рочестера от данного шага, но тот — человек столь же безудержных страстей, как и графиня, — не собирался менять свои планы. Как-то раз, когда Овербери и виконт прогуливались по галерее Уайтхолла579, кто-то нечаянно услышал, как Овербери сказал: «Ну что ж, милорд, если вы действительно женитесь на этой гнусной женщине, то погубите свою честь и самого себя. Вы никогда не сделаете этого по моему совету или с моего согласия; а если сделаете, пеняйте на себя». Разъяренный Рочестер отскочил в сторону и клятвенно воскликнул: «Я с вами за это расквитаюсь!» Эти слова были смертным приговором несчастному Овербери. Он смертельно ранил гордость Рочестера, когда, пытаясь обуздать жгучие страсти бездушного, распутного и безрассудного человека, намекнул, что его (Овербери) стараниями тот может оказаться в опале у короля.
Об опрометчивых увещеваниях Овербери стало известно графине, и она тоже поклялась беспощадно ему отомстить. Однако виконт и графиня с дьявольским лицемерием скрывали свои намерения, и Овербери по ходатайству Рочестера был назначен послом в России. Эта кажущаяся благосклонность была всего лишь первым этапом хорошо продуманного смертельного заговора. Рочестер, делая вид, что искренне печется об интересах Овербери, посоветовал ему отказаться от назначения, которое, по его словам, было не более чем уловкой с целью отделаться от него. Одновременно он пообещал уладить любые неприятные последствия отказа. Овербери попал в западню и отказался от поста. Иаков, оскорбившись, немедленно велел заточить его в Тауэр.
Теперь, когда Овербери был за решеткой, у его врагов появилась возможность приступить к осуществлению второй стадии заговора. Для начала Рочестер, использовав свое влияние при дворе, добился смещения тогдашнего коменданта Тауэра и назначения на этот пост одного из преданных ему людей, сэра Джарвиса Элвеса. Эта креатура была лишь одним из необходимых орудий мести; второе было найдено в лице Ричарда Уэстона — человека, который прежде был продавцом в аптеке. Он был назначен надзирателем и по долгу службы напрямую контактировал с Овербери. Пока все шло по заранее намеченному плану.
Тем временем коварный Рочестер слал Овербери письма, исполненные, казалось, самого искреннего дружелюбия, в которых призывал его терпеливо сносить лишения и обещал, что тюремное заключение будет непродолжительным благодаря тем усилиям, что прилагают его друзья, дабы умерить недовольство короля. В подтверждение мнимого сочувствия он сопровождал письма подарками — кондитерскими изделиями и другими деликатесами, достать которые в Тауэре было невозможно. Все эти кушанья были отравлены. Время от времени внешне такие же, но не отравленные подношения доставлялись для самого сэра Джарвиса Элвеса и распознавались по отсутствию сопроводительных писем; до несчастного узника эти посылки не доходили. Доставкой отравленной еды занималась женщина по фамилии Тёрнер, которая ранее содержала публичный дом и не раз предоставляла его для преступных свиданий Рочестера с леди Эссекс. Еда отравлялась доктором Форменом — «предсказателем будущего» из Ламбета — и ассистировавшим ему аптекарем Франклином. Оба они знали, для чего эти яды предназначены, и использовали все свое умение, подмешивая их к кондитерским изделиям и прочим кушаньям в количествах настолько малых, насколько это было необходимо для того, чтобы постепенно подтачивать организм жертвы. Миссис Тёрнер регулярно относила посылки с отравой надзирателю, а тот передавал их Овербери. Отравлялась не только еда, но и питье. К соли подмешивали мышьяк, а к перцу — шпанских мушек580. Все это время здоровье заключенного заметно ухудшалось. С каждым днем он все больше ослабевал и с болезненным аппетитом требовал сладкого и желе. Рочестер продолжал ему «сочувствовать» и предвосхищал все его запросы такого рода, посылая ему в изобилии всевозможные сласти, а иногда — куропаток, другую дичь и поросят. Миссис Тёрнер подмешивала к соусу для дичи большое количество шпанских мушек и отравляла свинину ляписом581. Как выяснилось на судебном процессе, отравы, которую Овербери принял таким образом за все время, хватило бы для умерщвления двадцати человек; но у него был крепкий организм, и он выжил. Франклин, аптекарь, признался, что он и доктор Формен применяли семь различных ядов, а именно: концентрированную азотную кислоту, мышьяк, ртуть, истолченные алмазы, ляпис, измельченных ядовитых пауков и шпанских мушек. Овербери держался так долго, что Рочестер начал терять терпение и в одном из писем к леди Эссекс выразил удивление тем, что тот все еще жив. Леди Эссекс тотчас отправила надзирателю приказ немедленно кончать с узником. Овербери все это время подозревал о предательстве, хотя, по-видимому, не догадывался, что его отравляют. Он, похоже, думал лишь о том, что его враги хотят, чтобы он оставался в тюрьме пожизненно, и ради этого еще сильнее настраивают против него короля. В одном из писем к Рочестеру он пригрозил виконту тем, что, если его вскоре не освободят, он сделает всю подноготную адресата достоянием гласности. Он писал: «Вы и я скоро предстанем перед открытым судом иной, не юридической природы… Не доводите меня до крайности, дабы я не сказал нечто такое, в чем и мне и вам следует каяться… Останусь ли я жив или умру, ваш позор не умрет никогда; о нем будут помнить всегда, и вы будете одиознейшей личностью среди живых… Весьма удивлюсь, если вы проигнорируете того, кому известны все ваши тайны такого свойства… Не тот ли это случай, когда общие секреты таят в себе общую опасность?»
Все эти увещевания и намеки на знание опасных тайн были не тем, на что Овербери следовало полагаться, имея дело с таким отчаянным человеком, как лорд Рочестер: они с гораздо большей вероятностью могли его погубить, нежели спасти. Во всяком случае дальнейший шаг Рочестера полностью это подтверждает. Он, безусловно, отталкивался от того извечного аргумента убийц, что «мертвые молчат», когда по получении письма известного содержания посетовал своей возлюбленной на промедление. Уэстону было дано указание форсировать события, и в октябре 1613 года, когда терпение заговорщиков лопнуло, заключенный получил дозу сулемы582, положившую конец его страданиям после шестимесячного пребывания в руках отравителей. В тот же день его еще не остывшее тело было наспех завернуто в простыню и безо всяких похоронных ритуалов зарыто на территории Тауэра.
Сэр Энтони Уэлдон в своей книге «Двор и личность Иакова I» описывает заключительную сцену этой трагедии несколько иначе. Он пишет: «Франклин и Уэстон вошли в камеру Овербери и нашли его в беспредельных муках, в состязании между жизненными силами и действием яда; и, поелику было весьма похоже, что жизненные силы в этом состязании одерживают верх посредством прорыва фурункулов, прыщей и прочих гнойников, они, опасаясь, что отвратительное действо, которое они разыграли с Овербери, всплывет наружу при врачебном осмотре, сошлись на том, чтобы задушить его постельным бельем, что и сделали; и так закончилась его жалкая жизнь, а остальные заговорщики получили заверение в том, что он умер от яда; и никто не знал правды, кроме двух убийц».
Скоропостижная смерть, неподобающая поспешность погребения и тот факт, что не было проведено никакого обследования трупа, усиливали существующие подозрения. Их не нашептывали, а высказывали в полный голос; и родственники покойного открыто заявляли, что их родич был убит. Но Рочестер по-прежнему обладал неограниченным влиянием при дворе, и никто не отважился произнести хоть слово подозрения в его адрес. Вскоре после смерти Овербери состоялась исключительно пышная церемония бракосочетания лорда и графини Эссекс, на которой присутствовал сам король.
Складывается впечатление, что Овербери знал характер Иакова лучше, чем того от него ожидал Рочестер, и что он был сущим провидцем, когда предсказал, что означенная свадьба в конце концов настроит короля против фаворита. В то время, однако, Рочестер пользовался большей монаршей благосклонностью, чем когда бы то ни было, но это продолжалось недолго — угрызения совести, этот неумолчный внутренний голос, делали свое разрушительное дело. Слухи не утихали, и Рочестер, которого вот уже долгое время тяготило сознание своей вины, превратился в итоге в непривлекательного и несносного субъекта. Щеки его утратили румянец, глаза потускнели, и он стал угрюмым, рассеянным и необщительным. Король, видя происшедшую с ним перемену, перестал получать удовольствие от общения с ним и начал подыскивать нового фаворита. Джордж Вильерс, герцог Бекингем, пришелся ему по душе: он был остроумен, смазлив и абсолютно беспринципен. Чтобы понравиться Иакову I, было, собственно говоря, достаточно обладать двумя последними качествами. По мере того как ослаблялось влияние Рочестера, усиливалось влияние Бекингема. У отвергнутых фаворитов не бывает друзей и сторонников; зловещая молва все громче и настойчивее очерняла Рочестера в глазах его бывшего покровителя. В то же время новоявленные фавориты в большинстве случаев стараются ускорить низвержение экс-фаворитов; и Бекингем, страстно желая окончательно лишить своего предшественника благоволения короля, подбивал родных сэра Томаса Овербери возбудить дело для выяснения обстоятельств его загадочной смерти.
К тем преступникам, в чьих злодеяниях сам Иаков не участвовал, он был безжалостен. Более того, одним из своих достоинств он считал умение разгадывать тайны, а случай с сэром Томасом Овербери был из их числа. Он начал с того, что приказал арестовать сэра Джарвиса Элвеса. Похоже, что на ранней стадии судебного разбирательства Иаков не знал, насколько велика в этом деле роль Рочестера. Охваченный ужасом при вести о расследовании изощренного отравления медленно действующим ядом, король велел привести к нему всех судей, участвующих в процессе. Как пишет сэр Энтони Уэлдон, Иаков преклонил перед ними колена и произнес: «Милорды-судьи, недавно я узнал, что вы расследуете дело об отравлении. Боже, до сколь плачевного состояния должно было дойти сие королевство (единственное государство, народ коего слывет гостеприимным), коли исконно итальянский обычай прижился и у нас и наши обеденные столы стали такой западней, что никто не может есть, не опасаясь за свою жизнь! И посему, милорды, приказываю вам, поелику быть вам за сие в ответе в величественный и ужасающий день Страшного суда, вести расследование строго, без благорасположения, снисхождения или пристрастности. И ежели вы пощадите кого-либо повинного в сем преступлении, да поразит проклятье Господне вас и ваше потомство; а ежели я пощажу кого-то, на ком лежит вина, да поразит проклятье Господне меня и моих потомков на веки вечные!»
Это проклятие самым что ни на есть явным образом пало на обреченную династию Стюартов. Торжественная клятва была нарушена, и проклятие Всевышнего действительно поразило его и его потомков.
Следующим, кого арестовали после сэра Джарвиса Элвеса, был Уэстон, надзиратель; затем взяли Франклина и миссис Тёрнер, а под конец — графиню и графа Сомерсет, до титула которого Рочестер был вознесен уже после смерти Овербери.
Первым предстал перед судом Уэстон. Процесс приковал к себе напряженное внимание публики. Судебное разбирательство было притчей во языцех, и в день слушания дела зал суда был набит до отказа. В книге «Суды над государственными преступниками» сообщается, что лорд-главный судья Кок «поведал присяжным о подлости и трусости отравителей, тайно совершающих злодеяние, способа уберечься от коего не существует, и добавил, что в Англии случаи отравления весьма редки — столь отвратительно оно нашему народу. Но дьявол довел умение означенных злодеев до высочайшей степени совершенства, вследствие чего они могут отравлять жертву сколь угодно долго (она глотает nativum calidum583 или humidum radicale584на протяжении одного, двух, трех или стольких месяцев, сколько им требуется) и проделывают сие четырьмя способами, а именно: haustu, gustu, odore и contactu585».
Когда был зачитан обвинительный акт и Уэстона спросили, признаéт ли он себя виновным, он вымолвил лишь: «Господи, смилуйся надо мною! Господи, смилуйся надо мною!» Когда его спросили, собирается ли он подчиняться принятой судебной процедуре, он заявил, что отказывается от суда своей страны и хочет быть судимым только Богом. В этом он какое-то время упорствовал. В конце концов боязнь ужасного наказания за неподчинение постановлению суда586 вынудила его заявить о своей невиновности и тем самым последовать узаконенному порядку отправления правосудия.
Все пункты выдвинутого против него обвинения были полностью доказаны, он был признан виновным и казнен в Тайбёрне. Миссис Тёрнер, Франклин и сэр Джарвис Элвес также предстали перед судом, были признаны виновными и казнены в период с 19 октября по 4 декабря 1615 года; но грандиозный суд над графом и графиней Сомерсет состоялся только в мае следующего года.
На процессе по делу сэра Джарвиса Элвеса выяснилось, что об отравлении знали и хранили преступное молчание граф Нортгемптон, он же дядя леди Сомерсет, и главный сокольничий, сэр Томас Монсон. Первый к тому времени уже умер, но сэр Томас Монсон был задержан и привлечен к суду. Было, однако, очевидно, что он слишком опасен, чтобы посылать его на эшафот. Он знал слишком много неприглядных тайн Иакова I, и в его предсмертной речи могли прозвучать разоблачения, компрометирующие короля. Дабы утаить старые грехи, потребовалось навлечь на себя новый: суд над сэром Томасом Монсоном был внезапно прекращен, а сам он был освобожден.
Так Иаков нарушил данную им клятву. Он уже начал опасаться, что слишком поспешно и рьяно взялся за судебное преследование отравителей. Король не сомневался ни в том, что Сомерсета признают виновным, ни в том, что тот рассчитывает на помилование и освобождение от наказания. Сидя в Тауэре, Сомерсет самонадеянно заявил, что Иаков не осмелится привлечь его к суду. В этом он ошибся, но Иаков действительно был в отчаянии. Какая у них была общая тайна, мы достоверно не узнаем никогда, но можем предполагать. Одни авторы считают, что ею являлся порок, которому Иаков был подвержен; другие утверждают, что она связана со смертью принца Генри — добродетельного молодого человека, относившегося к Сомерсету с особенным отвращением. Принц умер рано, отец о нем не скорбел, и в то время ходили слухи, что будто бы он был отравлен Сомерсетом. Возможно, то или иное преступление лежало тяжелым камнем на душе у короля, и он не мог предать Сомерсета, своего сообщника, публичной казни, не подвергаясь риску. Отсюда и те ужасные муки, что стали терзать Иакова, когда он узнал, насколько сильно его фаворит замешан в убийстве Овербери. Король пустил в ход все возможные средства, чтобы привести заключенного в «безопасное расположение духа». Ему был тайно передан совет признать себя виновным в предъявленном обвинении и положиться на милосердие короля. Та же рекомендация была передана графине. Король поручил Бэкону587составить официальный перечень всех тех пунктов «милосердия и покровительства» в отношении Сомерсета, которые вступали в силу после дачи им соответствующих показаний; и Сомерсету было вновь рекомендовано признать себя виновным и обещано, что ему не причинят впоследствии никакого зла.
Графиню судили первой. Во время чтения обвинительного акта она дрожала и плакала, а затем тихо сказала, что признаéт себя виновной. Когда ее спросили, почему, по ее мнению, она не заслуживает смертной казни, она кротко ответила: «Я знаю, что не достойна снисхождения. Вместе с тем я взываю о милосердии и уповаю на то, что лорды-судьи походатайствуют перед королем о помиловании». Ей был вынесен смертный приговор.
На следующий день судили графа. Он, похоже, не поверил посулам Иакова, ибо заявил о своей невиновности. С хладнокровием и уверенностью, проистекавшими, вероятно, из знания характера короля, он подверг свидетелей тщательному перекрестному допросу и упорно защищался от обвинения. По завершении процесса, длившегося одиннадцать часов, он был признан виновным и приговорен к смерти за предумышленное убийство.
Какие бы секреты ни объединяли преступника и короля, последний, невзирая на свою страшную клятву, побоялся утвердить смертный приговор подписью. Быть может, сделав это, он подписал бы оный и самому себе. Графа и графиню заключили в Тауэр, где они провели почти пять лет. По истечении данного периода, к изумлению и возмущению всей страны и позору ее верховного правителя, супруги получили амнистию. Им, однако, было запрещено появляться при дворе. Имущество графа, признанного виновным в тяжком уголовном преступлении, было ранее конфисковано, но Иаков пожаловал ему 4000 фунтов годового дохода! Большего бесстыдства нельзя было и вообразить.
О последующей жизни этих преступников известно лишь то, что любовь, которую они питали друг к другу прежде, сменилась взаимным отвращением и что они, живя вместе под одной крышей, не разговаривали месяцами.
Разоблачение их злодеяний не положило конца отравлениям. Наоборот, как мы увидим далее, оно породило ту безумную склонность к подражанию, что представляет собой столь загадочную особенность человеческого характера. Существует значительная вероятность того, что жертвой отравления пал сам Иаков. В комментариях к книге Харриса «Жизнь и сочинения Иакова I» есть обширная информация на эту тему. Вина Бекингема, хотя и не полностью доказанная, в значительной степени подтверждается обстоятельствами более подозрительными, нежели те, что в разное время привели сотни людей на эшафот. Считается, что на это преступление его толкнули страстное желание отомстить королю за ту холодность, с которой тот стал к нему относиться в последние годы правления, опасение, что Иаков намерен понизить его в чине588, и надежда на то, что большое влияние, которое он имел на престолонаследника, сохранится и в том случае, если тот вскоре станет королем.
Во втором томе «Харлейского альманаха» есть небольшое исследование под названием «Предтеча отмщения»589, написанное Джорджем Эглишемом, доктором медицины и одним из врачей Иакова I. Харрис, ссылаясь на этот труд, сообщает, что он полон злопамятства и предвзятости. Эти качества в нем, безусловно, наличествуют в избытке, но его все же можно считать звеном в цепи доказательств. Эглишем пишет: «Когда король заболел малярией, герцог не преминул этим воспользоваться и однажды, когда все лейб-медики обедали, предложил ему принять какой-то белый порошок, от чего тот долго отказывался, но, побежденный в итоге льстивою назойливостью герцога, принял-таки порошок с вином и сразу же почувствовал себя очень плохо. Состояние Его Величества продолжало ухудшаться; с ним случались частые болевые приступы и обмороки, он исходил кровавым поносом и так мучился, что в конце концов громко вскричал про означенный порошок: “О Боже, как бы я хотел никогда сие не принимать!”» Далее автор повествует о том, как «графиня Бекингем (мать герцога) приложила пластырь к тому месту на груди короля, где у человека находится сердце, после чего он ослабел, стал задыхаться и у него началась агония. Врачи закричали, что король отравлен. Бекингем приказал им покинуть королевские покои, посадил одного из них под домашний арест, приставив к нему усиленную охрану, а другому запретил появляться при дворе. После смерти Его Величества его тело и голова распухли сверх меры, волосы и кожа головы прилипли к подушке, а ногти на руках и ногах стали плохо держаться». Кларендон590, который, кстати, был одним из сторонников герцога, дает совершенно другое объяснение смерти Иакова. Он пишет: «Ее причиной стала малярия (после непродолжительного недомогания от подагры), которая в сочетании с избытком телесных жидкостей у тучного, неповоротливого человека пятидесяти восьми лет от роду после четырех или пяти приступов лихорадки отправила его в мир иной. Впоследствии появилось множество скандальных и клеветнических гипотез, которые, противореча результатам самого тщательного и беспристрастного посмертного расследования, какое только можно было провести, в высшей степени сомнительны и необоснованны. Необходимо уточнить, что появились они не сразу, а много позже, во времена излишней вольности, когда никто не боялся оскорблять их величеств и когда приумножение бесстыднейших упреков и дерзостей в адрес королевского дома считалось весьма похвальным занятием». Несмотря на это уверенное заявление, люди вряд ли когда-нибудь утвердятся во мнении, что в слухах, ходивших в ту пору, нет ни грана истины. Проведенное расследование не было, как утверждает Кларендон, тщательным, и могущественный фаворит пустил в ход все свое тайное влияние, дабы его замять. В знаменитых обвинениях, выдвинутых против Бекингема графом Бристолем, отравление Иакова хоть и на последнем месте в списке, но присутствует. Вообще говоря, страницы истории свидетельствуют о том, что были времена, когда их, не слишком тщательно заметая следы, поспешно вырывали.
Человеком, который, как считается, снабжал Бекингема ядами, был некий Доктор Лэм, заклинатель и знахарь, который, помимо торговли отравой, занимался гаданием. Массовая ярость, сравнительно безвредная для его покровителя, причиняла все больше беспокойства ему самому, и настало время, когда он уже не чувствовал себя в безопасности на улицах Лондона. Его судьба была печальной. Когда однажды, изменив, как ему казалось, до неузнаваемости внешность, он шел по Чипсайду, его узнали несколько уличных мальчишек, которые принялись улюлюкать и забрасывать его камнями, выкрикивая: «Отравитель! Отравитель! Кончайте с колдуном! Разделайтесь с ним!» Очень скоро собралась толпа, и знахарь, что есть мочи, пустился наутек. Началась погоня, и на Вуд-стрит он был пойман. Оттуда его за волосы протащили по мостовой до Сент-Полз-Кросс, где толпа стала избивать его палками и закидывать камнями с криками: «Смерть колдуну! Смерть отравителю!»
Карл I, узнав о беззаконии и решив положить ему конец, выехал с группой всадников из Уайтхолла, но прибыл слишком поздно, чтобы спасти жертву. Знахарь, которому переломали все кости, был уже мертв. Карл был крайне возмущен и оштрафовал городские власти на шестьсот фунтов за их неспособность привлечь к суду зачинщиков расправы.
Но случилось так, что наибольшее распространение отравление получило в Италии. Такое впечатление, что в этой стране к нему издревле относились как к идеальному законному способу избавления от врагов. Итальянцы XVI и XVII столетий травили своих противников так же решительно и безжалостно, как иной нынешний англичанин подает в суд на всякого, кто его оскорбил. Сочинения авторов той поры информируют нас, что в те времена, когда занимались своей жуткой торговлей Ла Спара и Ла Тофана, дамы ставили на туалетный столик флакон с ядом столь же открыто и пускали его в ход так же легко и непринужденно, как современные женщины душатся одеколоном или лавандовой водой. Влияние моды, как видно, настолько сильнó, что даже способно заставить относиться к убийству как к пустячному проступку.
В мемуарах последнего герцога де Гиза, который в 1647 году предпринял попытку захватить бразды правления в Неаполе, мы находим ряд любопытных деталей, характеризующих тогдашнее массовое умонастроение в части отравления. Человек по имени Дженнаро Аннезе, который после короткой и необычайной карьеры рыбака Мазаньелло591 стал своего рода бургомистром этого города, был настолько неугоден герцогу де Гизу, что приверженцы последнего решили его убить. Сделать это, как весьма невозмутимо сообщает герцог, было поручено капитану гвардейцев. Ему посоветовали воспользоваться кинжалом, но этот человек отнесся к подобной перспективе с благочестивым ужасом. Он был готов отравить Дженнаро Аннезе, когда бы его об этом ни попросили, но заколоть того кинжалом, сказал он, было бы деянием бесчестным и не подобающим офицеру гвардии! В итоге было решено прибегнуть к яду; и Аугустино Молла, юрист, находившийся под покровительством герцога и пользовавшийся его доверием, явился к своему господину и показал ему флакон с отравой. Далее приведен отрывок из мемуаров герцога.
«Аугустино пришел ко мне ночью и сказал: “Я принес вам то, что избавит вас от Дженнаро. Он заслуживает смерти, и то, как именно свершится правосудие, не имеет большого значения. Взгляните на сей пузырек, наполненный отменной прозрачной влагой: через четыре дня она покарает его за все его измены. Напоить его сей жидкостью взялся капитан гвардии; и, поелику она совершенно безвкусна, Дженнаро ничего не заподозрит”».
Далее герцог сообщает, что все было проделано должным образом, но Дженнаро, к счастью для себя, не ел в тот день на обед ничего, кроме капусты с растительным маслом, которое, подействовав как противоядие, вызвало у него обильную рвоту и спасло ему жизнь. Пять дней он чувствовал себя очень плохо, но так и не догадался, что его пытались отравить.
С течением времени торговля ядами стала прибыльным ремеслом. Через одиннадцать лет после вышеупомянутого случая она приняла в Риме такие масштабы, что бездеятельным властям пришлось преодолеть свою лень и вмешаться. Бекманн в «Истории изобретений» и Лебре в «Magazin zum Gebrauche der Staaten Kirche Geschichte», то есть «Собрании материалов по истории государственной церкви», пишут, что в 1659 году папе Александру VII сообщили о том, что чрезвычайно много молодых женщин признались в исповедальне, что они отравили мужей медленно действующим ядом. Католические священники, которые, как правило, свято хранят тайну исповеди, были потрясены и напуганы исключительной распространенностью данного преступления. Они сочли своим долгом известить главу церкви о широко практикуемых чудовищных злодеяниях, хотя и не стали выдавать имена раскаявшихся. Кроме того, весь Рим судачил о необычайном изобилии в городе молодых вдов. Было также замечено, что зачастую, когда супружеская чета становится несчастлива в браке, муж вскоре заболевает и умирает. Начав расследование, папские власти быстро узнали о существовании в городе группы молодых жен, которые с некоей загадочной целью собирались по ночам в доме старухи по имени Иеронима Спара. Эта карга была известной колдуньей и гадалкой и верховодила молодыми бессердечными особами, часть которых, как выяснилось позднее, принадлежала к самым знатным семействам Рима.
Для того чтобы получить несомненное доказательство злонамеренности означенных сборищ, власти воспользовались услугами одной молодой дамы, поручив ей во что бы то ни стало встретиться с подозреваемыми. Разодетая в пух и прах и щедро снабженная деньгами, она отправилась к дому Ла Спары, где, сообщив о цели визита, без особого труда добилась встречи с хозяйкой и ее гостьями. Она сказала, что испытывает невыносимые страдания от измен мужа и жестокого обращения с его стороны, и попросила Ла Спару снабдить ее несколькими каплями того замечательного эликсира, способность которого неизменно погружать жестокосердных мужей в «их последний долгий сон» сделала его столь популярным у римских дам. Ла Спара попалась в ловушку и продала ей несколько таких «капель» по цене, соразмерной с предполагаемым богатством покупательницы.
Добытый таким образом напиток был подвергнут анализу и оказался, как и подозревали, медленно действующим ядом без запаха, вкуса и цвета — вроде того, о котором говорится у герцога де Гиза. После этого дом был окружен полицией, а Ла Спара и ее подопечные взяты под стражу. Ла Спару, которая, согласно описанию, была низенькой уродливой старушкой, пытали, но она упрямо отказывалась признать себя виновной. Другая из этих женщин — Ла Гратиоза оказалась менее стойкой и выдала все секреты зловещего братства. Понимая, чего в действительности стóит признание, исторгнутое пыткой на дыбе (ровным счетом ничего), следует заметить, что вину Ла Спары и ее товарок можно считать доказанной и без него. Их признали виновными и приговорили к различным наказаниям в соответствии со степенью виновности. Ла Спара, Гратиоза и три молодые женщины, отравившие своих мужей, были вместе повешены в Риме. Более тридцати женщин прогнали плетьми по улицам, а некоторые, чье высокое общественное положение защитило их от более унизительного наказания, — оштрафованы на крупные суммы и изгнаны из страны. Спустя несколько месяцев еще девять женщин были повешены за отравление, и еще одну компанию, в которой было много молодых и красивых девушек, прогнали плетьми по улицам Рима в полуобнаженном виде.
Эти суровые меры не стали помехой для новых злодеяний; ревнивые женщины и алчные мужчины, стремившиеся поскорее вступить во владение наследством отцов, дядьев или братьев, прибегали к яду. Поскольку тот совсем не имел вкуса, цвета и запаха, отравляемые ни о чем не подозревали. Умелые продавцы составляли яды различной степени действия, поэтому отравителям нужно было лишь сказать, должна ли жертва умереть через неделю, месяц или полгода, и их обеспечивали соответствующими дозами. Продавцами являлись главным образом женщины, из которых наиболее знаменита особа по имени Тофана, ставшая таким образом соучастницей более чем шестисот убийств. Сообщается, что эта женщина торговала ядами с девичества и жила сначала в Палермо, а потом в Неаполе. Отец Леба, автор интересных путевых заметок, сообщил в своих письмах из Италии множество любопытных сведений о ней. Когда он в 1719 году был в Чивитавеккье, вице-король Неаполя узнал, что в последнем процветает торговля ядом, известным как aqueta, или «водица». Проведя расследование, он установил, что Тофана (которой в то время было почти семьдесят лет и которая, судя по всему, занялась своим дьявольским ремеслом вскоре после казни Ла Спары) рассылает в большом количестве эту отраву, разлитую в маленькие флаконы с надписью «Манна св. Николая из Бари», во все районы Италии.
Могила св. Николая из Бари была известна на всю Италию. Говорили, что из нее сочится чудодейственное масло, исцеляющее почти от всех телесных недугов при условии, что больной пользуется им с должной степенью веры. Хитрая Ла Тофана назвала так свой яд, чтобы обмануть бдительность таможенников, которые, как и все остальные итальянцы, относились к св. Николаю из Бари и его целебному маслу с благочестивым уважением.
Этот яд был аналогом того, который приготовляла Ла Спара. Ганеман, врач и основоположник гомеопатии, пишет, что яд Ла Тофаны представлял собой смесь нейтральных солей мышьяка и вызывал у жертвы постепенное ухудшение аппетита, тошноту, постоянные ноющие боли в желудке, упадок сил и токсический отек легких. Аббат Гальярди пишет, что отравители обычно добавляли несколько его капель в чай, горячий шоколад или суп и что действовал он медленно и почти незаметно. Гарелли, врач австрийского императора, в одном из писем к Гофману сообщает, что это был кристаллический мышьяк, растворенный вывариванием в большом количестве воды с добавлением (он не объясняет зачем) травы цимбаларии. Неаполитанцы называли его Aqua Toffnina, и он стал печально известен во всей Европе как Aqua Tophania.
Несмотря на то что эта женщина вела свою гнусную торговлю в таких масштабах, встретиться с ней было чрезвычайно сложно. Тофана жила в постоянном страхе разоблачения. Она часто меняла имена и местопребывание и, притворяясь крайне набожной, обреталась месяцами то в одном, то в другом монастыре. Каждый раз, когда риск обнаружения был, по ее мнению, больше обычного, она искала защиты у церкви. Когда ей поспешили сообщить, что ее разыскивают люди вице-короля, она по обыкновению нашла убежище в монастыре. То ли розыски велись не слишком усердно, то ли принимаемые ею меры предосторожности были исключительно эффективны, но ей удавалось обманывать бдительность властей несколько лет. Еще более удивительно то говорящее о степени разветвленности ее торговли обстоятельство, что последняя велась в указанный период с прежним размахом. Леба доводит до нашего сведения, что Ла Тофана питала такое сочувствие к тем несчастным женам, которые ненавидели мужей и хотели от них избавиться, но не могли из-за бедности заплатить за ее aqua, что отдавала им отраву задаром.
Ей не позволили, однако, играть в эту игру вечно; ее местонахождение — один из женских монастырей — было установлено, и больше деться ей было некуда. Вице-король неоднократно посылал игуменье прошение о ее выдаче, но безрезультатно. Аббатиса, пользуясь поддержкой архиепископа диоцеза, неизменно отвечала отказом. Раздуваемый тем самым статус преступницы возбудил в итоге такое любопытство у местного населения, что тысячи людей посетили монастырь с тем, чтобы увидеть ее хоть краем глаза.
От этих проволóчек терпение вице-короля, по всей видимости, истощилось. Будучи человеком импульсивным и не слишком рьяным католиком, он счел, что покрывать столь мерзкую преступницу не позволено даже церкви. Не посчитавшись с привилегиями монастыря, он послал туда отряд солдат, которые вломились внутрь и увели ее vi et armis592. Архиепископ, кардинал Пиньятелли, был глубоко возмущен и пригрозил отлучить от церкви вице-короля и весь город. Все нижестоящее духовенство, движимое esprit du corps593, приняло сторону архиепископа и так распалило суеверных и фанатичных прихожан, что те были готовы собраться в кучу, дабы взять приступом дворец вице-короля и освободить узницу.
Это были достаточно серьезные угрозы, но вице-король был не из тех, кого можно запугать. Поистине, все его дальнейшие шаги отличает редкое сочетание проницательности, хладнокровия и энергии. Дабы избежать отлучения и его неблагоприятных последствий, он поставил охрану вокруг дворца архиепископа, полагая, что последний окажется не настолько глуп, чтобы прибегнуть к анафеме, из-за которой будут голодать все неаполитанцы, не исключая его самого. Рыночные торговцы из окрестных поселений не отважились бы привозить в город продовольствие до снятия отлучения. Эта мера причинила бы слишком много неудобств самому кардиналу и его духовной братии; и, как и рассчитывал вице-король, сей добрый прелат приберег свои громы и молнии для более подходящего случая.
Однако, помимо этого, нужно было унять недовольство населения и устранить угрозу восстания. С этой целью правительственные агенты искусно внедрились в массы и распустили слух, что Тофана отравила все городские колодцы и другие источники воды. Этого оказалось достаточно. Людской гнев немедленно переключился на нее. Те, кто еще минуту назад считал ее святой, теперь обзывали ее дьяволицей и желали ее наказания так же страстно, как до этого — освобождения. Тофану подвергли пытке. Она созналась в длинной веренице преступлений и назвала всех, кто пользовался ее услугами. Вскоре она была задушена, а ее труп — переброшен через стену в огород того монастыря, где ее арестовали. Это, по-видимому, было сделано с тем, чтобы умиротворить священнослужителей, позволив им по крайней мере похоронить человека, который некогда находил пристанище в их владениях.
После ее смерти мания отравления, судя по всему, ослабла; но мы еще не коснулись того, как последняя проявила себя во Франции несколько раньше. В период с 1670 по 1680 год она пустила в этой стране столь глубокие корни, что мадам де Севинье в одном из своих писем выразила опасение, что слова «француз» и «отравитель» станут синонимами.
Здесь, как и в Италии, правительство впервые узнало о широком распространении таких преступлений от служителей церкви, которым женщины, принадлежавшие главным образом к высшему и частично — к среднему и мелкому дворянству и третьему сословию, признались на исповеди в отравлении своих мужей. На основании этих разоблачений были арестованы и брошены в Бастилию два итальянца, Эксили и Глазер. Им было предъявлено обвинение в приготовлении и продаже снадобий, с помощью которых были совершены означенные убийства. Глазер умер в тюрьме, а Эксили провел в ней без суда семь месяцев. Там вскоре после ареста он свел знакомство с другим заключенным, Сен-Круа, пример которого в значительной степени способствовал распространению преступлений данной категории среди французов.
Наиболее пресловутым отравителем из числа тех, кто почерпнул свои пагубные познания от этого человека, стала молодая женщина, мадам де Бренвилье, в силу происхождения и замужества состоявшая в родстве с некоторыми из самых знатных семейств Франции. Известно, что она с самых ранних лет была жестокой и развратной и, если верить ее собственному признанию, лишилась невинности, еще не достигнув подросткового возраста594. Вместе с тем она отличалась красотой и безупречными манерами и казалась окружающим образцом добродетели. Гийо де Питавель в «Знаменитых судебных процессах»595 и мадам де Севинье в своих письмах изображают ее как кроткую и милую особу, чье выражение лица никак не обнаруживало ее порочного нутра. В 1651 году она вышла замуж за маркиза де Бренвилье, с которым прожила несколько несчастливых лет. Он был легкомысленным и распущенным субъектом и познакомил жену с Сен-Круа — человеком, который разрушил ее жизнь и втягивал ее то в одно, то в другое преступление, пока ее злодеяния не стали столь чудовищными, что одна мысль о них приводит в содрогание. Она воспылала к нему преступной страстью, для удовлетворения которой сразу же погрузилась в пучину греха. Эта женщина, прежде чем на нее пало возмездие, достигла ее самых отвратительных глубин.
Она, как уже было сказано, производила самое благоприятное впечатление на посторонних и не встретила особых затруднений в удовлетворении иска о раздельном жительстве, ибо ее муж в отличие от нее не умел скрывать свои пороки. Судебное разбирательство стало для ее семьи настоящим ударом. После этого она, видимо, окончательно сбросила с себя маску благопристойности и стала встречаться со своим любовником Сен-Круа столь открыто, что ее отец месье д’Обрэ, шокированный ее поведением, добился издания lettre de cachet596, и ее любовник был на год заключен в Бастилию.
Сен-Круа, который какое-то время прожил в Италии, неплохо разбирался в ядах. Он знал кое-какие секреты мерзостной Ла Спары и расширил свои познания в данной области с помощью Эксили, с которым быстро свел что-то вроде дружбы. Тот сообщил ему, что, помимо жидких ядов, используемых в Италии, существует так называемый «порошок для нетерпеливых наследников», и рассказал, как приготовить это снадобье, о котором впоследствии узнала вся Франция. Сен-Круа, как и его любовница, производил впечатление приветливого, остроумного и хорошо воспитанного человека и успешно утаивал от окружающих две терзавшие его душу неистовые страсти — жажду мести и алчность. Семье д’Обрэ было суждено испытать их на себе в полной мере: первую — из-за того, что они упекли его в тюрьму, а вторую — потому, что они были богаты. Отчаянный игрок и мот, он постоянно нуждался в деньгах, а снабжать его ими было некому, кроме мадам де Бренвилье, чьего приданого для постоянного потакания его прихотям было явно недостаточно. Не находя себе места при мысли о грядущих финансовых затруднениях, он задумал отравить ее отца, месье д’Обрэ, и двух ее братьев, дабы она унаследовала их собственность. Для такого негодяя, как он, тройное убийство было пустяком. Он сообщил свой гнусный замысел мадам де Бренвилье, и та без малейших колебаний согласилась ему помочь: он взял на себя приготовление ядов, а она — применение оных. Рвение и живость, с которыми она взялась за дело, поистине невероятны. Она оказалась способной ученицей Сен-Круа и быстро стала таким же специалистом по приготовлению ядов, как и он. Чтобы опробовать силу действия первой дозы, де Бренвилье кормила отравой собак, кроликов и голубей. Потом, желая дополнительно удостовериться в степени эффективности ядов, она обходила больницы и якобы из милосердия кормила бедных пациентов отравленным супом597. Яды, естественно, были приготовлены с таким расчетом, чтобы ни один из них не убивал человека после приема первой дозы. Это делалось, в частности, потому, что маркизе нужно было на ком-нибудь их испытать, не рискуя совершить убийство. Однажды она проделала этот отвратительный эксперимент на сидевших за обеденным столом гостях отца, накормив их отравленным пирогом с голубятиной. Затем для пущей уверенности она отравила сама себя! Убедившись путем этой отчаянной пробы в действенности отмеренной дозы, она приняла противоядие, которое ей дал Сен-Круа, и, когда все ее сомнения улетучились, взялась за своего убеленного сединами отца. Первую дозу она подмешала ему в горячий шоколад. Яд подействовал должным образом. Старик почувствовал недомогание, и его дочь, исполненная, казалось, нежности и тревоги, дежурила у его постели. На следующий день она принесла ему мясной бульон, который порекомендовала как очень питательный. Бульон тоже был отравлен. Так она постепенно изнуряла его организм, и не прошло и десяти дней, как он стал хладным трупом! Его смерть была так похожа на результат болезни, что не вызвала никаких подозрений.
Когда ее братья прибыли из провинций, дабы выполнить последний скорбный долг перед родителем, они нашли сестру в таком горе, на которое, казалось, была неспособна и сыновняя любовь: молодые люди не подозревали, что своим приездом лишь ускорили собственную кончину. Они стояли между Сен-Круа и золотом, которое уже наполовину находилось в руках последнего, и их участь была решена. Дабы яды попали по назначению, Сен-Круа подкупил человека по фамилии Лашоссе, и менее чем через шесть недель обоих братьев проводили в последний путь.
Их смерть выглядела подозрительно, но все было сделано настолько осторожно, что никаких улик не осталось. У маркизы была сестра, которой смерть родных давала право на половину их имущества. Сен-Круа не хотел ни с кем делиться и решил, что она должна умереть той же смертью, что и ее отец и братья. Она, однако, была слишком недоверчива и уехала из Парижа, избежав уготованного ей умерщвления.
Маркиза пошла на эти убийства, чтобы угодить любовнику. Теперь она горела желанием утолить собственную прихоть. Она хотела выйти замуж за Сен-Круа, но, несмотря на то что жила отдельно от мужа, разведены они не были. Она думала, что проще его отравить, нежели подавать на развод, в котором ей могли отказать. Но Сен-Круа больше не испытывал к орудию осуществления своего преступного замысла никакой любви. Скверные люди не восторгаются теми, кто так же скверен, как и они. Будучи злодеем сам, он отнюдь не стремился жениться на злодейке и уж никак не желал смерти маркиза. Тем не менее сделал вид, что рад ей помочь, и снабдил ядом для отравления мужа, позаботившись, однако, и о противоядии. В один день ла Бренвилье давала супругу яд, а на следующий день Сен-Круа так или иначе ухитрялся дать ему противоядие. Так он какое-то время был своего рода заслоном между ними и в конце концов скрылся, имея за спиной три трупа, одно загубленное здоровье и одно разбитое сердце.
Но день возмездия был близок, и вскоре из-за ужасной случайности убийства стали достоянием гласности. Яды, приготовляемые Сен-Круа, были настолько смертоносными, что ему приходилось работать с ними в маске, чтобы не задохнуться. Однажды маска соскользнула, и этот презренный негодяй разделил участь своих жертв. Наутро его тело было обнаружено в темной комнате, которую он снимал и оборудовал под лабораторию. Поскольку у него, по-видимому, не было ни друзей, ни родственников, его имущество забрала полиция. Среди прочего была найдена шкатулка, к которой был прикреплен необычный документ следующего содержания:
«Смиренно прошу тех, в чьи руки попадет сия шкатулка, оказать мне услугу, передав оную в руки единственно маркизы де Бренвилье, проживающей на улице Нёв-Сен-Поль, поелику все, что в ней находится, касается только ее и принадлежит ей одной; более того, в шкатулке нет ничего, чем мог бы воспользоваться кто-либо, кроме маркизы. В том случае, если она умрет раньше меня, прошу сжечь шкатулку со всем содержимым, не открывая и ничего не изымая. Дабы читающие эти строки сознавали свою ответственность, я клянусь Богом, коему поклоняюсь, и всем, что чтится как святыня, что не утверждаю ничего, кроме правды; и, если кто бы то ни было не исполнит по собственной воле мои пожелания, как есть справедливые и приемлемые, или помешает исполнению оных, пусть это останется на его совести как в этом мире, так и в мире ином, с тем чтобы моя совесть была чиста. Торжественно заявляю, что это моя последняя воля.
Составлено в Париже 25 мая 1672 года. (Подпись) Сен-Круа».
Это ревностное настояние вызвало, вопреки желанию его автора, не уважительное стремление его исполнить, а любопытство. Шкатулку открыли и обнаружили какие-то документы, а также несколько пузырьков с жидкостью и пакетиков с порошком. Последние были переданы в химическую лабораторию для анализа, а бумаги остались у полицейских. Среди них была найдена долговая расписка маркизы де Бренвилье на сумму тридцать тысяч франков, оплачиваемая по векселю на имя Сен-Круа. Другие бумаги были более важными, так как изобличали маркизу и ее слугу Лашоссе в недавних убийствах. Как только она узнала о смерти Сен-Круа, попыталась завладеть его бумагами и шкатулкой, но, получив отказ, поняла, что нельзя терять ни минуты, и немедленно покинула Париж. Наутро полиция напала на ее след, но ей удалось бежать в Англию. Лашоссе оказался не столь удачлив. Ничего не зная о той роковой случайности, что вывела его на чистую воду, он не помышлял об опасности. Он был арестован и предан суду; его пытали, и он признался, что отравил братьев д’Обрэ и получил за это от Сен-Круа и мадам де Бренвилье сто пистолей и обещание пожизненной ренты. Его приговорили к колесованию, а маркизу (заочно) — к отсечению головы. Он был казнен в Париже, на Гревской площади, в марте 1673 года.
Ла Бренвилье, судя по всему, безвыездно прожила в Англии около трех лет. В начале 1676 года, решив, что накал преследования спал и можно рискнуть вернуться на континент, она тайно приехала в Льеж. Несмотря на принятые ею меры предосторожности, французские власти были вскоре проинформированы о ее возвращении, и с муниципалитетом этого города была быстро достигнута договоренность, давшая агентам французской полиции право на арест преступницы в пределах его юрисдикции. С этой целью из Парижа выехал Дегре, офицер Maréchaussée598. По прибытии в Льеж он узнал, что маркиза нашла убежище в одном из женских монастырей. Оттуда рука закона, хоть и длинная, но не всевластная, извлечь ее не могла, но Дегре был не из тех, кто пасует перед препятствиями, и решил добиться хитростью того, чего нельзя было добиться силой. Переодевшись священником, он сумел проникнуть в монастырь и добиться встречи с ла Бренвилье. Он сказал, что он француз, который, проезжая через Льеж, не мог позволить себе покинуть город, не нанеся визита даме, чьи красота и невзгоды сделали ее столь знаменитой. Комплимент потешил тщеславие маркизы. Дегре, если воспользоваться вульгарным, но метким выражением, понял, что «нащупал ее слабую струну», и продолжал осыпать ее словами любви и восхищения до тех пор, пока обманутая маркиза окончательно не утратила бдительность. Она без особых колебаний согласилась встретиться с ним за стенами монастыря, где продолжение их интрижки было более уместным. Верная договоренности с новоявленным «возлюбленным», она пришла в условленное место и оказалась не в объятиях вздыхателя, а под арестом у полицейского.
Процесс по ее делу продвигался быстро. Доказательств было в избытке. Для вынесения приговора хватило бы и признания Лашоссе, подтвержденного его публичным предсмертным заявлением, но судьи располагали еще и такими уликами, как странный документ, прикрепленный к шкатулке Сен-Круа, бегство маркизы из страны и, что изобличало ее в наибольшей степени, найденная среди вещей Сен-Круа бумага, которая была написана ее собственной рукой и представляла собой подробный отчет о всех совершенных ею злодеяниях, включая убийство отца и братьев, составленный в выражениях, не позволяющих сомневаться в ее виновности. Пока шел суд, Париж бурлил. Все только и говорили, что о ла Бренвилье. Все детали ее преступлений сообщались в газетах, которые раскупались с лихорадочной быстротой, и мысль о тайном отравлении впервые зародилась у сотен тех, кто позднее к нему прибегнул.
16 июля 1676 года Высший уголовный суд Парижа признал маркизу виновной в убийстве отца и братьев и покушении на жизнь сестры599. Приговор предписывал привезти ее, босоногую, с веревкой на шее и с зажженным факелом в руке, на повозке к главному входу в Собор Парижской богоматери, где она должна была прилюдно сделать amende honorable600; оттуда ее надлежало доставить на Гревскую площадь и там обезглавить. После этого ее тело должно было быть сожжено, а пепел — развеян по ветру.
По вынесении приговора маркиза полностью признала свою вину. Она, казалось, не боялась смерти, но это свидетельствовало скорее об отчаянии, чем о силе духа. Мадам де Севинье пишет, что, когда маркизу везли на повозке к месту казни, она умоляла исповедника заставить палача встать на помосте так, чтобы она не видела за ним «этого подлеца Дегре, заманившего ее в ловушку». Кроме того, она спросила каких-то женщин, прильнувших к окнам, чтобы понаблюдать за процессией, чего, мол, уставились, и добавила: «Дивное, видать, зрелище!» На эшафоте она смеялась и умерла так же, как и жила, — нераскаянной и бессердечной. Наутро парижане толпами устремились к месту казни, чтобы собирать ее прах и хранить его как реликвию. Они считали ее святой мученицей и верили, что Господь милостиво наделил ее пепел силой исцеления от всех болезней. Известно немало случаев, когда людская глупость канонизировала тех, чьи претензии на святость были крайне сомнительны, но то отвратительное недомыслие, которое толпа проявила в данном эпизоде, является непревзойденным.
Незадолго до ее казни было назначено следствие по делу месье де Панотье, казначея провинции Лангедок и генерального сборщика податей в пользу духовенства, которого дама по фамилии Сен-Лоран обвинила в том, что он отравил ее мужа, предыдущего генерального сборщика, дабы занять его пост. Обстоятельства этого дела так и не были обнародованы, и было оказано сильнейшее давление сверху, чтобы оно не переросло в судебный процесс. Было известно, что этот человек водил дружбу с Сен-Круа и мадам де Бренвилье, и подозревали, что те снабдили его отравой. Маркиза, однако, отказалась сообщать что-либо, что могло подтвердить его преступный умысел. В итоге, после того как Панотье несколько месяцев просидел в Бастилии, расследование было замято.
Одним из сообщников Панотье тогдашние сплетники называли кардинала де Бонзи. С доходов от своих владений кардинал обеспечивал выплату ряда крупных ежегодных рент, однако в тот период, когда отравление вошло во Франции в моду, все получатели ренты один за другим поумирали. Впоследствии кардинал, касаясь этих людей в разговорах, имел обыкновение говорить: «Благодаря моей счастливой звезде я пережил их всех!» Какой-то остряк, увидев однажды, как святой отец едет с Панотье в одной карете, воскликнул, намекая на эту фразу: «Вон едут кардинал де Бонзи и его счастливая звезда!»
Шло время, и мания отравления ширилась. Со второй половины 1676 года по 1682 год тюрьмы Франции кишели теми, кто в нем обвинялся, и весьма примечательно, что с увеличением количества отравлений число других преступлений примерно в той же пропорции уменьшалось. Мы уже знаем, до какой степени означенная мания дошла в Италии. Во Франции, сколь бы это ни казалось невероятным, она достигла еще бóльших масштабов. Злонамеренных соблазняла та дьявольская легкость, с которой можно было совершать такие убийства, пользуясь ядами, не имеющими ни запаха, ни вкуса. И они — из ревности, мстительности, алчности и даже мелкой вражды — их совершали. Те, кто из страха разоблачения не стал бы прибегать к пистолету или кинжалу, или даже к такой дозе того или иного яда, которая убивает мгновенно, безбоязненно пускали в ход медленно действующие яды. И хотя тогдашнее коррумпированное правительство порой смотрело сквозь пальцы на злодейства столь богатых и влиятельных придворных, как Панотье, оно было возмущено степенью распространенности данного преступления среди широких слоев населения. Слово «француз» действительно стало ассоциироваться у европейцев с позорным злодеянием. Чтобы положить этому конец, Людовик XIV учредил так называемую Огненную палату (Chambre Ardente) — чрезвычайный суд, наделенный правом приговаривать к сожжению601.
В то время наиболее печальную известность приобрели две женщины, с помощью которых были умерщвлены сотни людей. Их звали Лавуазен и Лавигорё; обе жили в Париже. Подобно Спаре и Тофане, которым эти злодейки подражали, они продавали яды женщинам, мечтавшим избавиться от мужей, за исключением единичных случаев, когда покупателями являлись мужчины, решившие отделаться от жен. Для отвода глаз они занимались акушерством. Помимо того, они были известны как гадалки, и к ним обращались люди всякого звания. Богатые и бедные толпами осаждали их mansardes602, чтобы узнать тайны будущего. Предсказывали они главным образом смерть. Они сообщали женщинам о близкой кончине мужей, а бедствующим наследникам — о скором переселении в мир иной состоятельных родственников, которые заставили их, как пишет Байрон, «ждать очень, очень долго». Обычно, не полагаясь на провидение, они сами заботились о том, чтобы их предсказания исполнялись. Они говорили своим гнусным нанимателям, что предвестием приближающейся смерти будет какой-нибудь «знак» в их доме — вроде разбитого стакана или фарфоровой чашки, и платили слугам и служанкам немалые деньги, чтобы те как бы нечаянно разбивали тот или иной предмет точно в условленное время. Будучи повитухами, они узнавали секреты многих семей и впоследствии извлекали из них мерзкий барыш.
Не известно, как долго они вели эту ужасную торговлю, прежде чем их разоблачили. Они обе были арестованы в конце 1679 года. Их судили, признали виновными и 22 февраля 1680 года сожгли заживо на Гревской площади после того, как кисти их рук были пронзены раскаленным докрасна железным прутом и отрублены. Также были выявлены и преданы суду их многочисленные соучастники в Париже и провинциях. Согласно одним авторам, тридцать, а другим — пятьдесят таковых, главным образом женщины, были повешены в главных городах страны.
Лавуазен вела список тех, кто приходил к ней домой покупать яды. Этот документ был изъят полицией при аресте и фигурировал на судебных процессах. В списке среди прочих были имена маршала де Люксембурга, графини де Суассон и герцогини де Бульон. Маршал, видимо, был повинен лишь в том, что совершил постыдную глупость, посетив женщину такого пошиба, но современники вменяли ему в вину нечто большее. Автор «Воспоминаний о Европе после Утрехтского мира» пишет: «Члены презренной шайки, занимавшейся торговлей ядами и прорицанием, показали, что он продал душу дьяволу и помог отравить молодую девушку по фамилии Дюпен. Помимо всего прочего они сообщили, что он заключил договор с дьяволом, с тем чтобы женить своего сына на дочери маркиза Лувуа. На это ужасное и нелепое обвинение маршал, который добровольно явился в Бастилию по предъявлении первого обвинения, со смешанным чувством гордости и сознания своей невиновности ответил: “Когда Матьё де Монморанси, мой предок, женился на вдове Людовика Толстого, он обратился за помощью не к дьяволу, а к королевской курии, дабы обеспечить малолетнему королю поддержку дома Монморанси”. Этот мужественный человек был посажен в камеру длиной шесть с половиной футов, и суд над ним, прерванный на несколько недель, длился в общей сложности год и два месяца. Никакого приговора ему вынесено не было».
Графиня Суассонская, предпочитая не рисковать жизнью и свободой на судебном процессе, бежала в Брюссель и так никогда и не смыла с себя подозрение в попытке отравить королеву Испании дозами «порошка для нетерпеливых наследников». Герцогиня Бульонская была арестована и предана суду Огненной палаты. Похоже, однако, что в медленно действующих ядах она не нуждалась, а лишь пыталась приоткрыть завесу грядущего с помощью дьявола. Один из председателей палаты, уродливый старичок Ларейни, весьма серьезно спросил ее, видела ли она дьявола, на что эта дама, глядя ему прямо в глаза, ответила: «О, да! Я вижу его сейчас. Он явился мне в образе безобразного старикашки, который исключительно злобен и облачен в мантию государственного советника». Месье Ларейни благоразумно воздержался от дальнейших вопросов в адрес дамы со столь хорошо подвешенным и острым языком. Герцогиню несколько месяцев продержали в Бастилии и, после того как следствие зашло в тупик из-за отсутствия доказательств, освободили по ходатайству ее могущественных друзей. Суровое наказание сановных отравителей могло бы умерить неистовую подражательность простого люда, но их сравнительная безнаказанность дала обратный эффект. Случай с Панотье и его, так сказать, работодателем, богатым кардиналом де Бонзи, имел самые пагубные последствия. Следующие два года ознаменовались потоком изощренных отравлений, пресечь который удалось лишь тогда, когда более ста человек были отправлены на костер и на виселицу603.
Дома с привидениями
Here’s a knocking indeed!.. Knock!
knock! knock!
…Who’s there, i’ the name o’
Beelzebub?..
Who’s there, i’ the devil’s name? Knock!
knock! knock! —
Never at quiet!
— Macbeth604.
Кто из нас хоть однажды не видел или не слышал про заколоченный и необитаемый, обветшалый, запыленный и мрачный дом, из которого в полночные часы доносятся странные звуки — таинственный стук, лязг цепей и стоны потревоженных духов, — дом, мимо которого люди боятся ходить по ночам, который годами стоит без владельца и в который никто не вселится даже за деньги? В современной Англии таких домов сотни; их сотни во Франции, в Германии и едва ли не во всех остальных странах Европы. Являясь, согласно поверьям, обителями призраков и злых духов, они вызывают у людей страх; робкие обходят их стороной, а набожные, проходя мимо, крестятся и просят защиты у Всевышнего. Таких домов много в Лондоне; и любому из тех, кто любит порассуждать о высокоразвитом человеческом интеллекте, достаточно справиться о местонахождении означенных строений и сосчитать оные, дабы утвердиться в мысли, что предмету их гордости предстоит сделать еще несколько гигантских шагов, прежде чем застарелые суеверия такого рода будут искоренены.
Мысль, что подобные дома существуют, суть пережиток веры в колдовство, который заслуживает отдельного рассмотрения благодаря тому, что он представляет собой не столько безумие, сколько относительно безвредное недомыслие. В отличие от других воззрений, порожденных верой в черную магию и уже достаточно подробно нами рассмотренных, оно не привело ни одного несчастного на костер или на виселицу, и лишь нескольких человек выставили из-за него к позорному столбу.
Многие дома приобрели такую репутацию и стали пугалом слабохарактерных и легковерных в силу обстоятельств настолько банальных, что для того, чтобы немедленно в них разобраться и развеять все свои тревоги, жертвам означенного легковерия не хватало лишь некоторой живости ума. Один из домов в Ахене, большое и запущенное на вид здание, простоял необитаемым пять лет из-за таинственных стуков, которые были слышны внутри него в любое время дня и ночи. Никто не мог объяснить эти звуки, и в конце концов страх принял такие масштабы, что жильцы соседних домов отказывались от аренды и перебирались в другие районы города, где вторжение нечистой силы представлялось менее вероятным. Будучи так долго нежилым, дом стал в итоге столь обветшалым, грязным и страшным и столь похожим на обиталище привидений, что лишь немногие отваживались проходить мимо него с наступлением сумерек. Стук, раздававшийся в одной из комнат на верхнем этаже, был не очень громким, но весьма регулярным. Местные сплетники утверждали, что они часто слышат стоны, доносящиеся из подвалов, и видят огни, перемещающиеся от окна к окну сразу после того, как часы пробьют полночь. Говорили также, что в окнах порой видны призраки в белых одеждах, которые что-то быстро и невнятно говорят; но все эти россказни не выдержали проверки. Стуки, однако, были неоспоримым фактом, и хозяин дома предпринял ряд безуспешных попыток выяснить их причину. Комнаты окропили святой водой, священник по всем правилам приказал злым духам убираться в преисподнюю605, но стуки, несмотря на все принятые меры, не прекратились. Их причина обнаружилась случайно, и жители района вновь стали спать спокойно. Хозяин дома, теряя из-за оного не только покой, но и деньги, продал его по разорительно низкой цене, дабы избавиться от связанных с ним неприятностей. Новый владелец, находясь в одной из комнат на втором этаже, заметил, что ведущая в нее дверь громко хлопнула о нижнюю часть дверной рамы и тут же приоткрылась не более чем на два дюйма. Он постоял с минуту и понаблюдал, и то же самое повторилось дважды. Он внимательно обследовал дверь, и загадка была разгадана. Дверь, у которой был сломан замок с защелкой, не запиралась и к тому же была разболтана на нижней петле. Прямо напротив находилось окно, одно стекло в котором было разбито; и когда ветер дул в определенном направлении, начинался сквозняк, который с силой притягивал дверь к дверной раме. Замок не срабатывал, и она от удара открывалась опять, а когда налетал новый порыв ветра, все повторялось. Новый домовладелец незамедлительно послал за стекольщиком, и загадочные шумы прекратились навсегда. Дом был заново отштукатурен и покрашен и вернул себе доброе имя. Прошло, однако, два или три года, прежде чем страсти улеглись до конца; и даже после этого многие люди никогда не проходили мимо злополучного строения, если могли добраться до места назначения по другой улице.
Сэр Вальтер Скотт в «Записках о демонологии и колдовстве» рассказывает похожую историю, героем которой является один высокородный дворянин, известный политик. Вскоре после того как он унаследовал титул и владения, его слуги стали поговаривать о странных звуках, которые раздавались по ночам в фамильном особняке и причину которых никто не мог установить. Дворянин решил выяснить ее сам и для этого заручился поддержкой старого слуги, который работал на его семью уже очень давно и, как и остальная прислуга, то и дело упоминал о стуке, начавшемся сразу после смерти его прежнего хозяина. Бдительность этих двоих была в итоге вознаграждена: они услышали означенный стук и в конце концов определили, что он доносится из кладовки, в которой хранилась разная снедь и от которой у старика-дворецкого был ключ. Они вошли внутрь и некоторое время простояли в полной тишине. Наконец они услышали звук, который привел их к кладовке; но он был гораздо тише, чем тогда, когда они еще находились снаружи, и происходящее стало казаться им еще более непостижимым. Затем они без труда обнаружили причину шума. Его издавала крыса, которая попала в крысоловку старинной конструкции и пыталась из нее выбраться. Ей удавалось немного приподнять опускную дверцу ловушки, но на большее ее сил не хватало, и она на какое-то время оставляла свои бесплодные попытки. Разносившиеся по дому звуки падения дверцы и являлись причиной зловещих слухов, которые, если бы не расследование, проведенное его владельцем, принесли бы, по всей вероятности, столь дурную славу жилищу оного, что все слуги попросили бы расчет и нанять новых вряд ли бы удалось. Про этот случай сэру Вальтеру Скотту рассказал тот самый джентльмен, с которым он приключился.
Однако в большинстве случаев дома, которые приобрели репутацию обителей демонов и душ мертвецов, были больше обязаны за это жульническим проделкам живых людей, нежели обстоятельствам, от последних не зависящим. Так, шестеро монахов ловко разыграли того славного короля Людовика, который благодаря своей набожности вошел в историю Франции под прозванием «Святой». Услышав однажды, как его духовник превозносит до небес доброту и ученость монахов ордена св. Бруно, он решил основать их общину неподалеку от Парижа. Бернар де ла Тур, глава ордена, отрядил к королю шестерых братьев, и Людовик выделил им для проживания большой дом в селении Шантильи. Случилось так, что из окон этого дома открывался замечательный по красоте вид на старинный дворец Вовер, который был построен Робертом II Благочестивым как одна из королевских резиденций, но долгие годы пустовал. Любезные братья полагали, что дворец подошел бы им как нельзя лучше, но превеликая скромность не позволяла им просить короля преподнести им его в дар напрямую. Требовалось найти иной выход из положения, и монахи, пустив в ход всю свою изобретательность, придумали хитрый план. До их появления в окрестностях дворца Вовер последний никогда не пользовался дурной славой, однако почти сразу же после сего знаменательного события он начал таковую приобретать. По ночам из него доносились душераздирающие вопли; в окнах внезапно начинали мерцать и столь же внезапно гасли голубые, красные и зеленые огни; слышался звон цепей и крики, какие издают люди, испытывающие сильную боль. Эти безобразия продолжались несколько месяцев, повергая в ужас как население округи, так и глубоко религиозного Людовика, которому в Париже регулярно сообщали все связанные с дворцом слухи, попутно приукрашенные множеством новых деталей. В конце концов в главном окне дворца каждый день ровно в полночь стал появляться самый настоящий призрак. Одетый во все зеленое, имевший длинную белую бороду и хвост змея, он жутко завывал и грозил кулаками проходящим мимо запоздалым путникам. Шестеро монахов из Шантильи, которым обо всем этом исправно рассказывали местные жители, были крайне разгневаны тем, что дьявол выкидывает подобные номера прямо напротив их жилища, и дали понять членам комиссии, присланной Людовиком Святым для проведения расследования, что, если бы им разрешили поселиться во дворце, они мигом очистили бы его от злых духов. Король был поистине очарован благочестием монахов и решил отблагодарить их за бескорыстие. Тотчас был составлен документ, на котором появилась собственноручная подпись короля, и дворец Вовер перешел во владение ордена св. Бруно. Этот документ датирован 1259 годом. Никаких зловещих звуков из дворца больше не доносилось, огни в его окнах больше не загорались, а зеленое привидение (по словам монахов) обрело вечный покой в глубинах Красного моря606.
В 1580 году некто Жиль Блакр арендовал дом на окраине Тура, но, придя впоследствии к выводу о невыгодности сделки, заключенной с домовладельцем Пьером Пике, попытался убедить его расторгнуть договор. Тот, однако, был доволен арендатором и условиями аренды и не желал идти ни на какие компромиссы. Очень скоро по всему Туру распространился слух, что дом Жиля Блакра населен призраками. Сам Жиль утверждал, что он ничуть не сомневается в том, что его жилище является излюбленным местом сбора всех ведьм и злых духов Франции. Шум, который те издавали, был ужасен и совершенно не давал ему спать. Они стучали по стенам, завывали в дымоходах, били оконные стекла, разбрасывали посуду по всей кухне и заставляли стулья и столы подпрыгивать ночи напролет. Вокруг дома, желая услышать таинственные звуки, толпился народ; при этом, по словам очевидцев, от стен то и дело отваливались кирпичи, которые падали на головы тех, кто поутру вышел на улицу, забыв прочесть «Отче наш». Шло время, ничего не менялось, и Жиль Блакр подал жалобу в турский гражданский суд. Пьер Пике был вызван на судебное заседание для объяснения причин невозможности расторжения договора об аренде. Бедняге Пьеру было нечего сказать в свою защиту, и судьи единогласно постановили, что при подобных обстоятельствах договор об аренде не имеет законной силы, и аннулировали оный, приговорив достойного сожаления домовладельца к возмещению всех судебных издержек. Пике подал апелляцию в парижский парламент, и тот после длительного разбирательства отменил приговор. «Не потому, — сказал судья, — что не было полностью и удовлетворительно доказано, что в доме бесчинствует нечистая сила, а из-за того, что на процессе, проведенном в турском гражданском суде, было допущено отступление от формы, сделавшее вынесенное им решение недействительным».
В 1595 году аналогичное дело слушалось в парламенте Бордо. Оно касалось одного из бордоских домов, съемщику которого не было, по его словам, житья от злых духов. Парламент уполномочил нескольких священнослужителей провести расследование и отчитаться о результатах, и, после того как те подтвердили обоснованность иска, договор об аренде был аннулирован, а арендатор — освобожден от арендной платы и налога на недвижимость607.
Одной из самых замечательных историй дома с привидениями является та, что случилась с королевским дворцом Вудсток в 1649 году, когда комиссары, присланные из Лондона Долгим парламентом, чтобы овладеть им и уничтожить все имевшиеся внутри и снаружи символы королевской власти, покинули его из-за страха перед дьяволом и тех неприятностей, которые им причинил один проказливый «кавалер», мастерски расстроивший их планы. Комиссары, еще не боясь никакого дьявола, прибыли в Вудсток 13 октября 1649 года. Поселившись в покоях последнего короля, они превратили великолепные спальни и гостиные в кухни и судомойни, зал заседаний совета — в пивоварню, а столовую — в дровяной склад. Они посрывали все монархические эмблемы и крайне небрежно обращались со всем, что так или иначе напоминало им о Карле I Стюарте. С ними приехал некто Джайлз Шарп, который был у них письмоводителем и поддерживал все их начинания, на первый взгляд, с величайшим энтузиазмом. Он помог им выкорчевать величественное старое дерево, обреченное единственно из-за своего названия — «Королевский дуб», и перетаскал в столовую куски оного, дабы у комиссаров не было недостатка в дровах. Первые два дня в доме раздавались какие-то странные звуки, но комиссары не уделяли им особого внимания. На третий день, однако, они стали подозревать, что попали в дурную компанию, ибо слышали, как им казалось, как какая-то сверхъестественная собака, неведомо откуда попавшая к ним под кровать, грызет постельное белье. На следующий день, по видимости, самопроизвольно затанцевали стулья и столы. На пятый день кто-то проник в королевскую опочивальню и, расхаживая взад и вперед, издавал такой грохот с помощью металлической грелки, принесенной из гостиной, что им казалось, будто у них в ушах раздается звон пяти церковных колоколов. На шестой день кто-то разбросал по всей столовой тарелки и миски. Седьмой ознаменовался проникновением в спальню неизвестных, которые положили на мягкие подушки комиссаров по полену. В восьмую и девятую ночи никаких враждебных действий не наблюдалось, но десятая была омрачена тем, что в дымоходах шевелились кирпичи, которые в итоге с грохотом падали на пол и подпрыгивали, не давая спать комиссарам, до самого утра. В одиннадцатую демон похитил их бриджи, а в двенадцатую наложил им в кровати столько оловянных тарелок, что они не могли улечься спать. В тринадцатую ночь во всем доме ни с того ни с сего стала трескаться и распадаться на осколки стеклянная посуда. В четырнадцатую раздался звук, подобный залпу сорока пушек, и на комиссаров обрушился град булыжников, который так их напугал, что «охваченные ужасом, они взывали друг к другу о помощи».
Дабы изгнать злых духов, они сперва прибегнули к молитвам; но это оказалось бесполезным, и они принялись всерьез размышлять над тем, не лучше ли им вовсе оставить злосчастное место на произвол населяющих его бесов. В конечном счете, однако, они решили попытать счастья и пробыть там еще немного, после чего, попросив Всевышнего простить им все их грехи, легли спать. В ту ночь им спалось достаточно спокойно, но это была не более чем уловка их мучителя, призванная внушить им ложное чувство безопасности. Не услышав в следующую ночь никакого шума, они начали льстить себя надеждой, что нечистая сила изгнана, и приготовились прожить во дворце до конца зимы. Их самоуспокоенность стала для демонов сигналом к возобновлению беспорядков. 1 ноября комиссары услыхали, как кто-то медленной и внушительной поступью расхаживает туда-сюда по гостиной, после чего на них сразу же обрушился град камней, кирпичей, кусков штукатурки и битого стекла. 2-го числа из гостиной вновь доносились шаги, показавшиеся комиссарам весьма похожими на топот огромного медведя и продолжавшиеся около четверти часа. После того как этот шум прекратился, на стол упала брошенная с силой металлическая грелка, за коей последовали несколько камней и лошадиная челюсть. Самые храбрые из комиссаров решительно прошли в гостиную, вооруженные шпагами и пистолетами, но ничего не обнаружили. Ложиться спать в ту ночь они побоялись и бодрствовали, причем затопили в каждой комнате камин и зажгли великое множество свечей и ламп, полагая, что демоны любят темноту и не потревожат тех, кто окружен таким количеством света. Тут они, однако, ошиблись: кто-то сбросил в дымоходы по ведру воды, загасившей огонь, и непонятно почему погасли свечи. Некоторые из слуг, ложась в постель, вымокли в тухлой стоялой воде. Они встали, трясясь от страха и несвязно бормоча молитвы, и показали изумленным комиссарам свое белье, насквозь пропитанное зеленой влагой, и суставы пальцев, красные от ударов, одновременно нанесенных им невидимыми мучителями. Пока они говорили, раздался звук, похожий на страшный удар грома или залп артиллерийской батареи, после чего все присутствующие пали на колени и стали молить Всемогущего Бога о защите. Затем один из комиссаров поднялся и именем Господа отважно спросил, кто тревожит их покой и чем они это заслужили. Ответа не последовало, и шумы на некоторое время прекратились. В конце концов, однако, по словам комиссаров, «дьявол явился вновь и привел с собой семерых бесов, еще худших, чем он сам». Опять находясь в темноте, комиссары зажгли свечу и поставили ее в дверях, дабы она освещала две комнаты одновременно; но та немедленно погасла, и один комиссар сказал, что он «узрел подобие лошадиного копыта, выбившего свечу с подсвечником на середину комнаты и засим трижды царапнувшего нагар на свече, дабы ее потушить». После этого тот же комиссар осмелился вытащить шпагу; но он категорически утверждал, что стоило ему вынуть ее из ножен, как невидимая рука схватила ее, стала вырывать и, преуспев в этом, нанесла ему такой удар головкой эфеса, что он был совершенно оглушен. Потом шумы возобновились, после чего все присутствующие единодушно удалились в приемный зал, где и провели ночь, молясь и распевая псалмы.
К этому времени они были убеждены, что далее бороться с силами зла, которые, по-видимому, решили завладеть Вудстоком, бесполезно. Последние описанные события имели место в ночь с субботы на воскресенье, и, после того как в следующую ночь они повторились, комиссары приняли решение незамедлительно покинуть дворец и вернуться в Лондон. Во вторник рано утром все приготовления были завершены, и, отряхнув прах с ног своих и оставив Вудсток и всех его обитателей во власти богов преисподней, незадачливые визитеры наконец уехали608.
Прошло много лет, прежде чем вскрылась истинная причина означенных безобразий. В эпоху Реставрации выяснилось, что все это было делом рук Джайлза Шарпа, письмоводителя комиссаров, в преданности которого они нисколько не сомневались. Этот человек, настоящее имя которого было Джозеф Коллинз, был тайным роялистом и провел молодость в стенах Вудстока; так что ему были известны все ходы и закоулки здания, равно как и его многочисленные люки и тайные ходы. Комиссары, для которых его подлинные умонастроения так и остались тайной, считали его революционером до мозга костей и полностью ему доверяли. Читателю известно, как он воспользовался их доверием, немало потешив самого себя и тех немногих «кавалеров», которых он посвятил в свою тайну.
Столь же незаурядным и искусным был трюк, проделанный в 1661 году в селении Тедуорт, в доме м-ра Момпессона, и весьма обстоятельно описанный преподобным Джозефом Гланвилом в рассказе под названием «Тедуортский демон», включенном наряду с другими подтверждениями ведовства в его знаменитый труд «Sadducismus Triumphatus». Примерно в середине апреля вышеупомянутого года м-р Момпессон, возвратившись в свой дом в Тедуорте из поездки в Лондон, узнал от жены, что в его отсутствие домочадцев тревожили в высшей степени необычные звуки. Три ночи спустя он сам услышал указанный шум, который воспринял как «сильный стук в двери и стены с их внешней стороны». Он немедленно встал, оделся, снял со стены пару пистолетов и бесстрашно отправился на поиски нарушителя тишины, думая, что это, должно быть, грабитель. Однако, пока он шел, звук, казалось, раздавался то спереди, то сзади; подойдя же к двери, откуда, как он считал, тот доносится, он ничего не увидел, но все еще слышал «странный глухой звук». Он долго ломал себе голову над странным инцидентом и, обойдя весь дом, но так ничего и не обнаружив, снова улегся в постель. Не успел он как следует укрыться одеялом, как таинственный шум раздался вновь, будучи еще громче и неистовее, чем прежде, и сильно напоминая «тяжелые и глухие удары по крыше его дома, которые постепенно утихли».
Это продолжалось уже несколько ночей кряду, когда м-р Момпессон вспомнил, что некоторое время назад он отдал распоряжение арестовать и заключить в тюрьму бродячего барабанщика, который ходил по округе с большим барабаном, нарушая покой местных жителей и выпрашивая милостыню, и что он, м-р Момпессон, отнял у этого человека барабан. М-ру Момпессону пришло в голову, что он, вероятно, связался с колдуном, который в отместку наслал на его дом злых духов. С каждым днем он все больше утверждался в этом мнении, особенно после того, как звуки приняли, как ему казалось, характер барабанного боя, «вроде того, что звучит при роспуске караула». Пока миссис Момпессон рожала и была прикована к постели, бес, или барабанщик, весьма любезно и заботливо воздерживался от обычного разгула, но как только она восстановила силы, опять принялся за свое «еще сильнее, чем прежде, преследуя и беспокоя малых детей и ударяя по остову их кровати с такой яростью, что та, казалось, вот-вот развалится на куски». Достопочтенный м-р Момпессон поведал изумленным соседям, что сей дьявольский барабанщик битый час «выстукивал “Круглоголовых и рогоносцев”, “Вечернюю зарю” и некоторые другие военные сигналы не хуже любого солдата». Затем бес сменил тактику и принялся скрести железными когтями у детей под кроватью. «5 ноября, — пишет преподобный Джозеф Гланвил, — он издавал сильный шум, и один слуга, заметив, что две доски в детской вроде бы двигаются, попросил того дать ему одну из них. После этого доска придвинулась (безо всякой, как ему казалось, посторонней помощи) к нему на расстояние не более ярда. Этот человек добавил “Нет, дай мне ее в руки”, и дух, бес или барабанщик пододвинул ее к нему так близко, что он мог до нее дотронуться». «Сие, — продолжает Гланвил, — происходило днем, на глазах у полной комнаты народу. В то утро существо оставляло за собой запах серы, который был весьма неприятен. Вечером дом посетил местный священник — некто м-р Крэгг — и несколько соседей. М-р Крэгг и другие визитеры начали молиться, преклонив колена у постели детей, и тогда существо очень сильно разгневалось и расшумелось. Во время молитвы злой дух удалился в мансарду, но вернулся, как только моление завершилось; и тогда на глазах у собравшихся стульи сами пошли по комнате, детские башмаки с силой пролетели у них над головами, и всякая незакрепленная вещь передвигалась по комнате. Одновременно в священника полетела деревянная кроватная рейка, которая ударила его по ноге, но не сильнее, чем клубок шерсти». В другой раз, когда деревенский кузнец, коего нимало не заботили ни призрак, ни бес, остался ночевать у лакея Джона, дабы собственными ушами услышать означенные шумы и исцелиться от недоверчивости, «в комнате раздался такой звук, словно кто-то подковывал лошадь, и появилось что-то вроде щипцов», которые бóльшую часть ночи свистели и лязгали перед носом бедного кузнеца. На следующий день существо появилось, часто и тяжело дыша, как запыхавшаяся собака, и какая-то женщина из числа присутствующих, намереваясь его поколотить, схватила кроватную рейку, «коя внезапно была вырвана у нее из руки и отброшена в сторону; и после того как собравшиеся поднялись наверх, комната вскоре наполнилась чертовски отвратительным запахом и стало очень жарко, хотя камин не топили и стояла очень морозная и суровая зима. Далее существо переместилось на кровать, где пыхтело и скреблось полтора часа, а засим отправилось в одну из соседних комнат, где недолго стучало и, казалось, гремело цепью».
Вскоре молва об этих необычайных происшествиях облетела всю страну, и люди отовсюду стекались в дом с привидением в Тедуорте, ведомые легковерием или сомнением, но все без исключения преисполненные жгучего любопытства. Кроме того, насколько можно судить, слава об этих событиях дошла до самого короля, который отрядил нескольких дворян для выяснения обстоятельств дела и составления отчета об увиденном и услышанном. То ли комиссары были более рассудительны, нежели соседи м-ра Момпессона, и им требовались более явные и подтверждающие доказательства, то ли злодеев напугали приданные комиссарам полномочия наказывать уличенных во лжи, но даже Гланвил неохотно признает, что все то время, которое посыльные короля находились в доме, никаких таинственных звуков, равно как и видéний, отмечено не было. «Однако, — пишет он, — что до тишины в доме, когда там были придворные, то сей перерыв, может статься, случаен или, возможно, демон не пожелал являть столь публичные свидетельства своих деяний, которые могли бы убедить тех, в ком он предпочитал и далее поддерживать неверие в его существование, в обратном».
Как только королевские комиссары уехали, адский барабанщик возобновил свои проделки и ежедневно устраивал концерты на удивление сотням визитеров. Слуге м-ра Момпессона посчастливилось не только услышать, но и увидеть этого неуступчивого демона, когда тот явился ему и стоял в ногах его кровати. «Точные облик и сложение оного он не разглядел, но увидел какое-то огромное существо с двумя красными свирепыми глазами, которые какое-то время взирали прямо на него, а потом исчезли вместе с их обладателем». Творимые им безобразия были неисчислимы. Он мурлыкал, как кошка, наставил детям синяков на ногах, воткнул длинный гвоздь в кровать м-ра Момпессона и нож — в постель его матери, наполнил суповые миски золой, засунул Библию под каминную решетку и сделал деньги в карманах людей черными. «Однажды ночью, — писал м-р Момпессон в письме к м-ру Гланвилу, — явилось семь или восемь таких бесов в человечьем обличье, кои при каждом выстреле из мушкета ретировались в обсаженную деревьями аллею» — обстоятельство, которое, возможно, убедило м-ра Момпессона в смертной природе его преследователей, если он не принадлежал к числу тех, кто хуже слепых, кто закрывает глаза, отказываясь видеть очевидное.
Тем временем барабанщик, предполагаемая причина всех этих безобразий, коротал свои дни в Глостерской тюрьме, куда был посажен как мошенник и бродяга. Когда однажды его посетил какой-то человек из окрестностей Тедуорта, он спросил, что нового в графстве Уилтшир и много ли там разговоров о барабанном бое в доме одного местного джентльмена. Посетитель ответил, что все только об этом и говорят, на что барабанщик заметил: «Это моих рук дело, я досаждаю ему, и не будет ему покоя, пока он не возместит мне ущерб за отнятый у меня барабан». Не вызывает сомнения, что этот тип, который, по-видимому, был цыганом, сказал правду и что шайка, членом которой он являлся, знала о шумах в доме м-ра Момпессона больше, чем кто-либо еще. После этих слов, однако, он был предан суду в Солсбери по обвинению в ведовстве, признан виновным и осужден на транспортацию609 — приговор, который в силу своей снисходительности вызвал немалое удивление в то время, когда подобное обвинение как при наличии, так и при отсутствии доказательств обычно гарантировало смерть на костре или на виселице. Гланвил пишет, что, как только барабанщик был отправлен за моря, шумы прекратились, но что ему так или иначе удалось вернуться из транспортации за счет того, что он, «как говорили, поднимал бури и пугал моряков», после чего безобразия немедленно возобновились и, время от времени повторяясь, продолжались несколько лет. Безусловно, если сообщники этого бродячего цыгана были столь настойчивы в преследовании бедного м-ра Момпессона, то их настырность является одним из наиболее выдающихся примеров того, на что способна месть. Многие в то время считали, что сам м-р Момпессон был полностью в курсе дела, разрешая и поощряя проделки в своем доме ради известности; но представляется более вероятным, что действительными правонарушителями были цыгане и что м-р Момпессон был так же встревожен и озадачен, как и его доверчивые соседи, чье распаленное воображение породило немалую часть этих историй, «что громогласно пересказывались и привлекали по мере пересказа все большее внимание».
У Гланвила и других писателей XVII века можно найти немало примеров такого рода, однако они слишком незначительно отличаются от вышеизложенных, чтобы их пересказывать. Самый известный из всех домов с привидениями приобрел дурную славу гораздо ближе к нашему времени. Связанные с ним обстоятельства столь курьезны и представляют собой столь выдающийся образчик легковерия со стороны даже эрудированных и здравомыслящих людей, что заслуживают краткого изложения в данной главе. Призрак с Кок-лейн, как его называли, долгое время держал в смятении весь Лондон и был темой для разговоров в среде как образованных, так и неграмотных, во всех кругах — от высшей знати до крестьян.
В начале 1760 года на Кок-лейн, что неподалеку от Западного Смитфилда, в доме некоего Парсонса, псаломщика, ведущего книги церкви Гроба Господня, жил биржевой маклер Кент. Жена этого джентльмена в предыдущем году умерла от родов, и его свояченица, мисс Фанни, приехала из Норфолка, чтобы вести его хозяйство. Вскоре они почувствовали взаимную привязанность и стали оказывать друг другу знаки внимания. Несколько месяцев они прожили в доме Парсонса, который, нуждаясь в деньгах, занимал их у своего постояльца. На этой почве между ними возникли разногласия, в результате чего м-р Кент съехал и возбудил против псаломщика дело о взыскании денежного долга.
Пока шла тяжба, мисс Фанни вдруг заболела оспой и несколько дней спустя, несмотря на внимание и уход, умерла и была похоронена в склепе под Клеркенвеллской церковью. С этого времени Парсонс стал в разговорах намекать, что смерть несчастной женщины была неестественной и что тут не обошлось без м-ра Кента, слишком сильно желавшего вступить во владение имуществом, которое она ему завещала. На протяжении примерно двух лет дальше подобных предположений дело не заходило, но представляется, что Парсонс был по натуре настолько мстителен, что он так и не забыл и не простил м-ру Кенту их ссоры и того унижения, что он испытал по предъявлении иска о возвращении денег. Все это время гордыня и алчность тихо делали свое черное дело, и Парсонс вынашивал планы мести, но отвергал их один за другим как неосуществимые, пока наконец ему не пришла в голову поистине выдающаяся затея. Где-то в начале 1762 года по Кок-лейн и ее окрестностям распространился тревожный слух, что в доме Парсонса обитает призрак бедняжки Фанни610 и что дочь Парсонса, девочка лет двенадцати, несколько раз видела духа и разговаривала с ним. Дух Фанни поведал, что та, вопреки расхожему мнению, умерла не от оспы, а от яда, который ей дал м-р Кент. Парсонс, первый пустивший об этом слух, всячески поощрял его распространение и в ответ на многочисленные вопросы говорил, что вот уже два года, с тех самых пор, как умерла Фанни, покой обитателей дома еженощно нарушает громкий стук в двери и стены. Подготовив таким образом невежественных и легковерных соседей к тому, чтобы они поверили или даже преувеличили для себя то, что он им рассказал, он послал за джентльменом более высокого общественного положения, дабы тот явился и засвидетельствовал необычные явления. Джентльмен прибыл и увидел, что дочь Парсонса, единственная, кому являлся дух и кому он отвечал, лежит в постели и неистово трясется, только что узрев призрак Фанни и вновь узнав от оного, что та скончалась от яда. Помимо того, из всех частей комнаты слышался громкий стук, который настолько озадачил не слишком рассудительного визитера, что тот отбыл, боясь усомниться и стыдясь поверить, но пообещав привести на следующий день приходского священника и ряд других джентльменов, чтобы те составили отчет о загадочном феномене.
На следующий вечер он вернулся, приведя с собой трех священников и около двадцати других людей, включая двух негров, и они, посовещавшись с Парсонсом, решили бдеть всю ночь в ожидании появления призрака. Потом Парсонс объяснил, что, хотя привидение никогда не делается видимым ни для кого, кроме его дочери, оно соглашается отвечать на чьи бы то ни было вопросы и выражает подтверждение одним стуком, отрицание — двумя, а недовольство — чем-то вроде царапанья. Затем девочку и ее сестру уложили в кровать, и священники обследовали постель и постельное белье, дабы удостовериться, что их не разыгрывают путем стука по чему-нибудь, что там спрятано. Как и в предыдущую ночь, кровать, по свидетельствам очевидцев, неистово тряслась.
По прошествии нескольких часов, в течение которых присутствующие с поистине ангельским терпением дожидались пришествия духа, раздался таинственный стук в стену, и дитя заявило, что оно видит призрака несчастной Фанни. Затем приходской священник степенно задал приведенные ниже вопросы при посредничестве некоей Мэри Фрейзер, служанки Парсонса, к которой, как утверждали, покойная была очень привязана. Ответы давались обычным способом — одним или двумя стуками:
«Ты беспокоишь нас из-за того, что мистер Кент скверно с тобой обошелся?» — «Да».
«Ты нашла безвременную кончину, будучи отравленной?» — «Да».
«Куда был подмешан яд, в обычное пиво или в пёрл611?» — «В пёрл».
«Сколько времени прошло с момента приема яда до твоей смерти?» — «Около трех часов».
«Может ли твоя бывшая служанка Кэрротс сообщить какие-либо сведения о яде?» — «Да».
«Ты сестра жены Кента?» — «Да».
«Вышла ли ты замуж за Кента после смерти твоей сестры?» — «Нет».
«Был ли кто-нибудь еще, кроме Кента, заинтересован в твоей смерти?» — «Нет».
«Можешь ли ты, если захочешь, стать видимой для кого-либо?» — «Да».
«Ты это делаешь?» — «Да».
«Можешь ли ты покидать этот дом?» — «Да».
«Ты намерена следовать за этим ребенком повсюду?» — «Да».
«Ты рада, что тебе задают эти вопросы?» — «Да».
«Облегчает ли это твою встревоженную душу?» — «Да».
[Тут раздался таинственный шум, который какой-то умник из числа присутствующих сравнил с маханием крыльями.]
«За сколько времени до твоей смерти ты сказала своей служанке Кэрротс, что тебя отравили? За час?» — «Да».
[К Кэрротс, бывшей среди присутствующих, обратились за подтверждением, но она твердо заявила, что это не соответствует действительности, так как покойная за час до смерти хранила полное безмолвие. Это поколебало веру части наблюдателей в достоверность происходящего, однако было решено продолжить расследование.]
«Как долго Кэрротс жила у тебя?» — «Три или четыре года».
[Кэрротс, к которой вновь обратились за подтверждением, сказала, что это правда.]
«Если мистера Кента арестуют за убийство, он признается?» — «Да».
«Обретет ли твоя душа покой, если его за это повесят?» — «Да».
«Его повесят?» — «Да».
«Когда ты с ним познакомилась?» — «Три года назад».
«Сколько в этой комнате священников?» — «Три».
«А негров?» — «Два».
«Эти часы (которые держал один из священников) белые?» — «Нет».
«Желтые?» — «Нет».
«Синие?» — «Нет».
«Черные?» — «Да».
[Часы были в черном шагреневом футляре.]
«В котором часу сегодня утром ты нас покинешь?»
Ответом на этот вопрос были четыре стука, которые весьма отчетливо слышали все присутствующие и в полном соответствии с которыми, ровно в четыре часа, привидение удалилось в окрестности трактира в Уэтсхифе, где едва ли не до безумия перепугало трактирщика и его супругу, стуча по потолку прямо над их кроватью.
Очень скоро молва об этих событиях распространилась по всему Лондону, и Кок-лейн каждый день делалась непроходимой из-за толп, собиравшихся вокруг дома псаломщика в ожидании либо явления призрака, либо таинственных стуков. Люди столь шумно и настойчиво требовали доступа в пределы обитания привидения, что в конечном счете было сочтено необходимым впускать только тех, кто платил определенную сумму — условие, которое было очень удобно для нуждающегося и сребролюбивого м-ра Парсонса. Дела и впрямь приняли для него исключительно благоприятный оборот: он не только удовлетворил жажду мести, но и извлек из этого выгоду. В результате призрак каждую ночь заявлял о себе к вящему удовольствию многих сотен людей и к изрядному недоумению еще большего числа.
Однако, к несчастью для псаломщика, призрака понудили дать ряд обещаний, напрочь загубивших его репутацию. Отвечая на вопросы преподобного м-ра Олдрича из Клеркенвелла, он пообещал, что не только последует за маленькой мисс Парсонс, куда бы она ни отправилась, но и посетит преподобного или любого другого джентльмена в склепе под церковью св. Иоанна, куда было помещено тело убитой, и заявит там о своем присутствии отчетливым стуком по гробу. В качестве подготовительного мероприятия девочку привезли в находившийся недалеко от церкви дом м-ра Олдрича, где к тому времени собралась большая группа леди и джентльменов, знаменитых своей ученостью, общественным положением или богатством. Около десяти часов вечера 1 февраля девочка, доставленная с Кок-лейн в карете в дом м-ра Олдрича, была уложена несколькими леди в постель, которую предварительно тщательно обследовали на предмет отсутствия спрятанных в белье посторонних предметов. Пока мужчины в соседней комнате решали, следует ли им проследовать группой в склеп, женщины созвали их в спальню и, сильно встревоженные, заявили, что призрак явился и что они слышали, как он стучит и скребется. Мужчины, не желая стать жертвами обмана, решили сами во всем убедиться. Когда девочку спросили, видела ли она призрака, она ответила: «Нет, но я чувствовала, как он касался моей спины, словно мышь». Тогда ее попросили убрать руки с кровати, и после того, как женщины взяли ее за руки и стали их держать, духа призвали ответить условленным образом, присутствует ли он в комнате. Вопрос был задан с превеликой серьезностью несколько раз, но обычного стука в стены, равно как и царапанья, не последовало. Тогда призрака попросили сделаться видимым, но он не счел нужным удовлетворить просьбу. Потом его стали упрашивать обозначить свое присутствие либо издав какой-нибудь звук, либо коснувшись руки или щеки какой-нибудь леди или джентльмена, но дух не пожелал исполнить даже этого.
Тут последовала внушительная пауза, и один из священников спустился вниз, дабы учинить допрос отцу девочки, который дожидался результата эксперимента. Тот категорически отрицал факт какого бы то ни было мошенничества и даже заявил, что он сам как-то раз видел величественного призрака и говорил с ним. Когда сие было доведено до сведения остальных, было единодушно решено дать привидению еще одну попытку, и означенный священник громко крикнул гипотетическому призраку, что джентльмен, коему тот пообещал явиться в склепе, собирается туда отправиться и потребовать выполнения обещания. Через час после полуночи все присутствовавшие проследовали в церковь, и вышеупомянутый джентльмен с сопровождающим одни вошли в склеп и встали подле гроба несчастной Фанни. Засим призрак призвали явиться, однако он не явился; его призвали постучать, но он не постучал; его призвали поскрестись, но он не поскребся. Тогда эти двое покинули склеп с твердой уверенностью, что все это — розыгрыш, устроенный Парсонсом и его дочерью. Нашлись, однако, такие, которые не хотели делать поспешные выводы и предположили, что посетители склепа вели себя несерьезно с величественным сверхъестественным существом, кое, будучи оскорбленным их самонадеянностью, не снизошло до ответа. И вновь, после серьезного обсуждения, было единогласно решено, что если кому-то привидение и ответит, так это подозреваемому в убийстве м-ру Кенту, и от него потребовали явиться и спуститься в склеп. Он отправился туда с сопровождающими и призвал духа ответить, действительно ли он отравил свояченицу. Ответа не последовало, и тот же вопрос задал м-р Олдрич, который заклинал духа, если тот существует, положить конец их сомнениям и указать на виновного. Безрезультатно прождав полчаса с упорством, достойным похвалы, все эти болваны возвратились в дом м-ра Олдрича и велели девочке встать и одеться. Ее подвергли тщательному допросу, но она настаивала, что никакого обмана с ее стороны нет и что призрак являлся ей на самом деле.
Непоколебимую веру в реальность явлений духа выражали столь многие, что Парсонс и члены его семьи были далеко не единственными заинтересованными в продолжении обмана. Результат эксперимента убедил большинство людей, но этих не убедили бы никакие доказательства, сколь бы вескими они ни были, и поэтому они пустили слух, что призрак не появился в склепе из-за того, что м-р Кент заблаговременно позаботился о том, чтобы гроб Фанни был оттуда убран. Этот джентльмен, находившийся в весьма неприятном положении, немедленно привлек надлежащих свидетелей, в присутствии которых гроб бедняжки Фанни был вскрыт. Впоследствии их письменные показания под присягой были опубликованы, и м-р Кент выдвинул против м-ра Парсонса, его жены, дочери и служанки Мэри Фрейзер, а также преподобного м-ра Мура и одного лавочника, двух основных соучастников надувательства, обвинение в преступном сговоре. 10 июля в Суде королевской скамьи началось разбирательство под председательством лорда — главного судьи Мэнсфилда, и после рассмотрения дела, длившегося двенадцать часов, все заговорщики были признаны виновными. Преподобному м-ру Муру и его другу сделали выговор на открытом судебном заседании и порекомендовали выплатить истцу денежную компенсацию за порочащие его клеветнические измышления, насаждению коих они способствовали. Парсонса приговорили к троекратному выставлению к позорному столбу и к двум годам тюрьмы, его жену — к одному году, а служанку — к полугодовому заключению в Брайдвелле, исправительном доме для бродяг и прочих антисоциальных элементов. Типограф, нанятый ими для публикации благоприятных для них сведений о происходящем, был оштрафован на пятьдесят фунтов и отстранен от работы.
Конкретные способы осуществления мистификации так и остались невыясненными. Представляется, что стук в стену был делом рук жены Парсонса, а царапанье — маленькой девочки. То обстоятельство, что столь неуклюжая выдумка смогла обмануть всех без исключения, не может не вызвать нашего удивления; но ведь так всегда и бывает. Стоит найти двух-трех человек, которые взяли бы на себя инициативу в насаждении любой, сколь угодно вздорной нелепицы, и у них наверняка найдется масса подражателей. Так и пасущиеся овцы: если одна перепрыгивает через изгородь, другие непременно следуют за ней.
Примерно десять лет спустя Лондон был вновь взбудоражен историей дома с привидением. Стоквелл, что вблизи Воксхолла, место действия нового призрака, приобрел в анналах означенного суеверия едва ли не такую же известность, как Кок-лейн. Вечером в крещение 1772 года миссис Голдинг, одинокая пожилая вдова, жившая со своей служанкой Энн Робинсон, была крайне удивлена в высшей степени необычными происшествиями с ее посудой и провизией. Чашки и блюдца с грохотом падали с каминной полки, чайники и кастрюли кубарем скатывались в нижний этаж либо летели в окна, а окорока, сырные головы и буханки хлеба носились по полу, будто в них вселился дьявол. Во всяком случае к такому заключению пришла миссис Голдинг, которая, пребывая в сильной тревоге, пригласила нескольких своих соседей пожить у нее и защитить ее от нечистого. Их присутствие, однако, не положило конца бунту фарфора, и вскоре все комнаты в доме были усыпаны осколками. В конце концов к буйству присоединились стулья и столы, и ситуация в целом выглядела настолько удручающей и непонятной, что соседи, опасаясь, как бы сам дом, придя в движение, не рухнул у них на глазах, оставили это на долю одной лишь бедной миссис Голдинг. В данном случае призрака степенно и настоятельно увещевали удалиться; однако разрушение продолжалось с прежней интенсивностью, и миссис Голдинг наконец решила вообще покинуть дом. Она и Энн Робинсон нашли убежище у одного из соседей, но в силу того, что стеклянная и фарфоровая посуда этого человека немедленно подверглась такому же преследованию, он был вынужден скрепя сердце предупредить незадачливых постояльцев о необходимости сменить место жительства. Вернувшись вследствие этого в собственный дом и подвергнувшись означенному беспокойству еще несколько дней, пожилая дама, подозревая, что причиной всего этого безобразия является Энн Робинсон, дала ей расчет. Необычные происшествия сразу же прекратились и больше никогда не повторялись — факт, сам по себе выявляющий подлинного возмутителя спокойствия. Много времени спустя Энн Робинсон призналась во всем преподобному м-ру Брейфилду. Этот джентльмен поделился услышанным с м-ром Хоуном, который опубликовал объяснение загадки. Энн, как явствует из ее рассказа, страстно желала иметь свободный дом для интрижки с возлюбленным и для достижения своей цели прибегнула к уловке. Она расставляла фарфоровую посуду на полках таким образом, что та при малейшем движении падала, и, привязав конский волос к другим предметам, могла, находясь одна в соседней комнате, передвигать их непостижимым для других образом. Она проделывала это с исключительной ловкостью и могла бы всерьез потягаться в мастерстве со многими плутами такого рода. Полное объяснение ее ухищрений можно найти в «Ежедневнике».
Последний случай массовой паники из-за дома, где, как считали, обитали привидения, произошел зимой 1838 года в Шотландии. 5 декабря обитатели фермерского дома в селении Бальдаррох, округ Банхори, графство Абердин, с тревогой наблюдали, как по их двору и прилегающим территориям летает большое количество веток, гальки и комьев земли. Предприняв несколько безуспешных попыток обнаружить правонарушителя и проведя под градом камней пять дней кряду, они в итоге пришли к выводу, что единственной причиной бесчинств является дьявол и его бесы. Вскоре об этом знала вся северо-восточная Шотландия, и отовсюду прибывали сотни людей, чтобы увидеть проделки бальдаррохских бесов собственными глазами. На шестой день град камней и комьев вне дома и пристроек прекратился, и место действия переместилось внутрь. Ложки, ножи, тарелки, горчичницы, скалки и утюги, которые, казалось, внезапно обрели способность к самопроизвольному движению, необъяснимым образом стремительно носились из комнаты в комнату и с грохотом падали с каминов. Крышка горчичницы, которую служанка положила в буфет в присутствии большого количества людей, через несколько минут, ко всеобщему ужасу, оттуда выскочила. Кроме того, раздавался оглушительный стук в дверь и по крыше, и прилетевшие невесть откуда ветки и камни повыбивали окна. Всю округу охватил страх, и не только простолюдины, но и образованные почтенные фермеры на двадцать миль окрест выражали убежденность в сверхъестественной природе означенных явлений и возносили благоговейные молитвы Всевышнему, дабы он уберег их от козней сатаны. Как только в речах посетителей Бальдарроха зазвучали нотки испуга, они, как это обычно бывает с рассказчиками историй о необыкновенных явлениях, стали рекомендовать съездить туда кому ни попадя, и в течение недели подавляющее большинство населения приходов Банхори-Тернан, Драмоук, Даррис, Кинкардин-О’Нил и всех прилегающих округов графств Мирнс и Абердин уверовало в то, что было замечено, как дьявол стучит по крыше бальдаррохского дома. Один старик настоятельно утверждал, что однажды ночью, после того как он наблюдал странные скачки ножей и горчичниц, ему встретился призрак огромного черного человека, который «вращал головой со свистящим звуком, создавая вокруг нее ветер, едва не сдувший с него [рассказчика] берет», и что тот преследовал его таким манером на протяжении трех миль. Также заявляли и верили в то, что всем лошадям и собакам, приблизившимся к заколдованному месту, причиняется вред; что один недоверчивый джентльмен излечился от скептицизма, столкнувшись в дверях при выходе из дома с впрыгивающей туда маслобойкой; что с домов посрывало крыши и что несколько скирд на току плясали друг с дружкой кадриль под звуки дьяволовой волынки, отдававшиеся эхом от горных вершин. Женщины из семьи злосчастного бальдаррохского фермера тоже, не переставая, чесали языками, еще больше раздувая массовое любопытство своими необыкновенными историями. Сама хозяйка дома и вся ее прислуга говорили, что всякий раз, когда они ложатся спать, в них летят камни и другие метательные снаряды, часть которых забирается под шерстяные одеяла и легонько постукивает их по пальцам ног. Однажды вечером через мансарду, где сидели чернорабочие, пролетела с силой брошенная туфля, и один из этих людей, попытавшийся ее поймать, позднее клялся, что она была настолько горячей и тяжелой, что он не смог ее удержать. Говорили также, что «загонщик медведей» (ступа, в которой толокут ячмень) — предмет настолько тяжелый, что для того, чтобы сдвинуть его с места, требуются усилия нескольких мужчин, — самопроизвольно покинула амбар, перелетела через крышу дома и, опустившись у ног одной из служанок, ударила ее, но не причинила ей ни малейшего вреда и даже ее не испугала. Эта девушка хорошо знала, что все предметы, бросаемые таким образом дьяволом, теряют присущую им силу тяжести и не могут никому повредить, даже упав человеку на голову.
Среди тех, кто, будучи заинтригован этими происшествиями, посетил Бальдаррох, был владелец наследственного земельного участка в церковном приходе, приходской священник и все старосты пресвитерианской церкви, под руководством которых был немедленно начато расследование. Его результаты не разглашались несколько дней, и тем временем по всему Хайленду продолжали гулять слухи, раздувая каждое загадочное событие тем больше, чем дальше находился рассказчик от места действия. Поговаривали, что, когда жена фермера как-то раз поставила на огонь котелок с картошкой, каждая картофелина при закипании воды обернулась демоном и мерзко ей ухмылялась, когда она подняла крышку; что не только стулья и столы, но и морковь и репа скакали по полу самым веселым образом, какой только можно себе представить; что туфли и башмаки повторяли все коленца флинга612, тогда как никаких танцоров, на чьих ногах они бы находились, замечено не было; что кусок мяса сорвался с крюка, на котором он висел в кладовой, и разместился у огня, откуда, несмотря на все усилия домочадцев, его не удавалось извлечь до тех пор, пока он полностью не прожарился, и что затем он внезапно поднялся по дымоходу с оглушительным стуком. В самом Бальдаррохе столь сумасбродные слухи не ходили, но фермер был настолько уверен в том, что единственной причиной всех этих безобразий являются дьявол и его бесы, что проделал путь длиной сорок миль, дабы встретиться со старым колдуном Уилли Форменом и уговорить его за приличное вознаграждение изгнать нечистую силу из своих владений. Нашлись, разумеется, здравомыслящие и образованные люди, которые, отринув все домыслы и преувеличения, объясняли происходящее двумя причинами: во-первых, тем, что цыгане или нищие бродяги, прячущиеся в соседнем лесу, тешат себя, пользуясь легковерием селян, или, во-вторых, тем, что обитатели Бальдарроха сами мошенничают по той или иной, не вполне понятной причине. В последнее верили очень немногие, поскольку фермер и его семья были весьма уважаемыми людьми; и так много людей в высшей степени открыто выражали уверенность в сверхъестественной природе означенных явлений, что скептики не хотели выставлять себя в смешном виде, признаваясь, что их не удалось обмануть.
Наконец, после того как шумы продолжались в течение двух недель, обман был раскрыт. Двух молоденьких служанок тщательно допросили и заключили в тюрьму. Представлялось, что все это было затеяно и проделано ими одними и что исключительные встревоженность и доверчивость сперва их хозяина и хозяйки, а потом уже соседей и крестьян сделали их задачу сравнительно легко осуществимой. При этом им потребовалась лишь небольшая сноровка, и, будучи вне подозрений, они сеяли панику, рассказывая ими же придуманные небылицы. Они расшатывали кирпичи в дымоходах и ставили тарелки на полки таким образом, что те при малейшем движении падали. Иными словами, они прибегли к тем же уловкам, что и служанка в Стоквелле, руководствуясь той же любовью к проказам и добившись тех же результатов. Как только их посадили в тюрьму графства, шумы прекратились, и люди в большинстве своем пришли к убеждению, что все вышеописанные необычайные явления были делом исключительно человеческих рук. Некоторые наиболее суеверные селяне остались при своем мнении и не желали слушать никаких объяснений.
Хотя предложенные вниманию читателя истории домов с привидениями, особенно прошлого и текущего столетий, и могут заставить его покраснеть от стыда за массовое безрассудство, их итоги все же обнадеживают, свидельствуя о том, что общество сделало гигантский шаг вперед в своем развитии. Если бы Парсонс, его жена и прочие участники мистификации на Кок-лейн жили лет на двести раньше, они, возможно, и не одурачили бы большее количество людей, но уж точно были бы повешены за ведовство, а не заточены в тюрьму за мошенничество. Аналогичная участь, без сомнения, ожидала бы изобретательную Энн Робинсон и ловких служанок из Бальдарроха. Таким образом, можно с радостью констатировать, что, хотя одни социальные слои, вероятно, и не стали с течением времени более рассудительными и менее легковерными, у других определенно прибавилось мудрости и милосердия. Законодатели, устранив из сводов законов нелепые и кровожадные установления предков, сделали шаг в направлении повышения образовательного уровня населения. Остается уповать на то, что недалек день, когда законодатели будут обучать и цивилизовать простой люд более прямыми способами, предотвращая тем самым повторение заблуждений такого рода и других, более худших, еще не истершихся из людской памяти, путем обеспечения в своих владениях каждому ребенку уровня образования, соответствующего самым высоким стандартам современности. Если призраки и ведьмы еще не перевелись, это упущение не столько со стороны невежественных простолюдинов, сколько со стороны законодателей и правительств, не считающих нужным их просвещать.
Причуды жителей больших городов
La faridondaine — la faridondon,
Vive la faridondaine!
— Beranger613.
Чудачества населения больших городов — неиссякаемый источник удовольствия для тех, кто достаточно отзывчив, чтобы симпатизировать и сопереживать всему человеческому роду, и кто, сколь бы утончен ни был сам, не станет насмехаться над скудоумием или нелепыми и комичными чертами пьяницы-мастерового, опустившегося нищего, мальчишки дурного нрава и всех тех разношерстных праздных, беспечных и склонных к подражательству людей, что наводняют улицы и переулки крупных городов. Кто-нибудь, намереваясь побродить по большому городу в поисках того, что достойно сострадания, и упиваться своим горем, быть может, найдет много такого на каждом углу, но вряд ли кто из нас захочет составить ему компанию. Сочувствие и жалость тех, кто, занимаясь такого рода изысканиями, лишь проливает слезы, не облегчают людских страданий. Слишком часто сердобольные философы, убиваясь над чужим несчастьем, сужают свое поле зрения и за пеленой слез не могут разглядеть пути борьбы с теми невзгодами, которые оплакивают. И точно так же зачастую можно обнаружить, что филантропом в полном смысле слова является человек, не склонный проливать слезы, — наилучший целитель, излучающий жизнерадостность даже в самых критических ситуациях.
На описание тягот человеческого бытия и бичевание преступлений, пороков и действительно опасных прихотей людской массы истрачено так много перьев, что наше перо к ним в этом не присоединится, по крайней мере в данной главе. Цель ее написания более приятна: пройдя по оживленным, многолюдным местам больших городов, мы по мере повествования исключительно ради развлечения обратим внимание на некоторые из безвредных прихотей и причуд бедноты.
Прежде всего нельзя пройти мимо тех произносимых всюду фраз, которые с большим удовольствием повторяют и со смехом воспринимают люди с огрубелыми руками и чумазыми лицами, нахальные мясники и посыльные, падшие женщины, кучеры наемных экипажей, кебмены и те праздношатающиеся субъекты, которых часто можно видеть на улице. Эти фразы неизменно вызывают смех у каждого, кто их слышит. В большинстве своем они, насколько можно судить, применимы к любым жизненным ситуациям и являются универсальным ответом на любой вопрос; короче, это излюбленные жаргонные выражения в тот или иной период времени, выражения, которые, пока длится недолгий срок их популярности, скрашивают толикой веселья и озорства безотрадное существование жалких нищих и низкооплачиваемых рабочих, давая им, равно как и их более удачливым и состоятельным собратьям, повод для веселья.
Фразами такого рода в особенности изобилует Лондон, где они появляются внезапно, не вполне ясно, в каком именно месте, и за несколько часов неведомым образом охватывают все население города. Много лет назад коронной фразой (ибо, хоть это и односложное слово614, но оно являлось законченным высказыванием) было словечко «сказанул». Это странное слово завоевало исключительную популярность у толпы и очень быстро приобрело почти неограниченный смысл. Когда вульгарный остряк хотел выразить недоверие и одновременно вызвать смех, не было ему в том более надежного подспорья, чем это расхожее сленговое выражение. Когда у человека просили об услуге, которую он не считал нужным оказывать, он выражал свое отношение к самонадеянности просителя восклицанием «Сказанул!» Когда вредный мальчишка хотел досадить прохожему и развеселить приятелей, он глядел тому в лицо, кричал: «Сказанул!», и это неизменно срабатывало. Когда участник спора желал подвергнуть сомнению правдивость оппонента и сразу отмести аргумент, который не мог опровергнуть, он, презрительно улыбаясь и нетерпеливо пожимая плечами, произносил: «Сказанул». Это универсальное односложное слово выражало все, что он хотел сказать, и не только давало собеседнику понять, что тот лжет, но и говорило ему, что он чудовищно заблуждается, если считает, что на свете найдется простофиля, который ему поверит. «Сказанул» звучало во всех пивных и на каждом углу, и им были исписаны все стены на мили окрест.
Однако, как и все земное, это словцо имело свой срок существования и исчезло так же внезапно, как и появилось, бесповоротно утратив популярность и выйдя из употребления. Его место занял очередной, так сказать, претендент на престол, который имел неоспоримую власть, пока, в свою очередь, не был низвергнут новоявленным преемником.
Следующей вошла в моду фраза «Что за прескверная шляпа!» Стоило ей стать общеупотребительной, и тысячи праздных, но зорких глаз принялись высматривать прохожих, чьи шляпы имели, пусть даже самые ничтожные, признаки давнего ношения. По обнаружении таковых немедленно поднимался крик, который, подобно боевому кличу индейцев, подхватывался массой нестройных глоток. Умно поступал тот, кто, оказавшись в подобных обстоятельствах, что называется, в центре всеобщего внимания, кротко сносил оказываемые ему «почести». Тот же, кто из-за злословия по поводу его шляпы демонстрировал признаки враждебности, лишь привлекал к себе повышенное внимание. Раздражительных толпа распознаéт быстро и, если те принадлежат к той же, что и она, прослойке общества, обожает их высмеивать. Когда такой человек в поношенной шляпе проходил в те дни через многолюдный район, он мог считать, что ему повезло, если его неприятности ограничивались криками и воплями насмешников. Нередко злосчастную шляпу срывал с головы какой-нибудь любитель грубых шуток, который швырял ее в сточную канаву, а затем поднимал ее, покрытую грязью, на кончике трости к вящей радости зевак, которые держались за бока от хохота и в паузах между приступами веселья восклицали: «Ах, что за прескверная шляпа! Что за прескверная шляпа!» Несомненно, многие небогатые люди нервического склада, чьих грошей еле хватало на подобную трату, покупали себе новую шляпу раньше срока, с тем чтобы избежать инцидентов такого рода.
Происхождение этого странного выражения, веселившего столицу много месяцев, прослеживается, в отличие от первоисточника слова «сказанул» и ряда других фраз, достаточно четко. Как-то раз во время выборов главы округа Саутуарк, отличавшихся острейшим соперничеством кандидатов, одним из оных был известный торговец шляпами. Этот джентльмен, стремясь привлечь на свою сторону побольше избирателей, прибегал для снискания их расположения к профессиональному ухищрению, предлагая им взятку в завуалированном виде. Всякий раз, когда с митинговой трибуны или при личной встрече он обращался к избирателю, чья шляпа была не из самого лучшего материала или знавала лучшие времена, он говорил: «Что у вас за прескверная шляпа, зайдите в мой магазин, и получите новую!» В день выборов противники почтенного кандидата вспомнили про это обстоятельство и воспользовались им наилучшим образом, успешно подстрекая толпу выкрикивать: «Что за прескверная шляпа!» на всем протяжении его выступления. Из Саутуарка фраза распространилась по всему Лондону и какое-то время была коронным выражением.
Не меньшей популярностью пользовалась позаимствованная из припева сатирической песенки фраза «Врешь, поди», которая, как и ее предшественница «Сказанул», являлась практически универсальным ответом. С течением времени она, сократившись до второго слова615, произносилась со специфической протяжностью на первом слоге и резко завершалась со вторым. Если к какой-нибудь бойкой служанке приставал, домогаясь поцелуя, парень, к которому она была равнодушна, девушка задирала свой маленький носик и кричала: «Врешь!» Если, скажем, мусорщик просил у приятеля шиллинг взаймы, а тот или не мог или не хотел выполнить просьбу, ответом вполне могло быть указанное восклицание. Если пьяный шел, пошатываясь, по улице и озорной мальчишка тянул его за фалды сюртука или взрослый прохожий в насмешку надвигал ему шляпу на глаза, шутливая выходка всегда сопровождалась тем же возгласом. Так продолжалось два или три месяца, и «Врешь!» сошло со сцены, навсегда перестав быть развлечением и не породив могущих стать таковым преемников.
Следующая фраза такого рода — одна из самых нелепых. Кто и при каких обстоятельствах ее придумал и где она впервые была произнесена на людях, остается загадкой. Известно лишь, что в течение месяцев она была par excellence616 сленговым выражением лондонцев, доставлявшим им огромное удовольствие. На устах у всех, кто знал город, была фраза «Полюбуйтесь на него!»617 или, если она относилась к женщине, «Полюбуйтесь на нее!». Рассудительная часть общества была озадачена этим выражением в той же мере, в какой простонародье им наслаждалось. Умные считали его чрезвычайно глупым, но многие полагали весьма забавным, и бездельники находили развлечение в том, что писали его мелом на стенах и памятниках. Но, как известно, «все яркое неизбежно блекнет», даже сленг. Люди устали от своего увлечения и перестали говорить «Полюбуйтесь на него (нее)!» в общественных местах.
Вскоре после этого вошла в обиход еще одна весьма странная фраза — дерзкий и не всегда уместный вопрос «Что, твоя матушка продала каток для белья?». Однако она не была громогласной и эмоциональной настолько, чтобы пользоваться популярностью долгое время. Ее распространению мешало то обстоятельство, что обращаться с ней, не рискуя выставить себя дураком, можно было только к достаточно молодым людям. В результате она просуществовала совсем недолго и была предана забвению. Ее преемнице повезло куда больше: та настолько глубоко укоренилась в массовом сознании, что все прошедшие годы и изменения моды так ее и не искоренили. Эта фраза, «Вспышка!», является общеупотребительным выражением по сей день. Она появилась во время начавшейся на волне Реформации Английской революции, когда разъяренные жители Бристоля сожгли почти половину города. Говорили, что в обреченном городе вспыхнул пожар. Было ли нечто особенно притягательное в звучании или смысле этого слова, сказать сложно, однако, независимо от причины, оно так понравилось толпе, что стало наиболее употребительным жаргонным выражением. По всему Лондону только и было слышно, что «Вспышка!». Это выражение служило ответом на любой вопрос, улаживало любые разногласия, применялось в отношении всех лиц, предметов и обстоятельств и вдруг стало наиболее употребительной фразой в английском языке. О человеке, который вышел в своей речи за рамки приличия, говорили, что он «вспыхнул»; так же характеризовали тех, кто слишком часто захаживал в пивную со всеми вытекающими неприятными последствиями для себя. Вспылить, отправиться ночью на поиски приключений и напугать соседей, нарушить общественный порядок каким бы то ни было образом — все это называлось «вспыхнуть». Ссору влюбленных называли «вспышкой», так же именовали драку уличных мальчишек, и подстрекатели к мятежу и революции призывали английский народ вспыхнуть, как французы. Нередко люди произносили это слово просто из-за его звучания — настолько оно им полюбилось. Они, видимо, обожали слышать его из собственных уст, и зачастую мастеровые, не услышав отзывов на свой клич у себя в округе, вызывали отголоски расхожего сленгового выражения Ист-Энда в аристократическом Вест-Энде. И даже в глухие ночные часы те, кто не спал или не мог уснуть, слышали тот же приветственный зов. Плетущийся домой пьяница доказывал, что он все еще человек и гражданин, выкрикивая «Вспышка!» в паузах между приступами икоты. Алкоголь лишал его способности выражать все другие мысли, его интеллект был низведен до уровня скотины, и единственным связующим звеном между ним и человеческим родом оставался популярный клич. Пока он мог выкрикивать это слово, он имел все права англичанина и не желал спать в канаве, как собака! Так он шел себе и шел, нарушая своими возгласами покой тихих улиц и добропорядочных горожан, пока не переставал держаться на ногах и не валился, обессиленный, на мостовую. Когда по прошествии какого-то времени на него натыкался полицейский, страж порядка светил фонарем ему в лицо и восклицал: «Вот ведь вспыхнул, бедолага!» Затем жертву неумеренных возлияний доставляли на носилках в полицейский участок и бросали в грязную камеру к горемыкам, дошедшим примерно до той же стадии падения, которые приветствовали своего нового товарища громким протяжным криком «Вспышка!».
Эта фраза была настолько распространенной, а ее популярность — столь продолжительной, что один биржевой делец, не ведая о преходящей сущности сленга, основал еженедельную газету с таким названием. Но, сделав это, он уподобился человеку, построившему дом на песке; фундамент дома просел под тяжестью собственного веса, и крылатая фраза вместе с газетой были смыты в безбрежное море равнодушия и забвения. Простолюдины в конце концов устали от однообразия, и выражение «Вспышка!» стало считаться вульгарным даже в их среде. С течением времени оно осталось усладой лишь маленьких мальчиков, не знающих жизни, а потом окончательно перешло в разряд отживших. Данное слово больше не является частью общеупотребительного сленга, но по-прежнему используется для обозначения любой вспышки огня, волнения или гнева.
Следующая фраза, которая пользовалась благосклонностью широких масс, менее лаконична и, по-видимому, с самого начала была нацелена против не по годам развитых юнцов, наделивших себя внешними признаками возмужания раньше времени. Это был малоприятный вопрос «А твоя мамочка знает, что тебя нет дома?», задаваемый излишне развязным молодым людям, которые, дабы выглядеть неотразимыми, курили на улице сигары и носили фальшивые бакенбарды. Многих самодовольных парней, которые без стеснения разглядывали всех проходящих мимо женщин, означенная фраза сразу же ставила на место. Она вызывала отвращение у одетых в выходное платье юных подмастерьев и продавцов, которые, услышав ее в свой адрес, приходили в ярость. В целом эта фраза имела весьма полезный эффект, во множестве случаев дав понять молодому Тщеславию, что в нем нет и половины тех красоты и обаяния, которые оно себе приписывает. Столь неприятной ее делало подразумеваемое ею сомнение в способности человека, которому она была адресована, действовать самостоятельно. Вопрос «А твоя мамочка знает, что тебя нет дома?» содержал в себе мнимые участие и обеспокоенность тем, что родители разрешают столь юному и неискушенному в городской жизни созданию выходить на улицу одному. Отсюда и сильный гнев тех, кто вплотную подошел к зрелому возрасту, но еще его не достиг, при каждом произнесении этих слов в их адрес. Они были неприятны даже людям более старшего возраста, и один лорд, наследник герцогского дома, услышав их от кебмена, который не знал, с кем имеет дело, был так возмущен нанесенным ему оскорблением, что подал на обидчика в мировой суд. Кебмен, как выяснилось, потребовал от его светлости двойной платы за проезд против той, что ему действительно причиталась, и, когда его светлость отказался платить, осведомился, «знает ли его мамочка, что его нет дома». Тот же вопрос его светлости задали все остальные кебмены на стоянке, и тот, будучи не в силах терпеть насмешки, счел за благо уйти со всей поспешностью, какую ему позволяло чувство собственного достоинства. Ответчик в свое оправдание сослался на незнание того, что его клиент — лорд, но попранное правосудие было неумолимо, и судья приговорил незадачливого кебмена к штрафу.
Отжив положенный ей срок, эта фраза, как и ее предшественницы, канула в Лету, и вместо нее воцарилась «Ты кто такой?». Судя по всему, этот новый фаворит появился, словно гриб, за одну ночь. В один день этого выражения никто не слышал и не знал, а на следующий оно распространилось по всему Лондону. Им оглашались все аллеи, оно звучало на всех больших дорогах, и «от улицы к улице, от переулка к переулку несся один неизменный клич». Фразу618произносили быстро, с восходящей интонацией на первом и третьем и почти придыханием на втором слове. Как и все ее широко популярные предыдущие аналоги, она была применима едва ли не при любом стечении обстоятельств. У любителей ясных ответов на простые и понятные вопросы она была не в чести. Наглецы употребляли ее, чтобы нанести обиду, невежды — чтобы скрыть свое невежество, шутники — чтобы вызвать смех. Каждого нового посетителя пивной бесцеремонно спрашивали «Ты кто такой?», и, если он выглядел глупо, чесал в затылке и не знал, что ответить, со всех сторон раздавались крики бурного веселья. Этим вопросом нередко осаживали авторитетного участника спора, и им же сдерживали самонадеянность любого рода. Как-то раз, когда фраза находилась на пике популярности, один джентльмен, почувствовав, что к нему в карман залез вор, внезапно обернулся и захватил того на месте преступления, воскликнув: «Ты кто такой?» Собравшиеся вокруг зеваки восторженно аплодировали, полагая, что это самая превосходная шутка из всех, которые они когда-либо слышали, вершина остроумия, квинтэссенция юмора. Другой случай такого рода придал употреблению фразы дополнительный стимул и вселил в нее новую жизнь и энергию, когда ее популярность шла на убыль. Он произошел в главном уголовном суде королевства. Слушалось дело обвиняемого, чья вина была полностью доказана. Адвокат уже произнес свою речь, в которой, не призывая оправдать его подзащитного, попросил суд о снисхождении, сославшись на хорошую репутацию оного в прошлом. «И где же ваши свидетели?» — спросил ученый судья, руководивший заседанием. «Извольте, милорд, я знаю обвиняемого, и честнее него нет человека», — произнес чей-то резкий голос на балконе. Судейские, казалось, были ошеломлены, а публика захихикала, с трудом сдерживая смех. Судья, оставаясь внешне невозмутимым, посмотрел наверх и спросил: «Ты кто такой?» Хихиканье переросло в громоподобный хохот, и прошло несколько минут, прежде чем удалось восстановить тишину и порядок. Когда к приставам вернулось самообладание, они принялись за усердные поиски непочтительного правонарушителя, но их усилия ни к чему не привели — этого человека никто не знал и не видел. По прошествии некоторого времени суд продолжил работу. Следующий обвиняемый, представший перед судом, преисполнился оптимизма в отношении своей участи, узнав, что представитель правосудия, призванный отправлять его со всей серьезностью, произнес расхожую фразу, словно та была ему по нраву. Было бы неразумно ожидать от такого судьи чрезмерной суровости. Он был душой на стороне простых людей, знал их язык и манеры и принимал в расчет те искушения, что толкали их на путь преступления. Так думали многие обвиняемые, если мы можем заключить это из того факта, что ученый судья внезапно стал необычайно популярен. Его остроумие стало притчей во языцех, а фраза «Ты кто такой?» обрела вторую жизнь и еще какое-то время пользовалась благосклонностью широких масс.
Однако было бы неверно считать, что между периодами господства жаргонных фраз не было перерывов. Они не появлялись друг за другом одной длинной непрерывной чередой, а делили расположение масс с песнями. Другими словами, когда люди склонялись к музыке, они на время забывали о сленге, а когда они склонялись к сленгу, сладостный голос музыки напрасно стучался в их сердца. Лет тридцать назад Лондон оглашался одним рефреном, любовь к которому охватила, казалось, всех его жителей. Его распевали девочки и мальчики, мужчины всех возрастов, девы, жены и вдовы. Это была всеобщая маниакальная страсть к пению, и хуже всего в ней было то, что певцы, подобно добродетельному святому отцу Филипу из романа «Монастырь», отличались, по-видимому, абсолютной неспособностью петь что-то другое. «Спелая вишня! Спелая вишня!» — голосили в едином порыве все праздные лондонцы. Это произносил всякий немелодичный голос, которому вторила каждая расстроенная скрипка, каждая надтреснутая флейта, каждая хриплая волынка, каждая шарманка. Работящие и тихие люди затыкали в отчаянии уши или убегали подальше — в поля и леса, лишь бы только этого не слышать. Это бедствие длилось около года, пока само слово «вишня» не стало вызывать отвращение. Возбуждение наконец исчерпало себя, и прилив массового благорасположения устремился в новом направлении. Была ли это еще одна песня или же просто сленговое выражение, сегодня за давностью лет сказать сложно; известно лишь, что очень скоро объектом слепой привязанности толпы стала очередная громкая фраза и повсюду только и было слышно, что «Томми и Джерри». К тому времени словесное остроумие развлекало толпу уже достаточно долго, и ее забавы приобрели более практический характер. Всех лондонских юношей охватило неистовое желание выделиться, и они, напившись дешевого пива, проводили ночь в кутузке или затевали свары с потаскушками и прочим сбродом в грязных притонах Сент-Джайлза. Склонные к подражательству мальчишки старались перещеголять старших в подобных «подвигах», пока это недостойное (каковым оно, несомненно, являлось) увлечение не исчерпало, как и другие причуды, положенный ему срок и город не начал радостно следовать очередной моде. Следующей вершиной народного юмора стала манера отвечать на все вопросы, приложив к кончику носа кончик большого пальца и вертя остальными. Если один человек хотел обидеть или досадить другому, ему было достаточно изобразить этот своего рода кабалистический символ. Если на перекрестке собиралась группа людей, любой прохожий, обладая достаточным любопытством, чтобы проследить за их жестами, и понаблюдав за происходящим минуту-другую, наверняка увидел бы, как кто-нибудь из собравшихся крутит пальцами у носа в знак недоверия, или удивления, или отказа, или насмешки. Пережитки этого абсурдного обычая сохранились до сих пор, но он считается низменным даже в среде простонародья.
Примерно шестнадцать лет назад Лондон вновь охватило крайне нелепое песенное поветрие. Vox populi619 доводил себя до хрипоты, вознося хвалы царству Посейдона рефреном «Море, море!». Какой-нибудь иностранец с философским складом ума, гуляя в то время по Лондону, вполне мог бы составить весьма стройную теорию о любви англичан к военно-морской службе и нашем признанном превосходстве над всеми другими народами в данной области. «Неудивительно, — вероятно, сказал бы он, — что этот народ непобедим на море. Любовь к нему у англичан в крови; они чествуют его даже на рынках; их уличные певцы, восхваляя его, пробуждают в прохожих милосердие и зарабатывают на хлеб и кров, и люди всякого звания, стар и млад, мужчины и женщины поют ему осанну. Народные песни этой воинственной нации не прославляют любовь; Бахус для англичан не бог; это люди более сурового склада, у которых на уме только “море, море!” и средства достижения на нем военных побед».
Таковым, без сомнения, было бы его впечатление, если бы услышанное ласкало его слух. Увы, в те дни утонченные уши, не обделенные музыкальным слухом, подвергались сущей пытке, когда нестройные глотки, диссонируя на множество ладов, начинали петь этот ужасающий гимн, от которого не было спасения. Странствующие певцы из Савойи подхватывали напев и разносили его по длинным тихим улицам, даже самые потаенные закоулки которых откликались эхом их голосов. Доведенные до отчаяния благопристойные люди были вынуждены терпеть это вопиющее безобразие целых полгода и страдали, так сказать, от морской болезни на суше.
После этого появилось еще несколько песен такого рода, но ни одна из них, за исключением той, что называлась «Вокруг моей шляпы», не пользовалась особой популярностью, пока один американский актер не исполнил гнусную песенку «Джим Кроу»620. Он распевал свои вирши в соответствующем костюме, нелепо жестикулируя и вертясь волчком в конце каждого куплета. Песня сразу же пришлась по вкусу лондонскому простому люду, и благонравные жители столицы на протяжении многих месяцев цепенели от глумливого, бессмысленного припева:
Turn about and wheel about,
And do just so —
Turn about and wheel about,
And jump, Jim Crow!621
Уличные певцы для достижения нужного эффекта мазали лица сажей, и беспризорные мальчишки, которым в поисках средств к существованию приходилось выбирать между воровством и пением, отдавали предпочтение последнему занятию, которое в период повального увлечения означенной песней, было, по всей вероятности, более прибыльным. Неуклюжий танец и незатейливый аккомпанемент привлекали к себе наибольшее внимание на больших и оживленных улицах в вечера базарных дней, когда слова песни перекрывали уличный шум и гул голосов постоянно находящейся в движении толпы. Какой-нибудь беспристрастный наблюдатель, который в самый разгар популярности этих виршей «сидел у дороги в летней пыли и смотрел на поток спешивших туда-сюда людей, многочисленных, как комары в лучах заката», может статься, воскликнул бы, цитируя Шелли, что «неистовая песня и танец безумный вызвали буйство массы людской».
Философ-теоретик, чей предполагаемый монолог о характере англичан, навеянный их чрезмерной любовью к воспеванию моря, приведен выше, мог бы, окажись он снова в Лондоне, вывести еще одну весьма стройную теорию, объясняющую неослабные усилия нашего народа, направленные на искоренение работорговли. «Великодушные люди, — возможно, сказал бы он, — сколь безгранично ваше сочувствие! Ваши несчастные африканские братья, отличающиеся от вас лишь цветом кожи, так дороги вам, и вам настолько не жаль тех двадцати миллионов, которые вы за них заплатили, что вы жаждете постоянного напоминания об их тяжкой участи. Джим Кроу — представитель этой угнетенной расы и, будучи таковым, кумир вашего народа! Как вы все поете ему дифирамбы, как имитируете его особенности, как повторяете его имя в минуты досуга и развлечения! Вы даже вырезаете его изображения и носите их как украшение, дабы никогда не забывать о его борьбе и страданиях! О, милосердная Англия, о, авангард цивилизации!»
Таковы некоторые из причуд простых лондонцев, которым они предаются, когда размеренное течение их жизни не нарушает восстание, казнь, убийство или воздушный шар. Это прихоти широких масс — безвредные чудачества, которыми они бессознательно пытаются облегчить бремя своих повседневных забот. Благоразумный человек, даже относясь к простолюдинам пренебрежительно, не удержится полностью от сочувствия в их адрес и скажет: «Пусть они, раз им этого хочется, употребляют свои жаргонные выражения и поют свои песенки, и если им не суждено быть счастливыми, так пусть они хотя бы веселятся». Наверное, англичанам, равно как и французам, которых воспевает Беранже, такая малость, как песня, приносит некоторое утешение, что позволяет нам согласиться с ним и признать, что «Au peuple attriste
Ce qui rendra la gaîté,
C’est la GAUDRIOLE!
O gué!
C’est la GAUDRIOLE!»622
Народная любовь к известным разбойникам
Jack. Where shall we find such another set of practical philosophers, who, to a man, are above the fear of death!
Wat. Sound men and true!
Robin. Of tried courage and indefatigable industry!
Ned. Who is there here that would not die for his friend?
Harry. Who is there here that would betray him for his interest?
Mat. Shew me a gang of courtiers that could say as much!
Dialogue of Thieves in the Beggars’ Opera623.
Происходит ли это потому, что широкие массы, страдая от нищеты, симпатизируют бесстрашным и изобретательным грабителям, отнимающим у богатых излишки богатства, или же все дело в том, что человечество в целом питает интерес к историям об опасных приключениях, но во всем мире простые люди восхищаются знаменитыми и удачливыми разбойниками. Вероятно, тот факт, что жизнь и деяния последних окружены в глазах простого народа романтическим ореолом, объясняется обеими этими причинами. Почти в каждой европейской стране ходят легенды об одном или нескольких таких разбойниках, чьи подвиги описываются со всем присущим поэзии изяществом и чьи прегрешения «поэты прославляют и дети, как и прежде, воспевают»624.
Путешественники, изучающие нравы и особенности других народов, нередко подмечают эту национальную черту и пишут о ней в своих трудах. Ученый аббат Леблан, который прожил некоторое время в Англии в начале XVIII века, в своих занимательных описаниях англичан и французов сообщает, что он неоднократно встречал англичан, которые хвалились успехами своих разбойников с большой дороги не меньше, чем отвагой своих воинов. У всех на устах были истории об их ловкости, хитрости и щедрости, и известные разбойники были своего рода героями с хорошей репутацией. Аббат добавляет, что во всех странах простолюдины, будучи людьми впечатлительными и эмоциональными, обычно относятся к преступникам, идущим на виселицу, с заботой и участием, а простые англичане проявляют к подобным сценам необычайный интерес: они, пишет Леблан, восхищаются твердостью духа, с каковой висельники проходят через последнее испытание, выказывая одобрение в отношении тех, кто перед лицом смерти не теряет достоинства, храбро встречая Божью и людскую кару. Встречая ее так, мог бы он добавить, как знаменитый грабитель Макферсон, о котором поется в старинной народной песне:
Sae rantingly, sae wantonly,
Sae dauntingly gaed he:
He played a spring, and danced it round
Beneath the gallows tree625.
Среди этих вошедших в легенду разбойников наиболее известным в Англии, да и, пожалуй, во всем мире, является Робин Гуд, которого любовь народа окружила особенным ореолом. «Он грабил богатых, дабы раздавать награбленное бедным», и наградой ему стала бессмертная слава, которой хватило бы по меньшей мере на десятерых ему подобных. Романисты и поэты сделали его героем своих произведений, а Шервудский лес, где он и его славные товарищи бродили в одеждах из ярко-зеленой материи, вооруженные длинными луками, стал местом паломничества и исторической достопримечательностью. Те его немногие добродетели, которые, веди он честную жизнь, не принесли бы ему никакой славы, воспевались народом на протяжении семи последующих столетий и не будут забыты, пока существует английский язык. Его милосердие к беднякам, его галантность и уважение к женщинам сделали его самым знаменитым разбойником всех времен и народов.
А кто не слышал о таких английских разбойниках более поздних времен, как Клод Дюваль, Дик Тёрпин, Джонатан Уайльд и Джек Шеппард, об этих рыцарях с большой дороги, чей своеобразный рыцарский дух вызывал у англичан XVIII столетия страх и восхищение одновременно? Имя Тёрпина известно всему мужскому населению Англии, достигшему десятилетнего возраста. Его удивительное путешествие из Лондона в Йорк внушило любовь к нему миллионам; его жестокость, когда он пытал огнем старуху, дабы заставить ее рассказать, где она спрятала деньги, считается удачной шуткой; его гордое поведение на эшафоте воспринимается как добродетель. Аббат Леблан в 1737 году писал, что его постоянно развлекают рассказами про Тёрпина — про то, как этот разбойник, грабя господ, великодушно оставлял им достаточно денег для продолжения путешествия и добивался от них обещания никому не сообщать о происшедшем и как эти господа добросовестно держали слово. Однажды аббат услышал историю, рассказанную с превеликим удовольствием. Тёрпин остановил человека, который, как он знал, был очень богат, со своим обычным приветствием «Деньги или жизнь!», однако, найдя у него не более пяти или шести гиней, позволил себе с чрезвычайной любезностью попросить его никогда не выходить из дому с такой малостью, добавив, что, если он еще раз встретит его и при нем окажется столь ничтожная сумма, он задаст ему хорошую взбучку. Другая история, рассказанная одним из поклонников Тёрпина, повествует об ограблении некоего м-ра К. близ Кембриджа. Тёрпин отнял у этого господина часы, табакерку и все деньги, кроме двух шиллингов, и, прежде чем его отпустить, потребовал от него пообещать, что тот не сообщит об инциденте властям и не передаст его в руки правосудия. Обещание было дано, и эти двое весьма учтиво расстались. Впоследствии они встретились в Ньюмаркете626 и возобновили знакомство. М-р К. неукоснительно держал слово; он не только не отдал Тёрпина в руки властей, но и хвастался, что честно отыграл часть своих денег. Тёрпин, как выяснилось, предложил ему заключить пари, поставив на какого-нибудь рысака-фаворита, и м-р К. согласился, причем настолько любезно, словно перед ним был благороднейший дворянин Англии. Тёрпин проиграл пари, немедленно выплатил сумму ставки и был так потрясен великодушным поведением м-ра К., что выразил изрядное сожаление по поводу того, что заключенная между ними ранее пустячная сделка не позволила им выпить вместе. Рассказчик этой забавной истории не на шутку гордился тем, что Англия породила такого разбойника627.
Не менее известен английскому народу Джек Шеппард — один из самых жестоких бандитов в истории страны, завоевавший, однако, право на любовь широких масс, с выражениями которой сталкиваешься сплошь и рядом. Он не грабил, как Робин Гуд, богачей, чтобы облегчать участь бедняков, и не выказывал при ограблениях, подобно Тёрпину, грубоватой любезности, а сбежал из Ньюгейтcкой тюрьмы в кандалах. Этот «подвиг», неоднократно им повторенный, окружил его преступное чело ореолом бессмертия и сделал его образцом разбойника в среде простонародья. Когда его казнили, ему было всего двадцать три года, и он умер, горестно оплакиваемый толпой. На протяжении многих месяцев все только и говорили, что о его похождениях, а магазины гравюр и эстампов изобиловали его изображениями и портретами, один из которых, довольно удачный, был написан сэром Ричардом Торнхиллом. В «Бритиш джорнэл» от 28 ноября 1724 года были опубликованы следующие хвалебные стихи в адрес художника:
Thornhill! ‘tis thine to gild with fame
Th’ obscure, and raise the humble name;
To make the form elude the grave,
And Sheppard from oblivion save!
Apelles Alexander drew —
Caesar is to Aurelius due;
Cromwell in Lilly’s works doth shine,
And Sheppard, Thornhill, lives in thine!628
Это был комплимент весьма сомнительного свойства: можно было подумать, что если Апеллес был достоин написать портрет монарха, то удел Торнхилла — написать портрет разбойника. Однако ни Торнхилл, ни общественность не восприняли стихи означенным образом, сочтя их образчиком лаконичности, точности и похвалы. Слава Джека Шеппарда была так велика, что его считали весьма подходящим сценическим персонажем, и некто Термонд написал пьесу в жанре комедии дель арте под названием «Арлекин Джек Шеппард» и с успехом поставил ее в театре на Друри-лейн. Все декорации к ней были выполнены с натуры, включая таверну в Клэр-Маркет, которую разбойник часто посещал, и камеру смертников в Ньюгейтской тюрьме, откуда он сбежал629.
Преподобный м-р Виллетт, издатель «Анналов Ньюгейтской тюрьмы», опубликованных в 1754 году, приводит курьезную проповедь, которую, по его словам, один его друг услышал от уличного проповедника примерно в то время, когда казнили Джека. После порицания великой заботы людей об их телах и малой — об их душах оратор, дабы проиллюстрировать свою точку зрения, сказал следующее: «Яркий тому пример — отъявленный злодей, знаменитый Джек Шеппард. Какие удивительные препятствия он преодолел! Какие поразительные деяния он совершил, и все ради того, чтобы его повесили и превратили в жалкий, зловонный труп! Сколь умело открыл он висячий замок своей цепи кривым гвоздем, сколь мужественно и решительно разорвал кандалы, поднялся по дымоходу, выломал из каменной стены железный прут, проделал в ней отверстие, вышиб крепкую дверь тайного хода, влез на крышу тюрьмы и, прибив к стене костылем шерстяное одеяло, выбрался из тюремной церкви! Сколь отважно опустился он на крышу дома гончара, сколь осторожно спустился по лестнице и добежал до парадной двери!
Ах, если бы вы все были такими, как Джек Шеппард! Не поймите меня неправильно, братья, — не в физическом, но в духовном смысле, ибо я предлагаю толковать его деяния метафорически. Сколь постыдно было бы для нас думать, что нам для спасения наших душ не стоит претерпеть столько же страданий и передумать столько же глубоких дум, сколько претерпел и передумал Джек Шеппард для спасения своего тела!
Позвольте же мне призвать вас открыть замки ваших сердец гвоздем покаяния! Разорвите кандалы ваших излюбленных страстей, поднимитесь по дымоходу надежды, выломайте оттуда прут доброжелательной решимости, пробейтесь сквозь каменную стену отчаяния и все твердыни тайного хода из долины смертной тени! Поднимитесь на крышу божественного созерцания, прибейте одеяло веры костылем Церкви, спуститесь на крышу дома гончара — обители смирения — и сойдите вниз по лестнице скромности! Так вы доберетесь до двери избавления от оков беззакония и избежите лап губителя рода людского — дьявола!»
Джонатан Уайльд, чье имя обессмертил Филдинг630, был нелюбим народом. Он не обладал ни одной из тех добродетелей, кои в сочетании со злодеяниями создают человеку репутацию прославленного разбойника. Это был жалкий тип, который доносил на своих товарищей и страшился смерти. В отместку за подобную низость толпа, когда его везли на казнь в Тайбёрн, забрасывала его грязью и камнями и выражала свое презрение всеми возможными средствами. Насколько же отличалось ее поведение в отношении Тёрпина и Джека Шеппарда, которые умерли в своих изысканнейших нарядах, с бутоньерками в петлицах и с отвагой, милой сердцу простолюдина! Народ опасался, что тело Тёрпина передадут хирургам для расчленения, и люди, увидев, как служивые деловито уносят его с эшафота, внезапно напали на них, отбили тело, торжествующе пронесли его по городу и захоронили в весьма глубокой могиле, наполненной негашеной известью для ускорения процесса разложения. Они не могли допустить, чтобы труп их героя — человека, доскакавшего от Лондона до Йорка за двадцать четыре часа, — кромсали грубые руки бесчувственных хирургов.
Смерть Клода Дюваля сопровождалась, по-видимому, не меньшим триумфом. Клод был разбойником, поступавшим по-джентльменски. Как писал Батлер в знаменитой оде в его честь, он
Taught the wild Arabs of the road
To rob in a more gentle mode;
Take prizes more obligingly than those
Who never had been bred filous;
And how to hang in a more graceful fashion
Than e’er was known before to the dull English nation631.
Действительно, он являл собой верх вежливости, а его галантность по отношению к слабому полу вошла в поговорку. Когда его наконец поймали и заточили в тюрьму, горе женщин было соразмерно его редкостным достоинствам и великой славе. Батлер пишет, что к нему в тюрьму
Came ladies from all parts,
To offer up close prisoner their hearts
Which he received as tribute due —
………………………………………………………………………..
Never did bold knight to relieve
Distress’d dames, such dreadful feats achieve,
As feeble damsels for his sake
Would have been proud to undertake
And, bravely ambitious to redeem
The world’s loss and their own,
Strove who should have the honour to lay down,
And change a life with him632.
Среди знаменитых разбойников Франции более других прославился Эмериго Тетнуар, живший в царствование Карла VI. Он возглавлял шайку численностью примерно от четырехсот до пятисот человек, владел двумя очень хорошо укрепленными замками в провинциях Лимузен и Овернь и обладал множеством атрибутов крупного феодала, хотя не имел никаких источников дохода, кроме разбоя. Умирая, он оставил необычное завещание. «Я завещаю, — сказал разбойник, — тысячу пятьсот франков церкви святого Георгия на ремонт, буде таковой потребуется; моей милой даме сердца, коя любила меня столь преданно, я оставляю две тысячи пятьсот; остальное же отдаю моим товарищам. Надеюсь, что все они будут жить как братья и разделят наследство меж собой полюбовно. Если же они не придут к согласию и меж ними угнездится демон раздора, то я в сем не повинен и советую им взять добрый, хорошо заточенный топор и взломать мой сейф. Пусть они поборются за обладание его содержимым, и к черту отстающих». Население Оверни до сих пор с восхищением рассказывает о бесстрашных подвигах этого рыцаря с большой дороги.
Французские разбойники более поздних времен были столь отъявленными негодяями, что не снискали особой любви народа. Небезызвестный Картуш, имя которого стало во французском языке синонимом слова «бандит»633, не отличался ни великодушием, ни учтивостью, ни беззаветной храбростью, столь необходимыми для формирования образа разбойника-героя. Он родился в Париже в конце XVII века и был колесован в ноябре 1727 года. Ему, однако, достало популярности для того, чтобы заслужить жалость толпы во время казни и впоследствии стать героем драмы, названной его именем и прошедшей с большим успехом во всех театрах Франции в период с 1734 по 1736 год. В наши дни французам больше повезло с разбойником. Это Видок, который, насколько можно судить, вскоре обретет не меньшую (если не бóльшую) славу, чем Тёрпин и Джек Шеппард. Он уже стал героем множества сомнительных историй; его соотечественники уже расхваливают его многочисленные и разнообразные подвиги и выражают сомнение, что какая-либо другая страна Европы способна произвести на свет разбойника столь умного, искусного и учтивого, как Видок.
Прославленные разбойники были и есть и в других странах: в Германии это Шиндерханнес, в Венгрии — Шубри, а в Италии и Испании — целый сонм бандитов, чьи имена и деяния стали в этих странах притчей во языцех среди простолюдинов и их отпрысков.
Итальянские разбойники (banditti) известны во всем мире, и многие из них не только очень религиозны (до известной степени), но и большие филантропы. Благотворительность из подобного источника настолько неожиданна, что народ любит за нее разбойников до безумия. Один из них, попав в руки полиции, воскликнул, когда его уводили: «Я раздал подаяний больше, чем любой из трех монастырей этих провинций!». И это была сущая правда.
Население Ломбардии хранит память о двух знаменитых разбойниках, живших примерно двести лет назад под властью испанцев. Рассказ о них, как пишет Макфарлейн, изложен в небольшой книге, которая хорошо известна всем детям данной провинции и читается ими с гораздо бóльшим удовольствием, чем Библия.
Шиндерханнеса, разбойника с Рейна, очень любят на берегах этой реки, которые он долгое время держал в страхе. Местные крестьяне рассказывают множество занятных историй634 о его низменных проделках, жертвами которых становились богатые евреи и чересчур самонадеянные чиновники, о его необычайной щедрости и бесстрашии. Короче говоря, они гордятся им и согласились бы на отделение памяти о его подвигах от названия своей реки не больше, чем на взрыв почитаемой ими скалы Эренбрайтштайн пороховым зарядом.
Это не единственный разбойник-герой, о нраве и деяниях которого германский народ отзывается с восхищением. Главарем большой банды, орудовавшей в 1824–1826 годах на территории Рейнской области, Швейцарии, Эльзаса и Лотарингии, был Мауш Надель. Он, как и Джек Шеппард, внушил к себе любовь народа, совершив в высшей степени рискованный побег из тюрьмы. Отбывая заключение на третьем этаже Бременской тюрьмы, он, закованный в кандалы, ухитрился выбраться наружу, обманув бдительность охраны, спуститься вниз и переплыть Везер. Примерно на полпути к берегу его заметил охранник, который выстрелил в него и ранил в икру; но отважный разбойник сумел, превозмогая боль, добраться до берега и скрылся из виду, прежде чем охранники спустили на воду лодки. В 1826 году его снова поймали, судили в Майнце и приговорили к смерти. Он был высоким, крепким, красивым мужчиной, и его участь, позорная, как и его деяния, вызвала волну сострадания во всей Германии. Особенно безутешны в своем сожалении о том, что ничто не может спасти столь симпатичного героя со столь романтическим прошлым от топора палача, были женщины.
М-р Чарльз Макфарлейн, рассказывая об итальянских banditti, отмечает, что распространению преступлений такого рода нередко способствуют злоупотребления католической церкви с ее тайной исповеди и отпущениями грехов. Однако он, не кривя душой, добавляет, что священники и монахи не совершают и половины тех злодеяний, в которых наряду с ними повинны авторы баллад и рассказов. Упомяни он еще и драматургов, перечень был бы полным. Ведь не секрет, что любой театр, финансовое процветание которого возможно лишь за счет потакания вкусам простого люда, то и дело обращается к жизнеописаниям разбойников и бандитов, делая их главными героями своих постановок. Эти театральные грабители с их живописными одеждами, фривольными притонами, веселыми, дерзкими и бесшабашными манерами оказывают поразительное влияние на людское воображение и, какие бы аргументы в защиту подобных зрелищ ни приводили их сторонники, весьма пагубным образом воздействуют на общественную нравственность. В воспоминаниях герцога Гиза635 о Неаполитанской революции 1647–1648 годов говорится, что воспроизводимые на сцене манеры, одежда и образ жизни неаполитанских banditti вызывали у публики такое восхищение, что власти сочли абсолютно необходимым запретить показ спектаклей, в которых те фигурировали, и даже ношение их костюмов на маскарадах. Banditti того времени были столь многочисленны, что герцогу не составило труда набрать из них войско, с которым он предпринимал попытки завладеть неаполитанским троном. Он описывает их так636: «Их было три тысячи пятьсот человек, из коих самому старшему было немногим меньше сорока пяти, а самому младшему — чуть больше двадцати лет. Все они были рослые и крепкого сложения, с длинными черными волосами, по большей части вьющимися, в верхнем платье из черной испанской кожи с бархатными рукавами, расшитыми золотом, с двумя пистолями — по одному на каждом боку — и абордажной саблей на ремне, надлежащим образом инкрустированной, шириной в три пальца и длиной в два фута; на поясе — ягдташ для соколиной охоты, а на шее — пороховница на широкой шелковой ленте. Одни были вооружены кремневыми ружьями, а другие — бландербасами637; каждый носил добротную обувь и шелковые чулки, и у всех были радовавшие глаз шляпы разных цветов, вышитые золотом или серебром».
Еще один пример восхищения, вызываемого разбойниками на театральных подмостках, — поставленная в нашей стране «Опера нищих». Нижеследующий отзыв о выдающемся успехе премьеры данного спектакля приведен в примечаниях к «Дункиаде» и процитирован Джонсоном в его «Биографиях поэтов»: «Эту пьесу принимали с небывалым восторгом. Помимо того, что она игралась в Лондоне шестьдесят три дня без перерыва и вновь прошла с аншлагом в следующем сезоне, она была поставлена во всех крупных городах Англии, во многих местах игралась по тридцать или сорок раз, а в Бате, Бристоле и ряде других городов — пятьдесят раз. Ее триумфальное шествие продолжили постановки в Уэльсе, Шотландии и Ирландии, где она игралась двадцать четыре дня подряд. Дамы носили в веерах тексты любимых песен из нее, в домах вешали щиты для объявлений с ее афишами. Она принесла славу не только автору. Прежде безвестная актриса, игравшая Полли638, неожиданно стала всеобщей любимицей; гравюры с ее портретами пользовались большим спросом; была написана ее биография, вышли в свет сборники адресованных ей писем и стихов в ее честь и даже брошюры с ее изречениями и остротами. Мало того, пьеса на время вытеснила из Англии итальянскую оперу, которая до этого безраздельно господствовала на ее подмостках в течение десяти лет». Доктор Джонсон в жизнеописании автора сообщает, что Херринг, впоследствии архиепископ Кентерберийский, осуждал оперу, видя в ней поощрение пороков и даже преступлений, делающее из разбойника героя и оставляющее его в итоге безнаказанным, и добавляет, что говорили даже, что после ее показа шаек грабителей явно стало больше. Доктор подвергает данное утверждение сомнению, аргументируя свою позицию тем, что разбойники и взломщики редко ходят в театр и что едва ли можно грабить, чувствуя себя в безопасности, свидетельством чему, по его мнению, служит осужденный на смерть Макхит — один из героев пьесы. Но не будь Джонсон столь безапелляционен, он, вероятно, очень легко обнаружил бы, что разбойники и взломщики посещают театр не реже остальных и что потешная демонстрация удачливых злодеев со всей определенностью дает примеры для подражания молодым и порочным. Кроме того, нелишне прислушаться к мнению пользующегося немалым авторитетом сэра Джона Филдинга, главного судьи суда на Боу-стрит, который категорически утверждал (подкрепляя свое утверждение протоколами заседаний своего ведомства), что в период, когда означенная опера была столь популярна, число разбойников значительно возросло.
Есть и другой, куда более современный пример театральной постановки с тем же результатом. Это «Разбойники» Шиллера — замечательная пьеса, написанная тогда еще зеленым юнцом и при всех своих достоинствах извратившая вкус и воображение всех молодых людей Германии. Один маститый критик, наш соотечественник (Хэзлитт), пишет, что это была первая пьеса, которую он прочел в своей жизни и которая оказала на него такое воздействие, что «поразила [его], как удар». Он не забыл ее и по прошествии двадцати пяти лет; она, как и прежде, была, по его словам, «давним обитателем покоев [его] разума» и даже в ту пору имела на него поистине магическое влияние, причин которого он не мог толком объяснить. Ее главный герой — великодушный разбойник с возвышенными помыслами — вызывал у публики такое восхищение, что несколько неопытных студентов, страстно желая пойти по пути персонажа, в котором они видели воплощение благородства, покинули свои дома и учебные заведения и подались в густые леса, дабы облагать данью путников. Они думали, что будут, как Мавр, грабить богачей, обращаться с красноречивыми монологами к заходящему солнцу или восходящей луне, облегчать участь встреченных ими бедняков и распивать с товарищами фляги рейнвейна на труднопроходимых горных перевалах или в палатках в лесной чаще. Однако небольшой, но полезный опыт чудесным образом охладил их пыл; они обнаружили, что настоящие, обычные разбойники имеют мало общего с традиционными сценическими бандитами и что гораздо лучше читать дома у камина о тюрьме, где они провели три месяца, питаясь хлебом и водой и спя на сырой соломе, чем в нее попадать.
Лорд Байрон с его возвышенными, произносящими монологи разбойниками в какой-то степени извратил вкус юных рифмоплетов своей страны. До сих пор, однако, последние демонстрировали больше здравого смысла, нежели их немецкие собратья, и не уходили в лес для вылазок на большую дорогу. Сколько бы они ни восторгались Конрадом-корсаром, они не выйдут, следуя его примеру, в море и не поднимут черный флаг. Свое восхищение они выражают только на словах, наводняя периодические издания и музыкальные магазины страны виршами, повествующими о похождениях всевозможных пиратов и бандитов и их возлюбленных.
Но больше всего вреда от драматургов, и Байрон в этом отношении менее грешен, нежели Гей или Шиллер. С помощью декораций, изысканных одежд, музыки и донельзя неправдоподобных воззрений своих персонажей они портят массовый вкус и не ведают,
Vulgaires rimeurs!
Quelle force ont les arts pour d2molir les moeurs639.
В низкопробных театрах, во множестве расплодившихся в бедных густонаселенных районах Лондона и посещаемых главным образом праздными и беспутными юнцами, спектакли о разбойниках и убийцах привлекают больше публики и вызывают у нее больший восторг, чем любые другие представления. Там воры и грабители изображаются в их истинном свете, и довольные зрители благополучно усваивают уроки совершения преступлений. Там играются глубочайшие трагедии и грубейшие фарсы из жизни убийц и разбойников, и чем они глубже и грубее, тем бóльшие аплодисменты они срывают. Там пьесы, сколь бы зверские злодеяния в них ни творились, ставятся с их отвратительными эпизодами, заимствованными из реальности, вновь и вновь — на потеху тем, кто однажды применит усвоенные знания криминального свойства на практике.
С читателями же ситуация совершенно иная. Люди в большинстве своем любят узнавать из книг о похождениях известных жуликов и разбойников. При этом последние вызывают у них восхищение, будучи даже вымышленными персонажами художественных произведений, — взять хотя бы богатую событиями историю о Жиле Бласе де Сантильяне и великом мошеннике доне Гусмане д’Альфараче. Здесь опасаться подражания не приходится. Поэты тоже вправе воспевать, не причиняя вреда, подобных героев, когда им этого хочется, пробуждая в нас сочувствие к печальной участи Джемми Доусона, Гилдроя и Макферсона Неустрашимого, либо прославляя в бессмертных стихах неблаговидные деяния и мщение великого шотландского разбойника Роба Роя. Если уж с помощью музыки благозвучных рифм они могут убедить мир в том, что такого рода персонажи — не более чем заблуждающиеся философы, родившиеся с опозданием в несколько поколений и любящие в теории и на практике
The good old rule, the simple plan,
That they should take who have the power,
That they should keep who can640,
то мир, быть может, станет мудрее и согласится на несколько более справедливое распределение благ, вследствие чего разбойники примирятся с обществом, а общество — с разбойниками. Более вероятным, однако, представляется то, что указанный результат, сколь бы пленительны ни были оды разбойникам, недостижим.
Дуэли и ордалии
There was an ancient sage philosopher,
Who swore the world, as he could prove,
Was mad of fighting.
— Hudibras641.
Большинство писателей, затрагивая в своих произведениях тему дуэлей, объясняют их происхождение воинственными обычаями тех варварских народов, что наводняли Европу в первые столетия христианской эры и предпочитали разрешать взаимные разногласия силой оружия. Действительно, дуэли в их примитивном и наиболее широком толковании суть не что иное, как поединок — универсальное средство, к которому прибегают все дикие животные, включая человека, дабы чем-то завладеть или что-то отстоять либо отомстить за нанесенное оскорбление. Две собаки, рвущие друг дружку за обладание костью, два петуха, дерущиеся на навозной куче ради любви приглянувшейся им курочки, два дурака на уимблдонском общинном выгоне, стреляющие друг в друга для удовлетворения оскорбленного достоинства, — все они в этом отношении одинаковы, являясь дуэлянтами. По мере развития цивилизации наиболее образованные люди естественным образом все более стыдились подобного способа урегулирования споров, и в результате были обнародованы первые законы о возмещении ущерба. Тем не менее зачастую обвиняемый не имел прямых доказательств для опровержения утверждений обвинителя; и во всех случаях такого рода, которых на этапе становления европейской цивилизации было, надо полагать, превеликое множество, стороны прибегали к единоборству. Считалось, что Всевышний придает силу, мужество и решимость тому из комбатантов (сражающихся), на чьей стороне правда, и дарует ему победу над противником. Как удачно заметил Монтескьё642, вера в это была вполне естественной для людей лишь недавно вышедших из варварства. Очевидным следствием их воинственности было то, что человек, лишенный мужества — главной добродетели своих соплеменников, подозревался и в других пороках, кроме трусости, которая обычно считалась спутницей предательства. Тот же, кто проявлял в схватке наивысшую доблесть, считался невиновным, какое бы преступление ему ни инкриминировалось. Разумеется, если бы люди мысли, во многих ситуациях выгодно отличающиеся от людей действия, не думали над тем, как обуздать буйные нравы соотечественников, общество рано или поздно вернулось бы к первобытному состоянию. Понимая это, власть имущие начали ограничивать ситуации, в которых закон разрешал подтверждение или опровержение обвинения путем единоборства, как можно более узкими рамками. Законом короля бургундов Гондебальда, принятым в 501 году, доказывание посредством поединка дозволялось во всех судебных разбирательствах взамен присяги. При Карле Великом бургундская практика распространилась на всю Франкскую империю, и не только тяжущиеся стороны, но и свидетели и даже судьи были обязаны отстаивать свою правоту, свои показания и решения с оружием в руках. Его преемник Людовик Благочестивый попытался исправить это все более массовое зло, разрешив дуэли только в апелляционных делах о тяжких преступлениях, в гражданских делах при рассмотрении согласованных сторонами вопросов о вынесении «приказа о праве»643 и в делах рыцарского суда на предмет оспаривания рыцарского звания. От этих испытаний освобождались только женщины, больные и увечные, а также мужчины младше пятнадцати и старше шестидесяти лет. Священнослужителям можно было выставлять сражающихся вместо себя. Эта практика с течением времени распространилась на все процессы по гражданским и уголовным делам, которые отныне должны были решаться путем поединка.
Духовенство, властвуя над умами, никогда не одобряло систему юриспруденции, которая, как видно, стремилась сделать разрешение всех мыслимых коллизий прерогативой сильнейших. Священники с самого начала решительно выступали против дуэлей и старались, насколько им позволяли предрассудки той эпохи, обуздать воинственный дух, столь чуждый принципам религии. На Валенсийском и впоследствии на Трентском соборе они отлучили от церкви всех дуэлянтов, их ассистентов и зрителей, объявив, что этот богомерзкий и отвратительный обычай распространился по наущению дьявола, дабы губить тела и души. Они также заявили, что правители, потворствующие дуэлям, должны быть лишены всей светской власти, права творить правосудие и владений, где те устраиваются с их позволения. Далее мы увидим, что этот пункт лишь поощрял практику, которую был призван предотвращать.
Упование на то, что всемогущий Бог, когда бы к нему ни взывали, будет творить чудеса в пользу несправедливо обвиненных, являлось богохульным заблуждением раннего Средневековья. Священники, осуждая дуэли, не осуждали принципа, на котором те были основаны. Они, как и прежде, поддерживали массовую веру в божественное вмешательство во все споры и разногласия между нациями и индивидуумами. На том же принципе основывались и ордалии, которые священники, пуская в ход все свое влияние, пропагандировали как альтернативу дуэлям. Прибегая к первым, они имели полное право выносить решения о виновности или невиновности, тогда как в отношении последних никакой властью и привилегиями они не обладали. В связи с этим, и не затрагивая никаких иных возможных причин, не приходится удивляться, что они стремились урегулировать все разногласия мирным путем. Когда такой подход превалировал, священнослужители, как им того хотелось, были главной силой в государстве; но когда дозволялось решать все спорные вопросы, проявляя личную доблесть в поединке, они уступали во власти и влиянии дворянству.
Таким образом, метать в дуэлистов громы и молнии отлучения их побуждало не столько отвращение к кровопролитию, сколько страстное желание удержать власть, к обладанию которой, надо отдать им должное, они в те времена были пригодны лучше других. В их среде всходили ростки знаний и цивилизованности; они являлись представителями силы человеческого разума, тогда как дворянство воплощало в себе физическую силу. Дабы сосредоточить интеллектуальную власть в руках церкви и сделать оную судьей в последней инстанции во всех апелляциях по гражданским и уголовным делам, священники ввели в судопроизводство пять методов следствия, бывших исключительно в их ведении. Таковыми стали присяга на евангелиях, ордалия крестом и ордалия огнем для лиц высокого звания, ордалия водой для низших классов и, наконец, corsned, или ордалия хлебом и сыром, для духовных лиц.
Присяга на евангелиях принималась следующим образом. Поль Хей, граф Дюшастле, в своей «Истории мессира Бертрана Дюгеклена» сообщает, что обвиняемый, подвергавшийся этому испытанию, клялся на Новом Завете и мощах какого-либо из святых мучеников или его могиле, что он неповинен в инкриминируемом ему преступлении. Он также был обязан найти двенадцать человек, известных своей неподкупностью, которые должны были одновременно с ним поклясться в том, что считают его невиновным. Данный следственный метод, при котором решения неизменно выносились в пользу тех, чья присяга звучала тверже и убедительнее, приводил к вопиющим злоупотреблениям, особенно в делах по спору о наследстве. Такого рода злоупотребления были одной из главных причин того, что предпочтение отдавалось судебному поединку. Вовсе неудивительно, что феодалы и военачальники раннего Средневековья предпочитали неопределенность честного единоборства с оппонентом предсказуемой успешности упорного лжесвидетельства.
Испытание, или судебное следствие, с помощью креста, к которому просил прибегать своих сыновей Карл Великий в случае разногласий между ними, заключалось в следующем. Когда человек, обвиняемый в каком-либо преступлении, заявлял о своей невиновности под присягой и обращался с призывом об оправдании к кресту, его приводили к церковному алтарю. Перед этим священник подготавливал два совершенно одинаковых посоха, на одном из которых вырезалось изображение креста. Каждый посох с превеликим тщанием и множеством церемоний заворачивался в кусок тонкой шерсти и клался на алтарь или на святые мощи. Далее возносилась торжественная молитва Всевышнему, дабы он соблаговолил рассудить своим святым крестом, виновен ли обвиняемый или нет. Затем священник подходил к алтарю и брал один из посохов, который его помощники благоговейно разворачивали. Если тот был помечен крестом, обвиняемого признавали невиновным, а если нет — виновным. Было бы несправедливо утверждать, что суды, проводимые подобным образом, были во всех случаях сфальсифицированы, как было бы нелепо считать и то, что те, кто их проводил, всегда полагались на волю Господню. Несомненно, проводилось много честных судов и, по всей вероятности, самым добросовестным образом; ибо не можем же мы верить лишь в то, что священники заблаговременно старались путем тщательного расследования и пристального изучения обстоятельств дела убедиться в невиновности или виновности апеллянта и брали посох, соответственно, с крестом или без креста, руководствуясь иными, известными только им приметами. Резонно, однако, предположить и то, что те, кто брал посохи, которые, вероятно, будучи завернутыми в шерсть, выглядели для сторонних наблюдателей абсолютно одинаково, могли без труда отличить один от другого.
Право вынесения приговора столь же безраздельно принадлежало духовенству при ордалиях огнем. Считалось, что огонь не обжигает невиновных, и священники, разумеется, заботились о том, чтобы загодя дать невиновным либо тем, кого им из удовольствия или прямой заинтересованности хотелось таковыми объявить, наставления, которые позволили бы им уберечься от ожогов. Один из способов испытания состоял в том, чтобы разложить на земле через определенные интервалы раскаленные докрасна плужные лемехи и, завязав обвиняемому глаза, заставить его по ним пройти. Если тот раз за разом наступал на пустые места, тем самым избегая огня, его признавали невиновным, а если обжигался — виновным. В силу того что подготовкой лемехов занимались исключительно священники, они всегда могли подстроить результат ордалии. Для признания человека виновным им было достаточно разложить лемехи через неравные промежутки, дабы обвиняемый наверняка наступил хотя бы на один. Когда Эмму, жену короля Этельреда и мать Эдуарда Исповедника, обвинили в преступной связи с Альвином, епископом Уинчестерским, она восстановила свое доброе имя, пройдя ордалию огнем. Когда под угрозой была репутация духовного лица, а тем более королевы, ни от каких лемехов, за нагрев и размещение которых отвечали священники, вердикта о виновности ожидать не приходилось. Эта ордалия называлась Judicium Dei644, а иногда Vulgaris Purgatio645и могла также осуществляться несколькими другими способами. Один из них состоял в том, чтобы взять в руку кусок раскаленного докрасна железа весом в один, два или три фунта и чтобы рука осталась целой и невредимой. Читая о том, что не только мужчины с загрубелыми руками, но и женщины с их мягкой и нежной кожей делали это без вреда для себя, мы должны понимать, что кисти их рук были предварительны натерты каким-нибудь предохраняющим средством или якобы раскаленное железо было на самом деле холодным и выкрашенным в красный цвет. Следуя другому способу, нужно было опустить обнаженную руку в котел с кипящей водой. Затем священники оборачивали ее в несколько слоев льняного полотна и фланели и три дня держали испытуемого в церкви исключительно под собственным присмотром. Если по прошествии этого времени на руке не было заметно ни единого ожога, это считалось твердым доказательством невиновности обвиняемого646.
Что касается ордалии водой, то при ней к подобным ухищрениям не прибегали. Ей судили только бедных и незнатных, и тонули ли они или держались на воде, было не так уж важно. Обвиняемых, как и ведьм более поздних времен, бросали в пруд или реку; если они шли ко дну, их друзьям оставалось утешаться сознанием их невиновности, а если они плыли по воде, их признавали виновными. В обоих случаях общество от них избавлялось.
Из всех ордалий, которые духовенство приберегло для себя, была такая, при которой доказать вину того или иного священника, будь он хоть трижды виновен, было практически невозможно. Она называлась corsned и проводилась следующим образом. На алтарь клали кусок ячменного хлеба и кусок сыра, после чего обвиняемый священник в полном церковном облачении и при наличии всех помпезных атрибутов римско-католического обряда произносил определенные заклинания и истово молился в течение нескольких минут. В молитве он призывал Господа в случае своей виновности ниспослать архангела Гавриила, дабы тот, заткнув ему глотку, не дал ему проглотить хлеб и сыр. Судя по сохранившимся документальным свидетельствам, ни один из прошедших эту ордалию священников не подавился647.
Когда при папе Григории VII развернулись дебаты о том, стóит ли вводить в Кастилии григорианское песнопение вместо мосарабского648, введенного в ее церквах св. Исидором Севильским, это вызвало бурю негодования. Церкви отказывались принимать нововведение, и было предложено решить дело поединком между двумя воинами, по одному с каждой стороны. Духовенство не соглашалось на способ разрешения спора, который считало нечестивым, но не имело ничего против того, чтобы испытать достоинства каждого песнопения ордалией огнем. Для этого был разведен большой костер, куда бросили по одной книге григорианского и мосарабского песнопений, дабы пламя рассудило, какое из них более угодно Всевышнему, не став сжигать оное. Кардинал Бароний, который пишет, что был свидетелем чуда, сообщает, что, как только книга григорианского песнопения оказалась в огне, она выскочила оттуда нисколько не поврежденной и с превеликим шумом. Все, кто при этом присутствовал, подумали, что святые решили дело в пользу папы Григория. Вскоре костер погасили, но — о, чудо! — книга св. Исидора, хоть и была покрыта золой, нисколько не пострадала. Она даже не нагрелась. После этого было решено, что обе книги равно угодны Господу и должны использоваться поочередно во всех церквах Севильи649.
Если бы вопросы, решаемые посредством ордалий, ограничивались клерикальными спорами, то миряне вряд ли имели бы против них хоть какие-то возражения; но когда ордалии объявлялись средством разрешения всех мыслимых разногласий между двумя людьми, это неизбежно вызывало противодействие со стороны всех тех, чьей главной добродетелью было личное мужество. Дворянство стало относиться к ордалиям с настороженностью и неодобрением с самых незапамятных времен. Они были исключительно эффективным орудием в руках духовенства, которое, на словах декларируя приверженность божественному волеизъявлению, на деле стремилось к тому, чтобы сделать церковь апелляционным судом в последней инстанции во всех делах — и гражданских, и уголовных. А дворяне предпочитали древний способ разрешения споров — единоборство — не только по этой причине, которая уже сама по себе являлась для этого достаточным основанием, но и потому, что оправдание, добытое в сражении, где нужно было проявлять храбрость и умение, внушало лицам их сословия куда больше доверия, чем ордалии, при которых не требовалось проявлять ни того, ни другого. К указанным причинам можно добавить еще одну, которая, вероятно, сыграла в предпочтении, отдаваемом судебному поединку, бóльшую роль, чем все остальные. В период зарождения благородного рыцарского сословия война, несмотря на шумные протесты духовенства, была, по сути, единственным родом занятий и единственным элегантным развлечением аристократии. Возвышенный дух рыцарской чести набирал силу, и подвергнуть его сомнению означало быть вызванным на поединок в присутствии толпы зрителей, чей одобрительный вердикт был куда более приятен, нежели холодное и формальное оправдание путем ордалии. Лотарь, сын Людовика I, отменил в своих владениях ордалии огнем и крестом, но в Англии они были запрещены распоряжением королевского совета лишь на раннем этапе царствования Генриха III. Тем временем крестовые походы вознесли рыцарское сословие на самую вершину славы. Вскоре дух рыцарства привел к ниспровержению системы ордалий и заложил непоколебимо прочную основу под судебный поединок. Да, вместе с отмиранием рыцарства как сословия рыцарский турнир и поединок на ристалище отошли в прошлое, но дуэль, их отпрыск, дожила до наших дней, вопреки попыткам мудрецов и философов ее искоренить. Из всех заблуждений, оставшихся нам в наследство от эпохи варварства, это оказалось самым живучим. Оно сделало здравомыслие людей антитезой их чести, поставило рассудительного человека на один уровень с глупцом и вынудило тысячи тех, кто его осуждал, смириться с ним или прибегнуть к нему.
Те, кого интересует, как именно проводились эти поединки, могут обратиться к труду просвещенного Монтескьё, где нормы проведения древних дуэлей изложены во всем их изобилии и многообразии650. В той его части, где говорится о простоте и совершенстве правил дуэлей, автор верно подмечает, что наряду с большим количеством мудреных споров, разрешавшихся самым дурацким образом, было множество глупых конфликтов, разрешавшихся с исключительным благоразумием. Лучшее тому подтверждение — мудрые и благочестивые правила абсурдных и богопротивных по своей природе судебных поединков.
Во времена между крестовыми походами и новой эрой, начало которой было положено изобретением пороха и книгопечатания, возникла более рациональная система законодательства. Жители городов, занятые ремеслами и торговлей, охотно оставляли решение любых возникавших между ними противоречий на усмотрение судей и магистратов. В отличие от высшего сословия привычки и манеры горожан не побуждали их вызывать друг друга на дуэль по малейшему поводу. Споры из-за цены мешка зерна, кипы сукна или коровы могли быть с более благоприятным исходом улажены мэром или бейлифом округа. Даже воинственные рыцари и дворяне при всей их вздорности и сварливости начинали понимать, что, слишком часто прибегая к судебному поединку, они утратят свое достоинство и величие. Того же мнения придерживались и правительства, не раз ограничивавшие круг судебных дел, при решении которых дозволялось доходить до этой крайности. Во Франции перед вступлением на престол Людовика IX дуэли разрешались только в делах об оскорблении Величества, изнасиловании, поджоге, убийстве по найму и ночной краже со взломом. Людовик IX, сняв все ограничения, узаконил дуэли в гражданских делах. Результаты не внушали оптимизма, и в 1303 году Филипп Красивый ограничил сферу законности дуэлей делами о государственных преступлениях, изнасилованиях и поджогах в уголовном и об оспаривании наследства — в гражданском судопроизводстве. Рыцарям было разрешено рассматривать дела о рыцарской чести собственными силами и защищать ее или мстить за ее поругание во всех соответствующих случаях.
Среди наиболее ранних документально зафиксированных дуэлей весьма примечательна та, что имела место в царствование Людовика II (в 878 году от Рождества Христова). Ингельгерий, граф Гастенуа, был однажды утром обнаружен графиней мертвым в супружеской постели. Гонтран, родственник графа, обвинил графиню в убийстве мужа, которому, как он утверждал, она уже давно изменяла, и призвал ее выставить от своего имени бойца, которого он собирался убить и тем самым доказать ее вину651. Все друзья и родственники графини верили в ее невиновность; но Гонтран слыл таким стойким и доблестным воином, что никто не отваживался с ним сразиться. Несчастная графиня уже начала впадать в отчаяние, когда боец вдруг объявился в лице Ингельгерия, графа Анжуйского, — шестнадцатилетнего мальчика, которого графиня погружала в купель при крещении и которого назвали именем ее мужа. Он нежно любил крестную мать и изъявил желание сразиться ради ее оправдания с любым противником. Король пытался отговорить великодушного подростка от его затеи, ссылаясь на изрядную силу, опытность и неодолимую храбрость бросившего вызов, но тот упорствовал в своем решении к великой скорби придворных, которые говорили, что жестоко позволять столь отважному и прелестному ребенку бросаться в смертельную мясорубку.
Когда место поединка было подготовлено, графиня должным образом выразила признательность своему защитнику, и комбатанты вступили в бой. Гонтран столь неистово поскакал навстречу противнику и с такой силой ударил копьем в его щит, что потерял равновесие и свалился с коня. Юный граф пронзил упавшего Гонтрана копьем и, спешившись, отрубил ему голову, которую, как сообщает Брантом, «он преподнес королю, который принял ее в высшей степени благосклонно и был так рад, словно ему принесли в дар город». Затем графиня, ко всеобщему ликованию, была объявлена невиновной. Она поцеловала крестника и, обняв его, заплакала от радости у всех на виду.
Когда в 1162 году Роберт де Монфор в присутствии короля Генриха II обвинил графа Эссекса в том, что тот пятью годами ранее предательски бросил штандарт английской короны в стычке с валлийцами при Колсхилле, король предложил доказать истинность обвинения путем единоборства. Граф Эссекс принял вызов, и близ Рединга было подготовлено место поединка. Посмотреть на схватку собралось огромное количество народа. Эссекс поначалу бился решительно и стойко, но потом, утратив сдержанность и самообладание, начал уступать противнику, который вскоре решил исход поединка. Эссекс был сброшен с коня и настолько тяжело ранен, что все присутствовавшие сочли его мертвым. По настоятельной просьбе родственников графа монахам Редингского аббатства было разрешено забрать тело для погребения, и де Монфор был объявлен победителем. Эссекс, однако, не умер, а лишь потерял сознание и благодаря заботе и уходу монахов за несколько недель оправился от телесных повреждений. Залечить душевные раны оказалось не так просто. Несмотря на то что граф был человеком храбрым и преданным престолу, все королевство считало его трусом и предателем из-за его поражения на дуэли. Он не смог заставить себя вернуться в мир, лишенный благорасположения близких ему людей, поэтому стал монахом и прожил остаток своих дней в стенах аббатства.
Дюшастле рассказывает об одном необычном предложении дуэли, сделанном в Испании652. Один рыцарь-христианин из Севильи послал одному знатному воину-мавру вызов на дуэль, предложив доказать ему каким угодно оружием, что религия Иисуса Христа священна и божественна, а религия Магомета нечестива и богопротивна. Испанские прелаты не отважились рискнуть репутацией христианства, поставив ее в зависимость от исхода поединка, победа в котором могла достаться и мавру, и велели рыцарю, под страхом отлучения, отказаться от вызова.
Тот же автор сообщает, что при Оттоне I между юристами возник спор на предмет того, должны ли внуки, лишившиеся отца, иметь с дядьями равную долю в собственности деда после смерти последнего. Для юристов того времени этот вопрос оказался неразрешимым, и в конце концов было отдано распоряжение решить его путем единоборства. Были выбраны два бойца, один из которых отстаивал интересы внуков, а другой — дядьев. В результате длительной схватки боец от дядьев был сброшен с коня и убит, и было решено, что право внуков обоснованно и они должны иметь ту же долю в собственности деда, что и их отец, будь он жив.
Устраиваемые по поводам столь же необычным и зачастую еще более незначительным, чем эти, дуэли продолжали проводиться в большинстве стран Европы на всем протяжении XIV и XV столетий. Достопамятный пример незначительности причины, по которой одного человека можно было вынудить биться с другим насмерть, приводится в вышеупомянутых воспоминаниях об отважном коннетабле Дюгеклене653. Победа, которую тот одержал в битве при Ренне над английским полководцем Уильямом Брембром, так угнетала Уильяма Трусселя, лучшего друга и соратника последнего, что удовлетворить его мог лишь смертельный поединок с коннетаблем. Герцог Ланкастер, к которому Труссель обратился за разрешением сразиться с прославленным французом, запретил дуэль как необоснованную. Труссель тем не менее горел неистовым желанием скрестить мечи с Дюгекленом и искал любой повод для ссоры с ним. Имея столь настойчивое стремление к этому, он, разумеется, нашел способ добиться своего. Один его родственник ранее был взят в плен коннетаблем, который запросил за его освобождение определенный выкуп. Труссель решил затеять из-за этого ссору и отрядил к Дюгеклену гонца с требованием освободить пленника и предложением долгового обязательства об уплате выкупа в более поздний срок. Дюгеклен, которому уже сообщили о враждебных намерениях англичанина, ответил, что не примет долгового обязательства и не освободит пленника, пока не получит всю сумму выкупа. Как только Труссель получил ответ, он послал коннетаблю вызов на дуэль, потребовав загладить вину за оскорбление, которое тот нанес его чести, и предложив смертельный поединок с нанесением каждой из сторон трех ударов копьем, трех — мечом и трех — кинжалом. Дюгеклен, хоть и лежал в постели с лихорадкой, принял вызов и отдал распоряжение маршалу д’Андрегему, королевскому наместнику в Нижней Нормандии, назначить день и место поединка. Маршал сделал все необходимые приготовления, поставив условие, что побежденная сторона выплатит сто флоринов золотом на угощение крупных и мелких дворян, которые съедутся в качестве зрителей.
Герцог Ланкастер был очень зол на своего военачальника и сказал ему, что, домогаясь дуэли с отважным Дюгекленом в то время, когда тот ослаблен болезнью и прикован к ложу страданий, он позорит свою рыцарскую честь и свою нацию. Труссель, устыдившись, отправил Дюгеклену извещение с выражением готовности отложить дуэль до его полного выздоровления. Дюгеклен ответил, что об этом не может быть и речи, поскольку всех дворян уже известили о предстоящем поединке, что в нем достаточно сил не только для схватки, но и для победы над таким противником и что, если он не явится на ристалище в назначенное время, о нем повсюду разнесется молва как о человеке, недостойном называться рыцарем и носить на боку почетный меч. Труссель доставил это высокомерное послание герцогу Ланкастерскому, и тот немедленно дал разрешение на поединок.
В назначенный день два комбатанта появились на ристалище, где собралось несколько тысяч зрителей. Дюгеклена сопровождал цвет французского дворянства, включая маршала де Бомануара, Оливье де Мони, Бертрана де Сен-Перна и виконта де ла Бельера, тогда как англичанин явился лишь с обычным эскортом из двух секундантов, двух оруженосцев, двух точильщиков оружия и двух трубачей. Первая атака была неблагоприятной для коннетабля. Он получил такой сильный удар копьем в щит, что упал на шею коня с левого бока и, ослабленный лихорадкой, едва не свалился на землю. Все его сторонники решили, что он не оправится от удара, и принялись сожалеть о его несчастье; но Дюгеклен собрался с силами и после второго сигнала нанес противнику удар в плечо, от которого тот, смертельно раненный, упал на землю. Когда коннетабль спрыгнул с коня с мечом в руке, намереваясь отсечь голову поверженного врага, маршал д’Андрегем бросил на арену золотой жезл — сигнал того, что неприятели должны разойтись. Дюгеклен был объявлен победителем под радостные возгласы толпы и, удалившись, уступил место бойцам более низкого происхождения, которые должны были повеселить собравшихся. Четверо английских и столько же французских оруженосцев вступили, вооруженные копьями без наконечников, в потешную схватку, которая какое-то время спустя была объявлена завершенной ввиду явного преимущества французов.
Другая знаменитая дуэль была проведена во времена Карла VI, примерно в начале XV столетия, по распоряжению парижского парламента. Пока сир де Карруж находился в Святой земле, его жена была изнасилована сиром Легри. По возвращении Карруж вызвал Легри на смертельный поединок за двойное преступление — изнасилование и клевету, ибо тот отрицал свою вину, утверждая, что дама сама хотела того, что произошло. Парламент не счел торжественные заявления мадам де Карруж о своей невиновности доказательством таковой и постановил провести дуэль по всем правилам. «В назначенный день, — пишет Брантом654, — мадам приехала понаблюдать за зрелищем в фаэтоне; но король заставил ее спуститься, сочтя ее положение неподобающим, потому как она была преступницей в его глазах, пока не была доказана ее невиновность, и велел ей взойти на эшафот, дабы дожидаться милосердия Всевышнего и вынесения приговора по итогу поединка. После непродолжительной борьбы сир де Карруж победил своего противника и заставил его признаться и в изнасиловании, и в клевете. Засим того подвели к виселице и вздернули в присутствии толпы, в то время как невиновность мадам была провозглашена герольдами и признана ее мужем, королем и всеми очевидцами».
Многочисленные сражения того же свойства имели место постоянно, пока несчастливый исход одного поединка такого рода не заставил французского короля Генриха II торжественно заявить, что никогда более не дозволит он подобного поединка, независимо от того, по какому делу должен быть вынесен приговор — уголовному, гражданскому или о защите дворянской чести.
Эта памятная схватка состоялась в 1547 году. Франсуа де Вивонн, сеньор ла Шатеньерэ, и Ги де Шабо, сеньор Жарнак, дружили с ранней юности и были замечены при дворе Франциска I благодаря галантным манерам и великолепию своих свит. Шатеньерэ, который знал, что состояние его друга не слишком велико, однажды спросил его по секрету, как он ухитряется жить на столь широкую ногу. Жарнак ответил, что его отец женился на молодой и красивой женщине, которая, любя сына гораздо больше, чем отца — своего мужа, дает ему, Жарнаку-сыну, столько денег, сколько он просит. Ла Шатеньерэ выдал низменную тайну дофину, дофин сообщил ее королю, король — придворным, а придворные — всем своим знакомым. В скором времени она достигла ушей старого сеньора де Жарнака, который тотчас послал за сыном и спросил его, каким образом возник этот слух и неужели он, его отпрыск, настолько подл, чтобы не только поддерживать подобную связь, но и похваляться ею. Молодой де Жарнак негодующе отрицал, что он когда-либо говорил такое или давал другим повод так говорить, и попросил отца явиться с ним ко двору и провести очную ставку между ним и его обвинителем, с тем чтобы отец увидел, как сын поймает своего обидчика на несоответствии. Придя к согласию в этом вопросе, они нанесли визит в королевскую резиденцию, и молодой де Жарнак, войдя в комнату, где находились дофин, ла Шатеньерэ и несколько придворных, громко воскликнул: «Любой, кто утверждает, что я поддерживаю преступную связь со своей тещей, — лжец и трус!» Все взоры обратились на дофина и ла Шатеньерэ, и последний, выступив вперед, заявил, что де Жарнак сам ему в этом признался и что он, ла Шатеньерэ, заставит его признаться в этом повторно. Подобное обвинение нельзя было ни подтвердить, ни опровергнуть никакими судебными доказательствами, и королевский совет постановил, что дело должно быть решено путем единоборства. Король, однако, выступил против дуэли655 и запретил обоим под страхом его сильной немилости предпринимать какие-либо дальнейшие шаги в этом направлении. Но на следующий год Франциск умер, и дофин, который стал Генрихом II и чья репутация также была под угрозой, решил, что поединок должен состояться.
Местом для его проведения был выбран внутренний двор замка Сен-Жермен-ан-Лэй, и был назначен день — 10 июля 1547 года. В картелях656 комбатантов, дошедших до нас в «Воспоминаниях Кастельно657», говорится следующее:
«Картель Франсуа де Вивонна, сеньора ла Шатеньерэ
Сударь,
узнав, что Ги Шабо де Жарнак, будучи не так давно в Компьене, заявил, что любой, кто говорит, что он хвалился прелюбодеянием со своей тещей, — клеветник и негодяй, я, сударь, с Вашего соизволения, настоятельно утверждаю, что он преднамеренно солжет всякий раз, когда будет открещиваться от своих слов, на факте произнесения коих я настаиваю; ибо я повторяю, что он неоднократно говорил мне, причем в хвастливом тоне, что он спит со своей тещей.
ФРАНСУА ДЕ ВИВОНН».
На это де Жарнак ответил:
«Сударь,
с Вашего соизволения, я утверждаю, что Франсуа де Вивонн солгал, несправедливо обвинив меня в ложности того, что я сказал Вам в Компьене. В связи с этим нижайше прошу Вас, сударь, соблаговолить дать нам равные шансы доказать справедливость своих слов в смертельном поединке.
ГИ ШАБО».
Приготовления к дуэли отличались превеликой пышностью, и сам король объявил о своем желании на ней присутствовать. Ла Шатеньерэ, не сомневаясь в своей победе, пригласил короля и полторы сотни главных придворных отужинать с ним вечером, после поединка, в роскошном шатре, который он заблаговременно поставил у оконечности ристалища. Де Жарнак — человек, возможно, даже более отчаянный, нежели его противник, — был, однако, не столь самонадеян. В полдень назначенного дня комбатанты явились на ристалище, и каждый из них дал обычную клятву в том, что не имеет при себе талисманов и амулетов и не прибегнул к магии, которая обеспечила бы ему превосходство над противником. Затем они атаковали друг друга с мечом в руке. Ла Шатеньерэ был крепок, силен и излишне самоуверен; де Жарнак был подвижен, гибок и готов к самому худшему. Какое-то время исход поединка был неясен, пока де Жарнак, теснимый мощными ударами соперника, не прикрыл голову щитом и, пригнувшись, не попытался возместить недостаток силы ловкостью. Приняв указанную позу, он нанес два удара в левое бедро Ла Шатеньерэ, которое тот, дабы ничто не мешало движению ноги, оставил незащищенным. Оба удара достигли цели, и под изумленные возгласы зрителей и к великому сожалению короля Ла Шатеньерэ рухнул на песок. Кое-как поднявшись, он вытащил кинжал и сделал последную попытку ударить де Жарнака, но, не способный более держаться на ногах, упал без сил на руки ассистентов. Тут вмешались секунданты, и де Жарнак, объявленный победителем, упал на колени, обнажил голову и, хлопнув в ладоши, воскликнул: «O Domine, non sum dignus!»658 Ла Шатеньерэ был настолько подавлен результатом схватки, что решительно воспротивился наложению бинтов на раны. Он сорвал повязки, наложенные хирургами, и через двое суток скончался. С тех пор французы называют любое коварное и неожиданное нападение coup de Jarnac659. Генрих был настолько опечален утратой своего фаворита, что принес вышеупомянутую торжественную клятву, что никогда более, покуда жив, он не допустит ни одной дуэли. Некоторые авторы, и среди них Мезере, утверждают, что он издал на этот счет запрещающий эдикт. Другие оспаривают это утверждение, и, поскольку, судя по всему, никаких записей об этом эдикте в судебных постановлениях до нас не дошло, представляется наиболее вероятным, что он никогда не был издан. Это мнение подкрепляется тем фактом, что двумя годами позже королевский совет постановил провести еще одну дуэль по тем же правилам, но с меньшей роскошью вследствие более низкого звания комбатантов. Несмотря на торжественную клятву Генриха, нигде не сказано, что он вмешался, дабы ее предотвратить, — напротив, пишут, что он способствовал ее проведению и поручил маршалу де ла Марк проследить за тем, чтобы она была проведена в соответствии с канонами рыцарства. Оппонентами были Фендилль и д’Агерр, двое придворных, которые, повздорив в королевских покоях, бросились друг на друга с кулаками. Королевский совет, узнав о конфликте, постановил, что он может быть разрешен только на ристалище. Маршал де ла Марк с разрешения короля назначил местом поединка город Седан. Фендилль, который был плохим фехтовальщиком, страстно желал избежать схватки с д’Агерром, одним из наиболее искусных воинов той поры; но совет решительно приказал ему сражаться под страхом лишения всех почестей и привилегий. Д’Агерр явился на поле брани в сопровождении Франсуа де Вандома, графа Шартрского, а Фендилля сопровождал герцог Неверский. Фендилль, по-видимому, был не только неопытным фехтовальщиком, но и законченным трусом, который, подобно Каули, мог осыпать проклятиями человека, который «без колебаний сея смерть… наполнил страхом наш спокойный мир». При первом же столкновении он был сброшен с коня и, признавшись на земле во всем, чего от него потребовал победитель, с позором ретировался с арены.
Трудно удержаться от соблазна рассказать о смерти Генриха II как о достойной каре за нарушенную им клятву о недопущении дуэлей. На грандиозном турнире, устроенном по случаю свадьбы его дочери, король одержал несколько побед над одними из храбрейших рыцарей того времени. Стремясь прославиться как можно больше, он оставался неудовлетворенным до тех пор, пока не вступил в бой с юным графом Монтгомерри. Получив рану копьем в глаз, он вскоре умер от ее последствий на сорок первом году жизни.
В последующие царствования Франциска II, Карла IX и Генриха III дуэли распространились до угрожающих масштабов. Они не были редкостью и в других странах Европы того периода, но во Франции они происходили настолько часто, что историки, описывая ту эпоху, характеризуют ее как «l’époche de la fureur des duels»660. Парижский парламент старался, насколько это было в его силах, отбить у людей охоту к дуэлям. Указом от 26 июня 1559 года он объявил всех лиц, присутствующих на дуэлях, содействующих их проведению и подстрекающих к ним бунтовщиками против короля, нарушителями закона и возмутителями общественного спокойствия.
Когда в 1589 году Генрих III был предательски убит в Сен-Клу, молодой дворянин Лиль-Мариво, которого король очень любил, принял его гибель так близко к сердцу, что решил уйти из жизни вслед за ним. Считая самоубийство недостойной смертью и желая, как он говорил, умереть со славой в отмщение за своего короля и повелителя, он прилюдно изъявил готовность сразиться насмерть с любым, кто станет утверждать, что убийство Генриха не является величайшей потерей для общества. Другой юноша, известный храбрец необузданного нрава по фамилии Маролль, поймал его на слове, и немедленно были назначены день и место поединка. Когда настал час схватки и все было подготовлено, Маролль повернулся к своему секунданту и спросил, что одел его противник — просто каску или sallade, то есть средневековый шлем, закрывающий лицо. Получив ответ, что просто каску, он радостно сказал: «Тем лучше, ибо, сир, мой секундант, вы будете считать меня самым нечестивым человеком на свете, если я не проткну своим копьем его голову посередине и не убью его». И правда, он так и сделал в самом начале поединка, и несчастный Лиль-Мариво испустил дух без единого стона. Брантом, который рассказывает эту историю в своей книге, добавляет, что победитель мог сделать с телом все, что угодно: отрубить голову, привязать веревкой к лошади и протащить волоком по земле или провезти на осле, но что Маролль, умный и чрезвычайно обходительный джентльмен, оставил его родственникам покойного для погребения со всеми почестями, довольствуясь славой своего триумфа, принесшего ему немалую известность и безупречную репутацию среди парижских дам.
По восшествии на престол Генрих IV решил бороться с дуэлями; однако полученное им в юности образование и общественное предубеждение против него влияли на него настолько, что он так никогда и не решился наказать хоть одного человека за это преступление. Король боялся, что это пробудит в его подданных опасный для него воинственный дух. Когда рыцарственный Креки661 спросил его разрешения на поединок с доном Филиппом де Савуаром, он, как сообщается, сказал: «Действуйте, и не будь я королем, я был бы вашим секундантом». Неудивительно, что на указы короля, прилюдно высказывавшего подобные сентенции, почти не обращали внимания. Согласно подсчету, сделанному в 1607 году месье де Ломени, с момента восшествия Генриха на престол в 1589 году на дуэлях расстались с жизнью не менее четырех тысяч французских дворян — число смертей, которое при делении на восемнадцать лет составляет в среднем четыре-пять в неделю, или восемнадцать в месяц! Сюлли662, который приводит этот факт в своих мемуарах, не подвергает его точность ни малейшему сомнению и добавляет, что в том, что дурной пример дуэлистов оказался столь заразительным при дворе, в столице и во всей стране, повинны главным образом мягкотелость и неразумное добродушие его царственного повелителя. Этот мудрый министр уделял предмету дуэлей много времени и внимания, ибо их неистовство, пишет он, было таково, что причиняло ему, равно как и королю, адские муки. В те времена едва ли нашелся бы хоть один мужчина, входивший в то, что называлось приличным обществом, который за свою жизнь не принял участия ни в одной дуэли в качестве либо дуэлянта, либо секунданта; и даже если такой человек и был, то основным его желанием было освободить себя от обвинения в неучастии в дуэлях, затеяв с кем-нибудь ссору. Сюлли постоянно писал королю письма, в которых умолял его заново издать эдикты против этого варварского обычая, усилить наказание, предусмотренное для дуэлянтов, и ни при каких обстоятельствах не даровать помилование даже тем, кто ранил противника на дуэли, не говоря уже о тех, кто лишил такового жизни. Он также советовал учредить нечто вроде трибунала или суда чести, который обращал бы внимание на оскорбительные и клеветнические высказывания, как и на все подобные вещи, обычно приводящие к дуэлям, и суд которого был бы достаточно скор и суров, чтобы умиротворять жалобщиков и заставлять нарушителей раскаиваться в своем вызывающем поведении.
Генрих, испытывая столь интенсивное давление со стороны своего друга и министра, созвал для рассмотрения данного вопроса чрезвычайный совет в галерее дворца Фонтенбло. Когда собрались все члены совета, Его Величество попросил, чтобы кто-нибудь, хорошо знакомый с предметом обсуждения, рассказал ему о происхождении, развитии и разновидностях дуэлей. Сюлли самодовольно отмечает, что никто из собравшихся не дал королю сколько-нибудь весомого повода похвалить их за эрудицию. Фактически все они хранили молчание. Сюлли молчал вместе с остальными, но выглядел столь осведомленным, что король повернулся к нему и сказал: «Великий знаток, глядя на ваше лицо, я предполагаю, что вам известно о проблеме больше, нежели вы хотите показать. Очень прошу вас, нет, приказываю вам сообщить нам все, что вы о ней знаете и думаете». Застенчивый министр отказался это сделать, как он пишет, из обычной вежливости по отношению к менее сведущим коллегам; однако, когда король повторил свой приказ, он изложил присутствующим историю дуэлей, начиная с древности и заканчивая современностью. Он не изложил ее в своих мемуарах; и, поскольку никто из присутствовавших министров и членов совета не счел это необходимым, содержание его речи, которая, несомненно, была яркой и насыщенной фактами, до нас не дошло. В результате был издан королевский указ, который Сюлли незамедлительно распространил по всей стране вплоть до самых отдаленных провинций с недвусмысленным предупреждением всем, кого он касался, что король настроен серьезно и будет наказывать нарушителей по всей строгости закона. Сам Сюлли не сообщает, каковы были положения нового закона, но отец Маттиас был более конкретен, и от него мы узнаем, что маршалы Франции были возведены в звание судей рыцарского суда для слушания всех дел о защите дворянской чести и что прибегнувших к дуэли ждала смертная казнь и конфискация имущества, а секунданты и ассистенты подлежали лишению титулов и должностей и отлучению от двора своего сюзерена663.
Однако образование короля и предубеждения той эпохи оказывали на него столь сильное воздействие, что, несмотря на вышеупомянутый указ, его симпатии были на стороне дуэлянтов. При всей суровости кары за участие в дуэлях их число не уменьшилось, и мудрому Сюлли по-прежнему оставалось сокрушаться из-за широкого распространения зла, угрожавшего обществу полной дезорганизацией. В царствование следующего короля дуэли были распространены в еще большей степени, пока кардинал де Ришелье, более способный к борьбе с ними, нежели Сюлли, не преподал верхушке дворянства несколько суровых уроков. Лорд Герберт, английский посол при дворе Людовика XIII, повторяет в своих записках то бытовавшее еще при Генрихе IV мнение, что трудно найти француза из приличного общества, который не убил человека на дуэли. Аббат Милло, описывая тот период, сообщает, что безумие дуэлей производит самое ужасное и разрушительное действие. В самом деле, страсть к поединкам стала поистине маниакальной. Капризность и тщеславие, равно как и неистовство страстей, неизбежно приводили к схватке. Люди были вынуждены вмешиваться в ссоры своих друзей, чтобы самим не получить вызов на дуэль за отказ от вмешательства, и во многих семьях месть приняла наследственный характер. Было подсчитано, что за двадцать лет было даровано помилование восьми тысячам человек, убивших противника в единоборстве664.
Другие авторы подтверждают эту цифру. Амело де Уссэй, затрагивая данную тему в своих мемуарах, пишет, что в первые годы правления Людовика XIII дуэли были настолько обычным делом, что в разговоре людей при встрече утром часто звучали слова: «Не знаете, кто бился вчера?», а при встрече после обеда: «Не знаете, кто бился сегодня утром?» Дуэлянтом, пользовавшимся самой дурной славой в тот период, был де Бутвилль. Чтобы напроситься на дуэль с этим убийцей, было совершенно необязательно с ним ссориться. Стоило кому-нибудь прослыть храбрецом, как де Бутвилль приходил к этому человеку и говорил: «Люди говорят, ты храбрый; я должен сразиться с тобой!» Каждое утро в его доме собирались самые отъявленные бандиты и дуэлянты, чтобы позавтракать хлебом и вином и поупражняться в фехтовании. Одним из кумиров де Бутвилля и его шайки был месье де Валансэй, впоследствии возведенный в сан кардинала. Едва ли не каждый день он участвовал то в одной, то в другой дуэли либо как дуэлянт, либо как секундант; и однажды он бросил перчатку самому Бутвиллю, своему другу, потому что тот сразился на дуэли, не предложив ему стать его секундантом. Ссора была улажена только после того, как Бутвилль пообещал, что в следующий раз непременно воспользуется его услугами. Для этого он в тот же день покинул дом и затеял ссору с маркизом де Портом. Месье де Валансэй, согласно договоренности, имел удовольствие быть его секундантом и заколоть месье де Кавуа, секунданта маркиза де Порта, — человека, который не нанес ему никакого оскорбления и которого, как он потом признался, он никогда раньше не видел.
Кардинал Ришелье уделял этому прискорбному состоянию общественной морали много внимания и, по-видимому, соглашался со своим великим предшественником Сюлли в том, что положить конец означенному злу могут лишь самые жесткие меры. Данное умонастроение не в последнюю очередь являлось следствием происков его врагов. Маркиз де Теминь, которого оскорбили некоторые заявления Ришелье, в то время епископа Люсонского, в адрес Марии Медичи, решил, принимая во внимание невозможность вызвать на дуэль священнослужителя, бросить перчатку его брату. Такая возможность вскоре представилась. Теминь, обращаясь к маркизу де Ришелье, посетовал в оскорбительном тоне на то, что епископ Люсонский отступился от веры. Маркиз не стерпел ни манеры, ни содержания высказывания и с готовностью принял вызов. Противники сошлись в поединке на улице Ангулем, и несчастный Ришелье был пронзен шпагой в сердце и тут же скончался. С этого момента епископ стал убежденным противником дуэлей. Питать к ним отвращение его в равной степени заставляли здравый смысл и скорбь по убитому брату, и когда его власть во Франции укрепилась, он решительно приступил к их искоренению. В своем «Политическом завещании» он изложил свои соображения по данному вопросу в главе «Средства для прекращения дуэлей». Несмотря на издаваемые им указы, дворяне по-прежнему вступали в поединки по самым незначительным и абсурдным поводам. В конце концов Ришелье преподал им жестокий урок. Де Бутвилль бросил вызов и сразился с маркизом де Бёвроном; и хотя ни тот, ни другой участник дуэли на ней не погиб, ее последствия оказались для них фатальными. Учитывая принадлежность дуэлянтов к высшей знати, Ришелье рассудил, что закон должен покарать обоих. Их предали суду, признали виновными и обезглавили. Так общество избавилось от одних из самых отъявленных негодяев, которые когда-либо пятнали его репутацию.
В 1632 году два дворянина сразились на дуэли, на которой оба были убиты. Служители Фемиды были извещены о нарушении закона и прибыли на место поединка, прежде чем сторонники дуэлистов успели убрать тела. В соответствии с суровыми кардинальскими установлениями в отношении дуэлей, тела были с позором раздеты и повешены на виселице головой вниз, где провисели у всех на виду несколько часов665. Эта суровая мера на какое-то время отрезвила нацию, но вскоре была забыта. Людские умы были настолько преисполнены ложных представлений о чести, что наставить их на путь истинный было невозможно. Прибегая к подобным мерам, пусть и похвальным по своей сути, Ришелье был не в состоянии убедить людей соблюдать закон, хотя и мог наказывать их за нарушение оного. Как более восьмидесяти лет спустя заметил Аддисон, «смерти было недостаточно, чтобы удержать от преступления людей, предметом гордости которых было презрение к ней; но если бы каждого дуэлянта ожидало выставление к позорному столбу, это быстро уменьшило бы число этих якобы людей чести и положило бы конец столь нелепой практике». Ришелье никогда об этом не думал.
Сюлли пишет, что в его времена изрядным пристрастием к дуэлям отличались и немцы. Существовало три места, где дуэли были разрешены законом: Витцбург во Франконии и Ушпах и Галле в Швабии. Туда, разумеется, отправлялись в огромных количествах дуэлянты, убивавшие друг друга на законном основании. В более ранний период в Германии считалось исключительно позорным отказаться от поединка. Каждый сдавшийся противнику из-за легкой раны, которая не лишала его способности продолжать бой, приобретал дурную репутацию и лишался права сбривать бороду, носить оружие, ездить на лошади и занимать какую-либо должность на государственной службе. Погибших на дуэли хоронили с пышностью и великолепием.
В 1652 году, вскоре по достижении Людовиком XIV совершеннолетия, состоялась ожесточенная дуэль между герцогами де Бофором и де Немуром, у каждого из которых было по четыре помощника из числа мелкопоместных дворян. Приходясь друг другу зятьями, они, однако, уже давно враждовали, и их постоянные раздоры вносили изрядную дезорганизацию в войска, которыми они по отдельности командовали. Каждый уже долгое время искал возможности вызвать другого на поединок, которая наконец представилась в результате размолвки в отношении мест, которые они должны были занимать в королевском совете. Они дрались на пистолях, и при первом выстреле герцог де Немур был смертельно ранен и почти сразу же скончался. После этого маркиз де Виллар, секундант Немура, вызвал на дуэль Герикура, секунданта герцога де Бофора, — человека, которого он никогда прежде не видел. Вызов был принят, и противники сражались еще более отчаянно, чем их принципалы. Этот поединок, который велся на шпагах, длился дольше первого и вызвал у остальных шести присутствовавших куда больший интерес. Его исход оказался фатальным для Герикура, который пал, пронзенный в сердце шпагой де Виллара. Бóльшую дикость трудно себе представить. Вольтер в своей «Энциклопедии любопытных случаев» пишет, что такие дуэли происходили часто и число секундантов было не ограничено. Присутствие десяти, двенадцати и даже двадцати секундантов было в порядке вещей, и они нередко сражались друг с другом после того, как их принципалы были уже на это неспособны. Величайшим знаком дружеского расположения, который один человек мог выказать другому, был выбор его в качестве секунданта; и многие мелкопоместные дворяне так стремились выступить в этой роли, что старались превратить даже самую незначительную размолвку с представителем противной стороны в ссору, дабы указанный выбор пал именно на них. Граф де Бюсси-Рабутен рассказывает про один такой случай в своих мемуарах. Он сообщает, что, когда однажды вечером выходил из театра, один мелкопоместный дворянин по фамилии Брюк, которого он ранее не знал, очень вежливо его остановил и, отведя в сторону, спросил, действительно ли граф де Фианж назвал его (Брюка) пьяницей. Бюсси ответил, что ему это не известно, потому что он видится с графом очень редко. «Ах, да он же ваш дядя! — ответил Брюк. — И поскольку я не могу потребовать сатисфакции от него, ибо он живет в далекой провинции, я обращаюсь к вам». «Я понял, о чем вы, — ответствовал де Бюсси, — и, раз уж вам хочется поставить меня на место моего дяди, отвечаю, что всякий, кто утверждает, что он назвал вас пьяницей, лжет!» «Это сказал мой брат, — ответил Брюк, — а он еще ребенок». «Тогда его надо отхлестать за лживость», — парировал де Бюсси. «Я не позволю, чтобы моего брата называли лжецом, — заявил Брюк, намереваясь поссориться с собеседником, — поэтому обнажите шпагу и защищайтесь!» Они оба вытащили шпаги на людной улице, но очевидцы их разняли. Они, однако, договорились сразиться при возможности в будущем по всем правилам дуэли. Через несколько дней какой-то дворянин, которого де Бюсси никогда раньше не видел и имени которого не знал, обратился к нему и спросил, может ли он получить привилегию быть его секундантом. Он добавил, что не знает ни де Бюсси, ни Брюка лично, но, решив стать секундантом одного из них, принял сторону де Бюсси как человека более храброго. Де Бюсси совершенно искренне поблагодарил его за любезность, но заявил, что вынужден отказать, поскольку он уже пригласил четырех секундантов и боится, что, если их будет больше, дуэль превратится в баталию.
Если уж подобные конфликты считались чем-то само собой разумеющимся, то состояние общественной морали было, судя по всему, действительно ужасным. Людовик XIV очень скоро обратил внимание на это зло и сразу решил положить ему конец. Однако он не издавал никаких эдиктов против дуэлей до 1679 года, когда он учредил «Огненную камеру» для судебного преследования отравителей и занимающихся колдовством. В том году был обнародован его знаменитый эдикт, в котором король повторил и утвердил суровые установления своих предшественников — Генриха IV и Людовика XIII — и выразил решимость не даровать помилование ни одному нарушителю. Этим знаменитым ордонансом был учрежден верховный суд чести, состоявший из маршалов Франции. В их обязанности входило предоставлять любому, кто приносил в их адрес обоснованную жалобу, такую компенсацию, которая удовлетворила бы судью по делу. Если дворянин, против которого была подана жалоба, не подчинялся приказу суда чести, он наказывался штрафом и тюремным заключением; если же это было невозможно по причине нахождения осужденного за пределами королевства, его имущество конфисковывалось до его возвращения.
Каждый, кто вызывал кого-либо на дуэль, что само по себе являлось причиной потенциального преступления, лишался всякой сатисфакции от суда чести, не мог занимать никакую должность на государственной службе в течение трех лет и приговаривался к двум годам тюрьмы и штрафу в размере половины годового дохода.
Принявший вызов подвергался такому же наказанию. Любой слуга или иное лицо, сознательно ставшее вестником вызова, в случае признания выновным приговаривалось к выставлению к позорному столбу и публичной порке за первое нарушение эдикта; нарушивший его вторично приговаривался к трем годам каторги на галерах.
Любой фактически принявший участие в поединке признавался виновным в убийстве, даже если смерть не имела места, и наказывался соответственно. Лица высшего сословия подлежали обезглавливанию, а представители среднего класса — повешению, и их тела запрещалось хоронить по христианскому обычаю.
Одновременно с изданием этого сурового указа Людовик настоятельно потребовал от высшего дворянства обещания никогда ни под каким предлогом не участвовать в дуэли. Он ни разу не изменил своему решению преследовать всех без исключения дуэлянтов по всей строгости закона, и по стране прокатилась волна казней. В результате масштабы порочной практики немного уменьшились, и за несколько лет не происходило и одной дуэли против двенадцати за тот же период в предшествующие годы. В связи с этим по специальному приказу короля была выбита памятная медаль. Он был настолько нетерпим к дуэлям, что в завещании особо рекомендовал своему преемнику следить за соблюдением изданного им эдикта против них и предостерег его от неразумного снисхождения к нарушителям.
Необычный закон в отношении дуэлей ранее существовал на Мальте. Они разрешались, но при одном условии: стороны должны были сражаться на специально отведенной для этого улице. Если же противники осмеливались решать свой конфликт в другом месте, их признавали виновными в убийстве и наказывали соответствующим образом. В высшей мере примечательно и то, что они должны были класть шпаги в ножны по требованию священника, рыцаря или женщины. Представляется, однако, что дамы и рыцари не пользовались этой умиротворяющей и благотворной привилегией в сколько-нибудь значительной степени; первые сами очень часто являлись поводом для дуэлей, а вторые слишком сочувствовали уязвленной чести комбатантов, чтобы пытаться их разнимать. Подлинными миротворцами были только священники. Брайдон пишет, что на стене напротив места дуэли, закончившейся смертью рыцаря, всегда рисуют крест и что он насчитал таковых на «улице дуэлей» около двадцати666.
В конце XVI и начале XVII веков официально запрещенные дуэли были в вопиющей степени распространены и в Англии. Судебные поединки стали к тому времени более редкими, но несколько случаев такого рода вошли в историю. Один был проведен в царствование Елизаветы, а другой — не далее как при Карле I. Сэр Генри Спелмен рассказывает в своей книге про тот, что состоялся при Елизавете, который, возможно, тем более любопытен, что он был абсолютно законен и что подобные поединки оставались таковыми до 1819 года. В Суде общих тяжб рассматривался иск о возвращении определенных манориальных прав в графстве Кент, и ответчик выразил желание доказать свое право на возвращение владений путем единоборства. Истец принял вызов, и суд, будучи не вправе прекращать рассмотрение дела, одобрил кандидатуры бойцов, которые должны были сражаться вместо дуэлистов. Королева велела сторонам прийти к компромиссу, однако после того, как Ее Величеству было заявлено, что последние имеют законное право на избранный ими способ разрешения спора, дала разрешение на дуэль. В назначенный день судьи Суда общих тяжб и все участвовавшие в процессе адвокаты явились в качестве арбитров поединка на Тотхилл-филдс, где тот должен был состояться. Бойцы приготовились к схватке, и прозвучал публичный призыв к истцу и ответчику выйти вперед и подтвердить свое желание на их выставление. Ответчик откликнулся на свое имя и, соблюдая все необходимые формальности, признал своего бойца, но истец не появился. Поскольку без него и применения его полномочий поединок не мог состояться, его отсутствие было расценено как отказ от притязания, он был объявлен отказавшимся от иска, и ему было запрещено повторно подавать оный в какой бы то ни было суд.
Королева, по-видимому, не одобряла подобного метода урегулирования спорных притязаний, но ее судьи, адвокаты и советники по правовым вопросам не сделали ни единой попытки изменить варварский закон. Неофициальные дуэли, происходившие практически ежедневно, вызывали большее возмущение. При Иакове I англичане были настолько заражены этим французским безумием, что Бэкон, в его бытность генеральным атторнеем667, прибегнул для исправления зла к помощи своего знаменитого красноречия. В Звездную палату668 было представлено заявление об обвинении двух лиц, Приста и Райта, в участии в дуэли в качестве дуэлянта и секунданта, в связи с чем Бэкон произнес обвинительную речь, которая вызвала такое одобрение со стороны лордов-судей, что те приказали ее напечатать и распространить по всей стране как вещь «весьма подобающую и достойную для доведения до всеобщего сведения и запоминания». Он начал свое выступление с рассмотрения природы дуэлей и масштабов, которые они приняли, и сказал, в частности, следующее: «Они сеют раздоры, способствуют войнам, несут бедствие отдельным людям и угрозу государству, вызывают презрение к закону. Что до их причин, то наипервейшим поводом к ним является, без сомнения, ложное представление о чести и достоинстве; и, имея означенные корни, это зло питается самодовольными рассуждениями и необдуманным тщеславием. К сказанному можно добавить, что люди почти утратили истинное понятие о стойкости и доблести. Ибо сила духа не может служить причиной для ссоры, сколь бы справедливые основания к таковой ни имелись, и сильные духом знают, что человеческая жизнь слишком дорога для того, чтобы отдавать ее понапрасну. Нет, к столь низменному обращению с человеческой жизнью побуждают слабость и неуважение к природе человека. К человеческой жизни надо относиться серьезно; ее нужно посвящать и жертвовать ею во имя достойных деяний, общественного блага и благородных начинаний. Это не означает стремления к деньгам и кровопролитию. Величие души не в том, чтобы из всего извлекать барыш, и сила духа не в кровопролитии, если только к нему нет достойного повода»669.
Наиболее примечательный конфликт такого свойства в царствование Иакова I имел место между шотландским дворянином лордом Сенквиром и неким Тёрнером, учителем фехтования. В одном из тренировочных поединков между ними Тёрнер нечаянно выколол его светлости глаз шпагой. Тёрнер выразил в связи с этим величайшее сожаление, и лорд Санквир перенес утрату со всем подвластным ему стоицизмом и простил своего соперника. Три года спустя лорд находился в Париже, где был частым гостем при дворе Генриха IV. Однажды в ходе разговора сей любезный монарх поинтересовался, при каких обстоятельствах его собеседник лишился глаза. Санквир, который был лучшим фехтовальщиком своего времени и гордился этим, ответил, залившись краской стыда, что это произошло в поединке с учителем фехтования. Генрих, позабыв о своей дутой репутации противника дуэлей, беззаботно, как будто речь шла о чем-то само собой разумеющемся, осведомился, жив ли еще этот человек. Больше на эту тему не было сказано ни слова, но вопрос монарха глубоко запал в душу шотландского барона, который вскоре вернулся в Англию, горя желанием отомстить. Сперва он намеревался вызвать учителя фехтования на дуэль, но по дальнейшем размышлении счел честный и открытый поединок с ним как с равным несообразным своему положению. Тогда он нанял двух браво670, которые напали на учителя фехтования и убили его в его доме в Уайтфрайерсе. Убийцы были схвачены и казнены, за поимку их нанимателя была назначена награда в тысячу фунтов. Лорд Санквир несколько дней скрывался, а затем сдался властям в надежде (к счастью, не сбывшейся), что Правосудие отступится от своего имени и проявит к убийце снисхождение, потому что он дворянин, который из ложного понятия о чести счел уместным прибегнуть к мщению. У него нашлось множество исключительно влиятельных заступников, но Иаков, отдадим ему должное, остался глух к их увещеваниям. Бэкон как генеральный атторней поддержал обвинение, и осужденный, признанный виновным в тяжком уголовном преступлении, умер 29 июня 1612 года на виселице, возведенной перед воротами Вестминстер-Холла.
В отношении официальных дуэлей, или, иначе говоря, судебных поединков, проводимых на законном основании для улаживания конфликтов, разрешение которых обычным судебным порядком представлялось затруднительным, Бэкон был столь же категоричен, полагая, что их нельзя санкционировать ни при каких обстоятельствах. Он считал, что государственные мужи должны наконец решиться отменить их совсем и не отступать от своего решения; что надо следить за тем, чтобы ни это зло, ни нравы, его питающие, более не поощрялись и что все лица, признанные виновными, должны сурово наказываться Звездной палатой, а те из них, кто принадлежит к высшей знати, — отлучаться от двора.
При следующем короле, когда Дональд Маккей, первый из лордов Риэев, обвинил Дэвида Рэмси в государственной измене посредством сговора с маркизом Гамильтоном с целью восшествия на шотландский престол, Рэмси вызвал Маккея на поединок, дабы тот доказал правдивость своего утверждения путем единоборства671. Поначалу власти собирались передать дело в суд на рассмотрение в соответствии с нормами общего права, но Рэмси счел для себя более благоприятным прибегнуть к дуэли — старинному и почти упраздненному обычаю, которым при всем том по-прежнему имел право воспользоваться любой человек, подавший апелляцию по делу о государственной измене. Лорд Риэй охотно принял вызов, и оба оппонента были заключены в Тауэр, где пробыли до тех пор, пока не нашли поручителей в том, что в день, назначенный судом, они явятся для разрешения вопроса. Управление делом было поручено Маршальскому суду Вестминстера, в связи с чем граф Линдсей был назначен лордом-констеблем Англии. Незадолго до назначенного дня Рэмси сознался во всем, что лорд Риэй ранее вменил ему в вину, после чего Карл I положил конец судебному разбирательству.
Однако в Англии того периода разногласия между сословиями были сильнее обычно приводящих к дуэлям распрей между отдельными людьми. Власти Английской республики не одобряли означенной практики, и угнетенная аристократия давала волю своим пристрастиям и предрассудкам на континенте, сражаясь на дуэлях при дворах иностранных монархов. Тем не менее парламент Кромвеля, несмотря на то что масштабы этой порочной практики были в то время сравнительно невелики, в 1654 году издал постановление о предупреждении дуэлей и наказании всех, кто к ним причастен. После реставрации монархии Карл II также издал прокламацию по данному вопросу. В его царствование состоялась одна позорная дуэль — позорная в силу не только своих обстоятельств, но и того снисхождения, что было проявлено к исполнителям преступления.
В январе 1668 года недостойный герцог Бекингем, совративший графиню Шрюсбери, был вызван ее мужем на смертельный поединок. Карл II попытался предотвратить дуэль — не ради общественной морали, но из страха за жизнь своего фаворита. Он приказал герцогу Альбермарлю посадить Бекингема под домашний арест или принять какие-либо иные меры, дабы удержать того от схватки. Альбермарль проигнорировал приказ, полагая, что король сам может предотвратить поединок более надежными средствами. Этого не произошло, и противники встретились в местечке Барн-Элмс. Оскорбленного Шрюсбери сопровождали его родственник сэр Джон Тальбот и лорд Бернард Говард, сын герцога Арундела, а Бекингема — двое его подчиненных, капитан Холмс и сэр Джон Дженкинс. Согласно варварскому обычаю того времени, в бой вступили не только дуэлянты, но и секунданты. Дженкинс был пронзен в сердце и оставлен мертвым на поле брани, а сэр Джон Тальбот был тяжело ранен в обе руки. Бекингем, отделавшись легкими ранениями, убил своего несчастного соперника и покинул место преступления с гнусной женщиной, причиной всех описанных злодеяний, которая, переодетая, дабы не вызвать подозрений, пажом, дожидалась исхода поединка в соседнем лесу, держа за повод коня своего любовника. В защиту виновных были приняты ходатайства от весьма влиятельных лиц, и король, не уступавший в низости своему фавориту, недолго думая даровал полное помилование всем имевшим отношение к дуэли. В изданной вскоре после этого королевской прокламации Карл II официально помиловал убийц, но объявил о своем намерении никогда в будущем не проявлять снисхождения к преступникам такого рода. После этого трудно сказать, кто из действующих лиц этой истории заклеймил себя бóльшим позором — король, фаворит или куртизанка.
Распространенность дуэлей вызывала множество критических отзывов в правление королевы Анны. Аддисон, Свифт, Стил и другие писатели использовали для их осуждения свои могущественные перья. Особенно страстно их нелепость и нечестивость обличал на страницах «Тэтлера» и «Гардиана» Стил, старавшийся наставить соотечественников на путь истинный посредством как логики, так и сатиры672. В его комедии «Рассудительные влюбленные» содержится блистательное разоблачение неверного употребления слова «честь», приводящего людей к столь прискорбному заблуждению. Свифт, затрагивая данную тему, отмечал, что не видит ничего дурного в том, что мошенники и дураки стреляют друг в друга. Аддисон и Стил подходили к вопросу более серьезно; и последний подытожил в одном из номеров «Гардиана» почти все, что можно было сказать по этому поводу, в следующих впечатляющих строках: «Христианин и джентльмен стали понятиями несовместными. Вам не приходится рассчитывать на загробную жизнь, если вы не прощаете оскорблений, но ваше земное существование считается недостойным, если вы не готовы убить обидчика. Ибо здравый смысл, равно как и религия, ныне столь чужды людям, что те мстят друг другу по пустякам с наивысшей яростью и гордятся этим, явно забыв, что наивысшей доблестью для человеческой натуры является то, к чему ей труднее всего склониться, — прощение. В поединок часто вступает трус, и трус часто одерживает верх, но трус никогда не прощает». Стил, помимо того, опубликовал памфлет, в котором подробно рассказал о вышеупомянутом эдикте Людовика XIV и мерах, принятых этим монархом для исцеления своих подданных от их убийственной прихоти.
8 марта 1711 года сэр Чолмли Диринг, член парламента от графства Кент, был убит на дуэли м-ром Ричардом Торнхиллом, также членом палаты общин. Через три дня сэр Питер Кинг представил это обстоятельство на рассмотрение указанного законодательного органа и, подробно остановившись на тревожном распространении порочной практики, добился разрешения внести законопроект о предотвращении дуэлей и наказании дуэлянтов. Он был впервые зачитан в тот же день и на следующей неделе был принят во втором чтении.
Примерно тогда же аналогичные события самым болезненным образом привлекли внимание верхней палаты парламента. Двое из наиболее видных ее членов сразились бы на дуэли, если бы королева Анна не была извещена об их намерении и не добилась от них обещания отказаться от поединка, а несколько месяцев спустя два других члена палаты расстались с жизнью на одной из самых примечательных документально зафиксированных дуэлей. Первая дуэль, которая, к счастью, не состоялась, была намечена между герцогом Мальборо и графом Поулетом, а вторая, имевшая фатальный исход, — между герцогом Гамильтоном и лордом Моханом.
Поводом для первого поединка послужила дискуссия в палате лордов на предмет поведения герцога Ормонда, не осмелившегося на генеральное сражение с врагом, в ходе которой граф Поулет заметил, что никто не имеет права сомневаться в мужестве герцога, сказав, в частности, следующее: «Он поступил не как тот известный генерал, который повел войска на бойню, в результате чего огромное количество офицеров пало на поле брани или под пулями расстрельной команды, а он набил себе карманы, присвоив их жалованье». Все расценили эту реплику как выпад в адрес герцога Мальборо, но тот промолчал, хотя явно переживал по поводу сказанного. Вскоре после закрытия заседания к графу Поулету обратился лорд Мохан, который сообщил, что герцог Мальборо весьма хотел бы услышать объяснение некоторым выражениям, к которым граф прибегнул во время дебатов того дня, и поэтому очень просит его «выйти немного подышать воздухом на природе». Лорд сказал, что его послание говорит само за себя и что он (лорд Мохан) будет секундантом герцога. Затем он попрощался, а граф Поулет вернулся домой и сказал жене, что собирается на дуэль с герцогом Мальборо. Графиня, опасаясь за жизнь его светлости, сообщила о его намерении графу Дартмуту, который незамедлительно послал от имени королевы гонца к герцогу Мальборо с приказом не отлучаться из дому. Он также велел выставить у дома графа Поулета двух часовых, после чего сообщил обо всем королеве. Ее Величество сразу же послала за герцогом, выразила свое отвращение к дуэлям и потребовала от него дать слово чести, что он откажется от своего намерения. Герцог дал слово, и инцидент был исчерпан.
Прискорбная дуэль между герцогом Гамильтоном и лордом Моханом имела место в ноябре 1712 года, и ее причиной послужили следующие обстоятельства. К тому времени эти два дворянина уже одиннадцать лет судились друг с другом, вследствие чего их отношения отличались определенной холодностью. 13 ноября они встретились кабинете м-ра Орлбара, чиновника канцлерского суда, и в ходе беседы герцог Гамильтон осудил поведение одного из свидетелей по делу, назвав его человеком, которому чужды правда и справедливость. Лорд Мохан, раздраженный замечанием герцога, относившемся к свидетелю в его, лорда, пользу, сказал, что м-ру Уайтворту, человеку, о котором шла речь, правда и справедливость свойственны не меньше, чем герцогу Гамильтону. Герцог ничего не ответил, и никто из присутствующих не подумал, что он воспринял сказанное как личное оскорбление; выйдя из комнаты, он отвесил лорду Мохану низкий любезный поклон. Вечером генерал Макартни дважды приходил к герцогу с намерением передать ему вызов на дуэль от лорда Мохана, после чего, так и не застав его дома, направился в одну таверну и, найдя там герцога, передал ему свое послание. Герцог принял вызов, и поединок был назначен на послезавтрашний день — воскресенье, 15 ноября.
В условленный час противники прибыли в Гайд-парк. Герцога сопровождал его родственник, полковник Гамильтон, а лорда Мохана — генерал Макартни. Они перепрыгнули через канаву на поляну под названием Ясли и приготовились к схватке. Герцог Гамильтон, обратившись к генералу Макартни, сказал: «Сэр, вы — причина этого, и да случится то, чему суждено случиться». Когда все было готово, двое дуэлистов заняли свои позиции и вступили в столь отчаянный поединок на шпагах, что вскоре оба, смертельно раненные, упали на землю. Лорд Мохан скончался на месте, а герцог Гамильтон — на руках своих слуг, когда те несли его к карете.
Этот несчастливый исход вызвал величайшее волнение — и не только в столице, но и по всей стране. Тори, скорбя об утрате герцога Гамильтона, возложили вину за смертельный поединок на партию вигов, лидер которой, герцог Мальборо, годом раньше вызвал на дуэль своего политического оппонента. Они называли лорда Мохана наемным убийцей на службе у вигов (он убил на дуэлях трех человек и был дважды судим за убийство) и открыто заявляли, что конфликт, ставший поводом для дуэли, был намеренно спровоцирован им и генералом Макартни, чтобы избавиться от герцога Гамильтона, немало послужившего своей стране. Утверждали также, что смертельную рану герцогу нанес не лорд Мохан, а Макартни, и для убеждения людей в этом использовались все возможные средства. Полковник Гамильтон, против которого и Макартни коллегия присяжных при коронере673 вынесла вердикт об умышленном убийстве, сдался несколько дней спустя и был допрошен тайным советом в доме лорда Дартмута. Он показал под присягой, что, увидев, как лорд Мохан и вслед за ним герцог упали, он бросился на помощь герцогу и что оная оказалась бы более существенной, если бы в то время, когда он, разоружив обоих, поднимал герцога на ноги, на последнего не напал Макартни. После того как с полковника были сняты показания, была незамедлительно издана королевская прокламация, в которой за поимку Макартни предлагалась награда 500 фунтов, к которой герцогиня Гамильтон позднее добавила еще 300 фунтов.
В ходе последующего допроса полковника Гамильтона стало ясно, что не все его утверждения заслуживают доверия и что он противоречит себе по нескольким важным пунктам. Он был привлечен к суду в Олд-Бейли674 по обвинению в убийстве лорда Мохана, что вызвало сильнейшее возбуждение в политических кругах Лондона. Вся партия тори ходатайствовала о его оправдании, и множество ториев в течение многих часов перед началом процесса толпилось у дверей здания суда и вдоль всех ведущих к нему дорог. Допрос свидетелей длился семь часов. Обвиняемый по-прежнему настаивал на том, что генерал Макартни убил герцога Гамильтона, но в других отношениях, как писали тогдашние газеты, явно увиливал от прямого ответа. Он был признан виновным в непредумышленном убийстве. Сей благосклонный вердикт был встречен всеобщим одобрением со стороны «не только королевского двора и всех присутствовавших лиц высокого звания, но и простых людей, кои выражали величайшее удовлетворение громкими и частыми возгласами ликования»675.
Когда это массовое исступление спало и люди начали рассуждать здраво, они перестали верить утверждениям полковника Гамильтона о том, что герцога заколол Макартни, хотя никто не отрицал, что тот был крайне назойлив и самонадеян. Гамильтона избегали все его бывшие друзья и сторонники, и это было ему настолько в тягость, что он ушел из гвардии и стал вести уединенную жизнь, а четыре года спустя умер от сердечного приступа.
Примерно тогда же генерал Макартни сдался властям и был судим за убийство в Суде королевской скамьи. Его, однако, признали виновным лишь в непредумышленном убийстве.
На открытии парламентской сессии 1713 года королева в своем выступлении совершенно недвусмысленно высказалась против дуэлей и порекомендовала законодателям придумать быстрое и эффективное средство их искоренения. В итоге был внесен соответствующий законопроект, который, однако, был отвергнут во втором чтении к величайшему сожалению здравомыслящей части общества.
Широко известная дуэль состоялась в 1765 году между лордом Байроном и м-ром Чоуортом. На обеде в одном клубе между ними завязался спор на предмет того, в чьих владениях больше дичи. Разгоряченные вином и страстным желанием доказать свою правоту, они немедленно удалились в соседнюю комнату и сразились на шпагах через стол при тусклом мерцании сальной свечи. М-р Чоуорт, который был более искусным фехтовальщиком, получил смертельную рану и вскоре скончался. Лорд Байрон был привлечен палатой лордов к суду по обвинению в убийстве и, поскольку казалось очевидным, что дуэль не была обдумана заранее, а произошла спонтанно, в порыве гнева, был признан виновным в непредумышленном убийстве и выпущен на свободу, уплатив надлежащий штраф. Это послужило весьма скверным примером для страны, и после такого приговора популярность дуэлей, разумеется, нисколько не убавилась.
Французы были не столь милосердны к дуэлянтам. В 1769 году парламент Гренобля обратил внимание на нарушение закона одним из своих членов, господином Дюшла, который вызвал на дуэль и убил капитана Фламандского легиона. Дюшла и его слуге, исполнявшему обязанности секунданта, было предъявлено обвинение в убийстве. Обоих признали виновными. Дюшла был присужден к колесованию, а слуга — к пожизненной каторге на галерах.
В ноябре 1778 года в Бате произошла варварская и свирепая дуэль между двумя иностранными авантюристами — графом Райсом и виконтом Дюбарри. Возник спор относительно игровой ставки, в ходе которого Дюбарри не согласился с утверждением оппонента, заявив: «Это неправда!» Граф Райс незамедлительно осведомился, понимает ли Дюбарри, сколь неприятны и вызывающи произнесенные им слова. Тот сказал, что прекрасно понимает смысл своих слов и что Райс может интерпретировать их как угодно. Тут же был брошен и принят вызов на поединок. Послали за секундантами, которые не заставили себя долго ждать, после чего все участники дуэли, хотя было уже за полночь, отправились в место под названием Клевертон-Даун, где пробыли до рассвета с хирургом. Затем дуэлянты приготовились к схватке; каждый вооружился двумя пистолями и шпагой. После того как секунданты разметили место поединка, Дюбарри выстрелил первым и ранил противника в бедро. Граф Райс, в свою очередь, прицелился и смертельно ранил Дюбарри в грудь. Комбатанты были в такой ярости, что отказались сложить оружие. Оба отступили на несколько шагов, а затем, ринувшись вперед, разрядили друг в друга по второму пистолю. Ни один выстрел не достиг цели, и сражающиеся, бросив пистоли, приготовились завершить кровавую битву на шпагах. После того как они заняли свои места и двинулись навстречу друг другу, виконт Дюбарри внезапно пошатнулся, побледнел и, падая, воскликнул: «Je vous demande ma vie!»676 Его противник успел лишь подтвердить правильность восклицания, и несчастный Дюбарри растянулся на траве и, издав тяжелый стон, испустил дух. Выжившего в этой свирепой схватке доставили в его апартаменты, где он провел несколько недель на грани жизни и смерти. Тем временем коронерское жюри изучило обстоятельства гибели Дюбарри и опозорило себя, вынеся вердикт о неумышленном убийстве. После того как граф Райс оправился от ран, ему, несмотря на означенный вердикт, было предъявлено обвинение в умышленном убийстве. На суде он привел массу аргументов в оправдание своих действий, заявив, в частности, что дуэль была справедливой и носила непредумышленный характер, и одновременно выражая глубокое сожаление в связи со смертью Дюбарри, с коим его долгие годы связывали узы крепчайшей дружбы. Эти доводы члены жюри, очевидно, сочли вескими, ибо неистовый дуэлист был вторично признан виновным всего лишь в непредумышленном убийстве и отделался незначительным наказанием.
В 1789 году имела место дуэль, менее примечательная по обстоятельствам, но более весомая с точки зрения общественного положения участников. Комбатантами в этом случае были герцог Йорк и полковник Ленокс, племянник и наследник герцога Ричмонда. Повод для дуэли дал герцог Йорк, который в присутствии нескольких офицеров гвардии сказал, что у Добиньи в адрес полковника Ленокса были произнесены такие слова, которых на его месте не стерпел бы ни один настоящий джентльмен. Полковник Ленокс подошел к герцогу на параде и прилюдно спросил его, делал ли тот подобное заявление. Герцог Йорк, не ответив на вопрос, холодно велел полковнику вернуться на место. Когда парад закончился, герцог, воспользовавшись случаем, публично заявил в канцелярии подразделения в присутствии полковника Ленокса, что он, хоть и является членом царствующего дома и командиром войсковой части, не нуждается в охране, добавив, что, не находясь при исполнении служебных обязанностей, он ничем не отличается от частного лица и готов принять вызов. Полковнику Леноксу более всего хотелось бросить вызов, с тем чтобы застрелить герцога либо быть застреленным самому. По этой причине он вызвал Его Королевское Высочество на поединок, и они встретились на Уимблдонском общинном выгоне. Полковник Ленокс выстрелил первым, и пуля просвистела рядом с головой его противника, задев локон волос. Герцог отказался от ответного выстрела, и после вмешательства секундантов дуэль была прекращена.
Очень скоро полковник Ленокс оказался вовлечен в еще одну дуэль, произошедшую на почве первой. Некий м-р Свифт написал памфлет в связи с описанной выше ссорой между полковником и герцогом Йоркским, прибегнув в нескольких местах к таким выражениям, что их, казалось, мог загладить только выстрел в писателя. Дуэлянты сошлись в поединке на Аксбридж-роуд, но не причинили друг другу никакого вреда.
Долгое время своей любовью к дуэлям были известны ирландцы. Спровоцировать вызов на поединок могла самая незначительная обида одного человека другим, какую только можно себе представить. Сэр Джон Бэррингтон в своих «Воспоминаниях» сообщает, что незадолго до Англо-ирландской унии 1801 года, во время спорных выборов в Дублине, обычно происходило в среднем по двадцать три дуэли в день. И даже в более спокойные времена дуэли были столь обыденным явлением, что тогдашние хроникеры считали их недостойными упоминания, кроме случаев, когда один или оба комбатанта были убиты.
В те дни в Ирландии не только военные, но и мужчины любой другой профессии были вынуждены отстаивать свои интересы с помощью шпаги или пистоля. Каждая политическая партия имела собственный регулярный отряд вооруженных провокаторов, или, как их называли, бретеров, которые готовили себя к тому, чтобы стать бичом общества, тратя все свободное время на стрельбу по мишеням. Они хвастались, что могут попасть человеку в любую часть тела и перед поединком решают, убить ли противника, ранить ли его легко или же сделать калекой на всю жизнь, нанести ли просто царапину или приковать к постели на год.
Распространение дуэлей достигло угрожающих размеров, и в 1808 году королю Георгу III представилась возможность замечательным образом продемонстрировать свое крайнее отвращение к ним и доказать ирландцам, что подобные преступления не могут совершаться безнаказанно. В июне 1807 года между майором Кэмпбеллом и капитаном Бойдом, офицерами 21-го полка, расквартированного в Ирландии, завязался спор о том, как правильно отдавать команды на параде. Пустячная размолвка вылилась в обмен крепкими выражениями, и Кэмпбелл вызвал Бойда на дуэль. Вскоре они удалились в столовую и встали по углам, на расстоянии не более семи шагов друг от друга. Здесь, без присутствия друзей или секундантов, они обменялись выстрелами, и капитан Бойд получил смертельную рану между четвертым и пятым ребрами. Явившийся вскоре хирург увидел, что тот, сидя на стуле и сотрясаясь в приступе рвоты, испытывает сильнейшую боль. Бойд был препровожден в другую комнату, куда также проследовал переживавший душевные муки и смятение ума майор Кэмпбелл. Бойд прожил всего восемнадцать часов. Перед смертью он, отвечая на вопрос своего противника, сказал, что дуэль прошла не по правилам, и добавил: «Вы поторопили меня, Кэмпбелл, вы негодяй». «Боже милостивый! — воскликнул Кэмпбелл. — И вы в присутствии этих джентльменов обвиняете меня в бесчестии? Разве вы не сказали, что готовы?» Бойд еле слышно ответил: «О, нет! Вы знаете, что я хотел, чтобы вы дождались друзей». Когда умирающего вновь спросили, все ли было по справедливости, он прошептал «Да», но минуту спустя опять произнес: «Вы негодяй!» Кэмпбелл, испытывая величайшее волнение и судорожно ломая руки, воскликнул: «Ах, Бойд! Вы счастливейший человек из нас двоих! Вы прощаете меня?» Бойд ответил: «Я прощаю вас и сочувствую вам так же, как, я знаю, вы сочувствуете мне». Вскоре после этого он скончался. Майор Кэмпбелл бежал из Ирландии и прожил несколько месяцев с семьей под вымышленным именем неподалеку от Челси. В августе 1808 года он был схвачен и отдан под суд. В тюрьме он сказал, что, если его признают виновным, это послужит уроком всем дуэлистам Ирландии. Тем не менее он тешил себя надеждой, что присяжные признают его виновным только в непредумышленном убийстве. На суде было доказано, что дуэль состоялась не сразу после того, как был брошен вызов, а лишь после того, как майор Кэмпбелл пошел домой, выпил чаю с семьей и затем разыскал Бойда ради смертельного поединка. Жюри вынесло против майора вердикт об умышленном убийстве, но рекомендовало помиловать его на том основании, что дуэль была честной. Он был приговорен к смерти. Казнь была назначена на следующий понедельник, но позднее была отложена на несколько дней. Тем временем были поданы высочайшие ходатайства в защиту осужденного. Его жена преклонила колена перед принцем Уэльским, дабы тот, использовав свое влияние на короля, добился помилования ее несчастного мужа. Она перепробовала все, на что могла пойти любящая жена и храбрая женщина; но Георг III был непреклонен вследствие представлений ирландского вице-короля на предмет того, что дуэлянтам нужно преподать урок. Поэтому закону было позволено идти своим чередом, и майор, ставший жертвой ложного представления о чести, умер смертью опасного уголовного преступника.
Самыми отъявленными дуэлянтами наших дней являются студенты университетов Германии. Они вступают в поединки по самым ничтожным поводам и улаживают с помощью шпаг и пистолетов такие разногласия, какие их сверстники в других странах решают с помощью кулаков. Одно время в среде этого буйного молодняка существовал обычай отдавать предпочтение поединку на шпагах, поскольку он давал возможность отсечь противнику нос. Обезобразить противника означенным образом считалось за честь, и германские дуэлисты вели счет этим отвратительным трофеям с таким же удовольствием, с каким генерал-победитель считает покоренные провинции или захваченные города.
Было бы, однако, утомительно пускаться в подробное описание всех дуэлей современности. Если взглянуть на их причины, станет понятно, что в большинстве случаев они либо крайне незначительны, либо крайне недостойны. Одно время самым обычным делом были дуэли между парламентариями, и среди тех, кто таким образом запятнал свою репутацию, можно назвать таких известных политических деятелей, как Уоррен Гастингс, сэр Филип Френсис, Уилкс, Питт, Фокс, Граттан, Кёрран, Тьерни и Каннинг. То обстоятельство, что ни один из этих прославленных государственных мужей, очевидно, в глубине души не осуждал безрассудство, к коему прибегнул, свидетельствует о том, что даже просвещенным умам очень трудно освободиться от пут ложных представлений. Узы здравого смысла, казалось бы, твердые, как железо, с легкостью рвутся, тогда как узы безрассудства, на первый взгляд податливые и бренные, как потоки воды, не дают самым смелым и рассудительным отбросить их прочь. Полковник Томас, офицер гвардии, который был убит на дуэли, добавил в ночь перед поединком следующий пункт к завещанию: «Прежде всего я вверяю свою душу всемогущему Богу в надежде на его милосердие и прощение за то богопротивное деяние, кое я сейчас (в соответствии с непростительными обычаями этого грешного мира) беру на себя, дабы не запятнать свое имя позором». Какое множество людей думало так же, как этот умный и вместе с тем глупый человек! Он знал про свой грех и ненавидел его, но не мог сопротивляться ему из страха перед мнением предубежденных и бездумных. Лишь они могли осуждать его за отказ от на дуэли.
Перечень дуэлей, произошедших по самым унизительным причинам, можно продолжать чуть ли не до бесконечности. Отец Стерна677 дрался на дуэли из-за гуся, а знаменитый Рэли678— из-за счета, предъявленного ему в таверне679. Огромное число дуэлей (в том числе со смертельным исходом) имело место вследствие разногласий за картами или из-за места в театре, сотни вызовов, брошенных и недолго думая принятых в состоянии опьянения, приводили к поединкам на следующее утро, заканчивавшимся смертью одного или обоих противников.
Две из наиболее печально известных дуэлей наших дней произошли по столь низменным поводам, как ссора из-за собаки и борьба за благосклонность проститутки: первая состоялась между Макнамарой и Монтгомери, а вторая — между Бестом и лордом Кемелфордом. Собака, принадлежавшая Монтгомери, напала на собаку Макнамары, каждый из хозяев вступился за своего питомца, и дело дошло до крепких выражений. За этим последовал и был принят вызов на смертельный поединок. Стороны встретились на следующий день, Монтгомери был застрелен, а его противник — серьезно ранен. История получила широкую огласку, и Хевисайд, хирург, присутствовавший на месте поединка для оказания помощи в случае необходимости, был арестован как соучастник убийства и приговорен к заключению в Ньюгейтской тюрьме.
В дуэли между Бестом и лордом Кемелфордом использовались два пистолета, слывшими лучшими в Англии. Один из них считался немного лучше другого, и было решено, что комбатанты выберут оружие, бросив монету. Лучший пистолет достался Бесту, и при первом же выстреле лорд Кемелфорд получил смертельную рану. Однако его участь не вызвала особого сочувствия: он был закоренелым дуэлянтом, принял участие во множестве поединков и на его совести была не одна смерть. Что он посеял, то и пожал; не раз прибегнув к насилию, он сам стал его жертвой.
Теперь остается лишь упомянуть о тех мерах, которые были приняты для сдерживания распространения описываемого в данной главе сумасбродного представления о чести в разных странах цивилизованного мира. Читатель уже узнал об усилиях, предпринятых в этом направлении правительствами Франции и Англии, и их недостаточная эффективность очевидна. Те же усилия предпримались в других странах с теми же результатами. В деспотических государствах, где воля монарха — закон, подлежащий беспрекословному выполнению, эти меры приводили к временному уменьшению зла, которое впоследствии, по восхождении на престол правителя, не столь решительного и беспощадного, как его предшественник, вновь расцветало пышным цветом. Так произошло, в частности, в Пруссии после смерти Великого Фридриха680, о чьем отвращении к дуэлям свидетельствует одна известная история. Пишут, что он разрешил дуэли в армии, но при условии, что комбатанты должны сражаться в присутствии целого батальона пехоты, построенного с тем, чтобы проконтролировать честность поединка. Солдаты получали жесткий приказ в случае гибели одного из дуэлянтов немедленно расстрелять второго. Сообщается также, что суровость короля в отношении дуэлей в конце концов положила им конец.
Австрийский император Иосиф II действовал не менее решительно, чем Фридрих, хотя меры, к которым он прибегал, были не столь экзотическими. Его воззрения в части дуэлей объясняет следующее письмо:
«Генералу…..
МОЙ ГЕНЕРАЛ,
немедленно арестуйте графа К. и капитана В. Граф молод, вспыльчив и имеет неверные представления о значении происхождения и о чести. Капитан В. — старый солдат, который улаживает все разногласия с помощью шпаги и пистолета и принял вызов юного графа с неприличествующей горячностью.
Я не потерплю дуэлей в моей армии. Я презираю принципы тех, кто пытается их оправдать и хладнокровно всадил бы клинок в другого дуэлянта.
Когда я узнаю об офицерах, храбро бросающихся навстречу любой опасности перед лицом врага, постоянно демонстрирующих отвагу, доблесть и решимость в атаке и обороне, я высоко их ценю. Хладнокровие, с которым они встречают смерть, полезно для страны и делает им честь; но когда среди них попадаются те, кто готов пожертвовать всем ради мести и ненависти, я их презираю. Я считаю, что такие люди не лучше римских гладиаторов.
Приказываю предать двух упомянутых офицеров суду военного трибунала. Изучите предмет их распри с той беспристрастностью, которой я требую от каждого судьи, и пусть тот, кого признают виновным, станет жертвой своей участи и закона.
Приверженцев столь варварского обычая, подобающего эпохе Тамерлана и Баязидов и оказывающего столь печальный эффект на отдельные семейства, я буду преследовать и карать, даже если это лишит меня половины моих офицеров. Есть еще мужчины, которые знают, как соединить в себе героя и верноподданного, и ими могут быть только те, кто уважает закон.
Август 1771 г.
ИОСИФ»681.
В Соединенных Штатах Америки законы в отношении дуэлей значительно разнятся. В одном или двух все еще диких и нецивилизованных штатах Дальнего Запада, где не состоялось еще ни одной дуэли, на этот счет нет никаких законов, кроме Декалога682, гласящего: «Не убий». Но повсеместно с развитием цивилизации укореняются и дуэли; к тому времени, когда обитатель лесной глуши превращается в горожанина, он усваивает те ложные представления о чести, что господствуют в Европе и вокруг него, и готов, как его прародители, разрешать конфликты с пистолетом в руке. В большинстве штатов за вызов на дуэль и участие в ней в качестве дуэлянта или секунданта предусмотрено наказание в виде одиночного тюремного заключения, каторжных работ сроком менее года и лишения права занимать какую бы то ни было государственную должность в течение двадцати лет. В Вермонте за дуэли наказывают пожизненным отстранением от государственной службы, лишением гражданских прав и штрафом; в случаях со смертельным исходом предусмотрено то же наказание, что и для убийц. В Род-Айленде комбатанта даже при отсутствии смертельного исхода привозят в телеге к виселице с веревкой на шее, где он сидит так около часа, подвергаясь нападкам толпы. После этого он по решению суда может быть на год посажен в тюрьму. В Коннектикуте наказанием является пожизненное отстранение от государственной службы или работы по найму и штраф от ста до тысячи долларов. Законы Иллинойса требуют от лиц, вступающих в ряд государственных должностей, давать клятву, что они никогда не участвовали и не примут участия в дуэли683.
Среди указов против дуэлей, обнародованных в разное время в Европе, можно упомянуть эдикт, изданный в 1712 году польским королем Августом и предусматривавший смертную казнь для дуэлянтов и секундантов и менее суровые наказания для лиц, принесших вызов. В 1773 году в Мюнхене был опубликован другой эдикт, согласно которому и дуэлянты и секунданты даже при отсутствии смертей и ран подлежали повешению, а их тела — сожжению у подножья виселицы.
В 1738 году король Неаполя издал ордонанс против дуэлей, в соответствии с которым все (прямые и косвенные) участники дуэли с фатальным исходом караются смертью. Тела убитых и казненных за соучастие подлежат погребению в неосвященной земле без всяких религиозных обрядов, и на местах погребения нельзя устанавливать никаких памятников. Наказание за участие в поединке, в котором один или оба дуэлянта получили ранения, и поединке, не повлекшем никакого ущерба, варьируется в зависимости от дела и предусматривает штраф, тюремное заключение, лишение звания и привилегий и лишение права занимать какую-либо государственную должность. Вестники, доставившие вызов, караются штрафом и тюремным заключением.
Можно было бы предположить, что столь суровые постановления, принимаемые во всем цивилизованном мире, в конечном итоге искоренят обычай, распространенность которого всякий умный и добропорядочный человек должен считать предосудительным. Но сколь бы суровыми ни были положения законов, они еще ни разу не заставили и никогда не заставят людей воздержаться от этой практики, пока было и будет ясно, что законодатели и судебные чиновники внутренне ей симпатизируют. Судья, непреклонный в зале суда, может сказать подсудимому, которого не слишком воспитанный оппонент назвал лжецом: «Коль скоро вы вызвали его на дуэль, вы замышляете убийство и заслуживаете соответствующего наказания!» Но тот же самый судья в неофициальной обстановке в приватной беседе может сказать: «Если вы не вызовете его на дуэль, если не возьмете на себя риск стать убийцей, вас будут считать человеком малодушным, недостойным расположения ваших друзей и знакомых и не заслуживающим ничего, кроме насмешек и презрения!» Винить нужно не дуэлиста, а общество. Зловещую роль тут играет и женское влияние, с успехом доводящее мужчин как до добра, так и до зла. Обычная животная храбрость, к сожалению, нередко действует на женщин столь завораживающе, что они видят в успешном дуэлисте своего рода героя, а человека действительно храброго, но благоразумно отказавшегося от поединка, считают трусом, о которого можно вытирать ноги. М-р Грейвс, член конгресса США, в начале 1838 года убивший на дуэли некоего м-ра Гилли, выступая в палате представителей с осуждением прискорбного исхода данного поединка, убедительно и красноречиво заявил, что общество повинно в нем более, чем он. «Общественное мнение, — сказал раскаивающийся оратор, — является в этой стране, по сути, высшим законом. Все прочие законы, человеческие и Божьи, далеко не столь значимы и весомы. И именно этот высший закон этой нации и этой палаты вынудил меня под страхом бесчестья к образу действий, приведшему не по моей воле к столь трагическому концу. На гражданах этой страны, на дверях этой палаты лежит вина за ту кровь, которой обагрены мои руки!»
Есть основания опасаться, что дуэли, сколь бы суровы ни были направленные против них законы, будут существовать до тех пор, пока общество будет к ним тяготеть, пока оно будет думать, что человек, отказывающийся мстить за оскорбление, заслуживает оного и участи изгоя. Люди достойны возмещения за нанесенные им оскорбления; и до тех пор, пока такие оскорбления будут неподсудны, оскорбленные будут брать правосудие в собственные руки и реабилитировать себя в глазах соплеменников, рискуя лишиться жизни. Сколько бы мудрецы ни декларировали свое презрение к мнению большинства, среди них найдется не много таких, кто предпочел бы не сто раз рискнуть жизнью, а прожить ее остаток в обществе, перестав быть его частью и став излюбленной мишенью для нападок всех тех, кто знает об их позоре и не упустит случая направить на них указующий перст.
Единственным действенным средством уменьшить влияние обычая, позорного для цивилизации, является, по-видимому, учреждение своего рода суда чести, который принимал бы к рассмотрению все те деликатные и почти недоказуемые дела об оскорблениях, которые при всей своей трудноразрешимости так глубоко ранят человеческое достоинство. За образец можно было бы взять суд, учрежденный Людовиком XIV. Теперь никто не сражается на дуэли по принесении надлежащих извинений, и обязанностью такого суда должно стать беспристрастное рассмотрение жалобы каждого человека, чье достоинство оскорблено словом или делом, и принуждение обидчика к публичному извинению. Отказавшийся от извинения нарушал бы тем самым другой закон, совершив преступление против вышестоящего суда, равно как и человека, которого он оскорбил, и мог бы караться штрафом и тюремным заключением. Последнее можно было бы продлевать до тех пор, пока осужденный не осознавал бы ошибочность своего поведения и не делал бы уступку, требуемую судом.
Если же и после создания такого суда люди оказались бы столь кровожадны, что не стали бы довольствоваться его мирными решениями и по-прежнему прибегали бы к старому варварскому обычаю смертельного поединка, их можно было бы обуздать иными средствами. Вешать их как убийц бесполезно, ибо таким людям смерть не страшна. Заставить их внять голосу разума может только позор. Вероятно, было бы достаточно ссылки на каторгу, однообразного механического труда или публичной порки.
Реликвии
A fouth o’ auld knick-knackets,
Rusty airn caps and jinglin’ jackets,
Wad haud the Lothians three, in tackets,
A towmond guid;
An’ parritch pats, and auld saut backets,
Afore the flood.
— Burns684.
Любовь к реликвиям — любовь, которую не удастся искоренить до тех пор, пока в сердцах людей живут эмоции и привязанности. Это та любовь, которую легче всего пробудить в самых лучших и добрых людях и над которой насмехается лишь горстка самых бессердечных. Кто не сохранит локон волос, прежде украшавших чело верной жены, отошедшей в мир иной, или падавших на плечи любимого ребенка, уснувшего вечным сном? Да никто! Это семейные реликвии, святость которых понятна всем, — предметы, спасенные от зева могилы и бесценные для любящих сердец. Сколь дорога несчастному вдовцу книга, над которой он склонялся вместе со своей безвременно ушедшей половиной! И насколько выше ее ценность, если рука усопшей оставила в ней запись мысли, суждения или имени! Помимо милых сердцу домашних реликвий, существуют и другие, которые никто не вправе осуждать, — реликвии, освященные восторгом, вызываемым величием и добродетелью, восторгом, который сродни любви. Это и экземпляр «Флорио» Монтеня с автографом самого Шекспира, и сохранившийся в Антверпене стул, сидя на котором Рубенс писал знаменитое «Снятие с креста», и выставленный во Флорентийском музее телескоп, без которого Галилей не сделал бы своих грандиозных открытий. В ком не вызовет благоговения вид подлинной стрелы Вильгельма Телля685, меча Уоллеса686 или шпаги Хемпдена687, или же Библии, которую листал один из непреклонных древних родоначальников веры?
Таким образом, поклонение реликвиям, их освящение и хранение проистекают из любви. Но сколько же этот источник чистоты и благости породил заблуждений и суеверий! Люди, восхищаясь великими и всем, что им принадлежало, часто забывают, что добродетель — составная часть истинного величия, и выставляют себя дураками ради челюсти святого, ногтя с пальца ноги апостола, носового платка, в который сморкался король, или веревки, на которой был повешен известный преступник. Страстно желая оставить у себя на память хоть что-нибудь из могилы известного предка, они не делают разницы между овеянными славой и заклейменными позором, праведниками и злодеями. Великие святые, великие грешники, великие мыслители, великие шарлатаны, великие завоеватели, великие убийцы, великие министры, великие разбойники — у всех них были и есть свои поклонники, готовые ради той или иной реликвии избороздить землю вдоль и поперек, от экватора до полюсов.
Поклонение реликвиям восходит к столетиям, непосредственно предшествовавшим крестовым походам. Первые паломники в Святую землю привозили в Европу тысячи сомнительных реликвий, на приобретение которых они тратили все свои сбережения. Более всего ценилось древо истинного креста688, которое никогда не падало в цене. Среди католиков бытовало убеждение, что императрица Елена689, мать Константина Великого690, первой обнаружила подлинный «истинный крест» во время своего паломничества в Иерусалим. Император Феодосий подарил бóльшую его часть св. Амвросию691, епископу Милана, который инкрустировал его драгоценными камнями и отдал на хранение в главную церковь этого города. Реликвия была похищена и сожжена гуннами, которые перед этим извлекли из нее ценные камни. В XI и XII столетиях якобы вырезанные из нее фрагменты можно было обнаружить почти во всех церквах Европы, и если бы их можно было собрать в одном месте, их, наверное, хватило бы на постройку кафедрального собора. Велико было счастье тех грешников, которым доводилось их увидеть; счастью же тех, кто ими владел, не было предела! Ради обладания ими охотно шли на величайший риск. Считалось, что они охраняют от всякого зла и исцеляют от самых застарелых болезней. К гробницам, в которых они находились, совершались ежегодные паломничества, участники которых были для местных властей источником немалых доходов.
Следующими по степени ценности были слезы Спасителя. Кем и как они были сохранены, пилигримов не интересовало. За их подлинность ручались христиане Святой земли, и этого было достаточно. Также можно было приобрести слезы Девы Марии и св. Петра, тщательно запечатанные в маленьких урнах, которые верующие могли носить за пазухой. Далее по уровню ценности шли капли крови Иисуса и святых мучеников и молоко Девы Марии. Немалым спросом пользовались волосы и ногти с пальцев ног, продававшиеся за огромные деньги. В XI и XII столетиях тысячи паломников ежегодно посещали Палестину, чтобы приобрести эти мнимые реликвии для продажи у себя на родине. Большинство из них не имело иных средств к существованию. Множество ногтей, срезанных с грязных ног бессовестных священнослужителей, продавалось через полгода после срезания по цене алмазов под видом ногтей святых и апостолов. Особенно много было ногтей «с пальца ноги св. Петра»: во время Клермонского собора их в Европе продавалось столько, что в совокупности их хватило бы на добрый мешок; те же, кто их покупал, искренне верили в их священное, апостольское происхождение. Часть из них до сих пор хранится в кафедральном соборе Ахена, и многие набожные немцы, дабы на них взглянуть, преодолевают путь в сотни миль.
В Порт-Руаяле, в Париже, с величайшей заботой хранится шип, который, как утверждают священники этой семинарии, являлся частью тернового венца, обрамлявшего святое чело Сына Божьего. Как он туда попал и чьими стараниями, не объясняется. Этот шип знаменит тем, что стал причиной длительных разногласий между янсенистами692 и моленистами и чудесным образом исцелил поцеловавшую его мадемуазель Перье от застарелой глазной болезни693.
Какой путешественник не знает Санта-Скала, или Священную лестницу, в Риме? Ее ступени были привезены из Иерусалима вместе с древом истинного креста императрицей Еленой, взятые из дома, в котором, согласно преданию, жил Понтий Пилат. Утверждают, что по этим ступеням поднимался и спускался доставленный к римскому наместнику Иисус. Их сохраняют с величайшим благоговением; ходить по ним считается святотатством. Пришедшие к ним набожные паломники могут подниматься и спускаться по ним только на коленях и только после того, как почтительно их поцелуют.
Европа и поныне изобилует религиозными реликвиями. Едва ли найдется хоть одна католическая церковь в Испании, Португалии, Италии, Франции или Бельгии, где нет одной или более из них. Даже захудалые деревенские церкви хвалятся обладанием чудодейственными бедренными костями бесчисленных католических святых. Ахен гордится châsse694 с «подлинной бедренной костью Карла Великого», которая исцеляет от хромоты. В Галле есть «бедренная кость Девы Марии»; в Испании их семь или восемь, и все считаются подлинными. В Брюсселе одно время хранились и, вероятно, хранятся и по сей день «зубы св. Гудуля». Верующим, страдавшим от зубной боли, для исцеления от нее было достаточно помолиться и посмотреть на эти зубы. Некоторые из этих священных костей захоронены в разных частях континента. По прошествии определенного времени из них, как утверждают, начинает сочиться вода, которая вскоре образует родник, исцеляющий правоверных от всех болезней.
Любопытно отметить проявляемое во все времена и во всех странах алчное стремление к обладанию чем-то, что принадлежало известным людям разного рода, даже преступникам. Когда Уильям Длиннобородый, вождь лондонских простолюдинов в царствование Ричарда I, был повешен в Смитфилде, люди с величайшим рвением стремились достать хотя бы волос с его головы или клочок его одежды. Из Эссекса, Кента, Суффолка, Суссекса и всех соседних графств стекались женщины, чтобы набрать земли у подножия его виселицы. Считалось, что волосы из его бороды охраняют от злых духов, а частицы его одежды — от боли и страданий.
В более поздние времена похожая алчность наблюдалась в отношении несчастного Мазаньелло, рыбака из Неаполя. Вознесенный благосклонностью толпы к вершинам власти, деспотичнее которой не знала история, он впоследствии был застрелен той же толпой на улице как бешеная собака. Его обезглавленный труп на несколько часов выставили на позор и с наступлением темноты выбросили в городской ров. Наутро горожане вновь воспылали к нему любовью. Его тело было найдено, облачено в королевскую мантию и с почестями захоронено в кафедральном соборе в присутствии десяти тысяч вооруженных мужчин и такого же числа плакальщиков и плакальщиц. Его поношенная рыбацкая одежда была разодрана на лоскутья, ставшие реликвиями; толпа исступленных женщин сорвала с петель дверь его глинобитной хижины и разрубила ее на мелкие куски, из которых позднее были изготовлены статуэтки, шкатулки и другие сувениры. Предметы скудной обстановки его убогого жилища стали цениться дороже дворцовых украшений. Земля, по которой он ходил, считалась священной; собранную в маленькие склянки, ее продавали на вес золота и носили на груди в ладанках.
Еще менее объяснимой была неистовая реакция населения Парижа на казнь гнусной маркизы де Бренвилье. В случае с Мазаньелло, не запятнавшим себя уголовщиной, массовое благоговение еще имело под собой основания. Но деяния мадам де Бренвилье не могли по здравом размышлении вызвать никаких иных чувств, кроме ужаса и омерзения. Она была признана виновной в отравлении нескольких человек и приговорена к сожжению на Гревской площади с последующим развеиванием пепла по ветру. В день казни парижане, пораженные грациозностью и красотой маркизы, яростно выступали против суровости приговора. Их жалость быстро переросла в восторженное поклонение, и к вечеру ее уже считали святой. Люди тщательно собирали ее прах и охотно покупали оставшиеся после костра головешки. Считалось, что ее пепел предохраняет от ведовства.
В Англии многие испытывают странную любовь к предметам, так или иначе связанным с известными ворами, убийцами и другими преступниками. Веревки, на которых они были повешены, часто приобретаются коллекционерами по гинее за фут. Немалые суммы были заплачены за веревки, в разное время свершившие правосудие над доктором Доддом, м-ра Фонтлироя за подлог и Тёртелла за убийство м-ра Уэра. Убийство Мерайи Мартен, совершенное в 1828 году Кордером, вызвало величайший ажиотаж по всей стране. Люди приезжали из Уэльса, Шотландии и даже Ирландии, чтобы посетить амбар, где убийца зарыл тело. Каждый визитер страстно желал увезти с собой какой-нибудь сувенир. Таковыми стали куски амбарных ворот, черепица с крыши и прежде всего одежда несчастной жертвы. Локон ее волос был продан за две гинеи, и покупатель считал, что ему повезло с ценой.
В 1837 году у дома на Камбервелл-лейн, где Гринэйкр убил Ханну Браун, собралось столько людей, намеревавшихся его посетить, что было решено выставить на месте усиленный наряд полиции. Посетители так стремились унести из дома жестокого убийцы что-нибудь в качестве реликвии, что полицейским пришлось силой оттеснять их от столов, стульев и даже дверей.
В более ранний период было распространено странное поверье в отношении руки казненного преступника. Бытовало представление, что, просто потерев ею тело больного золотухой, можно тотчас его исцелить. Палач Ньюгейтской тюрьмы извлекал из этого глупого суеверия изрядный барыш. Считалось, что обладание такой рукой еще более эффективно для исцеления от болезней и предотвращения несчастий. В правление Карла II цена десять гиней за одну из этих отвратительных реликвий считалась малой.
Когда весной 1838 года был расстрелян маньяк Том, он же Кортней, охотники за реликвиями немедленно устремились на поиски всего, что служило бы напоминанием о столь незаурядной личности. Его длинная черная борода и волосы, отрезанные хирургами, попали в руки членов его секты, которые хранили их с величайшим благоговением. Локоны его волос шли по высокой цене не только среди его последователей, но и среди более состоятельных обитателей Кентербери и его окрестностей. С дерева, к которому его поставили перед расстрелом, ободрали всю кору, письмо с его подписью было куплено за несколько золотых монет, а его любимый конь стал не менее знаменит, чем хозяин. Группы леди и джентльменов преодолевали полторы сотни миль до Ботона, дабы посетить места, где бесчинствовал «безумный мальтийский рыцарь», и похлопать по спине его коня. Если бы его могилу бдительно не сторожили в течение нескольких месяцев, тело непременно бы выкопали и растащили кости на сувениры.
У китайцев нет более ценной реликвии, чем ботинки, которые носил честный судья. В принадлежащем перу Дэвиса интересном описании Китайской империи сообщается, что всякий раз, когда судья необычайной честности уходит в отставку, все местные жители собираются, чтобы воздать ему почести. Если он уезжает из города, в суде которого председательствовал, люди сопровождают его от дома до городских ворот, где с него торжественно снимают ботинки, отдаваемые на хранение в здание суда. Их незамедлительно меняют на новую пару, которую, в свою очередь, меняют на другую, прежде чем судья поносит ботинки пять минут. Считается, что, надев ботинки, судья тем самым их освящает.
К числу наиболее знаменитых европейских реликвий современности относятся тутовое дерево Шекспира, ива Наполеона и стол в Ватерлоо, за которым император писал свои послания. Табакерки из тутового дерева Шекспира сравнительно редки, хотя на рынке их, несомненно, больше, чем фактически было сделано из шелковицы, посаженной великим поэтом. Под этим названием проходит масса подделок. То же самое можно сказать о столе Наполеона в Ватерлоо. Оригинал, как и ровно дюжину подделок, давно разломали на части. То, что от них осталось, многие хранят у себя в виде обычных деревяшек, другим из обломков сделали броши и всевозможные украшения, но подавляющее большинство предпочитает изготовленные из них табакерки. Во Франции их пустили на bonbonnières695, которые высоко ценятся многими тысячами тех, у кого при упоминании Наполеона по-прежнему рдеют щеки и блестят глаза.
В Европе по сей день пользуются большим спросом пули с поля битвы при Ватерлоо и пуговицы с мундиров погибших в ней солдат. Однако в большинстве случаев они, как и новые «столы Наполеона», являются не более чем искусными подделками. Многие из тех, кто считает себя обладателем пули, способствовавшей в тот памятный день наступлению мира, на самом деле владеет свинцовым кружком, выплавленным лет десять спустя. Пусть все любители подлинных реликвий хорошо подумают, прежде чем платить торговцам сувенирами, которыми кишит селение Ватерлоо!
Мало кто из путешественников, побывавших на уединенном острове Св. Елены, не срезал прут с ивы, которая свисала над могилой Наполеона до перевозки тела во Францию по приказу Луи Филиппа. Многие из этих прутьев впоследствии были посажены в разных местах Европы и выросли в деревья, по высоте не уступающие родителю. Охотники за реликвиями, не имеющие возможности достать прут с оригинала, довольствуются прутьями с этих деревьев. Некоторые из них растут в предместьях Лондона.
Реликвии, как и все остальное, используются как с благими, так и с дурными целями. Реликвии, подлинность которых несомненна, всегда будут привлекать мыслящих и утонченных, напоминая им о великих людях или великих событиях. Немного найдется таких, кто не присоединился бы к экстравагантному желанию Каули, выраженному им в следующих строках, которые он «написал, сидя на стуле, сделанном из обломков корабля, на котором сэр Фрэнсис Дрейк696 совершил кругосветное плавание»:
And I myself, who now love quiet too,
Almost as much as any chair can do,
Would yet a journey take
An old wheel of that chariot to see,
Which Phaeton so rashly brake697.
1 Философский камень — вещество, которое, по представлениям алхимиков, могло обращать неблагородные металлы в золото и серебро, а также было важнейшим составляющим эликсира бессмертия. — Прим. пер.
2 «Некоторые люди объединяются в нелегальные предприятия, создают новые компании, чтобы торговать воздухом, обманывают других пустыми обещаниями и вывесками, за которыми ничего нет, создавая кредитные схемы, которые впоследствии рушатся, выпускают ничем не обеспеченные акции и завлекают толпу манной небесной». Дефо. — Прим. пер.
3 Мисс Элизабет Вильерс, впоследствии графиня Оркнейская. — Прим. авт.
4 Суд королевской скамьи (Court of the King’s Bench) — английское судебное учреждение, сформировавшееся к началу XIII в. из личного Суда короля как один из высших (королевских) судов так называемого «общего права». Стал высшей апелляционной инстанцией для всех других судов, но со временем был специализирован на рассмотрении апелляций по уголовным делам. С 1971 г. рассматривает апелляции только по гражданским делам. — Прим. пер.
5 Тогдашние остряки называли его песчаным банком, который приведет государство к краху. — Прим. авт.
6 «Всеобщая биография» (фр.). — Прим. пер.
7 Генерал-лейтенант полиции — государственная должность во Франции эпохи абсолютизма, учрежденная в 1667 г. Отвечал за поддержание порядка в масштабах всего королевства и руководил как общегражданской, так и политической полицией, а также специализированными полицейскими подразделениями. — Прим. пер.
8 Генерал-контролер (министр) финансов — государственная должность во Франции эпохи абсолютизма, приобретшая огромное значение начиная с Кольбера (1665 г.), который, не ограничиваясь непосредственными функциями министра финансов (формированием государственного бюджета и руководством экономической политикой страны), контролировал работу государственного аппарата и организовывал законодательную деятельность. — Прим. пер.
9 Этот эпизод, изложенный в одном из писем мадам де Бавье, герцогини Орлеанской и матери регента, опровергается лордом Джоном Расселом в его «Истории ведущих государств Европы после Утрехтского мира», но опровергается бездоказательно. Не подлежит сомнению, что Ло предложил свой план Демаре и что Людовик отказался даже слышать об этом. Причина отказа вполне согласуется с характером этого нетерпимого и деспотичного монарха. — Прим. авт.
10 Генеральные штаты — здесь: высшее сословно-представительское учреждение во Франции в 1302–1789 гг., состоявшее из депутатов от духовенства, дворянства и третьего сословия — купцов, ремесленников, крестьян, буржуазии и рабочих. Созывались королями главным образом для получения от них согласия на сбор налогов. — Прим. пер.
11 Во Франции того периода действовала так называемая откупная система — передача государством на обусловленный срок права сбора налогов и других доходов частным лицам — откупщикам. Для получения откупа государству уплачивался взнос, называвшийся ценой откупа. Откупщики давали государству гарантию о внесении в казну определенной суммы доходов, а все средства, собранные сверх этого, шли в их пользу. Откупная система распространялась в основном на косвенные налоги: таможенный, соляной, винный и другие откупы. Существовало два вида откупа: генеральный и специальный. На генеральный откуп отдавался комплекс налогов, взимаемых генеральным откупщиком по всей стране либо по районам; специальный откуп охватывал отдельные налоги и сборы. — Прим. пер.
12 От слова maltôte, незаконное обложение налогом. — Прим. авт.
13 Парижский парламент — созданный в 1260 г. специальный судебный орган, ставший высшим судом во Франции. Состоял из назначаемых королем духовников, рыцарей и легистов — выпускников юридических факультетов университетов, активно поддерживавших королевскую власть. В первой половине XIV в. приобрел право регистрации королевских ордонансов (указов) и других королевских документов, ставшей в 1350 г. обязательной. Низшие суды и парламенты других городов при вынесении решений могли пользоваться только зарегистрированными королевскими ордонансами. Если парижский парламент находил в регистрируемом акте неточности или отступления от «законов королевства», он мог заявить ремонстрацию (возражение) и отказать такому акту в регистрации. Ремонстрации преодолевались только путем личного присутствия короля на заседаниях парламента. В 1673 г. Людовик XIV объявил, что парламент больше не имеет права отказывать в регистрации королевских актов, а ремонстрация может быть заявлена лишь отдельно. Тем самым парламент был лишен своей важнейшей прерогативы — опротестовывать и отклонять королевское законодательство. В 1715 г. регент герцог Филипп Орлеанский вернул парламенту право ремонстраций и обязался учитывать его рекомендации и указания во всех государственных делах. — Прим. пер.
14 Этот эпизод описан месье де ла Од в труде «Жизнь Филиппа Орлеанского». Он заслуживал бы большего доверия, если бы автор назвал имена бесчестного чиновника и еще более бесчестного министра. Но книге месье де ла Од присущ тот же недостаток, что и большинству французких мемуаров того и последующих периодов. В большинстве из них автору достаточно, чтобы какой-либо эпизод был красочным, достоверность же для него вторична. — Прим. авт.
15 Франсуаза д’Обинье Ментенон (1635–1719) — маркиза и фаворитка (впоследствии морганатическая супруга) Людовика XIV. — Прим. пер.
16 Французы произносили его фамилию на свой манер, дабы избежать чуждого галлам звука «aw» [долгий звук «о» в английском языке. — Прим. пер.]. После провала его плана шутники говорили, что страна была lasse de lui [сыта им по горло (фр.). — Прим. пер.], и предлагали впредь называть его месье Helas! [helas — «увы!», «ах!», к сожалению!» (фр.). — Прим. пер.]. — Прим. авт.
17 Государственные билеты (фр.) — французские государственные облигации. — Прим. пер.
18 Канцлер — здесь: должность в центральном административном аппарате короля Франции, глава королевской канцелярии. Первоначально основные функции канцлера ограничивались редактированием королевских актов, представлением их на подпись королю и последующим скреплением печатью. Позднее канцлер стал ближайшим помощником короля и помимо выполнения вышеперечисленных обязанностей составлял королевские акты, назначал на судебные должности и председательствовал в высших совещательных органах в отсутствие короля. — Прим. пер.
19 Заседание парламента с участием короля (фр.). — Прим. пер.
20 Здание в Париже, бывший Дворец кардинала. В описываемый период — резиденция Филиппа Орлеанского. — Прим. пер.
21 Бог богатства в греческой мифологии. — Прим. пер.
22 Биржевых игроков (фр.). — Прим. пер.
23 Силой (фр.). — Прим. пер.
24 Любопытный читатель может отыскать один такой эпизод о страстном желании французских дам удержать Ло в их компании, который заставит его краснеть или улыбаться в зависимости от того, насколько он стеснителен. Он изложен в «Записках мадам Шарлотты Элизабет де Бавье, герцогини Орлеанской», том II, с. 274. — Прим. авт.
25 «Не эшафот позорит, а преступление» (фр.). — Прим. пер.
26 Аббат Дюбуа (позднее кардинал и первый министр) был известен своей алчностью и амурными похождениями. — Прим. пер.
27 В связи с этим событием имела хождение следующая эпиграмма:
Foin de ton zèle séraphique,
Malheureux Abbé de Tencin,
Depuis que Law est Catolique,
Tout le royaume est Capucin!
Она в какой-то степени вольно и парафрастично воспроизводится Жюстансоном в его переводе «Воспоминаний о Людовике XV»:
Tencin, a curse on thy zeraphic zeal,
Which by persuasion hath contrived the means
To make the Scotchman at our altars kneel,
Since which we all are poor as Capucines!
(«Тенсен, будь проклято твое ангельское рвение, которое, поддавшись на уговоры, ухитрилось найти способ заставить Шотландца преклонить колени у нашего алтаря, после чего мы все бедны, как капуцины!»). — Прим. авт.
28 Карточная игра. — Прим. пер.
29 Герцог де ла Форс нажил значительные суммы не только биржевой игрой, но и сделками с фарфором, специями и т.д. Долгое время в парижском парламенте обсуждался вопрос, не потерял ли он, как торговец пряностями, право на звание пэра. Вопрос был решен отрицательно. Появилась карикатура, на которой он, одетый как уличный носильщик, тащит на спине большой тюк с пряностями, на котором написано «Admirez La Force» («Восхищайтесь силой»). В карикатуре обыгрывается титул герцога, который переводится как «сила». — Прим. пер.
30 Франсуаза Атенаиса де Монтеспан (1641–1707) — маркиза, фаворитка Людовика XIV. — Прим. пер.
31 Литераторы (фр.). — Прим. пер.
32 Сорт слив. — Прим. пер.
33 32,4 г. — Прим. пер.
34 Банкнот (фр.). — Прим. пер.
35 Намек на Варфоломеевскую ночь — массовую резню гугенотов католиками в ночь на 24 августа 1572 г. (день св. Варфоломея) в Париже, организованную Екатериной Медичи и Гизами. — Прим. пер.
36 Государство в Индии в XVI–XVII вв., славившееся добычей алмазов. — Прим. пер.
37 Дюкло «Mémoires Secrets de la Régence». — Прим. авт.
38 Обмен производился в соответствии со строгой шкалой. Коэффициент обмена зависел от источника получения банкнот. Так, например, те, кто получил банкноты в качестве ежегодной ренты, обменивали их в соотношении 1:1, а те, кто не мог указать источник получения банкнот, теряли 95 % стоимости. — Прим. пер.
39 Здание Парижского муниципалитета. — Прим. пер.
40 Герцогиня Орлеанская рассказывает эту историю по-другому, но, кто бы ни был прав, проявление подобных чувств в законодательном собрании нельзя считать особенно похвальным. Она пишет, что президент настолько не помнил себя от радости, что его посетил поэтический дар и он по возвращении в зал заседания воскликнул: «Messieurs! Messieurs! bonne nouvelle! Le carosse de Lass est reduit en cannelle!» («Господа! Господа! Хорошая новость! Карету Ласса разбили вдребезги!» (фр.)). — Прим. пер.
41 Перекрестках (фр.). — Прим. пер.
42 В вольном переводе это звучит так:
Тотчас, как приехал Ласс
В городок наш добрый,
Регент уверял всех нас,
Что будет он полезен скоро
И лучше станет жить народ,
Вот так! Вот-вот!
Станем мы все богаты.
Азартный игрок!
Мой друг, он к нам, как варвар, жесток!
Этот безбожник, чтоб выманить
Все Франции деньги,
Думал сначала получить всеобщее доверье.
Отречься от всего сумел он быстро,
Вот так! Вот-вот!
Но деньги мошенник пустить в оборот все же смог.
Азартный игрок!
Мой друг, он к нам, как варвар, жесток!
Ласс, старший сын сатаны,
Нас всех пустил по миру ты,
Забрал все деньги,
Ничего не отдал.
Но есть добрый и честный регент,
Вот так! Вот-вот!
Возврати нам в срок все, что он взял!
Азартный игрок!
Мой друг, он к нам, как варвар, жесток! (Прим. пер.)
43 Психиатрическая лечебница (фр.). — Прим. пер.
44 Больница (фр.). — Прим. пер.
45 Приют для бездомных (фр.). — Прим. пер.
46 Арсенальная камера, чрезвычайный суд в арсенале (фр.). — Прим. пер.
47 Камера заявок — созданное по решению визы судебное ведомство, куда частные лица передавали акции и банкноты, по которым составлялись списки заявок (заявленных объявлений), представляя сведения об источниках денежных средств, на которые они были приобретены. Многие чиновники камеры, как выяснилось, утаивали акции и банкноты, которые продавали к собственной выгоде. — Прим. пер.
48 «Здесь погребен шотландец известный,
По мастерству расчета беспрецедентный;
При помощи алгебры он правил
И Францию в больницу всю отправил» (фр.). — Прим. пер.
49 «В конце концов продажность, как наводнение, затопила все, и алчность расползлась повсюду, растеклась, как отвратительный туман, и закрыла солнце. Государственные деятели и патриоты спекулировали на бирже, леди и дворецкий делили доходы, судьи барышничали, епископы воровали, могущественные герцоги собирали карты в колоду за полкроны. Британию захлестнула презренная жажда наживы» (Поп). — Прим. пер.
50 «Рожают горы, а рождается смешная мышь» (лат.). — Прим. пер.
51 На сумму долга предполагалось выпустить акции. — Прим. ред.
52 Министр финансов Великобритании. — Прим. пер.
53 Иксчендж-эли (Exchange Alley) — название улицы, которое можно перевести как «аллея менял» или «аллея дисконта». — Прим. пер.
54 Оловорудное (с серебром) месторождение в Боливии. — Прим. пер.
55 «Баллада о Компании южных морей, или Веселые заметки о дутых предприятиях на Иксчендж-эли». В сочетании с новой мелодией называется «Великий эликсир, или Философский камень найден». — Прим. авт.
56 «Тогда обладатели звезд и подвязок смешались с презренной чернью, чтобы покупать и продавать, чтобы видеть и слышать ссоры евреев и язычников. Благороднейшие леди приезжали туда и проводили целые дни в экипажах или закладывали свои драгоценности, чтобы рискнуть на Аллее». — Прим. пер.
57 Кокс, «Уолпол», переписка между г-ном секретарем Крэгсом и графом Стенхопом. — Прим. авт.
58 Дильс — еловые или сосновые доски определенного размера. — Прим. пер.
59 Сокращение от «Иксчендж-эли». — Прим. пер.
60 «Здесь тысячами плавают подписчики, расталкивая и топя друг друга; гребут в дырявых лодках, удят золотых рыбок и тонут. То идя ко дну, то возносясь к небесам на гребне волны, они качаются и шатаются туда-сюда, не понимая, что к чему, как пьяные. А тем временем, восседая на утесах Гаррауэя, дикое племя, утолившее жажду наживы обломками кораблекрушения, ждет, пока утонут новые лодки, и, дождавшись, грабит утопленников». — Прим. пер.
61 Генеральный атторней — здесь: главный юрисконсульт правительства Великобритании, также осуществляющий прокурорский надзор и судебную защиту финансовых интересов короны. Генеральный солиситор (стряпчий) — заместитель генерального атторнея. — Прим. пер.
62 «Замечательное изобретение для уничтожения толпы дураков доморощенных вместо дураков заграничных. Не бойтесь, друзья мои, сей ужасной машины: ранены только те, кто на нее скинулся». — Прим. пер.
63 «Безрассудный глупец, желающий поменять золотые и серебряные монеты на английскую медь, может на Чендж-эли доказать, что он осел, отдав драгоценный металл за поддельную латунь». — Прим. пер.
64 Акейдия — прежнее название канадской провинции Новая Шотландия. — Прим. пер.
65 «Он, богатый и стремящийся выбросить на ветер кругленькую сумму в Северной Америке, пусть подпишется, опрометчивый акционер, и ослиные уши найдут достойного обладателя». — Прим. пер.
66 Имеется в виду существовавшее на территории Германии в 1714–1837 гг. курфюршество, а позднее королевство в личной (под властью одного монарха) унии с Великобританией. Георг I Людвиг, о котором идет речь, был первым королем так называемой Ганноверской династии. — Прим. пер.
67 Олдермен — здесь: старший советник лондонского муниципалитета или член совета графства в Англии и Уэльсе; в более широком смысле — старейшина в англосаксонском обществе. — Прим. пер.
68 Глава судебного ведомства и верховный судья Англии, председатель палаты лордов и одного из отделений верховного суда, хранитель печати. — Прим. пер.
69 В тот бедственный год Гей (поэт) получил в подарок от Крэгса-младшего некоторое число акций Компании южных морей и однажды предположил, что у него есть двадцать тысяч фунтов. Друзья убеждали его продать эти акции, но ему, грезившему о титуле и славе, была невыносима сама мысль о том, что что-то может помешать ему стать богатым. Тогда его стали настойчиво упрашивать продать акции на такую сумму, которой бы ему хватило на безбедную жизнь, «чтобы, — сказал Фентон, — у тебя каждый день была чистая рубашка и баранья лопатка». Совет был отклонен, выгода и капитал — утрачены, а Гей очутился в столь бедственном положении, что его жизнь оказалась в опасности. (Джонсон «Биографии поэтов».). — Прим. авт.
70 «Она была черна, как ночь, свирепа, как десять фурий, ужасна, как ад». — Прим. пер.
71 Смоллетт. — Прим. авт.
72 Блуждающим огоньком (лат.). — Прим. пер.
73 Кавычки автора. Очевидно, цитата из какой-то книги. — Прим. пер.
74 Cуществовавшая в 1600–1858 гг. компания английских купцов, созданная в основном для торговли с Ост-Индией (название территории Индии и некоторых других стран Южной и Юго-Восточной Азии). — Прим. пер.
75 29 сентября. — Прим. пер.
76 Взять под стражу и заключить в тюрьму. — Прим. пер.
77 Единогласно (лат.). — Прим. пер.
78 «“God cannot love,” says Blunt with tearless eyes,
“The wretch he starves,” and piously denies…
Much-injur’d Blunt! why bears he Britain’s hate?
A wizard told him in these words our fate:
“At length corruption, like a general flood,
So long by watchful ministers withstood,
Shall deluge all; and avarice, creeping on,
Spread like a low-born mist, and blot the sun;
Statesman and patriot ply alike the stocks,
Peeress and butler share alike the box,
And judges job, and bishops bite the town,
And mighty dukes pack cards for half-a-crown;
See Britain sunk in Lucre’s sordid charms
And France revenged on Anne’s and Edward’s arms!”
’Twas no court-badge, great Scrivener! fir’d thy brain,
Nor lordly luxury, not city gain:
No, ’twas thy righteous end, asham’d to see
Senats degen’rate, patriots disagree,
And nobly-wishing party-rage to cease,
To buy both sides, and give thy country peace».
— Pope’s Epistle to Allen Lord Bathurst.
(«“Бог не способен любить тех несчастных, которых он морит голодом”, — изрекает бесчувственный Блант и благочестиво отрекается… Блант оскорблен! Почему Британия его ненавидит? Колдун предсказал ему нашу судьбу так: “В конце концов продажность, как наводнение, так долго сдерживаемое бдительными министрами, затопит все, и алчность расползется повсюду, растечется, как отвратительный туман, и закроет солнце. Государственные деятели и патриоты будут спекулировать на бирже, леди и дворецкий — делить доходы, судьи — барышничать, епископы — воровать, могущественные герцоги — собирать карты в колоду за полкроны. Британию, узрел я, захлестнет презренная жажда наживы, а Франция отомстит за войны Анны и Эдуарда!” Не будет никаких королевских регалий, великий ростовщик, которых ты так жаждешь, ни присущей лорду роскоши, ни доходов от горожан. Нет, тебя ждет справедливый финал, и ты со стыдом увидишь вырождающихся парламентариев, ссорящихся патриотов, и тех, кто в своем благородстве стремится погасить пламя раздора, чтобы искупить грехи антагонистов и принести мир твоей стране» (Поп «Послание Аллану, лорду Батерсту»). — Прим. пер.
79 Барьер, отделяющий места членов палаты. — Прим. пер.
80 Выслушайте другую сторону (лат.). — Прим. пер.
81 Компания южных морей до 1845 г. оставалась ярчайшим примером слепой тяги людей к коммерческим авантюрам в британской истории. Первое издание этих томов вышло незадолго до того, как разразилась Великая Железнодорожная мания указанного и последующего годов. — Прим. авт.
82 «Какое неистовство, о граждане!» (лат.) (Лукан). — Прим. пер.
83 Конрад Геснер (1516–1565) — швейцарский естествоиспытатель и библиограф. — Прим. пер.
84 «О постоянстве» (лат.). — Прим. пер.
85 «Затем появился тюльпан, очень красивый, но своенравный, гордый и игривый; в мире нет таких цветов и оттенков, какие есть в нем; более того, смешивая новые краски, он способен меняться; он рядится в пурпур и золото и обожает самые дорогие наряды; его единственная забота — услаждать взор и затмевать остальных своим убранством». — Прим. пер.
86 В системе английских мер гран торговый, аптекарский и тройский (для взвешивания драгоценных камней и металлов) равен 0,0648 г. — Прим. пер.
87 Акр — единица площади в системе английских мер. 1 акр > 0,4 га. — Прим. пер.
88 Левант — историческое название Восточного Средиземноморья. — Прим. пер.
89 Ласт — мера, различная для разного груза; здесь: 10 четвертей (29 гектолитров) зерна. — Прим. пер.
90 Хогсхед — мера жидкости > 238 л. — Прим. пер.
91 Бочка — мера емкости = 252 галлонам = 1144,08 л. — Прим. пер.
92 Фунт — основная единица массы в системе английских мер. 1 фунт (торговый) = 453,6 г. — Прим. пер.
93 Штатгальтер (статхаудер) — глава исполнительной власти в нидерландской Республике Соединенных провинций (XVI–XVIII вв.). — Прим. пер.
94 «Сто тысяч чертей!» (голл.). — Прим. пер.
95 Синдик — здесь: член магистрата (органа городского управления, выполнявшего административно-судебные функции), городской судья. — Прим. пер.
96 Редко встречающийся, диковинный (лат.). — Прим. пер.
97 Ртуть (loquitur). Я — зловредная тайна, известная им всем, сжигающим уголь и потягивающим виски, — тем, кто так или иначе пытается под благовидными именами Гебера, Арнальдо, Луллия или Бомбаста фон Гогенгейма приписать себе совершение чудес и власть над природой, будто славное звание философа извлекается из печи! Я их сырье и их сублимат, их осадок и их мази, их мужчина и их женщина, а иногда их гермафродит — вот перечень моих ипостасей! Вас, степенная замужняя женщина, потенциальная мать непорочных дев, они сожгут дотла, и из пепла появится молодая девственница, цветущая, как птица Феникс; вас, старый придворный, они положат на угли, словно колбасу или сельдь, как следует прожарят и вдохнут в вас жизнь с помощью ручных мехов! Глядите, они вновь трубят сбор и выводят против меня свои войска! Ангел-хранитель, защити меня! (Бен Джонсон «Маска: ртуть, защищенная от алхимиков»). — Прим. пер.
98 Герметический — в узкоалхимическом смысле наглухо закупоренный, в расширительно оккультном — закрытый, тайный. Образовано от имени Гермеса Трисмегиста, мифического родоначальника оккультных наук. — Прим. пер.
99 Шем (древнеевр.) — Сим. — Прим. пер.
100 «История Китая» (лат.). — Прим. пер.
101 Точнее говоря, настоящее имя Гебера (ок. 721 — ок. 815) было Абу-Муса-Джабир или Джабир ибн Хайян (Гебер — латинизированное Джабир). — Прим. пер.
102 «Всеобщая биография». — Прим. авт.
103 Его «Усовершенствования», или руководство для изучающих алхимию, призванное облегчить им трудоемкие поиски философского камня и чудодейственного эликсира, были переведены на большинство европейских языков. Английский перевод выдающегося энтузиаста алхимии Ричарда Рассела был опубликован в Лондоне в 1686 г. В предисловии сказано, что оно написано восемью годами ранее в доме алхимика, находящемся по адресу: «у Звезды, Ньюмаркет, Уоппинг, возле верфи». Целью сделанного им перевода было, по его словам, разоблачение лживых претензий многочисленных невежд, его современников, на знание алхимии. — Прим. авт.
104 «Всеобщая биография», статья «Гебер». — Прим. авт.
105 Ноде «Apologie des Grands Hommes accusйs de Magie» («Защита великих людей, обвиняемых в колдовстве» (фр.)), гл. XVIII. — Прим. авт.
106 Лагле, «Histoire de la Philosophie Hermetique». См. также «Жизни некромантов» Годвина. — Прим. авт.
107 От слова «каббала» (древнеевр., буквально — предание) — средневековое религиозно-мистическое учение, сначала распространившееся среди приверженцев иудаизма, а затем в магической практике средневековой Европы. Особенно широко использовалось для всевозможных гаданий. Так называемая практическая каббала (кабалистика) основана на вере в то, что при помощи специальных ритуалов и молитв человек может активно вмешиваться в божественно-космический процесс. — Прим. пер.
108 Ноде «Защита великих людей, обвиняемых в колдовстве», гл. XVII. — Прим. авт.
109 Аполлоний Тианский (3 г. до н.э. — (?) 97 г. н.э.) — древнеримский философ пифагорейской школы. Считалось, что он, избежав смерти, скрывается под другим именем. — Прим. пер.
110 Автор ошибается. Ален де Лиль (Алан Лилльский) родился между 1115 и 1128 гг. и умер в 1202-м или 1203 г. — Прим. пер.
111 Гранд-сенешал — министр двора. — Прим. пер.
112 Роуз-нобль — золотая монета, имевшая хождение в XIV–XVI вв. — Прим. пер.
113 «О превращениях сущности металлов» (лат.). — Прим. пер.
114 Vidimus omnia ista dum ad Angliam transumus, propter intercessionem domini Regis Edoardi illustrissimi. — Прим. авт.
115 «Перечень сочинений по медицине» (лат.). — Прим. пер.
116 «Завещание» (лат.). — Прим. пер.
117 Converti una vice in aurum ad L milia pondo argenti vivi, plumbi, et stanni. — Lullii Testamentum. — Прим. авт.
118 Уильям Кемден (1551–1623) — английский антиквар и историк. — Прим. пер.
119 Аверроэс (латинизация от Ибн Рушд) (1126–1198) — арабский философ и врач, представитель восточного аристотелизма. — Прим. пер.
120 «В наш век золото порождается темными силами» (фр.). — Прим. пер.
121 Проекционный фонарь (аппарат). — Прим. пер.
122 «Заявляю, что алхимик, не выставляющий напоказ свое богатство, — бедный алхимик» (лат.). — Прим. пер.
123 Эти стихи являются всего лишь более вульгарным выражением оскорбительной строки Попа, считавшего, что «каждая женщина в глубине души распутница». — Прим. авт.
124 Кордельер — монах-францисканец. — Прим. пер.
125 Алкагест — универсальный растворитель алхимиков. — Прим. пер.
126 Меркурий — в римской мифологии бог торговли и покровитель путешественников, соответствующий греческому Гермесу. Сатурн — римский бог посевов, покровитель земледелия, соответствующий греческому Кроносу (Chronos, буквально «время»). — Прим. пер.
127 Устаревшее название физики. — Прим. пер.
128 «Желание из желаний» (фр.). — Прим. пер.
129 «Библиотека химических философий» (фр.). — Прим. пер.
130 «Золото королевы» (лат.). — Прим. пер.
131 Имеется в виду город Бостон в Великобритании. — Прим. пер.
132 «Двенадцать врат» (лат.). — Прим. пер.
133 Фуллер «Знаменитости Англии». — Прим. авт.
134 Трансмутация — здесь: алхимическое превращение металлов в золото или серебро. — Прим. пер.
135 Разес — латинизация от Рази. Абу Бакр Мухаммед бен Закария ар-Рази (865–925 или 934) — иранский ученый-энциклопедист, врач и философ. — Прим. пер.
136 Тэм О’Шентер — герой одноименной повести в стихах шотландского поэта Роберта Бёрнса. — Прим. пер.
137 «Заявление потомкам» (лат.). — Прим. пер.
138 «О происхождении овец» (лат.). — Прим. пер.
139 «Всеобщая биография». — Прим. авт.
140 Гипокрас — улучшенное виноградное вино, употреблявшееся с добавлением пряностей и меда. Выполнял функцию современного аперитива. — Прим. пер.
141 То есть «продажными» (от слова «симония» — грех торговли божественной благодатью, выражавшейся в Западной Европе средних веков в купле-продаже церковных должностей или духовного сана). — Прим. пер.
142 Подробности этого выдающегося процесса изложены в книге Лобино «Nouvelle Histoire de Bretagne» [«Новая история Бретани» (фр.). — Прим. пер.] Лобино и труде д’Аржантре на ту же тему. Считается, что Жиль де Ре послужил прототипом знаменитой Синей бороды из детской сказки. — Прим. авт.
143 В Средние века — могущественная торговая республика. — Прим. пер.
144 Имеется в виду эпизод Столетней войны 1337–1453 гг. между Англией и Францией за Гиень (с XII в. английское владение), Нормандию, Анжу (утраченные англичанами в XIII в.) и Фландрию, в результате которой англичане удержали на территории Франции лишь город Кале (до 1558 г.). — Прим. пер.
145 Жан Орлеанский, граф де Дюнуа (1402–1468) — французский военный деятель. — Прим. пер.
146 «Галльские древности» (фр.). — Прим. пер.
147 «Исправленная алхимия» (лат). — Прим. пер.
148 «Об обучении на практике» (лат.). — Прим. пер.
149 «О получении философского камня» (лат.). — Прим. пер.
150 «Теория надлежащего тройного эликсира и философского камня» (лат.). — Прим. пер.
151 «Работа с минералами, или О философском камне» (лат.). — Прим. пер.
152 Филипп Меланхтон (1497–1560) — немецкий протестантский теолог и педагог, соратник Мартина Лютера. — Прим. пер.
153 Эразм Роттердамский (1469–1536) — голландский гуманист эпохи Возрождения, писатель, филолог. — Прим. пер.
154 Коннетабль — во Франции с XII в. советник короля, начальник королевских рыцарей, с XIV в. главнокомандующий армией. В 1627 г. должность коннетабля была упразднена. — Прим. пер.
155 В Средние века так называлась область на северо-западе Европы, охватывавшая территорию современных Нидерландов, Бельгии, Люксембурга и части Северо-Восточной Франции. — Прим. пер.
156 «Хвала упорным наставникам» (лат.). — Прим. пер.
157 Томас Нэш (1567 г. — ок. 1601 г.) — английский писатель. — Прим. пер.
158 Марк Туллий Цицерон (106–43 до н.э.) — древнеримский политический деятель, оратор и писатель. Квинт Росций (ок. 130 г. до н.э. — ок. 62 г. до н.э.) — древнеримский комедийный актер, у которого Цицерон учился декламации. — Прим. пер.
159 Гален (ок. 130 — ок. 200) — древнеримский врач, идеалистическая направленность сочинений которого способствовала трансформации его учения в так называемый галенизм, канонизированный церковью и господствовавший в медицине в течение многих веков. — Прим. пер.
160 Имеется в виду алхимическая ртуть, универсальное лекарство Парацельса. — Прим. пер.
161 См. во «Всеобщей биографии» статью ученого Ренодена «Парацельс». — Прим. авт.
162 «Смятение философов» (лат.). — Прим. пер.
163 Мортлейк — район Лондона. — Прим. пер.
164 По-видимому, упоминаемый «кристалл» был черным камнем или куском отполированного каменного угля. В приложении к «Истории в биографиях» Грейнджера об этом говорится следующее: «Черный камень, в который Ди вызывал духов, находился в коллекции графов Питерборо, откуда попал к леди Элизабет Джермейн. Затем он был собственностью покойного герцога Аргайла, а теперь принадлежит г-ну Уолполу. При ближайшем рассмотрении он кажется не чем иным, как отполированным куском кеннельского угля, который и имеет в виду Батлер (Сэмюэл Батлер (1612–1680), английский писатель и поэт-сатирик. — Прим. пер) в своем двустишии: “Kelly did all his feats upon / The devil’s looking-glass — a stone” («Всеми своими деяниями Келли обязан зерцалу дьявола — камню». — Прим. пер.). — Прим. авт.
165 Астролог Лилли в своей книге «Жизнь» много рассказывает о предсказаниях, делаемых ангелами примерно тем же образом, что и ангелы доктора Ди. Он пишет: «Ангелы не пророчествовали словесно, а демонстрировали символы и фигуры, являя взору владельца кристалла окружность, на коей через определенные интервалы располагались требуемые лица и картины событий». «Очень редко, даже в наши дни, — изрекает сей эксперт, — медиум может услышать членораздельную речь ангелов; когда же они что-то изрекают, это похоже на невнятный, словно с набитым ртом, ирландский говор!» — Прим. авт.
166 Альберт Лаский, сын Ярослава, пфальцграф Сирадзский, впоследствии Сендомирский, оказал решающее содействие избранию Генриха III Французского из династии Валуа польским королем и был одним из делегатов, отправленных во Францию сообщить новоиспеченному монарху о его возведении в ранг правителя Польши. После свержения Генриха Альберт Лаский выступал за избрание Максимилиана Австрийского. В 1583 году он посетил Англию, и королева Елизавета устроила ему роскошный прием. Почести, оказанные ему по особому распоряжению королевы во время его визита в Оксфорд, не уступали почестям, оказываемым монархам. Его исключительное мотовство делало его огромное богатство недостаточным для потакания его страстям, поэтому он стал рьяным адептом алхимии и привез из Англии в Польшу двух известных алхимиков (Граф Валериан Красинский «Краткий обзор истории Реформации в Польше»). — Прим. авт.
167 Нунций (от лат. nuntius — вестник) — постоянный дипломатический представитель папы римского в иностранных государствах; соответствует дипломатическому рангу чрезвычайного и полномочного посла. — Прим. пер.
168 Имеется в виду металлическая грелка с углями для согревания постели. — Прим. пер.
169 «Никто другой не делал того, что сделал здесь Сендивогий Польский» (лат.). — Прим. пер.
170 В «Спектейторе» № 379 опубликована следующая легенда о могиле Розенкрейца, пересказанная Юстасом Баджеллом: «Один человек, раскапывая захоронение этого философа, наткнулся на небольшую дверь в стене. Любопытство и надежда найти клад побудили его взломать дверь. Сделав это, он был удивлен брызнувшим ему в глаза ярким светом и увидел прекрасно сохранившийся склеп. В верхней его части находилась статуя человека в доспехах, которая сидела за столом, опираясь на левую руку. В правой руке она держала жезл, а на столе стояла горящая лампа. Как только человек сделал первый шаг в склеп, статуя выпрямилась и встала из-за стола. Человек сделал еще один шаг, и статуя подняла правую руку с жезлом. Когда же человек сделал третий шаг, статуя яростным ударом разбила лампу на мелкие куски, и склеп тут же погрузился в темноту. Согласно отчету об этом происшествии, к захоронению пришли селяне с фонарями, обнаружившие, что медная статуя является всего-навсего частью механизма, а пол в склепе состоит из нескольких подвижных секций, подпертых пружинами, что и явилось естественной (и запланированной создателями склепа) причиной происшедшего.
Розенкрейц, как утверждают его последователи, показал таким образом миру, что он повторно изобрел неугасимые лампы древних, однако твердо решил, что никто не должен извлечь выгоду из этого открытия». — Прим. авт.
171 Зеваки, ротозеи (фр.). — Прим. пер.
172 Собственной персоной (лат.). — Прим. пер.
173 Frères de la Rose-croix — Братство Розового креста (фр.). — Прим. пер.
174 Инкуб — демон в обличье мужчины, соблазняющий спящих. Суккуб — здесь: демон в обличье женщины, соблазняющий спящих. — Прим. пер.
175 «Оповещение Франции о братьях Розового креста» (фр.). — Прим. пер.
176 Розового креста (лат.). — Прим. пер.
177 Золотого креста (лат.). — Прим. пер.
178 «Защита братства розенкрейцеров от бесчестия и подозрений, пятнающих их» (лат.). — Прим. пер.
179 Иоганн Кеплер (1571–1630) — немецкий астроном, один из создателей астрономии нового времени. — Прим. пер.
180 Пьер Гассенди (1592–1655) — французский философ-материалист, математик и астроном. — Прим. пер.
181 Марен Мерсенн (1588–1648) — французский физик. — Прим. пер.
182 Рене Декарт (1596–1650) — французский философ, математик, физик и физиолог. — Прим. пер.
183 «Противопоставление истинного высшего добра, к коему относятся магия, каббала, алхимия и братство розенкрейцеров, клевете Мерсенна» (лат.). — Прим. пер.
184 Здесь: нравоучение, наставление на путь истинный. — Прим. пер.
185 Протей — персонаж древнегреческой мифологии, морское божество. — Прим. пер.
186 Rose-cross — здесь: крест, украшенный розами (англ.). — Прим. пер.
187 Джозеф Аддисон (1672–1719) — английский писатель. — Прим. пер.
188 № 574, пятница, 30 июля 1714 г. — Прим. авт.
189 «Всецело странных и сумасбродных, лишенных элементарного здравого смысла». — Прим. пер.
190 Здесь: высшее сословно-представительское учреждение в Нидерландах исторических (с 1463 г.). — Прим. пер.
191 Элементалы (элементалии) — первоначальные духи, пытающиеся влюбить в себя людей. — Прим. пер.
192 Публичное признание вины (фр.). — Прим. пер.
193 170,1 г. — Прим. пер.
194 «Vitulus Aureus quem Mundus adorat et orat, in quo tractatur de naturae miraculo transmutandi metalla». Гаага, 1667. — Прим. авт.
195 Иоганн Рудольф Глаубер (1604–1670) — немецкий врач и химик, получивший, помимо прочего, так называемую глауберову соль (кристаллогидрат сульфата натрия). — Прим. пер.
196 «Voyages de Monconis», том II, с. 379. — Прим. авт.
197 Должностное лицо при дворе. — Прим. пер.
198 Квинтал — здесь: единица массы в системе английских мер, равная 50,8 кг. — Прим. пер.
199 Оратория — здесь: религиозное общество; члены оратории — ораторианцы. — Прим. пер.
200 Королевский указ об изгнании, о заточении без суда и следствия (фр.). — Прим. пер.
201 Простолюдина (фр.). — Прим. пер.
202 Секретарь суда (фр.). — Прим. пер.
203 Человек, о котором идет речь, не имел никакого отношения к жившему в тот же период графу Клоду Луи де Сен-Жермену, французскому военному деятелю. — Прим. пер.
204 «Потешным графом» (фр.). — Прим. пер.
205 Трентский собор — съезд высшего духовенства католической церкви, состоявшийся в 1563 г. в итальянском городе Тренто. — Прим. пер.
206 Право входа (фр.). — Прим. пер.
207 Гроссмейстер (великий магистр) — глава католического духовно-рыцарского ордена, избираемый пожизненно его членами и утверждаемый папой римским. — Прим. пер.
208 Место, где должников держали 24 часа, чтобы дать им возможность договориться с кредиторами. — Прим. пер.
209 Суд общих тяжб (Court of Common Pleas) — английское судебное учреждение, выделившееся к концу XII в. из центрального («личного») королевского суда. Сыграл решающую роль в создании в Англии «общего права» и со временем стал основным судом «общего права». Рассматривал большинство частных гражданских исков, осуществлял надзор за местными и манориальными судами и мог исправлять ошибки других судов. В ходе судебной реформы 1873–1875 гг. был наряду с другими королевскими судами и судом лорда-канцлера объединен в единый Высокий суд правосудия, способный в равной мере применять нормы как «общего права», так и «права справедливости» и ставший судом первой инстанции по гражданским делам с юрисдикцией на всей территории Великобритании. — Прим. пер.
210 Нинон де Ланкло (1616–1705) — знаменитая французская красавица. — Прим. пер.
211 Члены городского правления (в некоторых юго-западных городах Франции) (фр.). — Прим. пер.
212 См. книгу аббата Фиара «Эпизоды правления Людовика XVI». — Прим. авт.
213 «Биографии современников» (фр.). — Прим. пер.
214 Тит Лукреций Кар — римский поэт и философ-материалист I в. до н.э. — Прим. пер.
215 «Биографии современников», статья «Калиостро». См. также «Историю магии во Франции» месье Жюля Гарене. — Прим. авт.
216 «Хорошо, хорошо, одобряю. Мария Антуанетта» (фр.). — Прим. пер.
217 Когда успешный ход Великой французской революции растравил злобу врагов несчастной королевы Франции, те утверждали, что в действительности она была одним из участников данной сделки, что она, а не мадемуазель д’Олива, встретилась с кардиналом и подарила ему цветок и что история, рассказанная выше, была попросту состряпана ею, ла Мотт и другими, дабы выманить у ювелира обманом 1 600 000 франков. — Прим. авт.
218 Бесстыжая лгунья (лат.). — Прим. пер.
219 Имеется в виду применявшийся до начала XX в. метод лечения сифилиса парами ртути. — Прим. пер.
220 Более подробно об этом написано у Гиббона и Вольтера. — Прим. авт.
221 «Когда ночью шар света соскользнул со свода неба, оставив от паденья лишь длинный огненный след, толпа прекратила свой одинокий бег» [Люсьен Бонапарт «Карл Великий. Эпическая поэма» (фр.). — Прим. пер]. — Прим. авт.
222 «О чуме в Милане» (лат.). — Прим. пер.
223 Уровень воды в нижнем течении Темзы сильно зависит от приливов и отливов Северного моря. — Прим. пер.
224 Это пророчество, похоже, полностью приведено в известной книге «Жизнь матушки Шиптон»:
«When fate to England shall restore
A king to reign as heretofore,
Great death in London shall be though,
And many houses be laid low». — Прим. авт.
«Когда волею судеб в Англии вновь будет править король, Лондон тем не менее погибнет и многие дома превратятся в руины». Упоминаемый автором пожар имел место в 1666 г. (через шесть лет после реставрации монархии в Англии) и привел к почти полному разрушению Лондона. — Прим. пер.
225 В «Лондон сэтедей джорнэл» от 12 марта 1842 г. есть следующее сообщение: «В последнее время участились нелепые слухи о том, что 17 марта, в День св. Патрика, Лондон будет разрушен землетрясением. Они основаны на двух нижеследующих древних пророчествах, первое из которых было сделано в 1203-м, а второе, автором которого является доктор Ди, астролог, — в 1598 г.:
“In eighteen hundred and forty-two
Four things the sun shall view:
London’s rich and famous town
Hungry earth shall swallow down.
Storm and rain in France shall be,
Till every river runs a sea.
Spain shall be rent in twain,
And famine waste the land again.
So say I, the monk of Dree,
In the twelve hundredth year and three” *).
Харлейская коллекция (Британский музей)
“The Lord have mercy on you all —
Prepare yourself for dreadful fall
Of house and land and human soul —
The measure of your sins is full.
In the year one, eight and forty-two,
Of the year that is so new;
In the third month of that sixteen,
It may be a day or two between —
Perhaps you’ll soon be stiff and cold.
Dear Christian, be not stout and bold —
The mighty, kingly-proud will see
This comes to pass as my name’s Dee” **).
1598. Манускрипты Британского музея.
Эти пророчества привели в смятение только необразованных лондонцев из низов, но масштабы оного в их среде были адекватны обрисованным перспективам. Вскоре было установлено, что среди харлейских манускриптов этих текстов нет». — Прим. авт.
*) «В одна тысяча восемьсот сорок втором году солнце узреет четыре события: богатый и славный город Лондон поглотит голодная земля; ураганы и ливни во Франции приведут к разливу всех ее рек; Испания будет разделена надвое, и голод вновь опустошит эту страну. Так говорю я, монах из Дри, в одна тысяча двести третьем году». — Прим. пер.
**) «Помилуй всех вас Господь — готовьтесь к ужасному падению домов, земель и человеческих душ, вам в полной мере воздастся за грехи ваши. В одна тысяча восемьсот сорок втором году — году, что от меня столь отдален, в третьем месяце с шестнадцатого числа, день, может два, вас ждут, когда тела ваши окостенеют и охладеют. Христиане, не храбритесь и не противьтесь неизбежному: наделенные могуществом и гордостью, достойной королей, увидят, что мое пророчество — правда, как правда и то, что меня зовут Ди». — Прим. пер.
226 «Здесь покоится женщина, которая никогда не лгала и чей дар часто подвергался испытанию. Ее пророчества навсегда останутся в памяти людей и уберегут ее имя от забвения». — Прим. пер.
227 Секуляризация (от позднелат. saecularis — мирской, светский) — здесь: обращение государством церковной собственности (главным образом земли) в светскую. — Прим. пер.
228 «С холодного севера придут всевозможные бедствия». — Прим. пер.
229 «Придет время, когда моря крови сольются воедино. Тогда поднимется сильный шум — многоголосый крик и плач, и моря загремят громче небес; тогда три льва подерутся с тремя себе подобными и принесут радость народу и славу королю. Как только закончится этот огненный год, воцарится прежний мир, везде всего будет в достатке и былые воители перекуют мечи на орала». — Прим. пер.
230 «Кто же не слышал о Мерлине и его даре? Мерлина будут помнить всегда. Его пророчества пережили тысячу долгих лет и вряд ли умрут до скончания времен». — Прим. пер.
231 Эдмунд Спенсер (ок. 1552–1599) — английский поэт, автор незаконченной аллегорической поэмы «Королева фей». Ввел в английское стихосложение так называемую спенсерову строфу. — Прим. пер.
232 «Ни один из когда-либо живших на свете людей не превзошел его в магии, ибо он мог словесно вызывать с неба и солнце, и луну и подчинять их своей воле; мог затоплять сушу морем, а море — осушать, а также превращать темную ночь в день и в одиночку обращать в бегство целые армии. Когда он хотел напугать своих врагов, он сам создавал армии и гнуснейших тварей. Демоны и поныне трясутся от страха перед его именем, кто бы им его ни назвал. Люди, достойные доверия, говорят, что он не был сыном человека или иного земного существа, а был зачат при соитии обманувшегося в своих ожиданиях коварного инкуба с прекрасной монахиней». — Прим. пер.
233 Вортигерн (ок. 425–450) — король бриттов. — Прим. пер.
234 Львиное Сердце поднимется против сарацина и отвоюет у него много славных трофеев; роза и лилия — Плантагенет и Капетинг, английский и французский короли — вначале объединятся, но затем, при дележе добычи, рассорятся. Однако пока эти масштабные деяния будут вершиться за границей, в отечестве все дела придут в беспорядок. Потом Львиное Сердце попадет в плен и будет заточен в тюрьму, но, претерпев страдания, будет освобожден за выкуп». — Прим. пер.
235 «Горбатый урод, который родится с зубами во рту, насмешка над Творцом, издевка над природой, тот, кто появится из чрева нелепым образом, протиснувшись в этот мир ногами вперед, будет взбираться наверх по колено в крови. Он будет стремиться к осуществлению всех своих чаяний и, разодетый в пух и прах, восторгаться своей уродливой фигурой; но, когда он сочтет, что его позиции прочны как никогда, из-за границы приплывет юнец-англичанин». — Прим. пер.
236 «Когда петля будет готова затянуться, береги, англичанин, шею cвою». — Прим. пер.
237 Здесь: петля (староангл. вор. жарг.). — Прим. пер.
238 Henry, Edward, Mary, Philip, Elizabeth. — Прим. пер.
239 Ричард Графтон «Английские летописи»; Лондон, 1568 г., с. 106. — Прим. авт.
240 В то время король Иоанн был отлучен от церкви. — Прим. авт.
241 В 1207 г. Иоанн Безземельный, разгневанный тем, что папа Иннокентий III назначил архиепископа Кентерберийского без его согласия, вступил в длительный конфликт с понтификом. В 1212 г. папа издал буллу о лишении Иоанна престола и передал права на английскую корону королю Франции Филиппу II. Опасаясь восстаний своих подданных, Иоанн в 1213 г. капитулировал перед папой, признал себя его вассалом и обязался ежегодно выплачивать 1000 марок серебром. — Прим. пер.
242 «Велики были власть и слава его, Чье имя повсюду известность имело». — Прим. пер.
243 Стоунхендж — крупнейшая мегалитическая культовая постройка II тысячелетия до н.э. в Англии близ города Солсбери. Земляные валы, огромные каменные плиты и столбы образуют концентрические круги. — Прим. пер.
244 «Королева фей», книга 3, песнь 3, строфы 6–13. — Прим. авт.
245 «Говорят, что во время оно премудрый Мерлин имел обыкновение
Забираться глубоко под землю,
В пещеру, подальше от солнечного света,
Дабы его не смогла найти ни одна живая душа,
И совещался там с окружавшими его духами.
И если тебе когда-нибудь доведется побывать в тех краях,
Пойди и взгляни на это страшное место;
Говорят, что это зловещая пещера
У подножья скалы, находящейся неподалеку
От проворного Барри, стремительно низвергающегося
Меж лесистых Дайнвауэрских холмов;
Но ни в коем случае не смей
Входить в это мрачное подземелье,
Ибо жестокие демоны пожирают непрошеных гостей!
Но, стоя наверху, прислушайся к тому, что творится внизу,
И ты услышишь жуткий лязг железных цепей
И громыхание медных котлов:
Это неустанно колобродит множество духов,
Дабы привести тебя в смятение;
И часто, когда они заняты подневольным непосильным трудом,
Леденящие душу стоны и страдальческие возгласы,
Громкие удары и звон доносятся из подземелья,
Приводя в неописуемый ужас того, кто их слышит.
Говорят, что причиной тому является следующее.
Незадолго до смерти Мерлин задумал
Окружить Кэйр Мердин медной стеной
И поручил духам воплотить эту идею в жизнь.
Когда работа закипела, Владычица озера,
Его давняя любовь, спешно послала за ним;
И тогда он велел своим работникам
Трудиться до его возвращения не покладая рук.
В пути он подвергся неожиданному нападению
Свиты сей вероломной госпожи и, убитый и похороненный,
Никогда больше не вернулся в пещеру.
Тем не менее демоны не могут бросить работу —
Настолько они боятся ослушаться его приказа;
И они трудятся и носятся взад-вперед денно и нощно,
И будут это делать, покуда не закончат стену». — Прим. пер.
246 «Между седьмым, восьмым и девятым
В Англии произойдут удивительные вещи;
А между девятым и тринадцатым
Ее ждут всевозможные невзгоды». — Прим. пер.
247 «Из-за наших денег и наших людей
Начнется ужасная война.
Между молотом и наковальней
Вся Англия проявит мужество». — Прим. пер.
248 Не соответствующее посылкам, нелогичное (лат.). — Прим. пер.
249 «И люди все еще пытаются предугадать, что им уготовано судьбой; обращаются к колдунам, чтобы узнать, что произойдет, а что — нет» («Гудибрас», часть III, песнь 3 — незаконченная сатирическая поэма английского писателя Сэмюэла Батлера (1612–1680), высмеивающая ханжество буржуа-пуритан периода Английской революции XVII в.). — Прим. пер.
250 «Торговали секретами богини судьбы и мудрыми советами луны; к коим повсюду обращались самые разные люди, отягощенные нешуточными проблемами — пропажами медных и оловянных чайников и исчезновением белья». — Прим. пер.
251 1625–1660 гг. — Прим. пер.
252 Индепенденты (англ. independents, буквально — независимые) — приверженцы церковно-религиозного течения в протестантизме в Англии и ряде других стран (то же, что конгрегационалисты), оформившиеся в конце XVI в. как левое крыло пуритан. В период Английской буржуазной революции XVII в. политическая партия. Главное отличие от пресвитериан (правого крыла пуритан) — полная автономность церковных общин. — Прим. пер.
253 Имеется в виду режим единоличной военной диктатуры, установленный в 1653 г. руководителем индепендентов Оливером Кромвелем и просуществовавший до отказа от власти в 1659 г. его сына и преемника Ричарда. — Прим. пер.
254 Джон Монк (1608–1669) — английский генерал, фамилия которого переводится на русский язык как «монах». Сначала воевал на стороне Карла I, затем перешел на сторону парламента. После смерти Оливера Кромвеля примкнул к роялистам и в 1660 г. провозгласил Карла II королем. — Прим. пер.
255 Карл II по-английски пишется Charles II. — Прим. пер.
256 Здесь — циклы из ста четверостиший. — Прим. пер.
257 Представляется необходимым добавить, что Мишель де Нотр-Дам (Нострадамус) имел медицинское образование. — Прим. пер.
258 Давайте попробуем. Предсказание 66 из второй «центурии» гласит:
«From great dangers the captive is escaped.
A little time, great fortune changed.
In the palace the people are caught.
By good augury the city is besieged».
(«Пленник избежал великих опасностей. Вскоре удача ему изменила. Свита схвачена во дворце. Согласно доброму предзнаменованию, город осажден».)
«Что же это, — мог бы воскликнуть какой-нибудь толкователь пророчеств Нострадамуса, убежденный в их правдивости, — если не побег Наполеона с острова Эльба, изменившая ему удача и оккупация Парижа союзническими войсками?»
Продолжим. В предсказании 98 из третьей «центурии» он пишет:
«Two royal brothers will make fierce war on each other;
So mortal shall be the strife between them,
That each one shall occupy a fort against the other;
For their reign and life shall be the quarrel».
(«Двое братьев из королевской семьи пойдут друг на друга войной. Их противостояние будет настолько яростным, что они захватят друг у друга по форту. Они будут сражаться за власть не на жизнь, а на смерть».)
Какой-нибудь Лиллий Редивив истолковал бы это предсказание без труда. Здесь все, как говорится, ясно как день. Разве астролог имел в виду не дона Мигеля и дона Педро, когда писал это четверостишие, гораздо более понятное и однозначное, нежели остальные? (Дон Мигель) (Мигел), узурпатор португальского престола, был в 1833 г. свергнут сторонниками конституционной монархии во главе со своим братом доном Педро (Педру), бывшим регентом и императором Бразилии, который вернул португальскую корону своей дочери Марии де Глории). — Прим. пер.
259 «Hermippus Redivivus», с. 142. — Прим. авт.
260 «Les Anecdotes de Florence, ou l’Histoire secrète de la Maison di Medicis», с. 318. — Прим. авт. («Флорентийские рассказы, или Тайная история семейства Медичи» (фр.). — Прим. пер.)
261 «Долго, твердо, счастливо» (лат.). — Прим. пер.
262 «Эфемериды» — астрономические таблицы, указывающие положение небесных тел на определенные дни месяца и года. — Прим. пер.
263 См. Первую книгу Царств, гл. XXVIII. — Прим. пер.
264 Так называемые гаруспиции. — Прим. пер.
265 Тхуги (тхаги; тоги) — религиозная секта разбойников-душителей, существовавшая в северной Индии до 1837 г. — Прим. пер.
266 Весьма удивительно, но и в Англии, и во Франции книги для толкования снов и тому подобная галиматья пользуются большим спросом. В Англии исключительно популярны две такие книги, выдержавшие за много лет более пятидесяти изданий в одном только Лондоне, не считая переизданий в Манчестере, Эдинбурге, Глазго и Дублине. Одна из них называется «Написанная матушкой Бриджет книга для толкования снов и предсказания судьбы», другая — «Норвудская цыганка». Один интересующийся такими вещами человек утверждает, что спрос на сии труды, продаваемые по цене от одного до шести пенсов и покупаемые преимущественно служанками и малообразованными людьми, в среднем составляет свыше одиннадцати тысяч экземпляров ежегодно и что за последние тридцать лет эта цифра не уменьшалась ни разу. Таким образом, выходит, что за означенный период было продано свыше 330 000 экземпляров этих книг. — Прим. авт.
267 «Никогда больше не наденет она венок; вместо него она будет носить веточку печального кипариса и веточку горькой бузины». — Прим. пер.
268 Крестьянка, пейзанка (фр.). — Прим. пер.
269 «Спектейтор», № 7, 8 марта 1710–1711 гг. — Прим. авт.
270 Струйки воска на оплывшей свече как предзнаменование смерти. — Прим. пер.
271 Пьер-Жан Беранже (1780–1857) — французский поэт, поднявший фольклорный куплет на высоту профессионального искусства. — Прим. пер.
272 0,57 л. — Прим. пер.
273 «Ах, как же хочу, хочу я узнать,
Кто должен моим возлюбленным стать!». — Прим. пер.
274 «Канун дня св. Марка, благоприятный для предсказаний, утоли все мои надежды и страхи: дай мне знать, будет ли моя судьба благостной иль горестной, буду ль я знатной иль простолюдинкой, останусь ли незамужней иль найду жениха — расскажи, что написано мне на роду». — Прим. пер.
275 «Если до наступления утра мне приснится чистая вода, то это значит, что меня ждет бедность, а богатство — не мой удел. Если мне приснится, что я пью пиво, то жить я буду средне: удачи будут чередоваться с невзгодами, а радость — с печалью. Но если мне приснится, что я пью вино, то мне уготованы одни лишь богатства и услады. Чем крепче напиток, тем веселее моя судьба; вещие сны, явитесь, явитесь!» — Прим. пер.
276 «Магнетизер» — устаревший синоним слова «гипнотизер». Употребление его и однокоренных слов («магнетизм» вместо «гипнотизм», «магнетизировать» вместо «гипнотизировать» и т.п.) в данной главе обусловлено тем, что всевозможные врачеватели, о которых она повествует, в большинстве своем объясняли эффективность своих методов не внушением (гипнозом), а якобы целебным воздействием магнитов (веществ, обладающих магнитными свойствами) или умелым использованием «универсального магнетического флюида». Там, где слово «магнетизм» обозначает не иллюзорную медицинскую доктрину или ее предмет, а просто совокупность физических явлений, это ясно из контекста. — Прим. пер.
277 «Одни их мудрецами полагали,
Другие же безумцами считали» (Битти «Менестрель»). — Прим. пер.
278 Этот эпизод описан в рассказе Ван дер Мая об осаде Бреды. Гарнизон поразила цинга, и принц Оранский послал врачам два или три маленьких пузырька с отваром ромашки, полыни и камфары, велев им сказать солдатам, что в них находится исключительно дорогое и редкое лекарство, доставленное с Востока ценой величайших усилий и риска и являющееся настолько сильнодействующим, что для получения необходимой для излечения гарнизона концентрации достаточно двух-трех капель на галлон (4,54 л. — Прим. пер.) воды. После этого они приходили к принцу группами по двадцать–тридцать человек, дабы восславить его ученость и выразить ему благодарность. — Прим. авт.
279 Существовало несколько видов мумов (целебных смол), и все они широко применялись в магнетических лекарствах. Парацельс насчитывает шесть видов мумов. Первыми четырьмя, отличавшимися друг от друга составом и применявшимися различными народами для мумификации трупов, были египетский, аравийкий, писидийский и ливийский. [Эти мумы получали из мумий (как настоящих, так и фальсифицированных), торговля которыми зародилась в Европе в эпоху крестовых походов. — Прим. пер.] Пятый, обладавший специфическим действием мум изготавливался из тел висельников, «потому как исходит от него легкое осушение, устраняющее водянистую влагу, не уничтожая маслянистую духовную субстанцию, лелеемую небесными светилами и непрестанно усиливаемую духами-небожителями, на основании чего он по праву может называться звездным иль небесным мумом». Мум шестого вида получали из частиц, или духовных эманаций, излучаемых живым человеком; однако непонятно, каким образом они улавливались. — Фернандо Паркхёрст, «Medicina Diatastica, или Симпатический мум как резюме трудов Парацельса, переведенных с латыни», Лондон, 1653 г., с. 2, 7. Приведено в «Зарубежном квартальном обозрении», том XII, с. 415. — Прим. авт.
280 Драхма — здесь: единица массы вышедшего из употребления аптекарского веса; в системе английских мер аптекарская драхма = 1/8 унции (3,89 г). — Прим. пер.
281 Заговор с целью взорвать короля Иакова I и парламент 5 ноября 1605 г. — Прим. пер.
282 Реджинальд Скотт, процитированный сэром Вальтером Скоттом в пояснительных примечаниях к поэме «Песнь последнего менестреля», песнь III, стих XXIII. — Прим. авт.
283 Рассказ Грейтрекса о себе в письме к достопочтенному Роберту Бойлю. — Прим. авт.
284 Титул французских королей. — Прим. пер.
285 Барон Дюпоте де Сенневуа «Введение в животный магнетизм», с. 315. — Прим. авт.
286 «Введение в животный магнетизм», с. 318. — Прим. авт.
287 Янсенизм — религиозно-философское течение в католицизме, начало которому положил голландский богослов Янсений (XVII в.). Осужден папством. — Прим. пер.
288 «Dictionnaire des Sciences Médicales» — Article «Convulsionnaires», par Montégre [«Энциклопедия медицинских наук», статья «Конвульсионеры», автор — Монтегр (фр.). — Прим. пер.]. — Прим. авт.
289 В 1282–1918 гг. Австрией правила германская императорская династия Габсбургов. — Прим. пер.
290 Тем самым ограждая пациента от естественных воздействий флюида и вызывая кризисный перелом в течении болезни, предшествующий выздоровлению. — Прим. пер.
291 Лейденская банка — старинный прибор, предшественник современных электрических конденсаторов. — Прим. пер.
292 Один полный энтузиазма философ, имя которого не сообщается, создал некую весьма стройную теорию, которой немало гордился. «Но факты, мой дорогой, — сказал его друг, — факты не согласуются с вашей теорией». «Разве? — ответил, пожимая плечами, философ. — Tant pis pour le faits!» («Тем хуже для фактов!»). — Прим. авт.
293 Эолова арфа — названный по имени Эола, древнегреческого бога ветров, древний (известен с X в.) музыкальный инструмент, струны которого приводятся в колебание движением воздуха. — Прим. пер.
294 Бак (фр.). — Прим. пер.
295 Бенджамин Франклин (1706–1790) — американский просветитель, государственный деятель и ученый; во Франции был уполномоченным посланником 13 Соединенных Штатов Северной Америки. — Прим. пер.
296 Антуан Лоран Лавуазье (1743–1794) — французский химик, один из основоположников современной химии; в 1768–1791 гг. генеральный откупщик. Казнен. — Прим. пер.
297 Жан Сильвен Байи (1736–1793) — французский писатель и астроном; после падения Бастилии в 1789 г. мэр Парижа. Казнен. — Прим. пер.
298 «Rapport des Commissaires», rédigé par M. Bailly. Paris, 1784 [«Отчет членов комиссии», составленный месье Байи, Париж, 1784 г. (фр.). — Прим. пер.]. — Прим. авт.
299 Двести тысяч франков (1 луидор равнялся двадцати франкам). — Прим. пер.
300 Сомнамбулизм (лунатизм, снохождение) — расстройство сознания, при котором спящий автоматически встает с постели, ходит и совершает другие привычные действия. — Прим. пер.
301 Местное марочное вино (фр.). — Прим. пер.
302 Так Пюизегюр называл состояние гипнотического сна (согласно другим источникам, «спасительный сон»). — Прим. пер.
303 Барон Дюпоте «Введение в животный магнетизм», с. 73. — Прим. авт.
304 См. «Зарубежное обозрение и континентальный альманах», том V, с. 113. — Прим. авт.
305 Титулование высшей знати, членов Тайного совета и т.п. — Прим. пер.
306 Хорас Уолпол (1717–1797) — английский писатель, основоположник готического романа. — Прим. пер.
307 В англоязычном варианте приведенного стиха местоимению «кто» (в значении «кто-нибудь») соответствует существительное с неопределенным артиклем «a man», которое, помимо нейтрального русскоязычного эквивалента «(какой-нибудь) человек», допускает и такой вариант перевода, как «(какой-нибудь) мужчина». — Прим. пер.
308 Общество друзей, или квакеры (от англ. quakers, буквально — трясущиеся) — английская религиозная секта, основанная в середине XVII в. Отвергают институт священников, церковные таинства, проповедуют пацифизм, занимаются благотворительностью. — Прим. пер.
309 «Критическая история животного магнетизма» (фр.). — Прим. пер.
310 См. весьма понятную и беспристрастную статью на эту тему в пятом томе (1830) «Зарубежного обозрения» (с. 96 и все последующие). — Прим. авт.
311 Здесь: в связь, в контакт (фр.). — Прим. пер.
312 «Хроника животного магнетизма» (фр.). — Прим. пер.
313 «Библиотека животного магнетизма» (фр.). — Прим. пер.
314 «Histoire Critique du Magnйtisme Animal», с. 60. — Прим. авт.
315 Псалмопевец — Давид, царь Израильско-Иудейского государства в конце XI в. — ок. 950 г. до н.э., один из авторов библейских псалмов. — Прим. пер.
316 Уваженья и чести достойны всегда
И сам бородач, и его борода («Гудибрас»). — Прим. пер.
317 Св. Григорий Турский (538–594) — франкский историк. — Прим. пер.
318 Сервы (от лат. servus — раб) — в средневековой Западной Европе категория феодально зависимого крестьянства, находившаяся в наиболее приниженном социальном положении. — Прим. пер.
319 Тэны — служилая знать в Англии раннего Cредневековья, дружинники короля. — Прим. пер.
320 Франклины — свободные землевладельцы недворянского происхождения. — Прим. пер.
321 Декреталии — постановления римских пап в форме посланий. — Прим. пер.
322 Ансельм Кентерберийский (1033–1109) — теолог, философ и церковный деятель; вел борьбу за независимость церкви против королей Англии. — Прим. пер.
323 Дискредитацией высокопоставленного лица (лат.). — Прим. пер.
324 В библейской мифологии филистимлянка Далила, возлюбленная иудейского богатыря Самсона, воспользовавшись тем, что он заснул, остригла его длинные волосы, в которых таилась его необычайная сила, и позвала филистимлянских воинов, которые ослепили его и заковали в цепи. — Прим. пер.
325 После нормандского завоевания Англии в 1066 г. Нормандия около 140 лет была владением английских королей. — Прим. пер.
326 «Малодушные длинные бороды, дурацкие разноцветные капюшоны, невзрачные серые одеяния представляют Англию в невыгодном свете» (староангл.). — Прим. пер.
327 Беарнец — прозвище Генриха IV. — Прим. пер.
328 «Круглоголовые» (англ. Roundheads) и «кавалеры» (англ. Cavaliers) — презрительные клички, которыми во время Английской буржуазной революции XVII в. называли друг друга, соответственно, роялисты (по характерной форме стрижки) и сторонники парламента. — Прим. пер.
329 Июльская буржуазная революция 1830 г. во Франции послужила непосредственным толчком к бельгийской буржуазной революции 1830 г., начавшейся 25 августа и приведшей к отделению провинции Бельгия от Нидерландского королевства и образованию самостоятельного Бельгийского государства. — Прим. пер.
330 Услышали они и, устыдясь,
Воспрянули и крыльями взмахнули…
Как в дни великих казней для Египта
Амрамов сын, поколебав над Нилом
Могучий жезл свой, тучи саранчи
Призвал, несомой ветром от востока,
И черною она повисла ночью
Над нечестивым царством фараона
И мраком весь покрыла Нильский дол, —
Так ангелы бесчисленные злые
Под сводом ада реют и витают…
И в этот же момент сквозь адский мрак
Взвилось знамен блестящих десять тысяч,
Переливавших яркими цветами,
И вслед за ними вырос копий лес,
И шлемов тьмы несметные явились,
И стройно щит теснился ко щиту
В неизмеримом множестве.
(«Потерянный рай», перевод Н. Холодковского)
331 К сожалению, многие «исторические факты», на которые автор «опирается» в данной главе, либо просто ошибочны по недосмотру автора, либо являются легендами, в изобилии встречающимися в сочинениях хронистов крестовых походов (многие из которых не участвовали в описываемых ими событиях), или тенденциозными и зачастую наивными умопостроениями историков более позднего периода. Не претендуя вследствие этого на абсолютную истину, переводчик тем не менее счел в ряде случаев необходимым донести до читателя более современные представления о крестовых походах и указать на основные неточности в соответствующих примечаниях. — Прим. пер.
332 Говоря в данной главе о «европейцах», «Европе», «христианском мире» («христианских странах»), Маккей имеет в виду главным образом население и территорию Западной Европы, во всех странах которой в эпоху крестовых походов на Восток (1096–1270) господствовал католицизм. — Прим. пер.
333 Петр Амьенский, или Пустынник (ок. 1050–1115), — аскет, вдохновивший западных христиан на Первый крестовый поход и сам принявший в нем участие. — Прим. пер.
334 Имеется в виду иудейская святыня, знаменитый иерусалимский Храм Бога Яхве, построенный при царе Соломоне в 988 г. до н.э. на холме Мориа. — Прим. пер.
335 Гора маслин (Елеонская гора) в Иерусалиме — священное место для иудеев и христиан. — Прим. пер.
336 Древо истинного (животворящего) креста — кусок креста, на котором, согласно преданию, был распят Иисус Христос, христианская реликвия. — Прим. пер.
337 Византин (византина) — греческая золотая монета номисма, стоимость которой в западных денежных единицах (денариях) равнялась 15 к 1. — Прим. пер.
338 Сарацины — название арабов и некоторых народов Ближнего Востока, принятое в средневековой Европе. — Прим. пер.
339 Гроб Господень — гробница Иисуса Христа в Иерусалиме. — Прим. пер.
340 Роберт Гвискар, умерший в 1085 г., не мог охранять Урбана II, вступившего на святейший престол в 1088 г. — Прим. пер.
341 Сион — холм в Иерусалиме, где, согласно Библии, находились резиденция царя Давида и храм Яхве. — Прим. пер.
342 Гвиберт Ножанский (1053–1124) (французский аббат, писатель и историк. — Прим. пер.). — Прим. авт.
343 Так в Средние века христиане называли всех иноверцев. — Прим. пер.
344 Евангелие от Матфея, гл. X, ст. 37 и гл. XIX, ст. 29. — Прим. пер.
345 «Так хочет Бог! Так хочет Бог!» (старофр.). — Прим. пер.
346 Евангелие от Матфея, гл. XVIII, ст. 20. — Прим. пер.
347 Евангелие от Матфея, гл. X, ст. 38. — Прим. пер.
348 Неясно, кого из трех передающих речь Урбана хронистов Первого крестового похода цитирует автор (известный российский историк Ф. И. Успенский в книге «История Византийской империи. Восточный вопрос» пишет, что они «сами присутствовали на Соборе и были свидетелями всего происходившего, но содержание речи у всех передано по памяти, со значительными личными вставками и такими отличиями в изложении, которые способны внушить мысль, что все они передают не одну мысль, а разные»), но это, очевидно, не Роберт Реймсский, поскольку, например, последнее предложение приведенной Маккеем цитаты («Let whoever is inclined to devote himself to his holy cause make it a solemn engagement, and bear the cross of the Lord either on his breast or his brow till he set out; and let him who is ready to begin his march place the holy emblem on his shoulders…») в изложении этого хрониста, согласно труду М. А. Заборова «История крестовых походов в документах и материалах» и книге «История крестовых походов», подготовленной к изданию Оксфордским университетом, выглядит так: «И тот, кто возымеет в душе намерение двинуться в это святое паломничество, и даст обет Богу, и принесет Ему себя в живую, святую и весьма угодную жертву, пусть носит изображение креста Господня на челе или на груди; тот же, кто пожелает, дав обет, вернуться [снять обет], пусть поместит это изображение на спине промеж лопаток…». — Прим. пер.
349 То есть давал соответствующий обет и тем или иным образом метил себя красным крестом. — Прим. пер.
350 Гвиберт Ножанский. — Прим. авт.
351 Гвиберт Ножанский. — Прим. авт.
352 Этот закон был утвержден на Третьем Латеранском соборе в Риме в 1179 г. — Прим. пер.
353 Город на границе тогдашних Венгрии и Византии. — Прим. пер.
354 Ксеригорд (Ксеригордон) — древний город, точное местонахождение которого неизвестно. По сведениям анонимного автора «Деяний франков и прочих иерусалимцев», он находился в четырех днях пути от Никеи. — Прим. пер.
355 Он же Кылыч-Арслан I. — Прим. пер.
356 Цивитот (Кеветот, Кивот) — местечко на южном берегу Никомидийского залива, недалеко от современного Херсека, примерно в 35 км к северо-западу от Никеи. — Прим. пер.
357 Альберт Аахенский — лотарингский каноник, автор написанной между 1120 и 1153 гг. «Иерусалимской истории». — Прим. пер.
358 Который и принято считать Первым крестовым походом. — Прим. пер.
359 Фульхерий (Фуше) Шартрский (ок. 1059–1127) — французский клирик, хронист Первого крестового похода. — Прим. пер.
360 Вифиния — историческая область на северо-западе Малой Азии. — Прим. пер.
361 По данным, приведенным в книге М. А. Заборова «Крестовые походы», в Первом крестовом походе участвовало до 100 тысяч человек, из которых феодалов было не больше половины. — Прим. пер.
362 Современный Дуррес. — Прим. пер.
363 Современный Пловдив. — Прим. пер.
364 Современный Эдирне. — Прим. пер.
365 Вилькен «Geschichte der Kreuzzüge» («История крестовых походов» (нем.). — Прим. пер.). — Прим. авт.
366 То есть приверженцев римско-католической (Западной) церкви. — Прим. пер.
367 Вилькен. — Прим. авт.
368 От него удалось добиться только обещания не предпринимать действий, угрожающих жизни и чести императора. — Прим. пер.
369 Племянник Боэмунда Тарентского. — Прим. пер.
370 Папский легат (дипломатический представитель) в крестоносном войске. — Прим. пер.
371 Брат Готфрида Бульонского. — Прим. пер.
372 Иконийский (Конийский, Румский) султанат — государство сельджуков в Малой Азии в конце XI — начале XIV в. со столицей в г. Иконий (современный Конья). — Прим. пер.
373 Торквато Тассо (1544–1595) — итальянский поэт эпохи Возрождения, автор упоминаемой Маккеем героической поэмы «Освобожденный Иерусалим». — Прим. пер.
374 Альберт из Экса (ок. 1130) — французский историк. — Прим. пер.
375 «Господи, помоги! Господи, помоги!» (лат.). — Прим. пер.
376 Они намеревались подвергнуть город разграблению. — Прим. пер.
377 Фульхерий Шартрский, Гвиберт Ножанский, Виталь. — Прим. авт.
378 Вильгельм Тирский [Вильгельм (Гийом) Тирский (1130–1193) — архиепископ, французский историк. — Прим. пер.], Миллс, Вилькен и др. — Прим. авт.
379 Киликия — древняя область в Малой Азии (на юге совр. Центральной Турции), на территории которой в 1080–1375 гг. существовало Киликийское армянское государство. — Прим. пер.
380 Антиохия — древний город в Сирии. — Прим. пер.
381 Современный Аси-Оронт (впадает в Средиземное море). — Прим. пер.
382 Раймунд Ажильский — провансальский священник, духовник графа Раймунда IV Тулузского, хронист Первого крестового похода. — Прим. пер.
383 Внезапного нападения (фр.). — Прим. пер.
384 Современная Урфа. — Прим. пер.
385 Современный Искендерун. — Прим. пер.
386 Если Маккей имеет в виду Кылыч-Арслана, то он, вероятно, ошибается: по мнению Ф. И. Успенского, автора «Истории Византийской империи», после разгрома при Дорилее иконийский султан уже не мог серьезно угрожать крестоносцам. Если же речь идет о формировании армии Кербоги (о чем читатель узнает далее), то этот сельджукский атабег (эмир) Мосула не имел над собой никакого султана и набирал войско самостоятельно. — Прим. пер.
387 См. прим. 386. — Прим. пер.
388 См. у Вильгельма Тирского. — Прим. авт.
389 Вертикальный выступ стены, укрепляющий ее, придающий ей устойчивость. — Прим. пер.
390 Имеется в виду крепость, находившаяся в стенах Антиохии. — Прим. пер.
391 Никакой «персидский султан», который мог бы «дать наказ» самовластному Кербоге, в отечественных источниках (во всяком случае в трудах таких признанных специалистов по истории крестовых походов, как Ф.И. Успенский и М. А. Заборов) не упоминается. Баги-Сиан обращался за помощью к другим сельджукским правителям — эмирам Дамаска и Алеппо, но присланные ими войска были разбиты крестоносцами еще до взятия Антиохии. — Прим. пер.
392 Об этом у тех же авторов также ничего не говорится. — Прим. пер.
393 См. прим. 391. — Прим. пер.
394 Ордалии («Божий суд») — широко применявшееся в Средние века определение (согласно тогдашним представлениям) судебной истины путем испытания физическим страданием (огнем, водой, раскаленным железом и т.п.). — Прим. пер.
395 Эммаус (Еммаус) — деревня в 13 км от Иерусалима, в которой, согласно Библии, Иисус в день Своего Воскресения явился двум Своим последователям, шедшим в Эммаус. — Прим. пер.
396 Вифлеем (др.-евр. Бетлехем, совр. Бейт-Лахм) — город в Палестине, к югу от Иерусалима, в котором, согласно Библии, родились царь Давид и Иисус Христос. — Прим. пер.
397 Гвиберт Ножанский приводит любопытный пример подражательности этих юных крестоносцев. Он пишет, что во время осады Антиохии большие группы мальчиков — детей христиан и сарацин — каждый вечер выходили из города и разбивали каждая свой лагерь, предводительствуемые собственными вождями. Вооруженные палками вместо мечей и камнями вместо стрел, они выстраивались в боевые порядки и, оглашая окрестности боевыми кличами взрослых, вступали друг с другом в крайне ожесточенные схватки. Многие из них от полученных ран остались калеками на всю жизнь (некоторые, в частности, лишились глаз). — Прим. авт.
398 Согласно другим источникам, «черепаха». — Прим. пер.
399 Согласно книге М. А. Заборова «Крестовые походы», в «отголоске прежнего энтузиазма» участвовало около 200 тысяч человек, почти все из которых погибли в Малой Азии летом 1101 г. — Прим. пер.
400 Приняв, однако, титул не иерусалимского короля, а «защитника Гроба Господня». — Прим. пер.
401 Современный Ашкелон. — Прим. пер.
402 Ставший иерусалимским королем Балдуином I. — Прим. пер.
403 В царствование Балдуина I (1100–1118) к Иерусалимскому королевству, первоначально состоявшему лишь из столицы, Яффы (часть совр. Тель-Авива) и Вифлеема с округами, были присоединены Хайфа, Кесария (Цезарея), Акра, Триполи, Сидон (совр. Сайда) и Бейрут. Монарх Иерусалимского королевства был номинальным сюзереном правителей всех остальных государств крестоносцев на Ближнем Востоке — графств Эдесса и Триполи и княжества Антиохия. — Прим. пер.
404 Франсуа Пьер Гийом Гизо (1787–1874) — французский государственный деятель и историк. — Прим. пер.
405 Коммуна — средневековый западноевропейский город, добившийся от феодалов прав самоуправления. — Прим. пер.
406 Труверы (фр. trouvere, от trouver — находить, придумывать) — французские придворные поэты-певцы XII–XIII вв., часто авторы слов и музыки. Также писали повести, куртуазные (рыцарские) романы и лирические стихи. Их исскуство, близкое народу, отражало влияние трубадуров, но было более рассудочным. — Прим. пер.
407 Трубадуры (фр. troubadour, от прованс. trobador, от trobar — находить, слагать стихи) — провансальские поэты-певцы XI–XIII вв., воспевавшие куртуазную любовь и радости жизни. — Прим. пер.
408 Бернард (Бернар) Клервоский (1091–1153) — французский теолог-мистик, глава монашеского ордена цистерцианцев, с 1115 г. настоятель монастыря в Клерво. Влиял на церковно-политическую жизнь Западной Европы, был вдохновителем Второго крестового похода. В 1173 г. был канонизирован. — Прим. пер.
409 Разграбление Витри покрыло Людовика VII несмываемым позором. Король Франции, предшественники которого на протяжении многих лет боролись с усилением папства, не являлся в этом смысле исключением. Когда кафедральный капитул [в католической и англиканской церквах совет из духовных лиц при епископе, участвующий в управлении диоцезом (епархией). — Прим. пер.] Буржа избрал архиепископа без согласия короля, последний объявил выборы недействительными и прибегнул к быстрым и жестким мерам в отношении непокорного духовенства. Чтобы защитить папскую власть, Тибо, граф Шампаньский, поднял вооруженное восстание и закрепился в городе Витри. Вознамерившись покарать мятежников, Людовик немедленно начал военные действия и подверг город столь энергичной осаде, что граф был вынужден сдаться. Свыше тысячи трехсот горожан, добрую половину которых составляли женщины и дети, укрылись в церкви. После того как бунтовщики прекратили всякое сопротивление и открыли ворота, Людовик отдал бесчеловечный приказ о поджоге священного здания, и множество людей погибло в огне. — Прим. авт
410 По более современным данным, не более семидесяти тысяч. — Прим. пер.
411 Последняя сделала это по настоянию мужа, знавшего о ее чрезмерной любвеобильности. Упоминаемый в предыдущей главе бракоразводный процесс был затеян Людовиком VII по возвращении из крестового похода. Прелюбодеяние королевы, ставшее тому причиной, было совершено ею на Востоке с собственным дядей Раймундом, князем Антиохийским. — Прим. пер.
412 Филипп, архидиакон Льежского кафедрального собора, написал подробный отчет обо всех чудесах, сотворенных св. Бернардом за тридцать четыре дня путешествия по Франции и Германии. В среднем их количество составляло около десяти в день. Ученики св. Бернарда с горечью сетовали, что вокруг их учителя толпится так много людей, что они не видят и половины совершаемых им чудес. Но они с готовностью доверяли свидетельствам очевидцев в той степени, в какой они вообще верили в чудеса, и, казалось, состязались друг с другом в легковерии. — Прим. авт.
413 Разве что вместе с приставшими в пути добровольцами из числа крестьян и горожан: немецкое рыцарское ополчение, как и французское, насчитывало не более 70 тысяч человек. — Прим. пер.
414 Манерой держаться в седле. — Прим. пер.
415 Более объективной и правдоподобной представляется точка зрения Ф. И. Успенского, согласно которой эти взаимные обвинения имели место потому, что многие крестоносцы, не признававшие над собой власти германского короля, отделялись от войска, грабили и всячески притесняли население Византии, дискредитируя таким образом всю армию Конрада, которая из-за этого не получала от греков продовольствие и фураж в заранее оговоренные сроки. — Прим. пер.
416 Иногда перераставшие в открытые столкновения. — Прим. пер.
417 Маккей скорее всего ошибается: Успенский пишет, что еще до того, как немцы подошли к Константинополю, Мануил, желая предотвратить дальнейшие их стычки с населением и смуты в столице, советовал Конраду переправиться в Азию через Геллеспонт (совр. Дарданеллы) из порта Галлиполи (совр. Гелиболу), но тот пробился к Константинополю, стал лагерем у его стен и после описываемых автором событий переправился, естественно, через Босфор. — Прим. пер.
418 Оттон Фрейзингенский (ок. 1111–1158) — немецкий историк, епископ Фрейзингенского монастыря в Баварии (с 1138 г.). — Прим. пер.
419 Каппадокия (Центральная Анатолия) — историческая область в центре Малой Азии. — Прим. пер.
420 Согласно книге В. О. Шпаковского «Рыцари Средневековья», кольчужный доспех рыцарей, применявшийся в большинстве крестовых походов на Восток (доспехи из ткани или кожи на подбое из металлических пластин, на смену которым позднее пришли металлические латы, появились только во второй половине XIII в.), состоял из собственно кольчуги с рукавами, перчатками и капюшоном, кольчужных чулков и шлема. Сам доспех весил сравнительно немного, но в сочетании с относительно громоздким и тяжелым вооружением, а также кольчужными попонами лошадей, по-видимому, в какой-то степени снижал темп передвижения и маневренность рыцарей в бою по сравнению с легковооруженной кавалерией мусульман (аналога которой в западноевропейских рыцарских армиях не существовало из-за отсутствия социальной базы для такого рода войск), делая их при этом более уязвимыми. — Прим. пер.
421 Эфес — древний город на западном побережье Малой Азии, между современными Сельчуком и Кушадасы. — Прим. пер.
422 Современный Большой Мендерес. — Прим. пер.
423 Согласно данным, приводимым В. О. Шпаковским, еще в XI в. чисто кольчужная броня нормандских наемников (так называемая «кельтская броня»), находившихся на службе у византийских императоров, обеспечивала «хорошую защиту от стрел». Надо полагать, что кольчуги, к концу XI в. полностью вытеснившие кольчато-кожаные доспехи, в середине XII в. были в этом отношении еще более непроницаемыми в силу большего технологического и конструктивного совершенства. Кроме того, многое зависело от дальнобойности луков, угла падения стрел и выучки лучников. Что касается пехоты Людовика VII во Втором крестовом походе, то у крестьянской и городской бедноты, из которой она состояла, кольчуг в то время скорее всего просто не было. — Прим. пер.
424 Современная Анталья. — Прим. пер.
425 Менестрели (фр. menestrel) — в XII–XIII вв. профессиональные певцы и музыканты во Франции и в Англии. Находились главным образом на службе сеньора, в куртуазной лирике воспевали рыцарские подвиги и служение даме. — Прим. пер.
426 Миннезингеры (нем. Minnesinger — певец любви) — немецкие рыцарские поэты-певцы, исскуство которых возникло в XII в. под влиянием провансальских трубадуров. — Прим. пер.
427 В 1171 г. полководец-курд Юсуф Салах-ад-дин (Саладин) захватил верховную власть в Египте, став первым султаном из династии Айюбидов, а через несколько лет присоединил к Египту часть Сирии и Месопотамии. — Прим. пер.
428 Госпитальеры, или иоанниты — члены духовно-рыцарского ордена (Орден всадников госпиталя св. Иоанна Иерусалимского), основанного в Иерусалиме крестоносцами в 1113 г. Первоначальная резиденция — госпиталь (странноприимный дом для паломников) св. Иоанна. В конце XIII в. ушли с Востока (в 1530–1798 гг. — на о. Мальта (Мальтийский орден); с 1834 г. резиденция — в Риме). — Прим. пер.
429 Тамплиеры, или храмовники (от фр. temple — храм) — члены духовно-рыцарского ордена («Тайное рыцарство Христово и Храма Соломона»), основанного в Иерусалиме крестоносцами в 1128 г. и имевшего резиденцию вблизи легендарного Храма царя Соломона. Распространились во многих европейских странах; занимались торговлей, ростовщичеством. В конце XIII в. обосновались в основном во Франции, где под давлением короля Филиппа IV Красивого против них был начат инквизиционный процесс, завершившийся ликвидацией ордена (упразднен папой в 1312 г.) и конфискацией его богатств в пользу короля. — Прим. пер.
430 Современная Тиверия. — Прим. пер.
431 Маккей ошибается: после захвата всех приморских городов к югу от Триполи, кроме Тира, и взятия Иерусалима Саладин занял большую часть графства Триполи и Антиохийского княжества, но их столицы — Триполи и Антиохия — остались в руках крестоносцев. — Прим. пер.
432 Жак де Витри, Гийом де Нанжи. — Прим. авт.
433 Герцог Фридрих Швабский возглавил не все войско: часть немцев после смерти императора отказалась от продолжения похода и морем вернулась в Европу. — Прим. пер.
434 Он и не пытался ее взять по причине, указанной выше (см. прим. 431). Пройдя по Киликийской Армении, отряды герцога вошли в охраняемую христианским гарнизоном Антиохию, где летом 1190 г. многие крестоносцы умерли от чумы. Уцелевшие осенью подошли к Акре. — Прим. пер.
435 Королевская курия (лат. curia regis) — в Средние века собрание непосредственных вассалов и приближенных короля для обсуждения с ним вопросов государственной важности и рассмотрения его законодательных актов. — Прим. пер.
436 Стоу. — Прим. авт.
437 «Eléments de l’Histoire de France» («Основы истории Франции» (фр). — Прим. пер.). — Прим. авт.
438 Стратт «Спорт и игры». — Прим. авт.
439 Национальная эмблема Англии, а с 1707 г. — и Великобритании (Британкий лев). — Прим. пер.
440 Ф. И. Успенский пишет, что христиане соглашались освободить мусульманский гарнизон в обмен на возвращение Иерусалима и других завоеванных Саладином земель (а не только древа истинного креста, как утверждает Маккей), освобождение пленников, уплату военных издержек и предоставление 2000 знатных мусульман в качестве заложников в обеспечение выполнения остальных требований. — Прим. пер.
441 Правителем Тира, защитившим его в 1187 г. от нападения Саладина. — Прим. пер.
442 Азот — древний город в Палестине, к западу от Иерусалима. — Прим. пер.
443 Саладин попросту разрушил его, узнав о приближении к нему сил Ричарда. — Прим. пер.
444 Саладин, опередив крестоносцев, также сровнял этот город с землей. — Прим. пер.
445 Столицей Иерусалимского королевства стала Акра. — Прим. пер.
446 Ричарда Львиное Сердце на Востоке запомнили надолго. Упоминание его имени вызывало у мусульман такой ужас, что сирийские и палестинские матери пугали им детей поколения спустя. Слова «король Ричард идет» быстро успокаивали любого непослушного ребенка. Даже взрослым мужчинам, услышавшим его имя, становилось не по себе, и даже через сто лет после Третьего крестового похода обычной реакцией всадника-сарацина на шараханье испуганной лошади было восклицание: «Думаешь, здесь прячется король Ричард?!». — Прим. авт.
447 Данная экспедиция является «арьергардным» крестовым походом (1194–1200) и в трудах современных историков как Четвертый крестовый поход не фигурирует. То же самое относится к экспедиции, о которой читатель узнает далее и которую автор называет Восьмым крестовым походом. Согласно нынешней общепринятой классификации, всего крестовых походов на Восток было восемь, и те из них, которые Маккей называет Пятым, Шестым и Седьмым, следует, исходя из этого, считать Четвертым (1202–1204), Пятым (1217–1221) и Шестым (1228–1229), а два последних (у автора — Девятый и Десятый) — Седьмым (1248–1254) и Восьмым (1270). — Прим. пер.
448 Итальянский маркиз Бонифаций Монферратский, предводитель Четвертого крестового похода, принял крест только в августе 1201 г., после смерти графа Тибо в мае, а переговоры с венецианцами, о которых говорится далее, начались еще в феврале. Поэтому речь, очевидно, идет о графе Симоне де Монфоре — одном из крупнейших французских феодалов, давших крестоносный обет на рыцарском турнире в шампанском замке Экри (ноябрь 1199 г.). — Прим. пер.
449 Маккей ошибается: поход планировался против Египта (там же намечалась высадка), а вторжение в Палестину должно было состояться после его завоевания. — Прим. пер.
450 Современный Задар. — Прим. пер.
451 А также обеспечит ее продовольствием и даст обязательство всю жизнь содержать на Востоке отряд в 500 воинов. Кроме того, Венеции в секретном письме к дожу была обещана единовременная выплата в 10 тысяч марок и возмещение всех убытков, понесенных ее купцами за последние 30 лет. — Прим. пер.
452 «Насупленный» (греч.). — Прим. пер.
453 И потратив две недели на засыпку рвов для последующего подхода к стенам. — Прим. пер.
454 Из остатка по выполнении статьи договора, касавшейся раздела добычи. — Прим. пер.
455 Это не так. Венецианцы действительно хотели купить у крестоносцев всю добычу, но те сочли предложенную цену недостаточной. — Прим. пер.
456 Греческий историк Никита Хониат, свидетель разорения Константинополя, перечисляет некоторые из уничтоженных таким образом статуй: 1) громадная Юнона с форума Константина, одна голова которой была таких размеров, что ее везли на четырех парах волов; 2) Парис, протягивающий яблоко Венере; 3) огромная пирамида, увенчанная женской фигурой, поворачивавшейся по ветру; 4) гигантское изваяние Беллерофонта на Пегасе, в копыте задней левой ноги коня была найдена памятная статуэтка с надписью, завернутая в шерстяную ткань; 5) Геркулес работы Лисиппа, столь огромный, что окружность его большого пальца равнялась поясу человека; 6) осел и погонщик, воздвигнутые по приказу Августа после сражения при Акции в память о погонщике, который помог обнаружить расположение Антония; 7) волчица, вскармливающая Ромула и Рема; 8) гладиатор, сражающийся со львом; 9) гиппопотам; 10) крылатые сфинксы; 11) орел, борющийся со змеей; 12) прекрасное изваяние Елены; 13) чудовище, напоминающее быка, вовлеченное в смертельный поединок со змеем. — Прим. авт.
457 А также венецианский дож Энрико Дандоло. — Прим. пер.
458 См. у Якова из Ворагина и Альберика. — Прим. авт.
459 Что совершенно не вяжется с вышеизложенной версией о беспризорниках. — Прим. пер.
460 Энциклика — послание папы римского ко всем католикам по вопросам политики, религии, морали и т.п. — Прим. пер.
461 Современный Сплит. — Прим. пер.
462 В границах 1187 г. — Прим. пер.
463 Папский легат. — Прим. пер.
464 Матвей Парижский (Мэтью Парис) — английский хронист (ум. в 1259 г.). — Прим. пер.
465 Современный Бриндизи, порт на Адриатическом море. — Прим. пер.
466 По другим данным, договор был заключен сроком на 10 лет, за мусульманами сохранялся квартал Иерусалима, где находилась мечеть Омара, а Фридрих, лишенный поддержки госпитальеров и тамплиеров, гарантировал султану поддержку против всех его врагов, в числе которых подразумевались правители Антиохии и Триполи, а также духовно-рыцаркие ордена. — Прим. пер.
467 Все вышесказанное об этой «арьергардной» экспедиции настолько не соответствует тому, что пишет о ней М. А. Заборов в книге «Крестовые походы», что имеет смысл привести здесь отрывок из последней: «Когда в 1239 г., по истечении десятилетнего мира с Египтом, незначительные отряды крестоносцев все же собрались в Лионе под началом короля Тибо Наваррского и герцога Гуго Бургундского, Григорий IX объявил, что Иерусалим не является более целью священной войны; что они должны прийти на помощь Латинской империи. Бóльшая часть крестоносцев, вопреки намерениям папы, осенью 1239 г. отплыла в Сирию. Побуждаемые исключительно жадностью к приобретениям и понеся ряд неудач, предводители крестоносцев, по настоянию “бедных рыцарей храма”, вступили в союз с одним из сильных мусульманских князей (Измаил Дамасский) против нового египетского султана (Ассали Эйюб), но вместе с войсками своего союзника, обещавшего им ряд территориальных уступок в Палестине, были разгромлены при Аскалоне египтянами. После этого распри в лагере крестоносцев, особенно между тамплиерами и госпитальерами, вспыхнули с удвоенным ожесточением. Король Наваррский и прочие главари крестоносцев, ничего не добившись, вернулись на родину. Всем этим правительство Египта воспользовалось как нельзя лучше: в сентябре 1244 г. с десятитысячной конницей султан подступил к Иерусалиму и захватил его, учинив поголовную резню христианского населения. На этот раз “гроб господень” окончательно перешел в руки мусульман». — Прим. пер.
468 Хорезм — древнее государство в Средней Азии с центром в низовьях Амударьи. — Прим. пер.
469 Тевтонский (Немецкий) орден — духовно-рыцарский орден (Орден дома св. Марии Тевтонской), основанный в Палестине во время Третьего крестового похода и утвержденный папой римским в 1199 г. В XIII в. — 1525 г. в Прибалтике на землях, захваченных орденом у пруссов, литовцев и поляков, существовало государство Тевтонского ордена. Орден разгромлен в Грюнвальдской битве 1410 г. С 1466 г. вассал Польши. В 1525 г. его прибалтийские владения были превращены в светское герцогство Пруссию. — Прим. пер.
470 Фаблио (фр. fabliau — побасенка) — короткая стихотворная, обычно юмористическая повесть, иногда поучительная, во французской литературе XII–XIV вв. — Прим. пер.
471 «Ты, я вижу, полностью уверен в том, что мне надо спешить прямехонько в эту страну и отвоевать ее, пролив много крови и не получив за это ни пяди земли, пока мои жена и дети, удрученные и покинутые, горюют, а мое уютное жилище, охраняемое одними собаками, нагло разоряют. Но я, любезный друг, хорошо знаю, что одна старая мудрая пословица велит нам хранить то, что мы имеем; и я, сказать по правде, намерен ей последовать» (староангл.). — Прим. пер.
472 «Греческий огонь» — не гасимая водой зажигательная смесь, применявшаяся в VII–XV вв. в морских сражениях и при осаде крепостей посредством метательных машин и специальных медных труб. — Прим. пер.
473 Рассказывая о походе Людовика IX на Мансуру, М. А. Заборов в «Крестовых походах» не упоминает ни о переправе и разделении сил крестоносцев, ни о подмоге «доблестному авангарду», ни о победе над мусульманами в тот же день, а сообщает, что имела место длительная осада Мансуры, завершившаяся проникновением в город большей части крестоносной армии в результате измены. «Но мусульмане, — пишет автор, — быстро заперли захватчиков в городе, а часть рыцарей, не успевших проникнуть в крепость, уничтожили; несколько сот воинов пали в сражении, среди них брат Людовика IX, граф Роберт Артуа». — Прим. пер.
474 «Пастушки» (фр.). — Прим. пер.
475 «Elements de l’Histoire de France». — Прим. авт.
476 Проповеди крестового похода среди французской бедноты (поводом к которым, как утверждает М. А. Заборов, послужили послания уже освобожденного и находившегося в Акре Людовика IX — призывы к населению Франции прийти на помощь крестоносцам, оставленные дворянством без внимания), в которых подчеркивалась Божья немилость к рыцарской знати и обличалась жадность монахов и др., вылились в итоге в восстание «пастушков» (крестьян и малоимущих горожан) против собственных сеньоров и католической церкви. — Прим. пер.
477 Миллс в своем историческом труде называет его «Аль-Малек аль-Дхакер Рок неддин Абульфет Бейбарс аль-Али аль-Бундокдари аль-Салехи». — Прим. авт.
478 Мамлюки (араб. — невольники) — воины-рабы, составлявшие гвардию Айюбидов и основавшие династию султанов Египта и Сирии. — Прим. пер.
479 Тот, кто прочтет «Талисман», замечательный роман сэра Вальтера Скотта, без труда узнает данный эпизод, введенный в ткань повествования. С вольностью, присущей поэтам и романистам, автор сделал главным его героем короля Ричарда I. — Прим. авт.
480 Реформация — религиозное движение в Западной Европе в XVI в., направленное против католической церкви и приведшее к образованию лютеранской и реформатской церквей. — Прим. пер.
481 Так что же — гнев богов иль слез людских влиянье,
Что безнаказанность плодит и злодеянье, —
От края и до края мирозданье
Прилипчивою скверной затопило
И страстью к ослепленью и незнанью
Умы нестойкие коварно заразило? (Спенсер «Слезы муз». — Прим. пер.)
482 Селяне. Повесить ее! Забить ее до смерти! Убить ее!
Судья. Так сразу и убить? Умерьте вашу злобу!
Матушка Сойер. Кучка негодяев, сборище гнусных
висельников! Мучили меня, а за что — не знаю!
Судья. Увы, сосед Бэнкс! Ведь это ты подстрекал
к насилию? Позор! Вы напали на пожилую женщину!
Бэнкс. Ха, женщину! Она мегера, ведьма!
Не успели мы, дабы это доказать, поджечь крышу
ее дома, как она заметалась внутри, будто дьявол
загнал ее в бочку с порохом. (Форд «Эдмонтонская ведьма». — Прим. пер.)
483 Другими словами, нельзя карать за то, чего нельзя совершить. — Прим. пер.
484 Ведун (ведьмак, колдун), ведьма (колдунья) — человек, который, заключив союз с нечистой силой, занимается ведовством (вредоносным колдовством) (англ.). — Прим. пер.
485 Главной движущей силой (лат.). — Прим. пер.
486 Миракль (от лат. miraculum — диво, чудо) и мистерия (от греч. mysterion — тайна, таинство) — жанры средневекового западноевропейского религиозного театра. — Прим. пер.
487 Святой Дунстан Кентерберийский (924–988) — английский церковный деятель. Здесь (наряду с другими святыми и дьяволом) фигурирует как сценический персонаж. — Прим. пер.
488 «Безотрадной ветреной зимней ночью, когда звезды лишь тускло мерцали, ты напугал меня на другом берегу озера; я видел, как ты копошился в камышах и по воде шла рябь. Дубинка в моем кулаке задрожала, а волосы встали дыбом, когда, издавая жуткое “Кряк! Кряк!” и подпрыгивая, ты, подобно селезню, понесся прочь, шлепая по воде и со свистом рассекая крыльями воздух». — Прим. пер.
489 См. статью «Демонология» в шестом томе «Зарубежного квартального обозрения». — Прим. авт.
490 Западноевропейские демонологи XVI и XVII вв. — Прим. пер.
491 Лоренс Стерн (1713–1768) — английский писатель, основоположник сентиментализма. — Прим. пер.
492 Благодарение, молитва до и после еды (лат.). — Прим. пер.
493 Иоганн Вир — немецкий демонолог XVI в. — Прим. пер.
494 Слово «шабаш» (англ. sabbath) прозошло от древнееврейского «шаббат» («суббота, день отдыха»). — Прим. пер.
495 Брокен (Блоксберг) — самая высокая гора массива Гарц (1142 м). — Прим. пер.
496 Так называемая «печать дьявола», которую тот ставит уколом когтя или рога на любой части тела. — Прим. пер.
497 Летучих мышей, собак, трупы детей и т.п. — Прим. пер.
498 «Histoire de la Magie en France». Rois de la seconde race, p. 29 («История магии во Франции». Короли второй династии, с. 29 (фр.). — Прим. пер.). — Прим. авт.
499 Капитулярии — законы и распоряжения франкских королей из династии Каролингов. — Прим. пер.
500 Месье Мишо в «Истории крестовых походов», месье Генгене в «Истории итальянской литературы» и некоторые другие критики упрекают Тассо в том, что в своей поэме он приписал крестоносцам веру в колдовство, которой в то время не существовало. Если бы эти критики ознакомились с эдиктами Карла Великого, то поняли бы, что Тассо был прав и что чересчур рьяная склонность к выискиванию изъянов в великом произведении заставляет ошибаться их самих. — Прим. авт.
501 «Entstehungsgeschichte der freistädlischen Bünde im Mittelalter», von Dr. F. Kortüm, 1827. — Прим. авт.
502 Будучи свободными крестьянами. — Прим. пер.
503 От нем. Stedinger — береговой житель. — Прим. пер.
504 Здесь: должностное лицо в духовно-рыцарских орденах, ступенью ниже великого магистра. — Прим. пер.
505 Вальденсы — приверженцы средневековой ереси, зародившейся в конце XII в. в Лионе (основатель — Пьер Вальдо) и распространившейся главным образом среди ремесленников и крестьян. — Прим. пер.
506 Ангерран де Монстреле (ок. 1390–1453) — французский хронист. — Прим. пер.
507 Бальи — королевский чиновник, глава судебно-административного округа (бальяжа) в северной части средневековой Франции. — Прим. пер.
508 Здесь: решение; вердикт; приговор (фр.). — Прим. пер.
509 «Осуждена и сожжена» (лат.). — Прим. пер.
510 Изначально инквизиция (от лат. inquisitio — розыск) — судебно-полицейское учреждение католической церкви — была создана в XIII в. для борьбы с ересями. — Прим. пер.
511 «Молот ведьм» (лат.). — Прим. пер.
512 Боден, с. 95; Гарене, с. 125; «Anti-demon de Serclier», с. 346. — Прим. авт.
513 Ликантропия — здесь: волшебное превращение человека в волка или другого дикого зверя. — Прим. пер.
514 Главного палача верховного суда (фр.). — Прим. пер.
515 Таблье. См. также у Боге в «Трактате о колдунах» и у месье Жюля Гарене в «Истории магии», с. 150. — Прим. авт.
516 Королевский совет — неоднократно преобразовывавшийся совещательный орган в средневековой Франции, состоявший из представителей служилой знати и высшего духовенства. — Прим. пер.
517 По-видимому, родинки и другие пятна различного происхождения. — Прим. пер.
518 Пока не вскроется обман. — Прим. пер.
519 Манор (англ. manor, от лат. maneo — остаюсь, проживаю) — феодальная вотчина в средневековой Англии. — Прим. пер.
520 Иаков I Английский. — Прим. пер.
521 Хайленд (Северное нагорье) — северная и северо-западная часть Шотландии; Лоуленд (Шотландское нагорье) — южная, менее гористая часть Шотландии. — Прим. пер.
522 Само по себе (лат.). — Прим. пер.
523 Джон Нокс (1505 или ок. 1514–1572) — пропагандист кальвинизма в Шотландии, основатель шотландской пресвитерианской церкви, противник шотландской королевы-католички Марии Стюарт. — Прим. пер.
524 «Зарубежное квартальное обозрение», том VI, с. 41. — Прим. авт.
525 Тайный совет (Privy Council) — один из центральных органов власти и управления в Англии и Шотландии эпохи абсолютизма, состоявший из высших должностных лиц государства. — Прим. пер.
526 Бейлиф — в прошлом представитель английского короля, осуществлявший административную и судебную власть; сохранилось как почетное звание некоторых судей. — Прим. пер.
527 Портовый квартал Эдинбурга. — Прим. пер.
528 Варган — щипковый музыкальный инструмент в виде подковы или пластинки с прикрепленным к ней стальным язычком. Под разными названиями распространен у многих народов. — Прим. пер.
529 Шотландский народный хороводный танец. — Прим. пер.
530 «Вести из Шотландии об окаянном житии Доктора Фиана». — Прим. авт.
531 31 октября, Хэллоуин. — Прим. пер.
532 «Привет!» (исп.). — Прим. пер.
533 «Крестная мать, ты иди впереди, крестная мать, ты иди;
А если не хочешь идти впереди, то ты меня вперед пропусти!» (шотл.). — Прим. пер.
534 Дурная примета. — Прим. пер.
535 The father of lies — лукавый, Сатана (англ.). — Прим. пер.
536 «Заяц! Заяц! Да хранит тебя Бог! Я в обличье зайца, но прямо сейчас стану женщиной! Заяц! Заяц! Да хранит тебя Бог!» — Прим. пер.
537 «Садись и поезжай что есть мóчи, гони во весь опор, хо, хо, хо!» — Прим. пер.
538 У автора witch-pricker, что можно перевести как «тот, кто разоблачает ведьм, коля их [булавками]». — Прим. пер.
539 Вероятно, все было гораздо прозаичнее: «охотники за ведьмами», как утверждают многие авторы, пользовались специальным шилом с подвижным креплением иглы, которая при нажиме полностью уходила в рукоятку. — Прим. пер.
540 Преподобный Дж. Синклер «Незримый мир Сатаны». — Прим. авт.
541 Саддукеи — одна из политических и религиозных группировок в Иудее во II в. до н.э. — I в. н.э. Объединяла высшее жречество, землевладельческую и служилую знать. — Прим. пер.
542 Саул — основатель Израильско-Иудейского царства (XI в. до н.э.); Агаг — царь амаликитян, древнего аравийского племени. Иаков имеет в виду эпизод из главы XV Первой книги Царств. — Прим. пер.
543 Долгий парламент (Long Parliament) — законодательный орган в Англии в 1640–1653 гг. — Прим. пер.
544 Имеется в виду Первая гражданская (междоусобная) война (1642–1646) между роялистами и сторонниками Долгого парламента. — Прим. пер.
545 Этот вариант перевода исторического термина witch-finder (дословно — искатель ведьм) в дальнейшем для краткости будет заменяться словосочетанием «охотник за ведьмами», являющимся дословным переводом слова witch-hunter, практически тождественного вышеупомянутому. — Прим. пер.
546 «Символ веры» — краткое изложение христианских догматов, безусловное признание которых католическая и православная церкви предписывают каждому христианину. — Прим. пер.
547 «Разве не нынешний парламент прислал преданного слугу дьявола, наделив его всей полнотой власти для выискивания ведьм, восставших против ближних? И разве тот за год не повесил шестьдесят оных [только] в одном графстве, вынеся приговор одним лишь за то, что не утопли, другим — за то, что, просидев дни и ночи на седалищах, почувствовали боль, а третьим — за проделки с гусятами и индюшатами или со свиньями, которые нежданно издохли от таинственных, как он полагал, недугов? В итоге он сам оказался ведуном и наказал самого себя». — Прим. пер.
548 Питкерн «Материалы судопроизводства». — Прим. авт.
549 Джон Драйден (1631–1700) — английский писатель, один из основоположников английского классицизма. — Прим. пер.
550 Сессионный суд (Court of Session) — Верховный суд Шотландии по гражданским делам. — Прим. пер.
551 Предисловие к «Выпискам из правовых документов» под редакцией Шарпа. — Прим. авт.
552 «Библиотека колдовства». — Прим. авт.
553 Соавтор «Молота ведьм». — Прим. пер.
554 Судов инквизиции. — Прим. пер.
555 «Они подослали к ней в темницу помощника палача; они по всем правилам одели его в медвежью шкуру, как если бы он был дьяволом. Увидев его, ведьма подумала, что это ее близкий друг. Она затараторила: “Почему ты оставил меня на столь длительное время в руках властей? Вызволи меня, как обещал, из-под их гнета, и я буду только твоей. Избавь меня от мук, о мой дражайший дьявол [или возлюбленный]!”». — Прим. авт.
556 «Свирепость какого льва, какого тигра сравнится с неправедной яростью набожных?» (фр.). — Прим. пер.
557 Весьма красочное описание казни этого несчастного можно найти в превосходном романе месье Альфреда де Виньи «Пятое марта»; но если читатель хочет получить более полное и точное представление обо всех обстоятельствах одного из самых необычных документально зафиксированных судебных процессов, я отсылаю его к труду анонимного автора, который был издан в 1693 году в Амстердаме и называется «Рассказ о луденских бесах, или Об одержимости сестер-урсулинок и осуждении и казни Урбена Грандье». — Прим. авт.
558 «Осмотрительность при выдвижении обвинений» (лат.). — Прим. пер.
559 Рескрипт — здесь: акт монарха в форме конкретного предписания министру или какому-либо другому лицу. — Прим. пер.
560 Законы Двенадцати таблиц (Legis duodecim tabularum) — один из древнейших сводов римского обычного права. Составлены в 451–450 гг. до н.э. на 12 досках-таблицах (отсюда название). — Прим. пер.
561 Здесь: церковное установление. — Прим. пер.
562 Августин (Аврелий) (354–430) — святой, философ и богослов. — Прим. пер.
563 Аниций Манлий Северин Боэций (ок. 480–524) — христианский философ и римский государственный деятель. — Прим. пер.
564 Вернее, семьдесят. — Прим. пер.
565 Для посвящения в сатанинский культ на шабаше. — Прим. пер.
566 Новая Англия — предложенное в 1614 г. английским капитаном Дж. Смитом название исторически сложившегося района США, в который входят штаты Мэн, Нью-Гемпшир, Вермонт, Массачусетс, Род-Айленд и Коннектикут. — Прим. пер.
567 Грузом камней. — Прим. пер.
568 Христиан Томазий (1655–1728) — немецкий юрист и философ, представитель учения о естественном праве. — Прим. пер.
569 «О преступлении магии» (лат.). — Прим. пер.
570 У автора white-witch («белый ведун»; «адепт белой магии»), что можно также перевести как «тот, кто занимается колдовством из добрых побуждений» или, в более узком смысле, «тот, кто расколдовывает (снимает порчу и сглаз)». — Прим. пер.
571 Суд четвертных (квартальных) сессий (quarter-sessions) — 1) съезды мировых судей графства, созываемые четыре раза в год и рассматривающие как уголовные, так и гражданские дела (в Великобритании); 2) суд, заседающий раз в три месяца (в США). — Прим. пер.
572 Сэр Кристофер Хаттон (1540–1591) — английский государственный деятель. — Прим. пер.
573 Тофет — согласно Книге пророка Исаии, место жертвоприношений Молоху в долине Гиннома, ставшей метафорой ада и известной как «геенна огненная». — Прим. пер.
574 Название Bleeding-heart Yard можно перевести как «двор, где было найдено сердце, истекающее кровью». — Прим. пер.
575 Идеал, верх совершенства (фр.). — Прим. пер.
576 Ритуалу изгнания злых духов. — Прим. пер.
577 Пескара. Из книг такого не узнать.
Стефано. По мне,
Услышь об этом кто, решит,
Что выдумка, не боле.
Пескара. Ты прав, тебе я расскажу,
В излишние детали не вдаваясь, о постепенности,
С которою они в безумие означенное впали. (Речь идет о тех, кто был отравлен медленно действующим ядом, вызывающим значительное снижение умственных способностей (такой яд упоминается, в частности, у Плутарха.) «Герцог Миланский». — Прим. пер.)
578 Здесь: сводника (фр.). — Прим. пер.
579 Резиденция английского правительства. — Прим. пер.
580 Шпанская муха (мушка) — небольшой жучок, вредитель лиственных деревьев и кустарников. Высушенные и измельченные шпанские мушки ранее применялись в медицине для изготовления нарывного пластыря. — Прим. пер.
581 Ляпис — бесцветный кристаллический порошок (азотнокислое серебро), применяемый в медицине как наружное противомикробное и прижигающее средство. — Прим. пер.
582 Сулема — ядовитый белый порошок хлористой ртути и его раствор (применяется как дезинфицирующее средство). — Прим. пер.
583 Средство, вызывающее жар (лат.). — Прим. пер.
584 Губительную влагу (лат.). — Прим. пер.
585 Отравляя питье, еду, воздух и предметы, к которым жертва прикасается (лат.). — Прим. пер.
586 Наказание для неподчиняющихся постановлению суда налагалось словами «onere, frigore, et fame» («нагрузить, выставить на холод и морить голодом» (лат.). — Прим. пер.). Под первым подразумевалось, что нужно положить подсудимого спиной на землю и постепенно накладывать на него тяжести, пока он не испустит дух. Иногда это наказание не доводилось до летального исхода, и, после того как наказуемый выздоравливал, его подвергали второму этапу, frigore, — его раздевали догола и на определенный промежуток времени выставляли на всеобщее обозрение под открытым небом. Третий этап, или fame, был более страшен. Соответствующий пункт статута гласил, что «для осужденного на месте исполнения приговора должен заготавливаться самый грубый хлеб, какой только можно достать, и вода из соседнего сточного колодца или лужи; и в те дни, когда он пьет воду, он не должен получать хлеба, а в те дни, когда он ест хлеб, он не должен получать воды»; и он был обречен угасать в этих муках, пока хватало жизненных сил. — Прим. авт.
587 Фрэнсис Бэкон (1561–1626) — английский философ, родоначальник английского материализма; был лордом-канцлером при Иакове I. — Прим. пер.
588 Джордж Вильерс, герцог Бекингем, был министром при Иакове I и Карле I Стюартах. — Прим. пер.
589 В названии («Forerunner of Revenge») содержится, по-видимому, намек на то, что отравление Иакова I Бекингемом стало, по мнению автора, предтечей (здесь: событием, подготовившим другое событие) убийства герцога (который, помимо всего прочего, осуждался парламентской оппозицией и пуританами как главный проводник абсолютистской политики) армейским офицером в 1628 г., через три года после смерти Иакова I. — Прим. пер.
590 Эдвард Хайд Кларендон (1609–1674) — граф, английский государственный деятель и историк, приверженец абсолютизма. — Прим. пер.
591 Мазаньелло (1620–1647) — рыбак, вождь народного восстания против испанского владычества 1647–1648 гг. в Неаполе. Вице-король Неаполя организовал убийство Мазаньелло. — Прим. пер.
592 Под конвоем (лат.). — Прим. пер.
593 Сословным, корпоративным духом (фр.). — Прим. пер.
594 13 лет. — Прим. пер.
595 «Causes Célèbres». — Прим. пер.
596 Королевский указ об изгнании, о заточении без суда и следствия (фр.). — Прим. пер.
597 Вольтер в «Эпохе Людовика XIV» это опровергает, но не объясняет, почему. Он пишет: «Il est faux qu’elle eut essayé ses poisons dans les hôpitaux, comme le disait le peuple, et comme il est écrit dans les Causes Célèbres, ouvrage d’un avocat sans cause, et fait pour le peuple» («Это неправда, что она испытывала яды в больницах, как про нее говорили люди и как написано в “Знаменитых судебных процессах”, безосновательном сочинении одного адвоката, созданном для народа» (фр.). — Прим. пер.). — Прим. авт.
598 Здесь: конная полицейская гвардия во Франции эпохи абсолютизма. — Прим. пер.
599 В комментариях Л. Яновской к роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита» сообщается, что «маркиза Бренвилье с помощью любовника Жана-Батиста де Годена де Сен-Круа отравила отца, двух братьев и двух сестер, чтобы завладеть их наследством» (Булгаков М. А. Собрание сочинений. В 5 т. Т. 5. Мастер и Маргарита; Письма. — М.: Худож. лит., 1990.). — Прим. пер.
600 Публичное покаяние (признание вины) (фр.). — Прим. пер.
601 Строго говоря, Людовик XIV не учредил, а восстановил Огненную палату («огненную камеру»), учрежденную в 1547 г. Генрихом II для борьбы с кальвинизмом. — Прим. пер.
602 Мансарды (фр.). — Прим. пер.
603 Отравление медленно действующим ядом — преступление, которое, к несчастью, возродилось в Англии несколько лет назад и приняло столь массовый характер, что пятнает репутацию страны. Отравителями такого сорта чаще всего являются женщины из низов, а их жертвами — их мужья или дети. Мотив преступления в большинстве случаев самый что ни на есть низменный — желание получить страховку. Остается надеяться, что недавнее постановление, ограничивающее продажу мышьяка и других ядов, если и не искоренит это гнусное злодеяние, то хотя бы сделает его менее распространенным. — 1851. — Прим. авт.
604 Вот уж стучат так стучат!.. Стук, стук, стук! Кто там, во имя Вельзевула?.. Кто там, во имя другого дьявола?.. Стук, стук! Никак покою не дадут. («Макбет». Перевод Ю. Корнеева.)
605 У автора дословно: «в Красное море». — Прим. пер.
606 Гарене «Histoire de la Magie en France», с. 75. — Прим. авт.
607 Гарене «Histoire de la Magie en France», с. 156. — Прим. авт.
608 Доктор Ханна Мор «Продолжение собранных Гланвилом историй в доказательство существования ведовства». — Прим. авт.
609 Транспортация — в прошлом ссылка за моря как вид уголовного наказания. — Прим. пер.
610 Женщина, чей дух, как утверждали, появлялся на Кок-лейн, была похоронена в склепе монастыря св. Иоанна в Клеркенвелле. Данный склеп разделен на два крыла, и гроб с телом был помещен в южное, намного более тесное, чем северное. Около семи лет спустя я делал набросок живописной, украшенной сверху орнаментом в виде трилистника двери, ведущей в эту часть склепа. Тогда это место было настолько переполнено беспорядочно расставленными гробами с останками, часть которых ссохлась до состояния мумий, и сопутствующим инвентарем, что я не нашел ничего лучше, как усесться на один из гробов. Светивший мне мальчик-служка сказал, что это гроб Скребущейся Фанни, что напомнило мне об истории, произошедшей на Кок-лейн. Я снял с гроба крышку и увидел лицо красивой женщины с орлиным носом, который прекрасно сохранился, что было необычно, ибо в большинстве подобных случаев хрящ разлагается и проваливается. Останки Фанни мумифицировались и находились в идеальном состоянии. Одни говорили, что она была отравлена ядовитым пуншем, но это было юридически опровергнуто. Другие, если мне не изменяет память, утверждали, что она умерла от оспы. Ни малейших признаков этой болезни я не заметил, однако, поскольку некоторые яды неорганического происхождения имеют тенденцию к мумификации трупов, имелись определенные свидетельства в пользу первого утверждения. Я тщательно навел справки в бытность церковным старостой м-ра Берда, человека уважаемого и рассудительного, и он убедил меня в том, что этот гроб всегда считался последним пристанищем женщины с Кок-лейн. С тех пор склеп привели в порядок и вышеупомянутый гроб наряду с другими убрали.
Ниша у окна Комнаты призрака (в доме парсонса. — Прим. пер.) — место, где находилось изголовье кровати Фанни и откуда доносились царапанье, стук и другие посторонние звуки. Предание об этом живо в доме до сих пор. Миссис Кинг, владелица дома с прилегающими пристройками (и участком, сообщила мне, что ее семья владеет этим домом около восьмидесяти лет. Дж. У. Арчер. — Цит. авт.
611 Пёрл (purl) — горячее пиво с полынью, джином, сахаром и пряностями, пивной пунш. — Прим. пер.
612 Флинг (fling) — бурный шотландский танец. — Прим. пер.
613 Гип-гоп, тру-ля-ля,
Да здравствует гип-гоп! (Беранже. — Прим. пер.)
614 Quoz. — Прим. пер.
615 Имеется в виду английское слово — разговорное выражение «Walker», производное от «Hookey Walker». — Прим. пер.
616 Здесь: наиболее предпочтительным (фр.). — Прим. пер.
617 «There he goes with his eye out!», дословно: «Смотрите, идет невесть куда!» или «Он, видать, ослеп!». — Прим. пер.
618 «Who are you?». — Прим. пер.
619 Глас народа (лат.). — Прим. пер.
620 Презрительная кличка негров в США, буквально: «Джим-ворона». — Прим. пер.
621 «Обернись и крутанись —
И больше ничего.
Обернись и крутанись,
И подскочи, Джим Кроу!». — Прим. пер.
622 «О, опечаленный народ, то, что тебя веселит, — это ПРИБАУТКИ! О, да! Это ПРИБАУТКИ!» (фр.). — Прим. пер.
623 Джек. Где еще найти столь умудренных опытом людей, которые все до единого не боятся смерти?!
Уот. Сильные и преданные друг другу люди!
Робин. Настоящие храбрецы, неутомимые труженики!
Нед. Кто из нас откажется умереть за своего друга?
Гарри. Кто из нас предаст друга ради собственной выгоды?
Мэт. Покажите мне компанию придворных, которая могла бы сказать то же самое о себе! (Диалог разбойников из «Оперы нищих». — Прим. пер.)
624 Шекспир «Похищение Лукреции». — Прим. авт.
625 «Он веселился шумно, безудержно, ошеломляюще: он играл спринг [шотландская плясовая мелодия в быстром темпе] и кружился в танце под виселицей». — Прим. пер.
626 Город, известный своими скачками. — Прим. пер.
627 Во втором томе, в письме № 79, адресованном месье де Бюффону, аббат сообщает следующие любопытные подробности о разбойниках 1737 г., небезынтересные в наши дни при сравнении с произошедшими с тех пор колоссальными переменами к лучшему: «Путешественники обычно кладут в отдельный карман десять–двенадцать гиней — дань первому, кто потребует их заплатить. Этот местный обычай, дающий право проезда, возник для удовлетворения интересов разбойников, которые в Англии являются едва ли не единственными дорожными инспекторами и которых англичане по этой причине называют “рыцарями с большой дороги”. Власти закрывают глаза на такую узурпацию своей юрисдикции разбойниками, если те не слишком досаждают путникам. По правде сказать, разбойники довольствуются взиманием платы только с тех, кто им в этом беспрекословно подчиняется; однако, несмотря на их хваленую гуманность, они, случается, преследуют и убивают не заплативших беглецов. Они взимают свою дань весьма строго и требовательно; и если у человека нет денег, чтобы им заплатить, он за свою бедность может подвергнуться избиению.
Около пятнадцати лет назад эти разбойники, намереваясь утвердить свои права, наклеивали на двери домов богатых лондонцев объявления о запрещении под страхом смерти всем лицам, независимо от состояния и положения в обществе, покидать город, не имея при себе десяти гиней и часов. В тяжелые времена, когда на дорогах почти нечем поживиться, эти молодчики сбиваются в шайки для взимания дани даже в самом Лондоне, и стражи порядка редко утруждают себя вмешательством в их дела». — Прим. авт.
628 «Торнхилл, тебе было суждено овеять славой малоизвестного и возвысить его скромное имя, не дать ему умереть и спасти Шеппарда от забвения! Апеллес [древнегреческий живописец 2-й половины IV в. до н.э., произведения не сохранились] нарисовал Александра, Аврелий [Аврелий Виктор Секст — римский историк IV в., автор книги «О цезарях» — сборника кратких биографий римских императоров от Августа до Констанция (30 г. до н.э. — 360 г. н.э.)] написал про Цезаря, Кромвель блистает в трудах Лилли, а Шеппарда, Торнхилл, обессмертил ты!» — Прим. пер.
629 Со времени первого издания этой книги похождения Джека Шеппарда нашли своих последователей. Один необычайно популярный роман с изложением реальной или приукрашенной истории этого грабителя вызвал к жизни примеры происходящего на его страницах. «Шестой отчет инспектора тюрем северных районов Англии» содержит массу сведений о вредном воздействии подобных сочинений и имевших место в результате драматических событиях. Инспектор, посетив в Манчестере тюремную школу в Нью-Бейли, допросил нескольких мальчиков, отрывки из показаний которых, имеющие отношение к предмету повествования, приведены ниже.
«Дж. Л. (14 лет). Когда я впервые побывал в театре, там играли “Джека Шеппарда”. Я встретил возле дома двоих или троих ребят, которые шли на спектакль, и они пригласили меня с собой. Я взял шестипенсовик из тех денег, что каждую неделю откладывал на одежду. В следующий раз, когда я пошел на спектакль, а было это неделю спустя, я занял деньги у одного парня, с которым рассчитался в следующую субботу. После этого я ходил на “Шеппарда” много раз. Сначала я вытащил деньги из кармана матери, когда она сидела рядом. У нее в кармане было больше шести пенсов. Я очень полюбил театр и, чтобы туда ходить, воровал у других. Я считал этого Джека Шеппарда умным малым, потому что он совершил побег и ограбил своего хозяина. Если бы я мог сбежать из тюрьмы, я, наверное, был бы таким же умным, как он, хотя после всех его подвигов с ним все же покончили. Я взял книгу про него в библиотеке на Дол-Филд, заплатив за три тома два пенса. Я также взял «Ричарда Тёрпина» в двух томах и заплатил столько же. Я читал «Оливера Твиста» и думаю, что Ловкий Плут очень похож на некоторых здешних ребят. Я попал сюда за карманную кражу 25 фунтов.
Х. К. (15 лет). Когда мы приехали в Манчестер, я сходил в театр на премьеру “Джека Шеппарда”. Афишами с его изображением был увешан весь город; они были на досках для объявлений и на стенах, и на одной из них было нарисовано, как он совершает карманную кражу в церкви. Мне “Джек Шеппард” очень понравился. Прежде я в здешнюю тюрьму не попадал. Я работал в пакгаузе за 6 шиллингов 6 пенсов в неделю, из которых мне разрешалось брать 6 пенсов для себя, и на эти деньги я регулярно ходил на спектакль. Впоследствии я смотрел “Джека Шеппарда” по четыре раза в неделю. Я тайком брал деньги из своего мешочка для денег, и мой хозяин про это не знал. Однажды я от имени матери одолжил 10 шиллингов у миссис _____ — лавочницы, у которой она постоянно покупала, и сходил на них в театр.
Дж. Мак Д. (15 лет). Я узнал о пьесе “Джек Шеппард” от одного знакомого парня, который видел ее и сказал, что было на редкость весело наблюдать, как главный герой бежит из тюрьмы.
Дж. Л. (11 лет). Дважды был в театре и смотрел “Джека Шеппарда”. В первый раз ходил с братом, во второй — один. Чтобы пойти во второй раз, я взял деньги в доме матери с каминной доски, где она оставила шестипенсовик. Это был первый вечер, когда играли “Джека Шеппарда”. О спектакле много говорили, и по всему городу были расклеены красивые афиши. Я счел Джека весьма смышленым малым, но потешнее всех был Блускин. Воровать я начал на рынках, где таскал яблоки. Я знал одного парня, _____, которого впоследствии сослали на каторгу, и дважды или трижды ходил воровать с ним. Самым бóльшим, что мне удалось украсть, были 10 шиллингов из кассы».
Составленный инспектором «Отчет о преступности несовершеннолетних в Ливерпуле» содержит множество сведений того же рода, но для демонстрации пагубного влияния обожествления безрассудными романистами известных разбойников достаточно уже процитированных. — Прим. авт.
630 Генри Филдинг (1707–1754) — английский писатель-классик сатирического направления, автор романа «Джонатан Уайльд» (1743) и других сочинений. — Прим. пер.
631 «Учил безнадзорных детей улицы грабить в более изысканной манере, добывать трофеи любезнее тех, кто никогда не был воспитанным filou [жуликом, плутом, мошенником (фр.)], и идти на виселицу с таким достоинством, какого неотесанному английскому народу прежде не демонстрировал ни один казнимый». — Прим. пер.
632 «Стекались женщины со всех концов страны, чтобы отдать особо охраняемому заключенному свои сердца, которые он принимал как должное… Этот храбрый рыцарь никогда не совершал таких рискованных подвигов, какие ради него с гордостью совершили бы слабые девицы; и те из них, кто обладал смелостью и честолюбием для того, чтобы искупить людскую и собственную утрату, поступившись репутацией, силились припасть к его ногам, желая разделить с ним свою судьбу». — Прим. пер.
633 В современном французском языке это слово (cartouche) в указанном значении не употребляется. — Прим. пер.
634 Для получения более обширных сведений об этом знаменитом разбойнике, равно как и обо всех европейских разбойниках в целом, см. весьма занимательный труд на данную тему, написанный м-ром Чарльзом Макфарлейном. — Прим. авт.
635 Имеется в виду Генрих II Лотарингский. — Прим. пер.
636 См. также «Зарубежное квартальное обозрение», том IV, с. 398. — Прим. авт.
637 Бландербас — короткоствольное ружье с раструбом (XVII–XVIII вв.). — Прим. пер.
638 Лавиния Фентон, впоследствии герцогиня Болтон. — Прим. пер.
639 «Вульгарные рифмоплеты, какую силу должно иметь искусство, чтоб нравы им разоблачать» (фр.). — Прим. пер.
640 «То старое доброе правило, тот простой закон, что те, кто в силах взять, должны брать, а те, кто способен уберечь, должны беречь». — Прим. пер.
641 Жил в древности один мудрый философ, который клятвенно утверждал, что мир, чему он может привести доказательства, помешался на поединках. («Гудибрас»). — Прим. пер.
642 «О духе законов», кн. XXVIII, гл. XVII. — Прим. авт.
643 Вердикта на предмет требования о возврате имущества. — Прим. пер.
644 Суд Божий (лат.). — Прим. пер.
645 Здесь: Земное чистилище (лат.). — Прим. пер.
646 Это весьма напоминает ордалию огнем, принятую у современных индусов. Форбс в «Восточных записках», т. I, гл. X описал ее так: «Когда обвиняемый в преступлении, караемом смертной казнью, изъявляет желание подвергнуться судебной ордалии, его несколько дней держат в заключении со строгой изоляцией. Перед этим его правую кисть и предплечье во избежание обмана оборачивают толстой вощеной тканью, перевязывают и опечатывают в присутствии надлежащих должностных лиц. На английских территориях опечатывание повязки и охрану заключенного всегда осуществляют английские военные. С наступлением времени, назначенного для ордалии, на огонь ставят котел с маслом. Когда оно закипает, в котел бросают монету, руку заключенного разматывают и отмывают от воска в присутствии судей и обвинителей. Во время этой части церемонии присутствующие брамины [брамины (браманы, брахманы) — одна из высших каст в Индии, по происхождению — древнее сословие жрецов. — Прим. пер.] молятся Богу. Получив от них благословение, обвиняемый погружает руку в кипящую жидкость и вынимает монету. После этого руку вновь заматывают и опечатывают на определенный срок до повторного испытания. Если по вскрытии печати на руке не видно пятна от ожога, заключенного объявляют невиновным; в противном случае он несет должную кару за свое преступление…» При ордалии огнем обвиняемый, перед тем как опустить руку в кипящее масло, обращается к указанной стихии и говорит следующее: «О ты, огонь, проникающий всюду! О, источник очищения, являющий доказательство добродетели и греха, открой истину этой моей рукой!» Если бы обходилось без мошенничеств, то решения по результату ордалии всегда были бы одинаковыми; но поскольку одних при этом объявляют виновными, а других — невиновными, ясно, что брамины, как и христианские священники Средних веков, прибегают к обману, спасая тех, кого им хочется обелить. — Прим. авт.
647 Ордалия, очень похожая на эту, до сих пор практикуется в Индии. Вместо хлеба и сыра в ней используется освященный рис. Нередки случаи, когда виновные за счет самовнушения не могут проглотить ни единого зернышка. Сознавая свою вину и страшась кары небес, они, пытаясь это сделать, чувствуют тошноту, падают на колени и признаются во всем, что им инкриминируется. То же самое, без сомнения, происходило бы при ордалиях хлебом и сыром, если бы им подвергались не священники. Последние были слишком умны, чтобы попасться в западню, устроенную себе подобными. — Прим. авт.
648 Т.е. принятого у мосарабов — христиан Пиренейского полуострова, живших на захваченной арабами в VIII в. территории и воспринявших арабский язык и культуру. — Прим. пер.
649 Поль Хей Дюшастле «История мессира Бертрана Дюгеклена», кн. I, гл. XIX. — Прим. авт.
650 «О духе законов», кн. XXVIII, гл. XXV. — Прим. авт.
651 «Воспоминания Брантома касательно дуэлей». — Прим. авт.
652 «История мессира Бертрана Дюгеклена», кн. I, гл. XIX. — Прим. авт.
653 Бертран Дюгеклен (ок. 1320–1380) — французский военный деятель. — Прим. пер.
654 «Воспоминания Брантома касательно дуэлей». — Прим. авт.
655 Хотя Франциск и проявил себя в данном случае как противник дуэлей, в аналогичной ситуации, имевшей место с ним самим, он занял прямо противоположную позицию. Все любители истории наверняка помнят его ответ на вызов, брошенный ему императором Священной Римской империи Карлом V. Император написал королю, что тот не сдержал своего слова, и предложил ему для разрешения конфликта сразиться один на один. Франциск ответил, что лжет сам император — qu’il en avait menti par la gorge (что он вынужден лгать (фр.). — Прим. пер.) — и что он готов к единоборству с ним в любое время и в любом месте, какое тот назовет. — Прим. авт.
656 Картель — здесь: вызов на дуэль, на поединок (в данном случае обращение к королю с просьбой о разрешении на дуэль). — Прим. пер.
657 Мишель де Кастельно (ок. 1520–1592) — французский военный деятель. — Прим. пер.
658 «О Господи, я не достоин!» (лат.). — Прим. пер.
659 Дословно: «удар Жарнака», в переносном смысле (употребляется как устойчивое выражение): «вероломный поступок» (фр.). — Прим. пер.
660 «Эпоха неистовства дуэлей» (фр.). — Прим. пер.
661 Шарль I де Бланшфор, маркиз де Креки (1578–1638) — французский военный деятель. — Прим. пер.
662 Максимильен де Бетюн, герцог де Сюлли (1560–1641) — французский государственный деятель. — Прим. пер.
663 «Отец Маттиас», том II, книга IV. — Прим. авт.
664 «Основы истории Франции», том III, с. 219. — Прим. авт.
665 «Вестник Франции», том XIII. — Прим. авт.
666 Брайдон «Путешествие на Мальту», 1772 г. — Прим. авт.
667 Государственная должность в Великобритании, приблизительно соответствующая генеральному прокурору. — Прим. пер.
668 Звездная палата (Star Chamber) — высший королевский суд в Англии, упраздненный в 1641 г. — Прим. пер.
669 Из книги барристера [барристер — адвокат, имеющий право выступать в высших судах Великобритании. — Прим. пер.] Томаса Мартина «Жизнь и личность лорда Бэкона». — Прим. авт.
670 Наемных убийц. — Прим. пер.
671 См. кн. «История рода и клана Маккеев». — Прим. авт.
672 См. «Спектейтор» № 84, 97 и 99, «Тэтлер» № 25, 26, 29, 31, 38 и 39 и «Гардиан» № 20. — Прим. авт.
673 Коронер — следователь, специальной функцией которого является расследование случаев насильственной или внезапной смерти. — Прим. пер.
674 Центральный уголовный суд в Лондоне. — Прим. пер.
675 «Пост-бой», 13 декабря 1712 г. — Прим. авт.
676 «Вы требуете моей жизни!» (фр.). — Прим. пер.
677 Лоренс Стерн (1713–1768) — английский писатель, зачинатель литературы сентиментализма. — Прим. пер.
678 Сэр Уолтер Рэли (1554–1618) — английский мореплаватель, организатор пиратских экспедиций, поэт, драматург, историк. — Прим. пер.
679 В определенный период своей жизни Рэли был отъявленным дуэлистом. Сообщается, что он принял участие в большем количестве поединков, чем любой из его известных современников, лишил жизни не одного соперника, но сам прожил достаточно долго, чтобы осознать греховность своего пристрастия и дать торжественную клятву никогда более не сражаться на дуэли. Нижеследующая забавная история о его воздержанности в этом смысле хорошо известна, но будет нелишне пересказать ее вновь.
Сидя однажды в кафе, он поспорил по незначительному поводу с каким-то молодым человеком, и тот, выйдя из себя, нагло плюнул ветерану в лицо. Вместо того чтобы заколоть обидчика или вызвать его на смертельный поединок, как сделали бы многие, сэр Уолтер невозмутимо достал носовой платок, вытер лицо и произнес: «Молодой человек, если бы я мог так же легко стереть со своей совести ваше убийство, как этот плевок — с лица, вы не прожили бы и минуты». Юноша немедленно извинился. — Прим. авт.
680 Имеется в виду прусский король Фридрих II Великий (1712–86). — Прим. пер.
681 См. «Письма Иосифа II к знатным князьям и государственным деятелям», впервые опубликованные в Англии в «Памфлетире» за 1821 г. Впервые они были изданы в Германии несколькими годами ранее и в значительной мере проливают свет на характер этого монарха и события его правления. — Прим. авт.
682 Декалог — десять заповедей Ветхого Завета. — Прим. пер.
683 «Американская энциклопедия», ст. «Дуэли». — Прим. авт.
684 «Груда старинных безделушек: ржавые железные шлемы и звенящие кольчуги, что носили трое лотианцев, и котелки, и древние солонки допотопных времен — всего не перечесть» (старошотл. диал.). Бёрнс. — Прим. пер.
685 Вильгельм Телль — герой швейцарской народной легенды. — Прим. пер.
686 Сэр Уильям Уоллес (1270–1305) — лидер шотландского сопротивления. — Прим. пер.
687 Джон Хемпден (1594–1643) — английский политический деятель. — Прим. пер.
688 См. главу «Крестовые походы». — Прим. пер.
689 Святая Елена (ок. 248–328) — римская императрица, покровительница христианства. — Прим. пер.
690 Константин I Великий (ок. 280–337) — римский император, поддерживал христианскую церковь. В 324–330 гг. основал новую столицу Константинополь на месте города Византий. — Прим. пер.
691 Св. Амвросий Медиоланский (ок. 339–397) — христианский деятель. — Прим. пер.
692 См. главу «Магнетизеры». — Прим. пер.
693 Вольтер «Эпоха Людовика XIV». — Прим. авт.
694 Ракой (фр.). — Прим. пер.
695 Бонбоньерки, изящные коробки для конфет (фр.). — Прим. пер.
696 Сэр Фрэнсис Дрейк (ок. 1540–1596) — английский пират. — Прим. пер.
697 «И я сам, теперь тоже любящий покой почти настолько же, насколько его любят стулья, предпринял бы тем не менее путешествие, чтобы увидеть древнее колесо той колесницы, которую так неосторожно разбил Фаэтон». — Прим. пер.
* В понедельник я акции купил,
Во вторник миллион по ним получил,
В среду дома в порядок привел антураж,
В четверг заказал себе экипаж,
В пятницу решил поехать на бал,
Ну а в субботу в больницу попал. (Прим. пер.)
Перевод Д. Кириченко
Корректор Е. Аксёнова
Компьютерная верстка М. Поташкин
Дизайн обложки Ю. Буга
© Д. Кириченко, перевод, 2003
© Издание на русском языке, перевод, оформление. ООО «Альпина Паблишер», 2015
© Электронное издание. ООО «Альпина Диджитал», 2015
Маккей Ч.
Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы / Чарльз Маккей; Пер. с англ. — М.: Альпина Паблишер, 2015.
ISBN 978-5-9614-4016-4







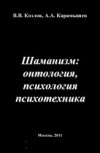


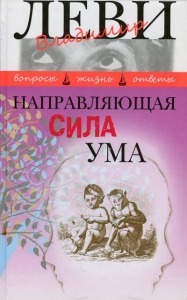
Комментарии к книге «Наиболее распространенные заблуждения и безумства толпы», Чарльз Маккей
Всего 0 комментариев