~~~типа, предисловие
извинения
При патологической неспособности к выдумке и фантазии, я вынужден писать правду, одну только правду и ничего кроме правды; иными словами – лишь о том, что увидел, почувствовал, пережил лично и не более того.
Из-за такой вот ограниченности мне никак не угнаться за фэ́нтези-пи́сцами – не получается пропустить через себя всё, что угодно, и далеко не через всё удаётся пройти.
содержание
Роман состоит из длинного названия, краткого эпиграфа и продолжительного текста.
Не всякий согласиться принять на веру истинность повествования, или вообще принять – не отшатнуться от представленного тут – и скажут они: «нет! так не бывает! никогда!»; беспрекословно и незамедлительно, посоветую им отложить прочтение до той поры, когда правда без прикрас станет очевидной и для них; ну, а коли такая пора не наступит, искренне позавидую – есть же счастливчики!
Несмотря на повествование от первого лица, роман этот не обо мне, в нём отражены мы – поколение прошедшее самую великую и прекрасную эпоху с момента сотворения мира.
От неё сегодня рады б отмахнуться, наклеив пару ярлыков, крест-накрест, – «застой» и «перестройка»; но во всей мировой истории нет периода лучше – ведь именно в нём так молоды мы были.
стиль, язык и возрастной ценз
Любое и всякое поколение, без исключений, неминуемо проходит через молодость – спору нет, однако не каждое удосуживается оставить эпистолярно-нерукотворный памятник в стиле оголтелого реализма (то есть, где балом правит правда, без оглядки на писанные и теневые законы).
Переходя от стиля к языку, следует отметить факт наличия в текст вкраплений ненормативной лексики.
Рачительным и трепетным страдальцам за стерильность «великого и могучего» некоторые из употреблённых в памятнике выражений могут показаться слишком вольными.
Однако, уродовать живые слова ханжескими многоточиями не хочу.
Глубоко уважая право стерилизаторов на чопорность и губки бантиком, могу лишь повторить сказанное в другом месте (/#mat), мат – плоть от плоти живого языка.
Они, безусловно, правы, что мат – это бич, но без бича порой не обойтись и, стараясь делать жизнь не по лжи и писать о ней правду, нельзя обойти молчанием обороты естественной лексики.
Поэтому не рекомендую читать данный хулиганский роман детям до 18 лет, а также лицам, которые и до пенсии не выходят за пределы указанного возраста.
технические замечания
Письма не принято делить на части и на главы – письмо, оно и есть письмо.
Вместе с тем, лишить читателя всякого ориентира, оставить без карты и компаса посреди безбрежных сотен и сотен страниц во все стороны – вопиющая бесчеловечность; чувство сострадания к подобным себе гуманоидам вылилось в добавление оглавления.
Ну, разве я не человеколюб после этого?
Плюс к тому, интернет диктует собственные законы публикации – вынь да положь ему список страниц сайта!
(Первоначально роман был опубликован на личном сайте автора: (-5/index.html).
изъявления благодарности
Благодарю всех, чьи имена упоминаются в романе, а также тех, кого тут нет (и таких куда больше, и их заслуга в том, что этот роман всё же написан, никак не меньше).
А, самое главное, благодарю вас, кто прочёл хотя бы и до сюда, до этой вот строки.
Любая книга – плод коллективного труда бригады из читателя и автора.
Благодарю за сотрудничество, с вами приятно было поработать.
Ну, а дальше уж решайте сами – стóит ли выплывать за буйки этого, типа, предисловия.
Кто его знает куда может течением занести.
За последствия не отвечаю, а кто не спрятался и гребёт дальше – я не виноват.
~ ~ ~
~~~письмена по бересте
оно – канешно, хотя, шо ж, а чуть шо, так сразу, и – ага!..Владимир Шерудило
Варанда…
Набор звуков…
Да и сама она отсюда только слышится.
Журчит нестройным гулом, бугрится струями, упираясь в тупые лбы, или в макушки валунов и – плещет дальше: из века в век; постукивая – ни в такт, ни в лад – на перекатах галькой…
И давно это с ней?
Для тебя – всегда.
Народы пришли – народы ушли, как говорил своим верблюдам великий и мудрый Абу-Лала, а она всё течёт себе как и текла…
Горные реки не меняют русла, разве что только названия. Охотники каменного века её наверняка иначе звали. Всё течёт, всё изменяется, даже наименования…
А, с учётом текучести забредающих на её берега кадров, ещё вопрос кто круче изменяется.
И я у неё не первый тут, на берегу, и не последний…
Но что оно такое – этот я?
Такая же струя, лишь обезвожено расплющенная о данный миг.
Распят на джойсовой дыре, через которую будущее валом валит в прошлое.
Эстафетный трубопровод от сопливого несмышлёныша к бессильно гневливому старикашке, между которыми общего – всего лишь слово «я».
Ну, и, конечно, в промежутке – я, застигнутый текущим мигом на берегу Варанды.
O, water! We be of one blood – thou and me!..
Ну, и что это вот только что было? Выпендрёж начитанным багажом? Сильно умный, да?
Так сегодня английским лишь ленивый не осилит шпрехать.
Вот и не вымахуйся тут дежурными цитатами – они абсолютно пóфиг времени, застывшему вокруг этой палатки, а сумеркам по ту сторону нейлонотканной стенки ещё ползти и ползти до густой темени ночи.
Так что занялся бы, лучше, делом – всё равно ведь сна ни в одном глазу – возьми-ка да сложи письмо обещанное дочери. Обещал же…
И, пожалуйста, поменьше пустых растеканий мыслию по древу…
Здравствуй, Лиляна.
( … куда милозвучнее, чем Варанда, а?..
…лучше – заткнись и дело делай …)
Вот и пишу обещанное тебе при нашей встрече письмо.
Зачем? Объяснить – оправдаться?
Объяснить можно что угодно – переделать нельзя.
Но слово дадено, надо исполнять.
Как ни кололо меня твоё «выканье», как ни отхлёстывало величанье по отчеству, я всё терпел и понимал, что невозможно сразу назвать «папой» незнакомца, отысканного в недрах интернета, совсем не похожего на ухаря с фотографии в мамином альбоме.
Непонятный морщинистый мужик с бородой…
Разве о таком папе ты мечтала с самого детства?
Так что и наше прощальное объятие на вокзале стерпела (женщине под тридцать не слишком-то и сложно), но и – только.
Лёд трещины не дал, сады не расцвели и не наполнились весёлыми трелями дроздов, синиц и прочих птичиц под ликующие фанфары хэппи-энда.
А вот мне, как всегда, везёт, ведь тебя в моей жизни куда больше было, чем меня в твоей.
Помню, как ты пнула меня в нос пяткой, проворачиваясь в животе своей матери.
Или, как в плотном стерильном коконе я нёс тебя из роддома.
А в ясельном хороводе вокруг новогодней ёлки ты была самой красивой, в гладкой стрижке пепельных волос, в чёрном жилетике, красных колготках и в маленьких чёрных валеночках.
И помню, что, приезжая на выходные, я водил тебя в безлюдный детсад, кататься на железных качелях и они вскрикивали ржавым надрывающим душу стоном над опавшими листьями игровой площадки.
Потому что я был уик-эндный папа.
Пахал на стройках в соседней области, чтобы получить квартиру от СМП‑615 и зажить своим домком, своим ладком.
А в один из приездов, лёжа в узкой, как коридор, спальне, которую тёща и тесть выделили нашей молодой семье в своей 3-х комнатной квартире, выслушал я рассказ моей любимой молодой жены, как на неделе кто-то из знакомых позвал её кататься на его «волге» и увёз далеко за город, аж в Заячьи Сосны. Откупорил бутылку шампанского под негромкую музычку радио в приборной доске, а она отпила и грустно сказала: «Отвези меня обратно, пожалуйста.»
И он безропотно завёл мотор.
Жена закончила шепотливую повесть о супружеской верности, а я лежал навзничь, придавленный стенами спальни, где в дальнем углу посапывала ты в зарешечённой кроватке, и сердце у меня настолько стиснулось, что обернулось камнем, и я порадовался темноте вокруг, когда холодная слезинка вдруг выкатилась из уголка глаза и молча сползла по виску, и затерялась среди корней волос.
Последняя слеза в моей жизни.
Позднее, намеченным ею путём пролегли морщины, но слёз уже не было никогда, ни в одном глазу, ни в каком направлении. Кроме тех, что выжимаются ветрами, но такие не в счёт.
( … об чём кручинишься, болезный?
Развалились надежды и, рухнув, расплющили бедолагу на наковальне окаменелого сердца?
Простые истины неоспоримы, неизбежны.
Трудовые подвиги и «пахота» на стройке, даже с обморожениями кожного покрова, не снимут неизбежности неотменимого следующего раза, не предотвратят, и она уже не скажет «не надо», а начнёт приспосабливаться к особенностям интерьера в салоне автомобиля.
Верно подмечено: воспоминанье о минувшем счастьи не приносит радости, а вспомнишь горе и – боль тут как тут.
Даже и здесь, на берегу Варанды, за тысячи километров от тесной спальни, за миллионы запечатлённых мигов, передающих друг другу эстафетную палочку – «я»…
И я тебе так скажу, любезный «я», лечиться надо тем же, от чего занемог.
Простая истина тебя пришибла?
Вышиби её не менее простым клином.
Мысли шире. Переходи от «я» к «мы».
Мы кто такие?
Припудренное, подбритое и всячески, под диктовку текущей моды, обухоженное стадо приматов.
А в стаде, как ни крутись, приходится жить по его правилам, неоспоримо непреложным, как закон гравитации.
Незнание закона не освобождает от неизбежности его исполнения.
Теперь утешься этой простой истиной, утрись и жди – авось рассосётся тягостное мозженье в яйцах.
…однако, что-то меня заносит, при дамах об таком не принято…
Начну-ка я, лучше, заново …)
Здравствуй, дочка
Это тебя наша встреча живьём так и не убедила отбросить корректное «вы», ну, а я всё продолжаю фамильярничать и звать тебя на «ты».
Позавчера, по плану, изложенному в моём к тебе email’е, я, уже далеко зáполдень, поднялся к прославленному долгожителю Карабаха – двухтысячелетнему платану вблизи необитаемой деревни Схторашен.
Жара стояла августовская, подъём – хоть и по уезженной грунтовке – крутёхонек и, ещё на подходе к древо-гиганту, глаз самовольно и несдержанно устремлялся вперёд и вверх – где ж он, родник, обещанный всеми, кто уже посещал это место?
В Карабахе родники обустраиваются на один манер: каменная стенка ограждает длинное корыто из тёсаных плит; в правом конце она сходится, под прямым углом, с короткой – по ширине корыта – стенкой, в которую вмурована округлая каменная чаша для жаждущих людей; струя родниковой воды, из железной трубы в той же стенке, с журчаньем наполняет чашу и через край спадает в глубокое корыто водопоя, чтобы в дальнем его конце вытечь наземь, а там – под уклон, куда придётся.
Но утолить жажду из родника, о котором мечталось по ходу долгого подъёма от придорожной закусочной на повороте шоссе в Кармир-Шуку, мне так и не удалось, потому что я нарвался на матаг.
( … в армянском языке есть два потрясных, по глубине и силе, выражения: «цавыд таним» и «матаг аним».
Первое из них дословно означает: «я понесу твою боль». Ровно два слова, а сколько красоты и философского смысла.
Второе выражение это, типа как, обязательство принести благодарственную жертву – матаг.
Матаг (последняя буква произносится с украинским прононсом, как в слове «годi») есть жертвоприношением по случаю благоприятного исхода.
Например, если кто-то из близких очень болел, но выздоровел, или упал с машиной в пропасть, да жив остался, значит пора делать матаг.
Для матага годится всякая живность, начиная от курицы и до барана, учитывая тяжесть грозившей беды и зажиточность жертвоприносителя.
И мясом жертвы нужно поделиться с родственниками и соседями; иначе это не матаг.
Впрочем, он не обязан быть съедобным, даже и тряпки годятся для матага, когда какому-нибудь нищему даришь поношенную, но ещё пригодную одежду.
В этом суть матага – отдать, принести жертву неведомым силам, что управляют судьбой, случаем, фортуной…
Разумеется, левые жертвоприношения это прямой подрыв авторитета и тень, брошенная на всемогущество богов ведущих мировых религий.
Однако, религии эти на практике убедились, что миссия по искоренению некоторых привычек среди несознательной части верующих неисполнима – хоть ты им кол на голове теши! – вот и приходится закрывать глаза на всякие там «валентинки», прыганье через костёр, масленичные хороводы и матаги в том числе.
Бурчат религии, но терпят.
Частое употребление сгладит всё, что угодно, и самонаибесподобнейшие выражения начинают применяться без осознания их смысла, просто как фигуры речи:
– Цавыд таним, ты ж за картошку мне не заплатил.
– Матаг аним, 600 драмов сотенными монетками только что дал. Посмотри в кармане.
– Цавыд таним, я с утра торгую, в кармане этих соток уйма.
– Матаг аним, второй раз платить не буду. Пить надо меньше …)
Так что не удалось мне напиться из приплатанового родника, потому как в тени долгожителя полным ходом шёл широкий матаг в два ряда столов на добрую сотню приглашённых, и оттуда раздался крик:
– Мистер Огольцов!!
А через миг-другой седовласый верзила уже держал меня под руку нежной, но неодолимой хваткой и подводил к молодой располневшей женщине.
– Вы ж нам преподавали! Помните меня? Имя помните?
– Может, Ануш? – наобум попробовал я, к общему восторгу и гордости, что их Ануш и через много лет помнят по имени.
А папа её, устроитель матага, всё так же необоримо нежно уводит меня к месту высвобожденному в конце мужского стола, где тут же сменяют тарелку с вилкой, приносят свежий стакан и непочатую бутылку, а тамада уже подымается с очередным тостом.
Карабахская тутовка (самогон из ягод шелковицы) по убойной силе соседствует в одной линейке с «ершом» и «северным сиянием», но я браво глушил её на каждый тост, а сосед справа – Нельсон Степанян (двойной тёзка аса-истребителя времён Отечественной войны) – исправно подливал в мой стакан и прятал за своей ухмылкой хулиганский прищур небесной сини.
Потом мне было уже не до платана. Подцепив свой вещмешок и ночлежные принадлежности, я отшагал метров за двести вдоль склона и там, пошатываясь, но крепясь, разбил синтетическую палатку китайского производства вместимостью на одну душу.
Остатки самоконтроля ушли на то, чтоб добрести до росшего неподалёку дуба и помочиться по ту сторону его широкого ствола.
Разворот кругом и первый шаг в сторону палатки отшвырнули меня спиной на бугристую кору дуба, по которой я сполз к его корням и там бессильно сник – сумерки сознания сгустились раньше вечерних. Подкатившую волну жестокой рвоты я выблевал поверх корневища слева, и снова втиснулся затылком в твёрдые грани коры.
А рыбы страдают морской болезнью?
Пробудившись среди ночного холода и мрака, одеревенелый, трясущийся в ознобе, я не сразу овладел прямохождением, однако, кое-как дошкандыбал-таки до палатки, вплетая свои истошные стоны в скулящий вой и хохот шакальих стай на ближних склонах.
В ту ночь я впервые всерьёз – без рисовки и позы – почувствовал, что могу и не дожить до утра. Напуганный безжалостной пронзительною болью, я затаился, дожидаясь рассвета, как спасения.
Он наступил, но облегченья не принёс, не помогали и мои жалкие стоны, но сдерживать их не хватало сил – всё отняла тягостная муторность…
Но, раз мне удалось пережить эту ночь – ( нестройно складывалось в сознании ) – выходит, я ещё зачем-то надобен этому космосу. Надо прийти в себя. Собрать себя.
Инвентаризация обнаружила недостачу верхнего протеза.
Я побрёл к дубу. Тупо поколупал палочкой лужицу застылых блёв в развилке корневищ – нету.
Напор той рвоты оказался столь резок, что протез выскочил на полметра дальше, где и переночевал благополучно: шакалам ни к чему – свои зубы имеются, а прочая прожорливая шушера не позарилась на кусок пластмассы за двадцать тысяч драмов.
Последовавший день я провалялся пластом, перемещаясь вместе с тенью ближайшего к палатке – незагаженного – дерева, как стрелка солнечных часов, истёрзанная общей интоксикацией и тотальным обезвоживанием.
Мудрые слова – «надо меньше пить», но я давно предупреждал, что пью без тормозов – сколько нáлито.
А ещё в тот день мне стало ясно, что близость долгожительствующей дендрореликвии не оставляет места для задумчивых отдохновений и мечтательных уединений – матагные компании продолжали сменять друг друга (правда, не каждая привозила с собой столы на КАМАЗе), пробредающие на водопой и обратно коровы, а также охочие до общения отроки, да и просто оглядчивые на лиловатость китайской синтетики прохожие, или проезжие по соседней тропе верховые – плюсуясь с жестоким похмельем,– пробудили во мне бесповоротную решимость сменить место ежегодной отлёжки.
Но сегодня поутру, набирая запас воды в дорогу, я рассмотрел дерево для отчёта тебе.
Действительно, чтобы так разрастись тысячелетия мало. У него даже нижние ветви размером с вековые деревья.
Ствол, несущий всю эту махину, имеет в обхвате не один десяток метров и расщеплён у основания, образуя проход.
В расселину ствола впадает ручей, сбегая от родника (не в нём ли разгадка долголетия?) и туда же, если пригнётся, может въехать всадник на коне.
Я тоже зашёл внутрь дерева и оказался в сумеречном гроте, куда свет проникает лишь от входа и противуположного выхода.
Неуютно и сыро. На полу кое-где положены плоские камни для опоры ногам в пропитанном водою грунте.
В центре стоит железный ящик-мангал на ножках из арматуры, сплошь покрытый многослойными потёками воска от сгоревших в нём свечечек.
Захотелось обратно в ясное утро.
И я пошёл своей дорогой, а когда прощально оглянулся на исполинский платан, то ещё раз поморщился на множество ножевых пометин от любителей увековечиться увеча творения природы и людей своими именами, датами и всяческой символикой.
Самые древние из шрамов-меток всползли, вместе с корой, метров на шесть от земли. Возможно, их вырезáли ещё в позапрошлом веке, но под неслышным течением времени они расплылись в смутные пятна непригодных для чтения контуров по неровной ряби серой коры.
Я пошёл не тем путём, что два дня назад привёл меня к знаменитому дереву, а свернул на тропку забиравшую правее и вверх, поскольку решил обогнуть глубокую долину Кармир-Шуки по кряжу ближних «тумбов» (так в Карабахе именуют поросшие травою и лесами округло волнистые цепи гор – в отличие от великанов «леров», вздымающих в небо угловато каменные вершины) с тем, чтобы у деревни Сарушен спуститься с тумбов на шоссе.
Насколько исполнимо такое намерение я не знал, но раз есть тропка, то зачем-то же она есть.
Вот я и шёл по ней, вдыхая бесподобные запахи горного разнотравья, любуясь зеленью волнистых склонов, предвкушая невообразимо захватывающий вид, что откроется, когда взойду наверх гряды.
Таким он и оказался – за пределами самотончайших тургене-бунинских эпитетов и наиизощрённейших сарьяно-айвазовских мазков, а на его необъятном фоне тропка вливалась в неширокую дорогу, подымавшуюся неизвестно откуда к следующему, поросшему лесом, тумбу.
От леса спускались крохотные на таком расстоянии фигурки пары коней, двух человек и собаки.
Мы сошлись минут через десять. Кони волокли под гору некрупные стволы деревьев, увязанные толстыми концами им на спину; очищенные от веток хлысты верхушек скребли дорогу.
Двое пацанов и собака сопровождали заготавливаемые на зиму дрова.
Углубившись в лес, я встретил ещё одну партию лесорубов. На этот раз из трёх лошадей с тремя же мужиками и без собаки.
Мы поздоровались и я спросил смогу ли пройти по тумбам к Сарушену.
Порубщик с иссушённым до костей черепа лицом над выгоревшей красной рубахой сказал, что про такую дорогу он слыхал, но с ней не знаком, и что метров через триста я увижу одноглазого старика – он там дрова рубит, – который хорошо знает этот лес.
Я прошёл и триста метров, и пятьсот – топора не слышно было, должно быть старик устроил перекур с дремотой, или обедал.
Не достигая вершины, дорога раздесятерилась на мелкие тропы.
Я пошёл по той, что забирала круче, но скоро и она пропала; начался просто горный лес на крутом склоне, где местами уже не идёшь, а карабкаешься, цепляясь за стволы деревьев.
Утомительное это занятие, и я двинул в обход вершины, надеясь не пропустить место, где гряду продолжит переход на следующий тумб.
И вдруг почувствовалась какая-то перемена.
Словно бы тише стало. Странно померк свет.
И без того нечастые блики солнца исчезли вовсе. Облака там, что ль, сошлись над лесом?
Оглядевшись, я понял причину: поменялся сам лес – меня окружали уже не великаны вперемешку с разнокалиберной порослью, а частые стволы ровесников, чьи кроны смыкались на высоте четырёх-пяти метров в непроницаемую для солнечных лучей массу, наполняя воздух оттенком потусторонней сумеречности.
Что-то заставило меня оглянуться и я встретился с внимательным взглядом зверя.
Шакал? Собака?
Ах, нет. Посмотри на этот хвост: конечно же, лиса. Возможно – лис, но молодой, не натыкался ещё на охотников.
– Hi, Fox. I’m not a prince. I am not young. Go your way.
Я двинулся дальше, уворачиваясь от нитей паутины, обходя, а иногда и продираясь сквозь колючие кусты, а лис шёл следом.
Кто сказал, что животные отводят глаза?
Так мы и шли, порой я что-то говорил ему, но он отмалчивался.
В какой-то момент я снял вещмешок, отломил и бросил ему кусок хлеба.
Сперва, он словно и не знал как подступиться, но потом съел, держа меня под неослабным контролем.
Может, рассматривает как потенциальную добычу? Рановато.
И лишь когда впереди завиднелись наполненные солнцем просветы между деревьев, он начал озираться, а вскоре и вовсе пропал.
Прощай, молодой лис из молодого леса.
Я вышел на поляну и понял, что дал почти полный круг, но так и не нашёл переход на следующий тумб.
Неподалёку, под крутыми скалами, различались несколько ветхих крыш, которые я приметил когда ещё подходил к этому лесу.
Блуждать в поисках тропы к Сарушену мне уже перехотелось и вместо этого я начал высматривать спуск в покинутую деревню Схторашен.
Спуск вскоре обнаружился и крутая стёжка привела меня в заброшенный сад тутовых деревьев, откуда я вышел к деревенскому роднику с до невозможности вкусной водой – куда тому приплатановому – миновал метров тридцать мощёной булыжником улицы из двух или трёх домов, обросших мошем по самые крыши и, по чуть приметной колее начал спускаться по обращённому к Кармир-Шуке склону.
( … деревня Схторашен опустела ещё до войны, потому и крыши в ней уцелели, и нет следов пожара.
Она стала жертвой маразматического решения руководства Советского Союза, когда тому перевалило за семьдесят, о переселении жителей высокогорных сёл на более равнинные места.
Тогдашние кормчие НКАО верноподданно исполнили директиву верхов и прикончили не одну лишь Схторашен …)
На пути вниз, ещё пара моих попыток срезать, ну, хоть малость, и выйти к шоссе повыше, упёрлись в глубокие ущелья с отвесными стенами, так что на шоссе я вышел там же, где и оставил его два дня назад – у павильона-закусочной «Тнчрени» .
( … покладистого судьба ведёт под белы рученьки, брыкливого же волочит за волосья, но исход один – оказываешься там, где предначертано …)
После пары поворотов плавного серпантина, асфальт взял прямой курс к перевалу из просторной долины Кармир-Шуки.
Я топал по кромке размягчённого жарой покрытия, задыхаясь, потея, не находя мест куда бы сдвинуть лямки самодельного вещмешка, чтоб не так сильно резало плечи заспинной кладью.
Соль пота ела глаза, которые уже не прядали по окрестным красотам, а понуро глядели под ноги в обшарпанных солдатских ботинках, на шершавый асфальт и на мою тень, начинавшую тихо-тихо удлиняться; но порой, таки, вскидывались, порываясь высмотреть тенистое дерево у обочины, хоть я и знал, что таковых до самого перевала не предвидится.
Раза два я уклонялся в сторону – полакомиться чёрными ягодами придорожного моша, но он в этом году не уродился, или место было бесплодное – и снова ботинки топали по непреклонно устремлённому вверх шоссе.
Горы – лучший учитель предвидения будущего: когда у шоссе бесконечный прямой подъём сменился на горизонтальные извивы, продиктованные рельефом чередующихся тумбов, я уже мог прозорливо вычислить, что через полчаса буду во-о-он на том дальнем повороте, а за ним, минут через десять, от шоссе ответвится влево грунтовка и полого пойдёт вдоль склона до самого дна тамошней долины, прорезанной речкой Варанда, и там будет хорошо – деревья и тень, и вода из прибрежного источника…
Так всё и вышло, и в том месте, где грунтовка пересекает каменное ложе русла реки, чтобы начать подъём к Саркисашену, я с ней расстался и пошёл по левому берегу, через тоннель в густом орешнике, пока не оказался на открытом – и на удивление ровном – поле, протянувшемся напротив подножия тумба-великана на том берегу.
Представь себе почти отвесно вздымающееся футбольное поле, поросшее лиственным лесом до самого верха.
Из-за крутизны склона кроны деревьев не прячут, а лишь сменяют друг друга, взбираясь всё выше, переливаясь каждая своим из двухсот с чем-то оттенков зелёного. Представляешь?
А я на этом берегу под кряжистым чугупуром (это на котором грецкие орехи растут), растянулся на подстилке из трухи от прошлогодней листвы и озираю весь этот зелёный беспредел, и синее небо – сколько его заглядывает вглубь здешней долины – и колыханье пронизанных солнцем листьев над головой.
Хорошо вот так валяться и думать ни о чём и обо всём; жаль только, что не с кем поделиться всей этой красотищей.
Ну, да я уже привык, что самые захватывающие моменты случаются в одиночестве.
Главное не скатиться в мегаломанию – чем больше, мол, пространства на отдельно взятую душу, тем выше ранг носителя данной души.
Однажды я листал лощёный журнал на немецком.
Самой длинной оказалась статья про какого-то Херцога, владельца крупного химического концерна. Вобщем, представитель той элиты, что не опускается до мелкой политической грызни, оставляя это занятие президентам, премьерам и партиям, но их повороты руля в личных вотчинах, хотя бы на полградуса, становятся определяющими для всего государственного курса Германии.
Статья перемежалась красочными снимками, и на одном из них его портрет в своём персональном приусадебном парке, на фоне внуков-херцогенят – белокурых купидончиков с луками.
Его праотцы – бродячие евреи-челноки, притаскивали ширпотреб аж из Китая на продажу феодальным бандюгам-герцогам, а неблагодарные варвары чинили пейсоносцам всяческие измывательства.
А нынче он банкует. Пахан по полной.
А вот счастлив ли?
Не верю, с оглядкой на выражение его лица в том выхоленном парке.
Ну, а я?
Счастлив ли я, валяясь здесь, в древесной сени, обвеваемый легчайшим ветерком от недалёкой речки, где мне – безраздельно одному – отмеряно пространства в полфутбольного поля, заросшего травою по колено, вперемешку с шипастыми шарами колючек синевато-сизого отлива, а вместо противоположных трибун – круто вздыбленный ввысь тумб-курган, ростом с многоэтажки, что вырастают вдоль дороги из Борисполя в Киев?
Что ещё нужно для счастья?
Вопрос, конечно, интересный…
Жаль нету зеркала – поставить себе диагноз по выражению лица.
Местечко это открылось мне шесть лет назад.
В то лето образовательные власти Степанакерта устроили тут палаточный лагерь для городских школьников, и Сатэник работала в нём несколько смен подряд.
Моё предложение вверить её кровинушек моей отеческой заботе и опеке было моментально отфыркнуто и Ашоту с Эмкой пришлось отдыхать рядом с ней такое же количество смен, в отрядах сообразно их возрасту и полу; а Рузанна, только что сдавшая университетские экзамены за второй курс, трудилась рядом с мамой на должности неоплачиваемой пионервожатой.
На второй неделе бессемейной жизни я заскучал и однажды под вечер покинул город в направлении Сарушена, купив в окраинном магазинчике пачку печенья и кулёк конфет (на тот период жизни мне уже дошло, что радость от лицезрения отца желательно закреплять гостинцем).
В лагерь я попал уже затемно.
Примерно там, где я сейчас лежу, стоял раздвижной холщовый табурет директора лагеря, Шаварша, на который кроме него никто не смел садиться – прям тебе коронационный валун шотландских королей.
На обращённой к полю стороне вот этого же широкого, и уже тогда расщéпленного молнией, чугупура висела одинокая, но мощная лампа, питаемая почти бесшумным генератором.
Два длиннючих стола из листового железа, с узкими лавками по бокам, протянулись, один за другим, вдоль кромки примыкающего поля, в котором силуэтились две приземистые пирамиды армейских брезентовых палаток, вместимостью на взвод каждая – одна девочкóвая, другая для мальчиков и физрука.
Чуть в стороне стояла шестиместная палатка воспитательниц и ещё одна, совсем маленькая, для директора Шаварша и его жены, а по совместительству фельдшерицы-поварихи лагеря.
Правее палаток, метров за тридцать от столов, в ночном поле разложен был огонь, лизавший тихими языками конец древесного комля изредка, по мере сгорания, продвигаемого в костёр.
Меня опознали в свете лампы и кликнули Сатэник, а с ней прибежала Рузанна.
Обе обрадовались, но Сатэник внутренне напряглась – а ну, как отколю какую-то сентиментально-романтическую дурость вразрез с вековыми устоями местных нравов?
Но я вёл себя смирно, и послушно уселся с краю стола, где начинался лагерный ужин и где мне тоже выделили тарелку каши, ложку и кусочек хлеба.
После пары попыток хоть что-то откусить, мне стало ясно – этот хлеб не для пластмассовых зубов и я неприметно отложил его в сторонку, переключившись на кашу.
( … как удалось устроить этот слепок советских пионерлагерей в стране, министр образования которой, в приливе откровенности, признался, что министерство не в состоянии купить даже футбольный мяч для школы номер восемь?
Наверное, диаспора выделила целевой грант и в конце лета заграничные благотворители получат отчёт:
– На выделенные вами $ 40 000, дети столицы Арцаха получили возможность …)
Составление реляции гипотетическим добродетелям от непойманных грантокрадов прервал восторженный писк притиснувшейся ко мне сбоку Эмки.
Я погладил её волосы и узкую спинку дошкольницы; о чём-то спрашивал, она отвечала и тоже спрашивала меня о чём-то.
– А где Ашот? Ты видела его?
Она указала на дальний край соседнего стола, где свет от лампы мешался с ночным мраком; он сидел там, забыв про ужин на тарелке, восхищённо таращась на высящихся вокруг него старшеклассных недорослей с их неумолчным гоготом и ржаньем.
Я достал из кармана летней куртки печенье с конфетами и дал Эмке, чтобы та поделилась с братом. Она тихо отошла.
Потом была трапеза для взрослых.
Воспитательницы чинно пили вино; директор, физрук, участковый милиционер из соседней деревни и я – тутовую водку.
Закусывали мелкой рыбёшкой, которую милиционер днём глушанул в речке электрическим разрядом от одолжённого в лагере генератора, и которую потом приготовила медсестра-повариха-жена директора.
Группа старшеклассников подошла к Шаваршу с челобитьем, чтобы позволил устроить танцы и тот милостиво дал указ отодвинуть отбой на полчаса.
Я улучил момент спросить Рузанну где Ашот, она ответила, что тот уже спит в палатке и вызвалась пойти разбудить, но я сказал, что не надо.
Старшеклассники отошли к костру – вытанцовывать под музыку из колонки на соседнем с лампой дереве.
Мне поначалу показалось странным, что те, как один, танцуют спиной к руководству, но затем догадался – каждый танцует с собственной тенью, отбрасываемой в поле светом лампы.
Потом директор повелел выключить генератор и удалился опочивать
К тлеющему в костре бревну мелкими группами просочились отдыхающие старшеклассники, чтобы, под присмотром негласно сменяющихся воспитательниц, стращать друг дружку жуткими рóссказнями и ухохатываться над извечными анекдотами до часу или двух по полуночи.
В час ночи я согласился уйти спать на свободную раскладушку в мальчукóвой палатке, поскольку, чтобы успеть на проходящий через Сарушен автобус до Степанакерта, выходить нужно в шесть утра…
Через много лет – совсем недавно – я спросил Ашота почему он так и не подошёл ко мне в тот вечер. Он ответил, что о моём приезде узнал лишь на следующий день, когда меня уже не было в лагере.
На мой вопрос о печеньи с конфетами он недоумённо покачал головой.
Эмку я не виню: в шесть лет слопать пачку подвернувшегося на фоне лагерного пайка печенья – это нормальное проявление здорового эгоизма.
Бедняга Ашот. Каково вырастать с мыслью – которую давно похоронил и не помнишь, но которая всегда с тобой – мысль, что отец не захотел к тебе подойти?..
К тебе – единственному из всей семьи – отец подойти не захотел.
Но, как говорится, дело прошлое или, повторяя мудрое изречение моей последней тёщи, Эммы Аршаковны:
– Кьянгя ли!
Что-то малость меня припечалило это уединённо роскошное местечко. Ладно, хватит тоску нагонять.
Повалялись, а теперь пособираем венвильно дозволяемый сушняк и валежник.
Не углубляясь в крутосклонные заросли, я прочёсываю кусты и деревья вдоль кромки поля, вытаскиваю на утоптанную тропу здесь сломленный сук, там сухостой.
Метров через триста я разворачиваюсь, чтобы вернуться, и по ходу подбираю в охапку набросанное на тропу топливо. Сколько получится уволочь за раз.
Следующие ходки получаются уже короче, и ещё короче.
Теперь остаётся наломать дров для костра, где буду печь «пионеров идеал-ал-ал…»
Делать это приходится голыми руками, поскольку из оружия при мне и ножа даже нет.
Иногда люди изумляются и стращают меня дикими зверями или разбойниками, но за всю историю моих ежегодных уходов на волю я видал лишь лисиц и оленей, да пару раз медвежьи следы, а разбойники вообще не показывались.
Впрочем, без нападения не обошлось.
При ночёвке в окрестностях деревни Мекдишен я лёг спать под кустом, укутавшись поверх спального мешка синей искусственной рогожкой (совершенно непрактичная хрень – в дождь секундально промокает, но в ту пору у меня ещё не было палатки), и где-то к полуночи на мой ночлег наткнулись два волкодава – охрана возвращающегося в деревню всадника.
Ух, и взлаяли ж они у меня над головой!
Подъехавший с фонариком хозяин тоже изумился такому явлению в родных местах, но синий куль ему проорал, что он турист из Степанакерта, и поскорей отзови своих гампров.
Мужик завёл было знакомую байду про волков, но я не церемонясь заявил, что после его псов мне вообще никто не страшен.
А при посещении Дизапайта – это третья по высоте гора Карабаха – туда же через полчаса поднялась группа ребят из Хало Траста – есть такая международная организация с британской пропиской, что финансирует и обучает местное население горячих точек планеты проводить расчистку минных полей, которые в ходе военных действий противники наставляют друг другу.
Ветродуйная вершина Дизапайта считается лучшим местом для просьбенного матага, поскольку там с незапамятных времён стоит каменная часовня и её надо трижды обойти кругом для исполнения твоей просьбы.
Халотрастовцы притащили с собой жертвенного петуха, а нож прихватить забыли и очень разочаровались, что я ничем не могу им помочь.
Однако-таки, исхитрились и оттяпали жертве голову осколком горлышка от водочной бутылки, что попался в мусоре от предыдущих матагистов.
И только лишь в том году, когда я ходил на Кирс (вторую по высоте вершину) при мне была имитация швейцарского армейского ножа – подарок Ника Вагнера – там в ручке много всяких чепуховин, типа вилки, штопора и даже пилочки для ногтей. Не помню куда я его потом задевал.
Но, сколько б я перед тобой не хвастался, вершины номер один в павлиньем хвосте моих бродяжных достижений нет.
По ней проходит линия фронта недоконченной войны между армянами и азербайджанцами. Так что не одни, так другие меня туда не пропустят, а может и с обеих сторон шмальнут синхронно.
Короче говоря, ломка высохших веток не Бог весть какая проблема и скоро я заготовил две достаточные кучи дров и палок для костра – когда первая прогорит, я закопаю в её жар и пепел нечищенную картошку, а сверху дожгу остачу, чтоб картофан дошёл до кондиции.
Но это чуть потом, а пока что установлю палатку, а то, вон, солнце уже зашло за крутой тумб и от речки потянуло сумерками.
( … любой из нас, хоть на сколько-нибудь, да пироман.
Пировали пироманы пирогами с Пиросмани…
По-первах, смахивает на недошлифованную скороговорку, но следом исподволь закрадывается разделительный вопрос: тут Пиросмани в роли сотрапезника, или пирожной начинки?..)
Чтобы пламя не расползлось по полю, я обхожу костёр кругами, пресекая поползновения длинным дрыном, который не сумел переломить при дровозаготовке.
Когда костёр взят в чёрную кайму выгоревшей травы, дозор сменяется смиренным созерцанием хлопотливо деловитых языков пламени, а дрын превращается в посох для подтыка моего опорно-двигательного аппарата.
А что тебе видится в открытом огне, или в трепетном мерцании чёрно-седых головешек распадающихся в угольки?
( … мы были семенем, ростком, почками, ветвями …)
Теперь, превратив посох в кочергу, я ворошу их тлеющие реминисценции, расталкиваю, чтоб получилась ямка на дюжину картошек: завтрак и ужин – два в одной.
Огонь ест дерево, я ем картошку, меня едят мошки…
( … кто не ест, тот не живёт.
Даже такие тихони как кристаллы, или, там, сталактиты-сталагмиты, по ходу своего безубойного роста пожирают пространство.
А вот время сожрать невозможно, поскольку его вовсе нет.
Время – ржавая селёдка для сбивки с толку простофиль.
На самом деле есть только разные состояния пространства: пространство освещаемое слева – утро, пространство освещённое справа – вечер.
День единица измерения времени? Чушь собачья!
День – это разность между двумя состояниями пространства.
Три яблока минус два яблока будет одно яблоко, а не единица времени.
Вобщем, ты особо не пугайся – это у меня давний сдвиг по фазе на тему времени с пространством.
Едва взбредёт на ум эта сладкая парочка: враз короткое замыкание, взъерепенюсь весь и – пошёл взахлёб лепетать не понятно о чём!
Начинаю Чёрт знает какую чушь городить, или такую несу околёсицу, что бог ногу сломит.
Ни дать, не взять – Василий Блаженный, просто по другой тематике.
Однако, не буйствую ничуть, вот уж чёрта с два и Боже упаси.
Всё по тихому: сам наплету, да сам же и запутаюсь – тут и бзику конец, а потом опять хоть воду на мне вози …)
~ ~ ~
~~~истоки
Пожалуй, пора, наконец, ознакомить тебя с твоими же генеалогическими корнями по отцовской линии.
За материнскую сторону я спокоен – твоя бабушка, Гаина Михайловна, тебя наверняка поинформировала на пару колен вглубь, если не далее, но вряд ли она излагала родословную твоего папы.
Такая уверенность зародилась во мне в тот момент, когда мать твоя меня письменно известила о моей смерти.
Вернее, о том, что она тебе сказала будто твой папа умер, и мне не следует травмировать неокрепшую психику ребёнка появлениями с того света.
Тут тебе и разгадка отчего с тех пор в пивной, если сосед за столиком начинал толкать бодягу, мол, это нынче он никто, а прежде ходил штурманом на атомной подводной лодке, я , с чистой совестью и полным на то основанием, поливал в ответ, что являюсь заслуженным лётчиком-испытателем, погибшим во время пробных полётов на реактивном истребителе секретного типа.
За этот подвиг я, между прочим, удостоен звания Героя Советского Союза и представлен к медали «Золотая Звезда». Тоже посмертно. Жаль, награда не нашла героя.
Да…
Просто в ту романтическую эпоху, когда ребёнок матери-одиночки начинал задавать ей вопросы по поводу неполного состава семьи, мамина отмазка, традиционно, звучала так:
– Твой папа был лётчик и погиб.
Проза жизни приберегалась для подруг:
– Ой, бабоньки, он меня в конторе на столе разложил: по гроб жизни не забуду, как те счёты бухалтерски у меня под сракой ёлзали…
Хотя, на особо углублённый экскурс к истокам не рассчитывай, по причине моей собственной неосведомлённости. Науку евгенику в те поры держали в чёрном теле.
Мать матери твоего отца звали Катериной Пойонк и твой прадед, Иосиф Вакимов, комиссар Первой конной армии Будённого, вывез её из Польши, как трофей, или сувенир на память о том периоде Гражданской войны, когда будённовцы чуть было не захватили Варшаву.
Отношения их были узаконены тогдашним ЗАГСом и восемь лет спустя родилась моя мать, Галина, за которой последовали её брат Вадим и сестра Людмила.
По их рассказам, Иосиф был очень умён, знал еврейский и немецкий языки и по должности являлся торговым ревизором целой области на Украине.
В тот период у Катерины имелась отдельная пара туфлей под каждое из её платьев.
Ещё через семь лет, в конце тридцатых, Иосифа арестовали. Однако, обошлось без расстрела (сумел, как видно, по умному откупиться), его приговорили к ссылке на поселение в очень северную, но всё же европейскую часть России.
Семья последовала за ним, а в начале сороковых все вместе вернулись на Украину, вскоре захваченную германским вермахтом.
Два года спустя, под конец оккупации, когда немецкие войска откатывались на запад под ударами Красной Армии, мой дед исчез из дому буквально за день до освобождения, а вместе с ним пропал и велосипед – большая, по тем временам, ценность.
Наутро, спасаясь от артобстрела, Катерина с тремя детьми бежала в пригородное село Подлипное, где осколок снаряда срезал яблоневую ветку в нескольких сантиметрах над головой моей матери – важная деталь, не будь этих сантиметров, то и меня бы не было.
К полудню наступающие части Красной Армии освободили село и сам город.
Катерина пришла обратно в Конотоп, где и взрастила, как мать-одиночка: Галину, Вадима и Людмилу.
Старшая дочь, Галина, в начале пятидесятых познакомилась по переписке со старшиной второй статьи Краснознамённого Черноморского Флота Николаем Огольцовым.
«По переписке» это когда домой почтальон приносит письмо начинающееся словами: «Здравствуйте, незнакомая Галина…», а заканчивается оно: «…пришлите, пожалуйста, свою фотокарточку».
И на следующий год Николай поехал в отпуск не на родную Рязанщину, а в украинский город Конотоп.
Ширина его флотского «клёша» и грудной клетки под полосатой тельняшкой, в сочетании с ленточками на бескозырке и сияющим якорем на бляхе пояса, впечатлили тихие улочки пристанционной окраины, где он отыскивал адрес, по которому слал письма: «лети с приветом, вернись с ответом», и три дня спустя мои родители, не спросясь у моей бабушки, расписались в городском ЗАГСе.
Был ли мой без вести пропавший дед евреем?
Комиссарство в годы Гражданской войны, владение языком, ревизорство и даже имя могут служить косвенным подтверждением.
Однако, высокий процент детей избранного народа среди революционных вожатаев не снимает возможности исключений; язык он мог изучить служа в магазине еврея-негоцианта; а что до имени, то даже такой закоренелый антисемит, как товарищ Сталин был ему тёзкой.
Тем не менее, мать моя при знакомствах предпочитала представляться Галиной Осиповной.
Свои тёмные глаза, чуть выпуклые и с влажноватым блеском, она унаследовала от Катерины Ивановны (или Катаржины Яновны?), которую трудно приписать к коленам израилевым, так как в красном углу на кухне она держала тёмную лакированную доску с сумрачно-бородым святым (не знаю какого роду-племени или вероисповедания, может и католик), а вдобавок откармливала в сарае свинью Машку на убой.
Но, опять-таки, икона вполне могла прижиться как маскировочная часть интерьера со времён оккупации, а насчёт кошерных строгостей диеты, то ведь голод не тётка, а «бiда навчить коржи iз салом їсти».
Конечно, все эти без ответов вопросы возникнут потом, после возвращения наших с тобой предков из конотопского ЗАГСа, но нам с ними не по пути, мы заворачиваем обратно – проследить линию происхождения твоего деда по отцу.
Линия эта безыскусна проста и приземлённа. Одним словом – мужичья.
В земле рязанской есть районный центр Сапожок, от коего километрах в девяти, или одиннадцати (в зависимости у кого спросишь) расположена деревня Канино.
Отец мой хвастал, будто в лучшие времена там насчитывалось около четырёхсот дворов.
Овраг с ручьём делит деревню надвое.
В старые добрые времена на берегах его сходился народ для забавушки – воротить стенкой стенке скулы заради светлого праздника, или просто воскресного дня. Победа измерялась тем, докудова отгоняли супротивника.
Отшумело. Быльём поросло.
Стал преданием Лёха-шорник, наипервейший боец и послушливый сын.
Держал его тятька в строгости.
– Куды?– шумнёт бывалоча,– богатый шибко? Ну-кыть, работай!
И склоняет тридцатилетний сынок могучие плечи над хомутом, шилом тыкает, а сам весь там – у ручья, откуда мчат запыханные мальцы:
– Ой, Олёша, ломят наших-то.
Отец только зыркнет и – молчит Лёха, дратву втаскивает, покуда в избе не услышится хряск и рявканье упорного отступления вдоль улицы.
Тут уж батя не выдержит, подойдёт – хлобысь! – Лёху в ухо:
– Туды-т, растуды-т! Наших гонют, а энтот …!
Дальше Лёха не слушает, от уж за дверью, переулками оббегает побоище, потому как с тылу нельзя.
– Лёха вышел!
И – воспрянули наши, а у тех – колебанье в рядах. Кой-кто и валится загодя – лежачих не бьют. А Лёха сосредоточенно глушит самых отборных и ведь, растуды-т, без единого, распротак его, мата.
И погнали обратно к ручью, потом вверх по откосу, потом до околицы.
Да, гремела деревня…
Коллективизация этим игрищам край положила.
Лёху голодовка прибрала и батю его, конечно, тоже.
Мать отца моего, Марфа, застала ещё и царский режим, поскольку на момент Великой Октябрьской революции ей исполнилось лет тринадцать-четырнадцать.
А десять лет спустя она была уже замужем за крестьянином Михаилом Огольцовым, которому и родила троих детей – Колю, Серёжу и Александру (в порядке очерёдности).
Коллективизацию Михаил пережил, но голод в Поволжье его добил, и осталась Марфа матерью-одиночкой; варила детям суп из лебеды и менее съедобных трав, но выжили.
Потом пошли колхозные будни, трудодни, клуб, куда привозили кино, для просмотра которого деревенским парням приходилось крутить ручную динамо-машину и вырабатывать электричество.
Летом сорок первого объявили о вероломном нападении фашистской Германии и мужиков поголовно угнали на войну.
До Канино немцы не дошли, хотя и сюда стала докатываться фронтовая канонада.
Потом в деревне разместились части резерва – сибиряки, поражавшие своим обычаем: после парной бани сидеть на зимней улице в одной рубахе и покуривать.
Сибиряки ушли в сторону канонады и вскоре её не слышно стало.
Кроме тишины, в деревне остались лишь бабы, девки да пацаны-допризывники; плюс председатель колхоза – однорукий инвалид.
И длилось это не день, не неделю, а месяц за месяцем, из году в год.
От такой ситуации среди баб пошли отклонения: собирались по избам и разглядывали одна у другой влагалища, комментировали, выносили суждения – чья краше.
Когда об этом возрождённом сафоизме прослышал председатель, то, чтобы не дошло до района и дабы радикально пресечь лесбийный уклон, созвал общее собрание в клубе исключительно для баб и девок; но пацаны постарше прокрались в кинобудку и, разиня рты, подглядывали в окошечки, как председатель материл всех собравшихся, стучал единственным кулаком по столу и божился повывести это «мандоглядство» (я малость смягчаю прямоту председателевых выражений).
Удалось ли инвалиду сдержать своё обещание мой папа так и не узнал, поскольку его (папу) призвали в армию.
Вернее, даже не в армию, а на флот…
Вторая мировая догорала, но пушечное мясо жрала ничуть не меньше.
Рязанского паренька Колю, вместе с другими пареньками, переодели в чёрные бушлаты, помуштровали пару месяцев в «учебке», чтоб отличали команду «смирно!» от «разойдись!», да понимали бы где у винтовки штык, а где затвор, и посадили на быстроходные катера для переброски вверх по реке Дунай и высадки десантом где-то в Австрии.
Но, при всей быстроходности десантных катеров, к месту высадки они не поспели – Германия уже капитулировала и не на кого было идти в атаку.
Когда-то в этом месте я чувствовал некоторое разочарование – эх! не успел стать мой папа героем! – но теперь меня радует, что он ни разу не выстрелил и никого не убил, хотя бы даже нечаянно.
Некоторое время он сторожил остров Змеиный у берегов Болгарии, или Румынии, а затем его перевели мотористом на минный тральщик – судно небольшого водоизмещения, с малочисленным экипажем.
Морская служба началась переходом из Севастополя в Новороссийск по неровному Чёрному морю – не то, чтобы шторм, но изрядно болтало.
Качели в парке притягательная забава, но через пару часов качания желудок выбросит даже то, что залежалось в нём с позавчерашнего завтрака, а упомянутый переход длился значительно дольше.
Когда краснофлотец Огольцов сошёл на берег в порту назначения, то даже суша продолжала раскачиваться под ним; он попытался вырвать между высокими штабелями из длинных брёвен, сложенных вдоль причала, но безрезультатно.
Молодой моряк сел, где стоял и, глядя на взлетающие вверх и вновь проваливающиеся ряды брёвен, подумал, что на морской службе он помрёт.
Как ты, наверное, догадываешься, такое его предположение оказалось ошибочным, ведь он ещё не встретился с твоей бабушкой и не зазвал её в ЗАГС, и она ещё не родила троих детей, не превратившись впоследствии (впервые на протяжении этой истории) в мать-одиночку.
Итак, морская болезнь не уморила моего отца, он свыкся с качкой, вытатуировал якорь на тыльной стороне левой кисти, а на правой руке – от локтя к запястью – стремительный контур ласточки с конвертиком письма в клюве («лети с приветом») и бороздил на своём утлом тральщике просторы Чёрного моря, расчищая его от минных полей, в чём, вообще-то, и состоит назначение тральщиков.
Основное отличие подводных мин от наземных в том, что их надо привязывать, иначе расплывутся куда попадя и будут рвать кого попало, без различия своих и чужих.
Вот их и привязывают стальными тросиками к якорькам.
Якорьки хватаются за морское дно и мины – железные шары, заполненные воздухом и взрывчаткой – всплывают, но не на поверхность, а насколько пусит длина тросиков, которую устанавливают из расчёта глубин на конкретных морских путях; где мины и дожидаются, на глубине двух-трёх метров, когда корпус проходящего по морю корабля зацепит один из детонаторов, торчащих из корпуса мины в разные стороны, наподобие детского рисунка солнца.
Благодаря своей малой осадке, тральщик проходит над минными полями не цепляясь за рожки детонаторов, а за ним под водой волочится отпущенная с кормы длинная петля толстого стального троса, который обрывает крепление к якорькам и мины всплывают на поверхность, чтобы их обезвредили, то есть заставили взорваться.
Для этого от тральщика отваливает весельная шлюпка, подходит к плавающей мине, чтобы закрепить на ней динамитную шашку с бикфордовым шнуром (и это всё не на тихом пруду, а на зыбких волнах открытого моря, где шар мины вздымается выше шлюпки, а потом проваливается под неё, норовя боднуть рогом), старшина затягивается заранее раскуренной папиросой – это не для форсу, а чтобы поджечь шнур и – все дружно налегают на вёсла.
Никто не сачкует, нужно отойти от мины подальше – её мощный заряд рассчитан рвать корпуса линейных броненосцев.
При разложении на дробные детали романтический героизм улетучивается и расчистка акваторий от минных полей начинает смахивать на работу трактора в колхозном поле – выйти в заданный квадрат и день-деньской бороздить его туда-сюда с отпущенным за кормой тросом, а назавтра – следующий квадрат.
Вобщем, героизм на тральщике бригадный и то, что отец мой остался в живых, заслуга общая – каждый хорошо делал свою часть работы.
Например, однажды в конце рабочего дня Николай Огольцов стоял у лебёдки, что втаскивала трос на корму тральщика и вдруг увидел – наматываясь на барабан, трос тянет за собою мину, тросик которой переплёлся с тральщиковым.
Останавливать лебёдку поздно – она докрутила бы по инерции.
У папы рубаха отлипла от тела, вздулась, как шерсть на зверях в минуту крайней опасности, и он до того истошно животным голосом проорал: «полный вперёд!», что капитан на мостике без раздумий подчинился – ударил по сигналу в машинное отделение; моторист, папин сменщик, тоже не подвёл – винт взбурлил воду и напор её оборвал-таки тросик привязчивой мины.
Спаслись сообща.
Через пять лет в море не осталось неизборождённых тральщиками квадратов и папу перевели на сторожевые корабли, опять-таки мотористом дизельного двигателя, у него это хорошо получалось, а ещё года через два флотская служба закончилась и его завербовали работать в «почтовом ящике».
Тогда в СССР было много секретных институтов, заводов и даже городов, и, чтобы шпионы не разгадали что где находится, у секретных объектов не было почтовых адресов, типа: область, район, город, улица; туда адресовались покороче – почтовый ящик номер такой-то, Н. Огольцову.
Поскольку же во время своего последнего отпуска при прохождении действительной военной службы он зарегистрировал брак с гражданкой Вакимовой Г. И., то и она отправилась в «почтовый ящик» в горах Карпатских.
Роддома в «ящике» не было и для произведения меня на свет моей матери пришлось отправиться в город Надворная, в тридцати километрах от областного центра – города Станиславль (впоследствии Ивано-Франковск), что её очень пугало, так как бандеровцы обстреливали машины на дорогах.
( … большую половину жизни я считал их бандитами и пособниками фашистов – целая дивизия «Галичина», воевавшая против Красной Армии, состояла из западных украинцев.
Потом мне тихо-тихо дошло, что до прихода немцев Красная Армия держала тех украинцев в оккупации и помогала НКВД расстреливать потенциальных противников советского строя.
Но что такое дивизия по сравнению с армией?
На стороне германского вермахта сражалась ещё и РОА – Русская Освободительная Армия.
Кроме того, по рассказам рядовых красноармейцев, участников событий той поры, бандеровцы круто воевали как против советских, так и немецких войск – партизанили, защищая свою землю от сменявших друг друга освободителей-поработителей.
Но для моих родителей, во всю прожитую ими жизнь, бандеровцы так и оставались бандитами …)
Даже спустя два года, когда мать моя снова отправилась в роддом, пулемётные очереди по-прежнему грохотали на склонах Карпатских гор, но она их уже не слыхала, потому что её мужу пришлось сменить «почтовый ящик» и переехать из Закарпатья на Валдайскую возвышенность.
Причиной перемены обстоятельств их жизни стал письменный донос в Особый Отдел предыдущего «почтового ящика» от соседей по дому, где до замужества проживала Галина Вакимова.
Дом этот представлял собой одноэтажное строение из тех, что в Конотопе называют «хатами».
Размер «хаты» составлял 12 на 12 метров и половина её принадлежала гражданину Игнату Пилюте.
Половину от второй половины – дощатую прихожую, кухню и комнату, занимала Катерина Вакимова с детьми, а остальная четверть хаты – опять-таки: дощатая прихожая, кухня и комната – являлась собственностью гражданина Дузенко.
Дочка Дузенко вышла замуж за гражданина Старикова и жить стало тесно.
Для увеличения жизненного пространства Дузенко и Стариков вызнали номер почтового ящика, куда моряк-черноморец увёз их прежнюю соседку и написали в Особый Отдел «ящика» (который занимался выявлением и арестами шпионов), что отец Галины Вакимовой, а ныне Огольцовой, был репрессирован в тридцатых годах, но как-то сумел вернуться на Украину, и что во время оккупации в его доме находился немецкий штаб (и это правда, на половине Пилюты располагался штаб роты вермахта), а при подходе Советской Армии Иосиф Вакимов бежал вместе с отступающими фашистами.
Особые Отделы «почтовых ящиков» отличались особой бдительностью и цепкостью – родственников Иосифа, по расчётам доносителей, вполне могли раскрутить до ссылки, как минимум.
Однако, остался неучтённым фактор времени: на тот момент Великий Вождь Народов, товарищ Сталин, уже почил в бозе и затянутые в его бытность гайки понемногу начинали отпускаться.
Разумеется, Николай Огольцов был неоднократно допрошен в Особом Отделе «почтового ящика».
Между Особым Отделом и Отделом Внутренних Дел города Конотопа произошёл обмен служебной перепиской, но репрессировать моего папу не стали по причине совсем крестьянского происхождения и ещё за то, что очень уж его слушались всякие моторы-дизели, производившие электроэнергию для «почтовых ящиков».
Однако, оставить сигнал без внимания никак нельзя, поэтому его перевели, от греха подальше, в «почтовый ящик» не граничащий с зарубежными странами…
Вторые роды Галины Огольцовой тоже произошли вне «ящика» – в ближайшем райцентре.
( … похоже, что ахиллесовой пятой тогдашних «почтовых ящиков» был роддом. Вернее, его отсутствие …)
В роддом её впускать не хотели, посчитав, из-за чёрных волос и красному, в больших цветах, халату, за цыганку.
Сопровождавший её муж Коля опроверг такое заблуждение и её приняли.
Спустя час-полтора ему объявили, что родилась девочка, а пять минут спустя, что родился ещё и мальчик, и тогда он закричал:
– Гасите лампочку в палате – они на свет идут!
История, будь то одного человека, или многолюдного общества, распределяется на две разновидности: первая – это история незапамятная, сохранившаяся в легендах, мифах и преданиях; а вторая та, что запротоколирована, увязана с определённым летоисчислением, сохранена в общественных хрониках, или в личной памяти, если речь идёт об истории одной особи.
Все дети моих родителей зачарованно слушали маму и папу, когда те рассказывали семейные предания о запредельных для детской памяти деяниях и приключениях самих слушателей.
Например, что первенец начал ходить на железнодорожном вокзале, при отъезде на Валдай, и на последующих остановках поезда папа выносил меня на перрон станций для закрепления навыков прямохождения, поскольку шаткий пол катящегося вагона не давал такой возможности.
На новом месте семью поселили в деревянном домике, из которого меня выпускали для самостоятельных прогулок по двору обнесённому штакетником, и мама просто диву давалась – где я умудрялся найти такую грязищу, чтоб за считанные минуты вернуться домой завозюканным по самую макушку.
В очередной раз переодев меня в чистое, она попросила папу проследить и выяснить причину.
И он увидел, как наш Серёженька прямиком топает в угол двора, отодвигает висящую на одном лишь гвозде штакетину и – вон он уже на улице, где рядом с соседним домиком свалена горка песка для стройки.
Он, конечно, залазит на неё, ложится и съезжает на пузе до самого низа по мокрому от дождей песку. Да ещё и хохочет при этом – до того уж довольный.
Разве на такого настираешься?
Пока мама переодевала меня в очередной раз, папа взял молоток да и прибил болтавшуюся досочку, а потом вместе с мамой стал потихонечку наблюдать – что дальше будет?
Ребёнок вышел во двор, подошёл к привычному месту, потянул досочку, но та и не шелохнулась. Соседние тоже не подались.
Мальчик дважды прошёл вдоль заборчика, дёргая каждую из штакетин, потом встал и – разревелся…
Ни домик, ни дворик в памяти моей не сохранились, но на этом месте родительских сказаний у меня начинало сопереживательно пощипывать в глазах.
А от другой легенды мягкая лапа ужаса ложилась на шею, чтобы впиться когтями пониже затылка, когда мама вдруг затревожилась, что меня давно не видно и не слышно, и послала папу посмотреть.
Он вышел во двор, на улицу – нет нигде.
Из соседей никто не видел, а уже вечерело.
Он снова прошёл улицу из конца в конец и тут ему услышался шум речки.
Он поспешил к почти отвесному обрыву над бурно вздувшейся после недавних дождей речкой и там – внизу – различил сынулю. Бегом туда!
Поток шумно катящейся воды поглотил узкую полоску берега под обрывом – пришлось брести по колено в воде.
Мальчик притискивался к крутому глинистому обрыву, вцепившись в стебель полусухой былинки, а ногами уже наполовину в воде, и даже не ревел, а только хныкал: ыхы, ыхы.
Папа закутал его в пиджак и еле нашёл место, где можно было выбраться наверх без рук…
Зато как же трепетали гордостью крылья моего носа от рассказа, что это именно я дал имена моему брату и сестре!
Поскольку меня назвали в честь папиного брата, то последовавшим двойняшкам договорились дать имена маминых брата и сестры.
В роддоме их так и называли – Вадик и Людочка.
Но когда новорожденных принесли домой и спросили меня как же их назовём, я моментально ответил:
– Сяся-Тятяся.
И сколько ни пытались меня переубедить, я упорно стоял на своём.
Вот почему моего брата зовут Александр, а сестру – Наталья.
~ ~ ~
~~~детство
Первой засечкой, чертой, откуда начинается отсчёт моей нелегендарной истории, служит воспоминание солнечного утра, в котором мама ведёт меня в детский сад и мы останавливаемся на взгорочке, пережидая пока пройдёт толпа людей в чёрном, откуда мне кричат весёлые приветы, прихохатывают, а я важно держу маму за руку – вон сколько взрослых зэков знают меня по имени!
Мне невдомёк тогда было, что это общее внимание вызвано присутствием такой молодой и красивой мамы…
Зэки строили каменные дома, два квартала на Горке, и когда закончили первый, наша многодетная семья получила двухкомнатную квартиру на верхнем – втором – этаже восьмиквартирного дома.
Квартал состоял из шести двухэтажных зданий по периметру прямоугольного двора, вот так:
Подъезды всех домов смотрели внутрь двора; в зданиях поменьше их было по одному, а в угловых – по три.
Квартал окружала бетонная лента дороги, а напротив двух соседствующих угловых зданий зэки достраивали квартал-близнец – зеркальное отражение первого.
Я убегал играть к ним на стройку, а когда привозили обед, они делились со мной баландой.
По замелькавшим в моей речи новоприобретённым выражениям, родители быстро вычислили круг общения своего первенца и поспешили отдать меня в детский сад.
А когда второй квартал был завершён, зэки вообще исчезли и в дальнейшем строительные работы на Объекте (у того «почтового ящика» было ещё и такое наименование) выполняли солдаты в чёрных погонах, «чёрнопогонники».
Кроме них на Объекте были ещё солдаты «краснопогонники», но чем они там занимались не знаю до сих пор.
Кварталы располагались в самой высокой части Объекта, за что её и называли Горкой, и за окружающей их бетонной полосой дороги со всех сторон рос лес.
Дорога в садик начиналась спуском к ограждённым баракам учебки для солдат-новобранцев, но, чуть-чуть не доходя до ворот, от неё ответвлялась широкая тропа в сосновый лесок, в обход учебки и большого чёрного пруда под большими деревьями; затем ещё один спуск, через густой ельник, и вот уже тропа подводит к забору с воротами, а внутри двухэтажный дом и площадки для игр, где кроме песочниц и теремков, стоит даже настоящий носатый автобус; без колёс, правда, но с рулём и сиденьями.
На первом этаже нужно снять пальто и ботинки, оставить их в одном из высоких узких шкафчиков раздевалки и, уже в тапочках, подыматься по лестнице на второй, где комнаты групп и столовая.
Моя детсадовская жизнь складывалась из разных чувств и ощущений.
Чувство победы в тот день, когда меня пришли забирать из садика и я, с подачи мамы, вдруг обнаружил, что могу сам завязывать ботиночные шнурки на бантик.
Горечь поражения в то утро, когда эти гадские шнурки оказались стянутыми в тугие мокрые узлы и маме пришлось их распутывать, опаздывая на работу.
В детсадике ничего не знаешь наперёд – когда что будет.
Там иногда вставляют в нос поблескивающую трубку на тонком резиновом шланге и пшикают через неё противный порошок, или заставляют разом выпить целую столовую ложку противного рыбьего жира.
А ну-ка, давай! Знаешь как полезно?!
Самое жуткое, когда объявят, что сегодня всем делают укол.
Дети выстраиваются в шеренгу и по одному подходят к столу с железной коробочкой, откуда медсестра достаёт сменный иглы своего шприца.
Чем ближе к ней, тем сильнее стискивает страх и ты завидуешь счастливчикам, для которых укол уже позади и они отходят от стола, прижимая к предплечью кусочек ваты, приложенный медсестрой к месту укола.
Хорошо, что сегодня не «под лопатку», дети в шеренге шепчутся, что это самый страшный из всех уколов.
Зато по субботам на обед дают полстакана сметаны посыпанной сахарным песком, не отправляют по кроваткам на «тихий час», а вместо этого завешивают окна столовой тёмными одеялами и на белой стене показывают диафильмы – плёнки сменяющихся кадров с белыми надписями внизу.
Воспитательница прочитает строчки надписи, переспросит все ли всё рассмотрели в картинке и перекручивает на следующий кадр плёнки, где матрос Железняк захватывает белогвардейский бронепоезд, или ржавый гвоздь выходит новеньким из сталеплавильной печи – смотря какой фильм зарядили в проектор.
Мне трепетно нравились эти субботние сеансы: затемнённая комната; лучики света из прорезей в стенках проектора; голос вещающий из мрака – превращали их в некое таинство.
Пожалуй, садик мне больше нравился, чем наоборот, хотя порою я там напарывался на скрытые рифы.
Однажды, папа дома починил будильник и, отдавая его маме сказал: «Готово – с тебя бутылка!»
Меня почему-то привели в восторг эти слова и я похвастался ими перед согруппниками в детсаде, а в конце дня воспитательница сообщила об этом забиравшей меня маме.
По дороге домой мама меня стыдила и объясняла, что нельзя совсем уж всем делиться вне дома, а вдруг подумают, что мой папа – алкоголик. Хорошо будет?
Как я себя в тот миг ненавидел!
И именно в садике я впервые в жизни полюбил, но не открылся ей, с горечью и грустью сознавая безнадёжность такой любви – неодолимая, как бездонная пропасть, разница возраста отделяла меня от черноволосой смуглянки с яркими вишенками глаз.
Она была на два года младше.
А какими недосягаемо взрослыми казались бывшие воспитанницы садика, что посетили его после школьных занятий в их первом классе.
Важные и степенные, в праздничных белых фартучках, они так сдержанно отвечали на расспросы воспитательницы нашей средней группы.
Работницы детского сада носили белые халаты ежедневно, но не все.
Однажды одна из них усадила меня на скамейку рядом с собой, чтоб утешить уж не помню от какого горя – царапины на коленке, или свежей шишки на лбу – но что её звали Зиной, это наверняка.
Ласковая ладонь поглаживала мою голову и я, забыв плакать, прижался щекой и виском к её левой груди, зажмурил глаза от тёплого солнца и слушал глухие толчки её сердца под зелёным платьем с запахом лета, пока не раздался крик от здания:
– Зинаида!
А дома у нас жила бабушка приехавшая из Рязани, потому что мама пошла работать, а кому-то же надо держать Саньку с Натаней.
Баба Марфа носила ситцевую блузу поверх прямой юбки до пола и белый, в голубую крапинку, платок на голове, завязанный уголками под круглым подбородком.
Мамина работа в три смены – она дежурит на насосной станции; у папы столько же смен на дизельной. Я не знаю где это, но догадываюсь, что в лесу, потому что иногда папа приносит с работы хлеб от зайчика завёрнутый в газету.
– Иду, а тут зайчик под деревом, вот, говорит, отнеси это Серёжке и Сашке с Наташкой.
Хлеб от зайчика вкуснее, чем тот, который мама нарезает к обеду.
Иногда смены родителей не совпадают: кто-то дома, кто-то работает.
Один раз папа привёл меня на мамину работу – приземистое кирпичное здание с зелёной дверью, за которой, прямо напротив входа, маленькая комната, а в ней, под высоким маленьким окошком, стоит стол с дверцами и два стула; но если в комнатку не заходить, а свернуть налево, то окунаешься в неумолчный гул полутёмного зала, где тоже есть стол и где сидит мама, которая нас не ждала и удивилась.
Она показала мне журнал, куда ей надо записывать время и цифры с круглых манометров, к которым проложены дорожки из железных листов с перилами, потому что под ними тёмная вода и её всё время качают насосы – это от них такой жуткий шум.
Из шумного зала, где говорить приходилось криком, мы вернулись в комнатку у входа, оставив гуденье за стеной. Мама дала мне карандаш и достала из ящика в столе какой-то ненужный журнал – делать каляки-маляки, а вскоре сказала мне пойти поиграть во дворе.
Мне во двор совсем не хотелось, но папа сказал, что, раз так, он больше никогда меня сюда не приведёт, и я вышел.
Двор был просто куском травянистой дороги от ворот к дощатому сараю, а позади насосной подымался крутой, как стена, откос в зарослях крапивы.
Я вернулся обратно к зелёной двери, от которой коротенькая дорожка вела к маленькому белому домику без единого окна, с висячим замком на железной двери. Как тут играть?
Оставались ещё два округлых бугра по обе стороны от домика и вдвое выше него.
Хватаясь за пучки длинной травы, я взобрался на правый.
С такой высоты видно было крышу домика и крышу насосной, а в другой стороне – за забором и за полосой кустарника виднелась шустрая речка, но меня наверняка накажут, если пойду за ворота.
Для гулянья оставался лишь бугор напротив с тонким деревцем на макушке.
Я спустился к домику, обогнул его сзади и вскарабкался на оставшийся бугор.
Отсюда всё оказалось таким же самым, просто тут ещё можно было потрогать деревце.
Вспотевший от жары, я прилёг под ним, но через минуту, или две, меня что-то ужалило в ногу, потом в другую.
Я заворочался, заглянул через плечо за спину – по ногам, пониже шортиков из жёлтого вельвета, суетились рыжие муравьи. Я смёл их как смог, но жгучая, нестерпимая боль всё прибывала.
На мой рёв мама выскочила из-за зелёной двери и папа тоже, он взбежал ко мне и на руках отнёс меня вниз.
Муравьёв постряхивали, но распухшие покраснелые ляжки всё так же немилосердно жгло.
И мне стало уроком на всю жизнь: самое лучшее средство от укусов этих рыжих зверюг – посидеть в прохладном подоле шёлкового платья, туго растянутом между маминых колен…
Баба Марфа жила в одной комнате с тремя внуками, где для неё была поставлена железная койка.
Двоих младших на ночь укладывали «валетом» на диване – громоздком сооружении с откидными валиками на петлях и высокой дерматиновой спинкой в деревянной раме. Наверху спинки тянулась длинная узкая полочка, а над ней невысокое зеркало вставленное в доску рамы, чтобы там отражались фигурки белых слоников расставленных на полочке по росту – один за другим.
Слоники давно затерялись и полочка пустует, только когда мы играем в поезд, выстроив его на полу из перевёрнутых табуреток и стульев, то, с наступлением ночи в вагоне, я забираюсь на полочку, хотя лежать там получается только на боку – до того она узкая.
Играть в поезд особенно интересно, когда приходят соседи по площадке – Лидочка и Юра Зимины; поезд становится ещё длиннее и мы, усевшись в перевёрнутые табуретки, раскачиваем их вовсю, аж пристукивают по полу и баба Марфа начинает ворчать, что мы бесимся, как оглашённые.
Ну, а после игр и ужина посреди комнаты мне расставляют на ночь алюминевую раскладушку, разворачивают по ней матрас, и стелят голубую клеёнку под простынь, на случай если уписяюсь, а сверху громаднющую подушку и тёплое одеяло из ваты.
Баба Марфа выключает висящую на стене коробку линейного радио и гасит свет; но темнота в комнате относительная – сквозь сеточку тюлевых занавесок на окнах проникают отсветы из квартир дома напротив и от фонарей в квартальном дворе, а под дверью прорезается щёлочка света из коридора между кухней и спальней родителей.
Я различаю, как баба Марфа стоит у своей койки и что-то шепчет в правый верхний угол.
Мама сказала, что это она молится Богу, но вешать икону в углу родители не позволили, потому что папа партийный…
По утрам самое трудное – отыскать свои чулки.
Ты не поверишь, но в те времена даже мальчики носили чулки.
Поверх трусиков одевался специальный поясок с парой пуговок впереди. На пуговки пристёгивались короткие ленточные резинки с застёжками на конце.
Застёжка это такая резиновая кнопочка с откидным проволочным ободком. Верхний край чулка надо натянуть поверх кнопочки и защипнуть ободком. Уф!..
Застёгивает эту сбрую, конечно, мама, но находить чулки приходится самому, а они всякий раз прячутся в новом месте.
Мама подгоняет завтракать, потому что ей тоже ведь на работу, а эти гады затаились под валиком дивана, на котором ещё спят младшие.
Устав от ежеутренних выговоров и насмешек, я нашёл элегантное решение проблемы исчезающих чулков и привязал их к своим ногам, вокруг лодыжек, когда в комнате уже погашен свет, а баба Марфа шепчется с Богом.
Брат с сестрой не заметили моих манипуляций и я успел укрыться одеялом прежде, чем мама зашла в нашу комнату поцеловать всех детей на ночь.
Но тут она зачем-то включила свет в оранжевом шёлковой абажуре под потолком и откинула одеяло с моих ног в обмотках из чулков.
– Меня прям что-то так и толкнуло,– со смехом рассказывала она потом папе.
Пришлось их отвязать и пожить на стул к остальной одежде, а такая практичная была идея…
Пожалуй, самая неприятная сторона садиковой жизни это «тихий час» – принудительное лежание в кровати после обеда: опять тебе раздевайся, складывай одежду на белый стульчик, поаккуратнее, хотя потом всё равно окажется какая-то перепутаница, или резинки заартачатся и никак не захотят застегнуться.
Вот и лежи так целый час, уставясь в белый потолок, или на белые шторы окон, или вдоль длинного ряда попарно составленных кроваток, где тихо лежат твои согруппники, до самой дальней белой стены, возле которой сидит воспитательница с книгой, а к ней изредка подходит какой-нибудь ребёнок и шёпотом отпрашивается в туалет.
И она шёпотом даёт разрешение, а потом негромко пресекает шумок шушуканья вдоль кроватных рядов:
– А ну-ка, всем закрыть глазки и спать.
Наверное, я иногда засыпал на этом «тихом часе», но чаще просто застывал в оцепенелой полудрёме с открытыми глазами, уже не отличающими белый потолок от белой простыни натянутой поверх головы.
Дремота вдруг стряхнулась тихим прикосновением – осторожные пальчики ощупью двигались от коленки вверх по моей ноге.
Я оторопело выглянул из-под простыни.
На соседней кроватке лежала Ирочка Лихачёва с крепко зажмуренными глазами, но в промежутке между нашими простынями виднелся кусочек её вытянутой руки.
Пальчики нырнули мне в трусики и горстью охватили мою плоть. Стало невыразимо приятно.
Чуть погодя её ладонь ушла оттуда – зачем? ещё! – отыскала под простынёй мою руку и потянула под свою простыню, чтоб положить на что-то податливо мягкое, провальчивое, чему нет названия, да и не надо, а надо лишь, чтоб всё это длилось и длилось.
Но когда, крепко жмурясь, я привёл её ладонь к себе обратно, она пробыла там совсем недолго и выскользнула, чтоб снова потянуть мою к себе.
Воспитательница объявила подъём и комната наполнилась галденьем одевающихся детсадников.
– Хорошо кроватки заправляем!– напоминательно приговаривала воспитательница, прохаживаясь по ковровой дорожке, когда Ирочка Лихачёва вдруг выкрикнула:
– А Огольцов ко мне в трусы лазил!
Дети выжидательно затихли.
Оглаушеный позорящей правдой, я чувствовал, как жаркая волна стыда прихлынула, чтобы брызнуть из глаз слезами.
– Сама ты лазила! Дура!– проревел я и выбежал из комнаты на лестничную площадку второго этажа, мощёную чередующимися квадратиками коричневой и желтоватой плитки.
Я решил никогда не возвращаться в эту группу и в этот садик, но не успел обдумать как стану жить дальше, потому что отвлёкся разглядываньем красного огнетушителя на стене.
Вернее, меня привлёк не сам огнетушитель, а жёлтый квадрат с картинкой на его боку, где человек в кепке держал точно такой же огнетушитель, только кверх ногами, и направлял расширяющийся пучок струи на махровый куст языков пламени.
По-видимому, картинка служила наглядной инструкцией по пользованию огнетушителем и в ней его нарисовали в полным соответствии самому себе, даже жёлтый квадратик на его рисованном боку заключал в себе крохотного человечка в кепке, который, в перевёрнутом виде, боролся с огнём струёй из своего махонького огнетушителя.
И тут меня осенило, что на неразличимой уже картинке второго из нарисованных огнетушителей, совсем уже крохотулечный человечишка находится в нормальном положении – ногами книзу.
Зато следующий – на дальнейшей картинке, опять будет перевёрнут, и – самое дух захватывающее открытие – человечки эти просто не могут кончиться, а могут лишь уменьшаться, до полной невообразимости и – дальше, но исчезнуть им не дано просто потому, что этот вот огнетушитель висит на стене лестничной площадки второго этажа, рядом с белой дверью старшей группы, напротив прихожей в туалет.
И тут меня позвали сейчас же идти в столовую, потому что все уже сели полдничать, но с той поры под тем огнетушителем я проходил с понимающей уважительностью – он несёт на себе неисчислимые миры.
Что до лазанья в трусы, то это был мой единственный и неповторимый опыт и, умудрённый им, когда в какой-нибудь из последующих «тихих часов» воспитательница вполголоса позволяла мне пойти пописять, я понимал значение простыней перехлестнувшихся над промежутком между парами кроваток, или отчего так старательно жмурится Хромов по соседству с Солнцевой.
Следом за нашей дверью на лестничной площадке шла дверь Морозовых, двух пожилых супругов на всю трёхкомнатную квартиру; через площадку напротив них тоже трёхкомнатная, где, кроме семьи Зиминых, в одной комнате проживали, сменяя друг друга, одинокие женщины, а иногда пары родственных женщин.
Прямо напротив нас была квартира Савкиных, чей толстый улыбчивый папа носил очки и офицерскую форму.
От двери Морозовых до двери Зиминых шла бездверная стена, но зато с вертикальной железной лестницей на чердак под шиферной крышей, где жильцы развешивали свои стирки, а папа Савкиных, переодевшись в спортивную форму, держал голубей.
От двери Савкиных к нашей тянулась – вдоль края лестничной площадки – деревянная перилина поверх железных прутьев, но, не доходя, сворачивала вниз – сопровождать ступеньки лестницы из двух пролётов до площадки первого этажа, четырьмя ступенями ниже которой к стене прижималась вечно распахнутая дверь тамбура, откуда широкая дверь на пружине открывалась в ширь квартального двора, а противоположная ей, узкая дверь скрывала крутые ступеньки в непроглядную темень подвала.
Опираясь на последующий жизненный опыт, можно предположить, что мы жили в квартире номер пять, но тогда я этого ещё не знал, зато знал, что за нашей дверью, с большим самодельным ящиком для почты, откроется прихожая с узкой дверью кладовки налево, а направо – остеклённая дверь в комнату родителей, где вместо окна большущая, и тоже наполовину стеклянная дверь балкона, выходящего в широкий двор квартала.
Длинный коридор вёл из прихожей прямо на кухню, мимо дверей в ванную и туалет, а в левой стене, не доходя до кухни, дверь детской комнаты, в которой целых два окна: левое во двор, а в правом вид на стену и окна соседнего углового дома.
Единственное окно кухни тоже смотрело на соседнее здание, а справа от входа, высоко под потолком, темнела небольшая наглухо застеклённая рама туалетного окошка, если, конечно, там свет не включён.
В ванной и в кладовой никаких окон не было, зато имелись электрические лампочки: щёлкнул и – заходи.
Войдя в туалет, я первым делом плевал на окрашенную зелёной краской стену рядом с унитазом, потом садился делать «а-а» и прослеживал, как плевок неспешно сползает вниз, оставляя за собой узкую полоску влаги.
Если запаса слюны не хватало, чтоб доползти до плинтуса над плиточным полом, я приходил на помощь повторным плевком на дорожку – чуть повыше застрявшего паровозика.
Иногда на путешествие уходило от трёх до четырёх плевков, а порой хватало и одного.
Родители удивлялись отчего в туалете стена заплёванная, пока однажды папа не зашёл сразу после меня и, на последовавшем строгом допросе, я признался, что делал это, хотя и не смог объяснить почему.
В дальнейшем, страшась наказания, я заметал следы нарезанными для туалетных нужд газетами из матерчатой сумки на стене, но очарование было утрачено.
( … мой сын Ашот в пятилетнем возрасте иногда мочился мимо унитаза – на стену.
Несколько раз я объяснял ему, что так неправильно и нехорошо, а если уж промахиваешься – изволь подтереть за собой.
Однажды он воспротивился и отказался вытирать, тогда я схватил его за ухо, отвёл в ванную, велел взять половую тряпку и снова привёл в туалет, где, стиснутым от сдерживаемого бешенства голосом, приказал собрать всю мочу с пола тряпкой. Он повиновался.
Конечно, в более цивилизованных странах за подобное деяние суд может лишить родительских прав, но правым я и поныне считаю себя – ни один биологический вид не способен выжить в собственных отходах.
Я бы ещё мог понять, если б он плевал на стену, но в туалете построенного мною дома она была побелена известью, а по побелке слюне не поползти.
Спустя несколько лет наскреблись деньги на облицовочный кафель, но дети уже были взрослыми …)
Чувствуешь себя всемогущим, реконструируя мир полувековой давности – подгоняешь детали, как тебе нравится – уличить всё равно некому.
Вот только себя не обманешь и признаюсь, что теперь, на расстоянии в пятьдесят лет, не всё различимо со стопроцентной достоверностью.
Например, я далеко не уверен, что голубиная загородка на чердаке вообще как-то связана с офицером Савкиным, не исключено, что это сооружение принадлежало Степану Зимину, отцу Юры и Лидочки.
А может там были две загородки?
Теперь у меня нет уверенности даже в наличии голубей в той, или иной загородке, когда я впервые отважился полезть по железной лестнице навстречу чему-то неведомому, неразличимому в сумеречном квадрате проёма над головой.
Вполне возможно, что мне просто припомнилось замечание, подслушанное в разговоре родителей, что голуби Степана тоже страдают от его запоя.
Несомненным остаётся лишь трепетный восторг первооткрытия, когда, оставив далеко внизу – на лестничной площадке – сестру, с её зловещими предсказаниями об убиении меня родительской рукой, и брата, безмолвно следящего за моими движениями, я вскарабкался в открывшийся передо мною новый мир.
Через пару дней Наташка прибежала в нашу комнату с гордостью объявить, что Сашка тоже залез на чердак…
Так что, вполне возможно, что голубей на чердаке уже не было, но во дворе квартала их хватало.
Планировка квартального двора являла собой редкостный шедевр геометрической правильности: внутрь прямоугольника, ограниченного шестью зданиями, был вписан эллипс дороги, по обе стороны которой тянулись дренажные кюветы, перекрытые мощными мостками строго напротив каждого из четырнадцати подъездов в домах.
Две неширокие бетонные дорожки рассекали эллипс натрое, под прямым углом к его продольной оси; образованный ими и вдольдорожными кюветами прямоугольник опять-таки делился на три части дополнительной парой параллельных друг другу дорожек, которые, в местах пересечения с первой парой, преломлялись в диагональные лучи дорожек тянущихся к центральным подъездам угловых зданий, и из тех же точек пересечения исходили бетонированные дуги описанные вокруг двух круглых деревянных беседок, превращая двор в образчик совершеннейшей геометризации, на которую не всякий Версаль потянет.
( … природа не способна творить в столь выверенном Bau Stile.
Нет в ней циркульных окружностей, абсолютно равнобедренных треугольников и безукоризненных квадратов – где-нибудь да и выткнется неутаимое шило из мешка матушки-природы …)
Деревьев во дворе не было.
Может впоследствии их и сажали, но в памяти не нахожу даже саженцев, а только траву, расквадраченную бетонными дорожками, ну и, конечно, голубей перелетавших стаей из конца в конец громадного двора на зов: «гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль-гуль».
Мне нравилось кормить этих, таких похожих друг на дружку, а вместе с тем таких разных голубей, слетавшихся суетливо клевать хлебные крошки с дороги перед домом, по которой никогда не ездили машины; за редким исключением бортовых грузовиков с мебелью кого-то из жильцов, или с грузом дров для топки ванных титанов.
Но ещё больше мне нравилось кормить их на подоконнике кухонного окна; хотя там дольше приходилось ждать покуда кто-нибудь из них приметит откуда ты им «гуль-гулишь» и, разрезая воздух биением пернатых крыльев, зависнет над серой жестью подоконника с россыпью хлебных крошек, чтоб спрыгнуть на неё своими ножками и дробно застучать клювом по угощенью.
Похоже, голуби присматривают кто из них чем занимается, или поддерживают некую междусобойную связь, но вслед за первым слетались и другие: парами и по-трое, и целыми ватагами, возможно даже из соседнего квартала; покрывая, чуть ни в два слоя, подоконник неразберихой оперённых спин и ныряющих за крошками головок; отталкивая друг друга, спихивая за край, припархивая вновь и втискиваясь обратно, и, пользуясь столпотворением, можно высунуть руку в форточку и прикоснуться сверху к какой-то из спинок, но потихоньку, чтоб не шарахнулись бы все вдруг всполошённо прочь, хлопая крыльями…
Кроме голубей мне ещё нравились праздники, особенно Новый год.
Ёлку ставили в комнате родителей, перед белой тюлевой занавесью балконной двери.
Из кладовой доставались фанерные ящички от бывших почтовых посылок с хрупкими блестящими игрушками: дюймовочки, гномики, деды морозики, корзиночки, сверлообразные лиловые сосульки, шары с инкрустированными с двух сторон снежинками и просто шары, звёзды в обрамлении тоненьких стеклянных трубочек, пушистые гирлянды дождика из золотой фольги.
А бумажные гирлянды-цепи мы делали вместе с мамой – раскрашивали бумагу акварельными красками и, когда высохнет, нарезали её полосками, а разноцветные полоски склеивали в звенья длинных цепей.
В последнюю очередь, после украшения ёлки игрушками и конфетами, на ниточках продёрнутых сквозь фантики, под неё клали сугроб из белой ваты и ставили высокого Деда Мороза, на его фанерной подставке, в матерчатой шубе, с посохом и с наглухо зашитым мешком через плечо.
Чуть не забыл – на ёлке мигали разноцветные огоньки лампочек на тонких проводах, которые спускались под ватный сугроб у ёлочной крестовины на полу, где пряталась тяжёлая коробка трансформатора, который смастерил папа.
И маску медведя для утренника в детском саду тоже он сделал.
Мама объяснила как она делается и он принёс с работы какую-то особую глину, вылепил на листке фанеры морду с торчащим кверху носом, а когда глина высохла, покрывал её слоями марли и размоченных в воде газет.
Через день-два морда высохла и затвердела, глину выбросили и осталась маска из папье-маше с дырочками для глаз.
Её покрасили коричневой акварельной краской и мама пошила мне костюм из коричневого сатина – шаровары с пришитой к ним курточкой, через которую надо в них влазить, и на утреннике мне уже не завидно было смотреть на дровосеков с картонными топориками через плечо.
( … до сих пор акварельные краски пахнут мне Новым годом; а может наоборот – точно не могу определиться …)
А когда в детскую приносили разобранную родительскую кровать из их комнаты, значит вечером туда внесут столы от соседей и там соберутся гости.
Будет шумно и гамно, все будут громко говорить, а пенсионер Морозов рассказывать, что в молодости он за семнадцать вёрст грёб вёслами в лодке на свидание, кто-то скажет, что значит того стоило и все будут хохотать и танцевать под пластинки на проигрывателе, потом опять разнобойно говорить, а мама запоёт про огни на улицах Саратова и веки её осоловело наползут на глаза.
Мне станет стыдно, я заберусь к ней на колени и скажу: «Мама, не надо больше петь, не пей!», а она засмеётся и скажет, что уже не пьёт, отодвинет стаканчик и будет петь дальше.
Потом гости будут долго расходиться, уносить столы, а меня отправят в детскую, где Сашка уже спит, а Наташка нет.
На кухне будет позвякивать посуда, которую моют бабушка с мамой, а потом в нашей комнате ненадолго включат свет, чтобы забрать кровать родителей…
Ещё мама ходила на самодеятельность в Дом офицеров.
Я знал, что это далеко, потому что пару раз родители брали меня туда в кино, на зависть Сашке с Наташкой.
Но один раз в киножурнале «Новости дня», который показывают перед каждым фильмом, меня напугали кадры про фашистские концлагеря, где бульдозеры уминали рвы полные людских трупов.
Мама велела мне зажмуриться и потом меня уже не брали в кино.
Зато папа взял меня на концерт маминой самодеятельности.
Там пели под баян и что-то долго рассказывали и зал хлопал, а я всё ждал и не мог дождаться когда же будет мама.
И наконец, когда на сцену вышли танцевать много тёть в одинаковых длинных юбках и дяденьки в сапогах, папа сказал: «Ну, вот и твоя мамочка!», а я никак не мог разглядеть где же она, пока папа ещё раз не показал, и тогда я уже смотрел только на неё, чтобы не потерять.
Если б не такое пристальное внимание, то может я и пропустил бы тот самый момент, что на долгие годы, зашёл в меня как заноза, которую никак не вытащить, а просто надо не бередить и не надавливать то место, где она застряла.
Под конец танца, когда все тётеньки кружились на сцене их юбки тоже вертелись, вздымаясь до колен, но только у моей мамы она вдруг всплеснулась и на миг мелькнули её ноги до самых трусиков.
Мне стало нестерпимо стыдно. До самого окончания концерта я смотрел уже только в пол между рядами стульев, а по дороге домой ни с кем не хотел разговаривать и не отвечал с чего это я такой надутый.
( … в те недостижимо далёкие времена я ещё не знал …)
Зачем вообще эти концерты, если у нас в комнате есть коричневая блестящая коробочка радио на стене, с белым регулятором громкости, который надо покрутить и поднять звук до упора и созвать всех в доме, когда выступает Аркадий Райкин, чтоб вместе смеяться, а потом опять сделать потише, пока идёт концерт для виолончели с оркестром или какой-то дяденька говорит какая это радостная новость, что революция на Кубе победила и он от радости выполнил две нормы за смену назло реваншистам и Аденауэру?
А вот праздник Первомай совсем не домашний.
До него приходилось долго идти по дороге уводящей от углового дома всё дальше и дальше вниз.
Но он мне тоже нравился, потому что туда шло ещё так много народа – и взрослых, и детей – и люди весело окликали друг друга, а в руках несли воздушные шарики, тонкие веточки с примотанными к ним листиками из зелёной папиросной бумаги; или красные полотнища с белыми буквами между парой шестов, а ещё портреты всяких дяденек: и лысых, и не очень – на обструганных палках.
У меня, как почти у всех детей, был красный прямоугольный флажок на тонкой, как карандаш, только чуть подлиннее, палочке.
Жёлтый кружок в клеточку изображал на флажке земной шар, над которым застыл в полёте жёлтый голубь, а ещё выше жёлтопечатные буквы слагались в: «миру – мир!»
Конечно, читать я тогда ещё не умел, но флажки эти оставались неизменными и долгие годы спустя.
Потом впереди слышалась музыка, мы шли к ней и проходили мимо музыкантов с блестящими трубами и мимо высокого красного балкона, где стояли люди в фуражках, но у этого балкона почему-то совсем не было дома…
После какого-то из Первомаев меня потянуло к искусству; захотелось нарисовать праздник.
Бабушка дала мне лист бумаги в клеточку и карандаш.
В центре листа я нарисовал большой шарик на ниточке. Выглядело неплохо – празднично, но захотелось больше; захотелось, чтоб праздник был во всём мире, поэтому сбоку от шарика я нарисовал забор, за которым уже не наши, а немцы и другие враги из киножурнала в Доме офицеров.
Ну, ладно, немцы, пусть и у вас будет праздник!
И я пририсовал ещё один шарик на ниточке идущей из-за забора.
А чтобы шарики не перепутались, и для понятности кто где празднует, на вражьем шарике я нарисовал крест, полюбовался своим художеством и побежал показать его для начала бабушке.
Она не сразу разобралась что к чему, пришлось объяснять рисунок. Но когда я дошёл до места, что пусть и у немцев будет праздник – жалко, что ли? – она меня строго отругала и сказала, что из-за моих крестов папу арестуют и увезут «чёрным воронком»; этого, что ли я хочу?
Мне жалко было папу и страшно остаться без него, я расплакался и смял злосчастный рисунок, а потом побежал в ванную и сунул его за чугунную дверцу титана, где зажигали огонь, когда грелась вода для купания…
Самое трудное по утрам – покидать свою постель.
Кажется, всё бы отдал, только б позволили полежать ещё минуточку, или две и не кричали, что пора в садик.
А в одно из утр подушка настолько податливо лежала под головой и матрас, постеленный на раскладушке, стал до того точным слепком моего тела, что оторваться от них и от тепла, скопившегося за ночь под одеялом, было чем-то немыслимым и непосильным, покуда вдруг не пришло пугающе неоспоримое осознание – если сейчас не оторвусь от этой втягивающей дремотной неги, то никогда уже не приду в садик и вообще никуда, потому что это будет смерть во сне.
Я вылез в холод комнаты и начал одеваться…
По воскресеньям можно было поваляться, но никогда больше постель не принимала настолько усладительную форму.
В одно из воскресений я проснулся в комнате один и услышал смех и визги Сашки с Наташкой откуда-то извне.
Наспех натянув одежду, я выскочил в коридор.
На кухне одна только бабка позвякивает крышками кастрюль, а шум идёт из комнаты родителей.
Я вбежал туда в разгар веселья: мои брат с сестрой и мама хохотали вовсю над белым бесформенным комом, стоящим в углу на голенастых ногах.
Конечно, это папа!
Покрылся толстым родительским одеялом в белом пододеяльнике и теперь неуклюже топочется там у шкафа.
Но вдруг эти ноги начали совместно скакать, всколыхивая свисающие белые складки этого жутковато ногастого кома, отрезая маму и нас троих, вцепившихся в её халат, от выхода в коридор.
Как мы хохотали! И ещё судорожнее цеплялись за маму.
Потом кто-то из нас перешёл на плач и мама сказала: «Да это же папа, глупенький!»
Но Саша не унимался (а может Наташа, но не я, хотя и мой смех всё больше скатывался к истерике) и она сказала: «Ну, хватит, Коля!»
И одеяло распрямилось, открыв смеющегося папу в трусах и майке, и мы все начали утешать Сашку, недоверчиво пробующего засмеяться сквозь слёзы.
( … смех и страх неразъёмны и нет ничего страшней непонятного …)
А в другое утро я прибрёл в комнату родителей зарёванно признаться, что опять уписялся ночью.
Они уже одевались и папа сказал: «Тоже мне – парень!», а мама велела снять трусики и залезть в их кровать.
Она достала мне с полки в шкафу сухие и вышла на кухню вслед за папой.
Меня мягко укрыло их тёплое ещё одеяло. Даже простыня была такой мягкой, ласковой.
Преисполненный удовольствия, я вытянул, сколько мог, руки и ноги.
Правая рука сунулась под подушку и достала оттуда непонятную заскорузлую тряпочку.
Я не мог определить её назначения, но чувствовал, что коснулся чего-то стыдного, о чём ни у кого не надо спрашивать…
Трудно сказать что было вкуснее: мамино печенье, или пышки бабы Марфы, которые они пекли к праздникам в синей электрической духовке «Харьков».
Помимо стряпни на кухне, баба Марфа ещё читала нам книгу «Русские былины», про богатырей, что сражаются с несметными полчищами и змей-горынычами, а потом приезжают в Киев к Владимиру Красно Солнышко.
Мы втроём усаживались вокруг бабушки на её железную койку и слушали про подвиги Алёши Поповича с Добрыней Никитичем; а когда они кручинились, то вспоминали матушку – каждый свою – но слова при этом приговаривали одинаковые: что зачем она не завернула их в белу тряпицу да не бросила в быстру реченьку, когда были ещё младенцами несмышлёными.
Только Илья Муромец да Святогор, которого даже мать сыра-земля не могла носить, а выдерживали лишь скалы да камни горные, таких слов не приговаривали.
Иногда богатыри с переменным успехом сражались с переодетыми в доспехи красавицами, но в последний момент побеждённые говорили: «ты меня не губи, а напои-накорми да поцелуй в уста сахарные».
Эти места в не раз уже слушанных былинах мне особенно нравились и я заранее их предвкушал.
Ванную баба Марфа называла баней и после еженедельного купания возвращалась оттуда в нашу комнату распаренная до красноты, усаживалась на свою койку чуть не телешом – в одной из своих длинных юбок и в мужчинской майке без рукавов и остывала, расчёсывая и заплетая в косицу свои бесцветные волосы.
На левом предплечьи у неё висела большая родинка в виде женского соска – так называемое «сучье вымя».
Во время одного из её остываний, когда она, казалось, ничего не замечала кроме влажных прядей своих волос и дугообразного пластмассового гребешка, а мой брат и сестра играли на диване, я заполз под железную сетку узкой бабкиной койки, просевшую под её весом, подобрался к упёртым в пол ногам и заглянул вверх – под широкий подол юбки, сам не знаю зачем.
Ничего в том подъюбочном сумраке я не разобрал, но впоследствии долго носил в себе чувство вины перед бабкой, а помимо того ещё и сильное подозрение, что она приметила моё заползновенье…
Санька был надёжным младшим братом: молчалив, доверчив.
Он родился вслед за шустрой Наташкой, посинелый, захлёстнутый пуповиной, но зато в рубашке.
Рубашку с него сняли в роддоме, мама говорила из них делают какое-то особое лекарство.
А Натаня и впрямь оказалась ушлой пронырой и первой узнавала все новости: что завтра бабушка будет печь пышки, что в квартиру на первом этаже вселяются новые жильцы, что в субботу родители уйдут в гости, и что нельзя убивать лягушку, а то дождь пойдёт.
Она носила две косички, начинавшиеся по бокам от затылка. По достижении шеи в каждую из косичек вплеталась ленточка, которая в конце косы завязывалась тугим узлом с бантиком. Бантики эти никак не держались, рассыпаясь в узелок и пару ленточных хвостиков; наверное, от усердного верчения головой по сторонам – выведать: что-где-когда?
Возрастная разница в два года давала мне ощутимый запас прочности авторитета в глазах младших.
Однако, когда молчаливый Санька повторил моё восхождение на чердак, получалось, что он обогнал меня на два года.
Разумеется, ни он, ни я, ни Наташка не могли в то время делать такие формулировки и выводы, оставаясь на уровне эмоциональных ощущений и междометий типа: «ух, ты!» и «эх, ты…»
Вероятно, стремление поправить пошатнувшийся авторитет и самоуважение, а может и другие, уже забытые мною, причины подтолкнули к тому, что как-то раз, когда свет в комнате был уже выключен на ночь, но Сашка с Наташкой уложенные спать «валетом» на дерматиновом диване, пока ещё брыкались друг с дружкой, а баба Марфа стояла над своей койкой, что-то нашёптывая поверх неё в угол под потолком, я вдруг подал голос со своей раскладушки:
– Бабка, а ты знаешь, что Бог – сопляк?
Она стала грозить предстоящим мне лизаньем сковороды, докрасна раскалённой адским пламенем, но я лишь нагло хохотал, подбадриваемый благоговейной тишиной на диване малышни, и повторял:
– Всё равно, твой Бог – сопляк!
Наутро баба Марфа со мной не разговаривала, а когда в конце дня я вернулся из садика, Наташа меня проинформировала, что папа утром пришёл с работы после третьей смены и бабка всё ему рассказала и плакала на кухне. А сейчас родители у кого-то в гостях, но мне будет да ещё как!
На мои заискивающие попытки начать диалог баба Марфа никак не отвечала и вскоре ушла на кухню.
Хлопнула входная дверь, в прихожей раздались голоса родителей; они переместились на кухню и там снова стали говорить – через дверь комнаты не разобрать о чём, но всё громче и громче, пока дверь детской не распахнулась от руки папы.
– Что? Над взрослыми измываться? Я тебе дам «сопляк»!
Руки его выдернули из пояса узкий чёрный ремень с блеснувшим прямоугольничком пряжки.
Взмах – и меня ожгло незнаемой болью. Ещё. Ещё.
И я, извиваясь, закатился под бабкину койку, чтоб не достал ремень.
Ухватив за решёточку спинки, папа одним рывком выдернул койку на середину комнаты.
Матрас с постелью остались под стеной.
Я ищу укрытия под чешуйчатой пружинной сеткой койки, которую папа дёргает туда-сюда, охлёстывая с обеих сторон, но я, с неизвестно откуда взявшейся прытью, бегаю на четвереньках за прядающей над головой сеткой и мешаю свой вой и вопли: «папонька родненький! не бей! не буду! никогда больше не буду!» в его осатанелое: «гадёныш! сопляк!»
Из кухни прибегают мама и бабушка, мама кричит: «Коля! Не надо!» и подставляет руку под удар ремня, бабушка тоже что-то голосит и они уводят папу из комнаты.
Я, жалко скуля, тру отхлёстанные места, отводя взгляд от младших, которые окаменело молчат, вжавшись в спинку дивана…
Во дворе мы играли в «классики» – четыре пары квадратов, начерченных мелом на бетоне дорожки. Надо вбросить «биток» – круглую плоскую жестяночку из-под обувного крема, наполненную для устойчивости песком – в один из «классиков» и скакать к нему на одной ноге, поднять и выскакать через оставшиеся классики, и если нигде при этом не наступил на черту, можно вбрасывать «биток» в следующий квадрат-классик. Когда твой «биток» побывает во всех (с первого по восьмой) «классиках», занимай себе «дом» – один из квадратов, где в дальнейшей игре можно вести себя как дома – становиться на обе ноги и отдыхать.
Если «биток» упадёт на черту, или вне очередного «классика», или если при скачке наступишь на черту, то в игру вступает следующий, а ты превращаешься в зрителя.
Ещё были игры с мячиком.
Например, надо одной рукой бить его о землю, выговаривая по слову при каждом ударе:
– Я!.. знаю!.. пять!.. имён!.. девочек!..
Под каждый из последующих ударов мячика о землю надо было назвать одно девочкóвое имя, но только чтоб они не повторялись.
Затем шли пять имён мальчиков, пять цветков, пять животных и т. д., и т. п., до момента, когда мяч отскочит куда попало, или игрок собьётся в своих перечислениях.
Другая игра с мячом не настолько интеллектуальна – ударив им о розовато-выцветшую штукатурку здания (поближе к его углу, подальше от окна в первом этаже) нужно угадать место падения и, на излёте, перепрыгнуть широко раздвинутыми ногами над мячом, чтоб он тебя не коснулся; а стоящий позади игрок должен подхватить его после удара о землю и снова бросить в стену – уже для своего перескока и твоего перехвата, хотя участников может быть и несколько, но тогда жди свою очередь.
Меня завораживала бесконечность этой игры, как те картинки-перевёртыши на боку огнетушителя…
Играли мы и вне двора, по ту сторону окружающей квартал пустынной дороги, там, где напротив дома стоит высокий забор мусорки с дощатыми же воротами, а рядом ровная площадка поросшая зелёной травой и куча песка на ней.
Зачерпнув пригоршню песка, надо его подбросить и, когда падает, поймать в подставленную ладонь. Над уловом приговариваешь:
– Ленину – столько!
Песок с ладони подбрасываешь во второй раз и снова ловишь, и теперь уже надо сказать:
– Сталину – столько!
После третьего подброса песок никто не ловил, а даже наоборот – прятали руки за спину, а потом ещё и хлопали ладонью о ладонь, чтоб они начисто отряхнулись:
– А Гитлеру – вот столько!
Мне казалось это не слишком честным – не оставлять последнему ни капельки и однажды, играя в одиночестве, я нарушил правила, поймав щепотку песка даже и для Гитлера, хотя знал, что он плохой…
Ещё мы делали «секреты» – выкапывали мелкие ямки, не глубже чашки, выкладывали дно её головками от собранных в траве цветов и накрывали их осколком стекла; цветы казались ещё красивей под придавившим их стеклом, а ямку засыпали.
Мы уславливались «проведать секрет» на следующий день, но либо забывали, либо шёл дождь, а потом мы их уж не могли найти и делали другие…
Однажды дождь захватил меня в круглой беседке посреди двора.
Нет, не дождь – гроза.
Чёрная туча навалилась на весь двор и сразу стемнело будто к ночи, а бывшие в беседке взрослые и дети разбежались по дорожкам к своим подъездам, только я замешкался над забытой кем-то книжкой с картинками про трёх охотников, как они бродят по горным лесам.
И тут из тучи хлынул водопад. Пробежать под ним до подъезда было невозможно, оставалось лишь ждать пока кончится.
Гроза разразилась невиданная: молнии рассекали небо из края в край квартала, беседка подпрыгивала от громовых раскатов и вода под напором ветра хлестала чуть не до центра её пола.
Я перенёс книгу на скамью вдоль подветренной стороны, но и туда добивали шальные каплищи. Было страшно и холодно.
Когда гроза миновала и тёмные, в клочья драные тучи открыли синь неба, оказалось, что день вовсе не кончился, а от подъезда бежит Наташа с ненужным уже зонтом – мама послала её позвать меня домой.
– Мы знали, что ты тут,– запыханно сказала она.– Тебя вначале было видно…
( … не могу сказать, что у меня особый нюх на конспираторов, но всякий раз стечение обстоятельств приводит меня туда, где возникает некий тайный сговор …)
Когда трое мальчиков старшей группы начали обмениваться туманными намёками, типа:
«так сегодня точно пойдём? после садика, да?», мне стало нестерпимо обидно, что намечается какое-то приключение и пройдёт мимо, а мне останется каждодневное одно и то же.
Я подошёл к предводителю и спросил прямо:
– А куда вы пойдёте?
– На кудыкины горы – воровать помидоры.
– А меня возьмёте?
– Ладно.
У меня уже имелось смутное представление, что воровать – плохо, но я в жизни не видел гор, а только лес и речку, и ещё Бугорок – невысокий, поросший ельником холм в конце футбольного поля за мусоркой, обращённый к нашему кварталу песчаным боком.
Но самое главное, мне хотелось дивных кудыкинских помидоров, наверняка, втрое больше обычных.
Я даже почти видел их красные лоснящиеся бока, и потому едва мог дождаться, когда начнут забирать детей из садика, чтоб отказаться от возвращения домой с чьей-то мамой из нашего квартала; я хочу пойти быстрее – с мальчиками.
Мы вышли за ворота, но пошли не короткой дорогой через лес, а свернули налево, по широкой, но не бетонированной автомобильной дороге, где увидать машину было целым событием – до того редко они там ездили.
Дорога пошла в гору, потом начался спуск и я всё высматривал и выспрашивал – когда же завиднеются горы? – но, получая всё более краткие и неохотные ответы, примолк, чтоб не спугнуть своё участие в помидорном приключении.
Мы вышли к дороге из бетонных плит, стыки которых заравнивали потёки чёрной смолы. Я знал эту дорогу, она спускается от двух кварталов к Дому офицеров, но по ней мы не пошли, а углубились в заросли гибких кустов по тропинке, которая вывела к домику из серых брёвен и с вывеской для тех, кто умеет читать.
Дальше мальчики не пошли, а просто крутились между кустов и пепельно серой древесиной бревенчатых стен домика, пока из двери не вышел дяденька и начал нас прогонять.
Наш предводитель сказал ему, что послан родителями забрать газеты и почту, но дяденька ещё сильней расшумелся и я ушёл домой, хорошо уяснив, что значит хождение на кудыкины горы…
Но всё-таки я верил, что приключения и путешествия неминуемо произойдут и что надо быть к ним готовым.
Поэтому, когда на кухне мне подвернулась коробка спичек, я без раздумий ухватил её – надо же было учиться.
Первые же пара попыток показали, что зажигать спичку о коробок проще простого.
Сразу же возникло желание показать кому-то и похвастаться новоприобретённым умением.
А перед кем ещё, если не перед Сашкой с Наташкой? Их это восхитит больше, чем бабушку, да и поддержит мой, подупавший в последнее время, авторитет.
( … впрочем, этот список мотивов составляется мною задним числом, из невообразимо далёкого будущего – моего текущего настоящего – над этим вот костром, заряженным картошкой.
А тогда я без всяких мудрствований и логических обоснований просто знал, что …)
Надо позвать младших и, в укромном месте, показать им моё владение огнём.
Самое укромное место, конечно же, было в комнате родителей, под их кроватью, куда мы и заползли втроём.
При виде спичек в моих руках, Наташа шёпотом заохала, а Саша, в сосредоточенном молчании, следил за процессом.
Первая спичка загорелась, но вскоре погасла.
Вторая, вспыхнув, сама собой придвинулась к сеточке тюлевого покрывала, спадавшего под кровать вдоль стены.
Узкая, перевёрнутая хвостиком вверх, сосулька жёлтого пламени заструилась по тюлю, образуя чёрную, всё ширящуюся прореху.
Какое-то время я непонимающе смотрел на происходящее, а потом догадался и закричал брату с сестрой:
– Убегайте – пожар!
Но эти глупыши не двинулись с места, а только заревели в два голоса. Я вылез из-под кровати и побежал через площадку к Зиминым, где мама и бабушка сидели на кухне у тёти Полины.
На моё сбивчивое объявление пожарной тревоги, три женщины метнулись через лестничную площадку. Я добежал последним.
Под потолком прихожей расплывался желтоватый дым. Дверь в спальню распахнута и там, на кровати родителей, деловито приплясывают полуметровые языки пламени. В комнате завис сизый туман и где-то в нём ревут малыши.
Бабка сбросила постель на ковровую дорожку и топтала домашниками, причитая: «батюшки! батюшки!»
Мама звала Сашку с Наташкой скорей вылезать из-под кровати.
Огонь перепрыгнул на тюлевую занавесь балконной двери и бабушка сорвала её руками.
На кухне тётя Полина грохотала кастрюлей об раковину, наполняя водой из крана.
Мама увела младших детей в детскую, бегом вернулась и приказала мне уйти туда же.
Мы сидели на диване молча, слушая беготню в коридоре, непрерывный шум воды из крана на кухне, неразборчивые восклицания женщин.
Что же будет?
Потом шум понемногу улёгся, хлопнула дверь за ушедшей тётей Полиной; из спальни доносилось постукивание швабры, как при влажной уборке; из туалета – звук воды выливаемой в унитаз.
И – наступила тишина.
Дверь раскрылась – там стояла мама с широким, сложенным вдвое флотским ремнём.
– Иди сюда!– позвала она, не называя имени, но мы трое знали кому это сказано.
Я поднялся и пошёл навстречу.
Мы сошлись посреди комнаты, под абажуром в потолке.
– Никогда не смей, негодяя кусок!– сказала мама и взмахнула ремнём.
Я съёжился. Шлепок пришёлся на плечо. Именно шлепок, а не удар – никакой боли.
Мама повернулась и вышла.
Меня изумила лёгкость наказания. То ли будет, когда придёт с работы папа и увидит забинтованные от ожогов руки бабушки, которые она смазала постным маслом.
Когда хлопнула дверь в прихожей и голос папы сказал: «Что это тут у вас?..», мама быстро прошла туда из кухни.
Всех её слов слышно не было, но эти я чётко различил:
– … я уже наказала, Коля …
Папа зашёл в спальню, ознакомиться с ущербом, немного погодя пришёл в детскую.
– Эх, ты!– было всё, что он мне сказал.
В квартире несколько дней пахло гарью. Ковровую дорожку порезали на короткие половички, остатки тюля и обгорелую постель унесли на мусорку.
Через несколько лет, когда я уже умел читать и мне попадались спичечные коробки с предупреждением «Прячьте спички от детей!», я знал, что это и про меня тоже.
Не знаю отчего, но в том своём нежном возрасте я был совершенно уверен, что сделаю что-то такое, из-за чего про меня будут писать книги.
Однако, щёки обжигал стыд при мысли, что будущим писателям про моё детство придётся признать: даже будучи первоклассником я иногда писялся по ночам, хотя у папы просто зла не хватало, потому что в мои годы он уже не пудил в постель.
Или о том ужасном случае, когда по дороге из школы у меня нестерпимо скрутило живот и я едва успел прибежать домой в туалет, но там, на полдороге, всё застопорилось – ни туда, ни сюда – сколько я ни тужился, покуда обеспокоенная моим воем бабка не ворвалась из кухни в туалет и, выхватив из мешочка на стене листок нарезанной газеты, выдрала у меня из попы колом застрявшую там какашку.
Невозможно же писать про такое в книге!
( … уже совсем в другой – нынешней – жизни, моя теперешняя жена Сатэник ездила к гадалке в Шушу, когда наш сын Ашот убежал из местной армии из-за неуставного к нему отношения командира роты и методичных избиениях на гауптвахте.
В год рождения Ашота СССР расползался по швам, казалось, что начинается новая жизнь и я втихаря надеялся – пока он вырастет армия станет контрактной. Чем чёрт не шутит?
Не пошутил, зараза.
Командир роты, по кличке Чана, взъелся на Ашота из-за своей личной обиды на несправедливое устройство жизни: его друзья-товарищи по карабахской войне нынче в генералы вышли, а он так и прозябает на передовой.
Восемь дней Ашот пропадал неизвестно где, вот Сатэник и поехала к гадалке, и та сказала, что всё будет хорошо.
Так и вышло. Ашот пришёл домой. Мы отвезли его к месту службы и – после перевода в другой полк – он дослуживал на постах более жаркого района, но уже без сержантских лычек.
Так вот, по ходу гадания, в виде бонусной, типа, информации, гадалка говорила, будто бабка моя, на том свете, обо мне беспокоится и надо поставить ей свечку, а имя у неё почти что Мария, но чуть-чуть по-другому.
Я подивился точности экстрасенсорной угадки – «Марья» и «Марфа» и впрямь сходные имена двух сестёр из Евангелия. Лео Таксиль говорит, что их и сам Иисус иногда путал.
Много позже, на девяносто восьмом году жизни, моя бабушка и сама начала забывать своё имя. В такие дни она обращалась за помощью к своей дочке:
– Ляксандра, вот всё думаю: а меня как звать-та?
Ну, а тётка Александра, тоже ещё тот подарочек, ей в ответ:
– Ой, мамань! А я и сама-то не помню. Может – Анюта?
– Не-е… По-другому как-то было …
А через два дня на третий объявляла дочери:
– Вспомнила! Марфа я! Марфа!
И как тут не запутаться гадалке?
Но это я забежал вперёд, потому что в армии сначала должен буду служить я, а в этом письме к тебе у меня ещё и старшая группа детсада не закончилась.
Так что, прекращаю очередной разлив «мыслию по древу» на тему младенческой мании величия и возвращаюсь в эпоху завершения детсадного формирования моей личности…)
На дворе стоял 1961 год.
Чем он примечателен (помимо моего выпуска из старшей группы детского садика на Объекте)?
Ну, во-первых, как ни переверни эту цифру, всё равно останется «1961».
Кроме того, в апреле радио на стене набатным голосом Левитана объявило, что через час будет важное правительственное сообщение.
Бабка вздыхала и украдкой крестилась, но когда в назначенный срок вся семья собралась в детской, Левитан ликующе оповестил о первом полёте человека в космос, в ходе которого Юрий Гагарин за 108 минут облетел земной шар и открыл новую эру в истории человечества.
В Москве и других больших городах Советского Союза люди вышли на незапланированную демонстрацию прямо со своих рабочих мест – в халатах и спецовках, с самодельными плакатами «Мы – первые! Ура!»
А на Объекте, в нашей детской, под бодрые марши из радио на стене, папа нетерпеливо объяснял маме и бабушке:
– Ну, и что непонятного? Посадили его на ракету, он и облетел.
Юрия Гагарина отдельным самолётом везли в Москву и по пути из лейтенантов произвели сразу в майоры.
Так что в аэропорту по трапу он спускался с большими звёздами на погонах светлой офицерской шинели и чётким строевым шагом пошёл по ковровой дорожке от самолёта к правительству в плащах и шляпах.
Шнурки его начищенных ботинок развязались и хлёскали по дорожке на каждый шаг, но он не сбился и в общем ликовании никто даже и не заметил.
( … через много лет, в несчётный раз просматривая кадры знакомой кинохроники, я вдруг заметил их, а до этого, как должно быть и все другие зрители, видел только лишь его лицо и то, как классно он идёт.
Заметил ли он?
Не знаю.
Но дошёл отлично и, держа руку под козырёк фуражки, отрапортовал, что задание партии и правительства выполнено…)
На Объекте, возле радио, я слабо представлял как можно облететь земной шар сидя на ракете, но раз папа говорит, значит так и есть.
Ещё через месяц была денежная реформа и вместо широких и длинных бумажек деньги стали маленькими, но копейки не поменялись.
Взрослые на кухне часто и громко обсуждали эту реформу.
В попытке приобщиться к взрослому миру, я встал посреди кухни и сказал, что новые рублёвки совсем жёлтые и Ленин на них даже и на Ленина не похож, а прям тебе чёрт какой-то.
Папа, кратко взглянув на соседей, сказал мне не лезть в разговоры старших и отправляться в детскую.
Я молча унёс обиду. Выходит, бабушке можно, а мне нет?..
Порой я слышал, как мама хвалит меня перед соседками:
– Он иногда такие вопросы задаёт, что и меня в тупик ставит!
При таких её словах у меня от гордости начинало пощипывать в носу, как от выпитого лимонада или ситро.
( … не тут ли корни моей мегаломании?..)
Но этот случай стал для меня уроком: не плагиатничай у бабок, а умничай своим, если найдётся чем, конечно.
И, кстати, о носе.
В других квартирах, ну, у соседей, например, или в отдельных домах, как у дяденьки Зацепина, всегда какой-то запах. Не то, чтоб неприятный, но есть. И у всех разный. Только у нас дома совсем никак не пахнет.
В то лето взрослые увлеклись волейболом. После работы и домашних дел мама одевала спортивный костюм и шла играть. До волейбольной площадки рукой подать – она через дорогу, рядом с Бугорком, похожим на холм из Русских былин.
Игра велась «на вылет» и команды сменяли одна другую до ночной темноты, вокруг одинокой лампы на деревянном столбе. Игроки азартно кричали друг на друга, но с судьёй не смели спорить, потому что он сидел высоко и у него был свисток.
Зрители тоже сменялись – приходили и уходили, кричали, укомплектовывались в команды, били на себе комаров слетавшихся зудящими тучами, либо обмахивались широколистыми ветками.
И я там был, и тоже комаров кормил, но это не помнится, а помнится редкое ощущение общности, сопричастности: это мы, и мы все свои – люди. Жалко, что кому-то уже пора уходить, зато вот ещё подходят. Наши. Мы.
( … давно это было. Ещё до того, как телевизор и интернет рассовали нас по одиночкам …)
Ближе к осени мама начала обучать меня чтению Азбуки.
Там повсюду картинки, а буквы нанизаны на чёрточки, чтоб легче складывались слова. Но они никак не хотели складываться.
Иногда я пробовал обмануть и, глядя на картинку, говорил:
– Лы-у-ны-а… Луна!
Но мама отвечала:
– Не ври, это «ме-сяц».
Пришлось, пыхтя, складывать слоги в слова и через несколько недель я уже мог нараспев читать тексты в конце книги, где комбайн жнёт колосья в колхозном поле…
На бабку совсем не повлияло заявление Юрия Гагарина про то, что пока он летал, то никакого Бога там не видел.
Она начала скрытно вести среди меня свою анти-атеистическую пропаганду.
Что, мол, Бог всё может и всё знает, а главное: чего попросишь – сделает.
Всего и делов-то – регулярно ему молиться.
Зато потом, в школе, с Божьей помощью, всё будет как надо: попрошу пятёрочку – получу пятёрочку.
И я – дрогнул; я поддался её агитации, хотя и не показывал виду.
Я стал верующим.
Правда, тому, что полагается делать верующим, меня никто не учил. Пришлось самому изобретать обряды.
Спускаясь играть во двор, я на минутку заскакивал в укромное место в подъезде – позади подвальной двери – и не шептал даже, а просто говорил в уме:
– Ладно, Бог, ты сам всё знаешь. Видишь – крещусь вот.
И накладывал крестное знамение где-то в области пупка.
Однако, когда до школы оставалась всего неделя, что-то во мне взбунтовалось и я стал богоотступником.
Я отрёкся от Него.
Причём, громогласно, не прячась. В открытую.
Я вышел в поле для футбола, вдоль дороги между кварталом и мусоркой, и громко-громко проорал:
– Бога нет!
Вокруг – ни души, но, на всякий случай, я принял меры предосторожности и рассудил, что если кто-то всё-таки услышит, например, случайно позади забора в мусорке, то сразу же и подумает: «Ага! Раз кричит, что нету, значит перед этим думал, что есть!»
А это стыдно же для мальчика, который на днях станет школьником.
Поэтому вместо чётких слогов богохульного отречения я выкрикнул неразличимые гласные:
– Ы-ы ы!
Ничего не произошло.
Снова задрав голову, я повторил вопль, а затем, в виде точки своим отношениям с Богом, плюнул в небо.
Ни грома, ни молнии не последовало, только обращённым к небу лицом я почувствовал, как плевок вернулся измельчёнными капельками.
Не точка, так многоточие… Какая разница?
И я пошёл домой освобождённый…
( … микрослюнные осадки, окропившие, в результате богоборческого плевка в небо, лицо семилетнего меня, неоспоримо доказывали моё неумение делать выводы из личного опыта:
(подброшенные горсти песка всегда осыпались вниз),
а также полное неведение о выводах Исаака Ньютона в его законе на ту же тему; юному атеисту и впрямь пришла пора бултыхнуться в неизбежный поток обязательного школьного образования…)
Нескончаемо долгое лето сжалилось над моей беспросветностью и передало меня сентябрю, когда, обряженный в синеватый костюмчик с оловянно блестящими пуговицами, с чубчиком подстриженным в настоящей мужской парикмахерской, куда мама сводила меня накануне для того, чтобы, стискивая в ладони обёрнутые газетой стебли георгинов, с вечера принесённых из палисадничка папиного друга дяди Зацепина, у которого чёрный мотоцикл с коляской, я пошёл первый раз в первый класс под присмотром мамы.
Уже не вспомнить: вела ли она меня за руку, или мне всё же удалось-таки настоять, что я сам понесу тёмно-коричневый портфельчик.
Мы спускались по той же дороге, что и в садик, по ней уже давным-давно не ходили плотные колонны зэков, и в то утро шагали вразнобой другие будущие первоклассники с родителями и разнокалиберные школьники постарше – группками и по отдельности.
Но под горкой мы не свернули на широкую тропу к садику, а пошли прямиком к казармам учебки с распахнутыми воротами, чтобы пересечь и покинуть её двор через боковую калитку, а там, по торной тропе, подняться между высоких елей и серых стволов осин на взгорок, за которым опять начинался длинный спуск через лиственный лес, с болотом по правой стороне, к короткому, но крутому подъёму на дорогу заходящую в открытые ворота территории школы позади забора из брусьев.
Внутри территории дорога подводила к бетонным ступеням, что подымались к неширокой дорожке перед входом в двухэтажное здание школы, с рядами широких окон.
В школу мы не зашли, а зачем-то долго стояли, а большие школьники бегали туда-сюда и на них покрикивали.
Потом нас, первоклашек, выстроили в одну линию.
Родители остались за спиной, но всё-таки рядом, и мы ещё постояли со своими цветами и портфелями, пока нам не сказали встать пó-двое и идти за пожилой женщиной в класс.
Мы нестройно двинулись, какая-то девочка разревелась: её стали утешать на ходу.
Я оглянулся на маму.
Она улыбалась и говорила уже не слыхать что, и помахала мне рукой.
Черноволосая, молодая, красивая…
Дома мама всем сказала, что Серафима Сергеевна Касьянова очень опытная и хорошо, что я попал именно к ней.
Поначалу опытная учительница обучала нас писать карандашом в тетрадях в косую линейку, чтоб вырабатывался почерк с наклоном.
Мы писали нескончаемые строчки палочек и крючочков, из которых в дальнейшем составятся буквы.
Прошла целая вечность, прежде чем учительница объявила, что мы начинаем писать ручками и назавтра надо принести их с собой в школу вместе с чернильницами-невыливайками и сменными перьями.
Такие ручки – изящные деревянные палочки в яркой однотонной окраске с манжетиками из светлой жести на конце, куда вставляется перо, я и без того каждый день приносил с собой в деревянном пенале с продольной выдвижной крышечкой.
А пластмассовые невыливайки и впрямь удерживали чернила в своих двойных стенках, если случайно опрокинешь, или нарочно перевернёшь кверх тормашками.
Перо обмакивалось в чернильницу, но не слишком глубоко, потому что если наберёшь на перо слишком много чернил, они стекут на тетрадный лист и получится клякса.
Одного обмака хватает на пару слов, а потом – снова макай.
В школе чернильницы стояли по одной на каждую парту и двое соседей макали туда перья своих ручек по очереди.
Кончик у сменных перьев был раздвоен, но плотно теснящиеся друг к другу половинки оставляли на бумаге тонкую линию (если не забудешь обмакнуть перо в чернильницу), зато при нажиме на ручку они плавно раздвигались, чтобы линия стала пошире.
Чередование тонких и жирных линий с равномерными переходами из одной в другую, запечатлённые в прекрасных образцах учебника по чистописанию, приводили меня в отчаяние своей недостижимостью.
Позднее, уже в третьем классе, я освоил ещё одно применение школьных пёрышек.
Если воткнёшь перо в бок яблока, провернёшь, а потом вытащишь, то в нём останется маленький конус яблочной плоти, а в самом яблоке – аккуратное отверстие, куда можно вставить полученный конусик, предварительно перевернув.
Получается яблоко с рогом. Добавляешь ещё таких рожков, и оно начинает смахивать на морскую мину, или ежа – в зависимости от усидчивости рукодела.
Потом своё художество можно съесть, но вкус яблочного мутанта мне не нравился.
А год спустя, в четвёртом классе, пёрышки учеников превращались в метательное оружие.
Одна половинка раздвоенного носика обламывается, а заокругленный конец задней части надо расщепить, чтобы вставить в трещинку бумажный хвостик-стабилизатор для ровного полёта по прямой.
Теперь бросай свой дротик во что-то деревянное: дверь, доску, оконную раму – он там воткнётся колющей половинкой носика и заторчит.
Дорога в школу стала совсем своей, но всякий раз немножко другая.
Листва опадала, по лесу пошли гулять сквозняки, а школа различалась уже со спуска рядом с болотом, где на светлой и гладкой коре одной из широких осин темнела вырезанная ножиком надпись: «Здесь пропадает юнность».
( … до сих пор название молодёжного литературного журнала ЮНОСТЬ мне почему-то кажется коротковато ущербным …)
Потом повалили снега, но в наметённых сугробах за один день опять протаптывалась широкая тропа дороги в школу.
Солнце нестерпимо искрилось в белизне по обе стороны дороги к знаниям, что превратилась в снежную траншею с оранжевыми метинами мочи на стенках; следующий снегопад их бесследно засыплет, но они появятся в других местах новопротоптанной (и ставшей глубже) тропы через лес.
Под Новый год наш класс кончил проходить букварь и Серафима Сергеевна привела нас в школьную библиотеку – узкую комнату на втором этаже. Она сказала, что теперь мы можем приходить сюда и брать книги домой для личного чтения.
Я принёс домой мою первую книгу, залёг с ней на диване и не подымался пока не прочитал до конца.
В ней рассказывается про город, где по улицам ходят молоточки и стукают по головам колокольчиков, чтоб те звенели – это сказка Аксакова про табакерку с музыкой…
Зимние вечера такие торопыги, пока пообедаешь и отмучаешь домашнее задание по чистописанию – глядь! – а за окном уже густеют сумерки.
Но даже темень не в силах остановить общественную жизнь, вот и одеваешь валенки и тёплые штаны поверх них, зимнее пальто, шапку и – айда на горку!
Далеко? Да нет же! Ведь это та самая горка где мы спускаемся из Квартала к школе новобранцев, по дороге в свою школу. Поэтому снег тут хорошо утоптан и санки в нём не вязнут.
Горка начинается от бетонной окружной дороги. Бетон, конечно, тоже укрыт укатанным снегом, но свет фонарей на столбах вдоль него подтверждает – это всё та же дорога.
Один из фонарей стоит в начале спуска. Под ним и собирается гурьба детворы с санками.
У большинства они покупные – с алюминиевыми полозьями и разноцветно лакированными перекладинками сиденья.
А мои папа на работе сделал, они чуть короче магазинных, но более угонистые, хотя тоже со спинкой, на которую приходится бросаться животом, когда разгоняешься под гору.
Низ спуска тонет в ночной темноте проколотой далёкой лампочкой над воротами школы новобранцев.
Когда санки на излёте останавливаются, берёшь обледенелую верёвку, продетую в две дырки на носу у санок и топаешь обратно вверх.
А с приближеньем к свету придорожного фонаря, из обочинных сугробов тебе начинают подмигивать несчётные живые искорки, меняющиеся с каждым шагом.
А наверху уже придумали устроить паровозик – цепляют санки друг с дружкой верёвками за спинки, и вот уже общая масса с воплями, с визгом укатывает в темноту.
В какой-то момент я, как, наверное, тысячи других мальчиков, сделал то, чего никак нельзя делать, и нас об этом тысячу раз предупреждали, но передок санок в свете фонаря переливался таким прекрасным множеством морозных искорок, что я не удержался и лизнул его.
Как и следовало ожидать, язык прикипел к железу, пришлось отдирать со стыдом и болью, и с надеждой, что никто не заметил такой глупости от такого большого мальчика.
Потом возвращаешься домой, волоча за собой санки онемелыми от холода руками, и бросаешь их у подвальной двери в подъезде, а дома мама сдёргивает с тебя варежки с бисерной ледышкой на каждой ворсинке шерсти, открывая побелелые кисти твоих рук и выбегает во двор – зачерпнуть снега в тазик и растереть твои ничего не чувствующие руки, а потом велит держать их в кастрюле, куда льётся холодная вода из кухонного крана и к ним медленно начинает возвращаться жизнь; и ты ноешь от иголок пронзительной боли в пальцах, а мама кричит: так тебе и надо! тоже мне – гуляка! так тебе и надо, горе ты моё луковое!
А ты скулишь от нестерпимой боли в негнущихся пальцах и ойкаешь ободранным об морозную железяку языком, но уже не сомневаешься, что всё будет хорошо, потому что мама знает чем и как спасти тебя…
После каникул Серафима Сергеевна принесла в класс газету «Пионерская правда» и целый урок читала оттуда что такое коммунизм, который Никита Сергеевич Хрущёв только что пообещал построить в нашей стране через двадцать лет.
Когда я дома радостно объявил, что нам предстоит жить при коммунизме, где в магазинах всё будет бесплатно, родители переглянулись, но разделять мои восторги не стали.
Я больше не стал к ним приставать, но про себя высчитал, что с наступлением коммунизма мне исполнится двадцать семь лет – не очень-то и старый, успею пожить при нём.
К тому времени всех учеников нашего класса уже приняли в октябрята, для этого к нам приходили взрослые пятиклассники и каждому из нас прикололи на школьную форму значок – маленькую алую звёздочку с круглой рамочкой в центре, откуда, как из медальона, смотрит ангельское личико Володи Ульянова в раннем детстве, когда он командовал своей сестричке: «Шагом марш из-под дивана!»
Потом он вырос и стал Владимиром Ильичом Лениным и про него написали множество книг…
Дома у нас появился проектор для диафильмов: угловато-коробчатое устройство с трубкой носа, в котором размещаются линзы, и с набором пластмассовых бочоночков, где под крышечками хранятся тугие свитки тёмных плёнок с диафильмами – про того же матроса Железняка, или про маленькую дочку революционера, которая догадалась спрятать принесённый отцом типографский шрифт для подпольных листовок в кувшине молока, когда нагрянула полиция с обыском.
Им и в голову не пришло заглянуть под молоко.
Плёнки в рамку протяжки заряжал, конечно же, я и потом вращал чёрное колёсико прокрутки, сменяя кадры.
Надписи под кадрами читал тоже я, но не долго, потому что младшие выучили их наизусть и пересказывали надпись ещё до того, как кадр со скрипом взберётся в световой квадрат на оклеенной обоями стене.
Такие посягновения на своё старшинство от Наташи я терпел, но от Сашки было обидно.
Давно ли, запыхавшись от игр, вбегали мы на кухню напиться воды из крана и он уступал мне, как более старшему и сильному, белую кружку с рисунком крейсера «Аврора» на боку?
А я, отпив половину, передавал остаток ему и великодушно позволял допить – ведь именно так передаётся сила.
Отчего я такой сильный?
Потому что не побрезговал допить воду из бутылки надпитой самым сильным мальчиком нашего класса – Сашей Невельским.
Мой младший брат наивно слушал мои наивные россказни и послушно брал протянутую кружку…
Он, как и я, был доверчив и однажды за обедом, когда папа достал из своей суповой тарелки хрящ без мяса и объявил: кто разгрызёт – получит кило пряников, Сашка вызвался и, всё-таки, разгрыз, но пряников так и не получил.
Мама принесла посылку с почты – фанерный ящичек с коричневыми нашлёпками сургуча и крупными буквами адресов: нашего номерного «почтового ящика» и города Конотопа.
Посылку ей отправила её мама, чтобы порадовать нас салом, мешочком чёрных семечек, и резиновой грелкой, где булькал самогон.
Мама обжарила семечки на сковородке и они очень вкусно запахли.
Мы грызли их, складывали шелуху на блюдце, а вкусные ядрышки с острыми носиками жевали и проглатывали.
Потом мама сказала, что если сразу не есть, а налущить по полстакана, да посыпать сахарным песком – вот будет вкуснотища!
Мы, дети, получили по стакану семечек каждый, одно блюдце на всех сразу и большущий кульёк, который мама ловко свернула из газеты и наполнила посылочными семечками.
Зайдя в детскую, мы разлеглись на остатках ковровой дорожки с подпалинами от давнишнего пожара.
Конечно же, лущёными семечками первым наполнился стакан Наташки, хотя она больше болтала, чем грызла. Но когда и Санька стал обгонять меня, это задело моё самолюбие; хотя я оправдывался тем, что отвлёкся рассматриванием карикатуры на газетном кульке, где пузатый колониалист вылетал с континента Африка, а сзади на его шортах чернел отпечаток пинка башмаком.
Я стал грызть побыстрее, иногда мне хотелось съесть какую-то из семечек, но нельзя же совсем отстать от брата с сестрой.
Потом мама принесла стакан с сахарным песком и чайной ложечкой посыпала нагрызенные нами семечки, но мне уже их расхотелось, даже и под сахарной присыпкой, и я охладел к ним на всю дальнейшую жизнь…
( … а между тем, лузганье семечек это не просто эффективное времяпровождение в сочетании с ублажением вкусовых колбочек языка и нёба, но ещё и целое искусство.
Начиная от разухабисто славянских фасонов типа «свинячьего», когда чёрные, отчасти даже пережёванные лушпайки не сплёвываются в окружающую действительность, а выталкиваются языком из уголка губ и они неспешной, лавообразной массой сползают до подбородка, чтобы шмякаться вниз прослюненными шматками; либо же «филигранного», при котором семечка закидывается в рот с расстояния не менее двадцати пяти сантиметров, и так далее – до целомудренной закавказской манеры, когда грызóмые семечки закладываются во всё тот же, таки, рот по одной, из зажима между концом большого и суставом указательного пальцев, причём сгиб указательного совершенно прикрывает губы в момент приёма семечки, и лузга не выплёвывается, а возвращается обратно меж тех же пальцев для рассеивания куда попало, или складывания во что-уж-там-нибудь.
При наблюдении последнего из перечисленных способов, складывается впечатление будто семечкоед вкушает собственный кукиш. Ну-кось, выкусим!..
М-да, семечки – это вам не тупой поп-корм.
Однако, хватит уже про них, вернусь-ка к зелёной дорожке …)
Именно на этой зелёной дорожке мой брат нанёс сокрушительный удар по моему авторитету старшего, когда я, придя из школы после урока физкультуры, опрометчиво заявил, что сделать сто приседаний кряду – выше человеческих сил.
Сашка молча посопел и сказал – он сделает.
Считали мы с Наташей.
После тридцатого приседания я заорал, что так неправильно, что он подымается не до конца, но он не слушал и продолжал, и Наташа продолжала считать.
Я перестал вопить, а под конец даже присоединился к сестре в хоровом счёте, хотя и видел, что после восьмидесяти он уже не подымается выше согнутых в приседе колен.
Мне жалко было брата, эти неполноценные приседы давались ему с неимоверным трудом.
Его пошатывало, в глазах стояли слёзы, но счёт был доведён до ста, после чего он насилу доковылял до дивана, а потом неделю жаловался на боль в коленях.
Авторитет мой рухнул, как колониализм в Африке. Хорошо хоть пряников я не обещал…
Откуда взялся проектор?
Скорее всего это был подарок родителей. А у них в комнате появилась радиола – комбинация из радиоприёмника и проигрывателя для грампластинок; как теперь говорят: два в одном.
Крышка и боковые стенки у неё отблескивали коричневым лаком. Твёрдый картон обращённой к стене задней стенки был просвéрлен рядами круглых отверстий-иллюминаторов, в которых белели алюминиевые домики-панели и теплились тихие огоньки в чёрно-перламутровых башенках радиоламп разного роста, а через одну из дырочек выходил коричневый провод с вилкой для электророзетки.
Переднюю стенку обтягивала специальная звукопропускающая материя, через которую угадывались овалы динамиков, и круглый зелёный глазок лампочки, зажигающейся при включении.
Внизу передней стенки размещалась невысокая стеклянная плата почти во всю длину, если не считать три катушечные ручки по краям: справа – включение и громкость (два в одном) и переключатель диапазона принимаемых радиоволн, слева – плавная подстройка на волну.
Стекло было чёрное, с четырьмя прозрачными полосками от края и до края, и над каждой тонкие чёрточки с названиями городов: Москва, Бухарест, Варшава; а если покрутить ручку настройки приёма волны, то через прозрачные полоски, по ту сторону стекла, в недрах радиолы видно продвижение красного вертикального бегунка.
Радио было не очень интересным – шипело, трещало при перемещении бегунка, иногда из него всплывала речь диктора на незнакомо-бухарестском языке, или на русском, но такое же самое, что и в настенном радио.
Зато поднятие лакированной крышки открывало широкий круг с бархатной красной спинкой, куда кладутся грампластинки, надеваясь на невысокий никелированный стерженёк в центре круга, а сбоку от него – чуть кривоватая лапка адаптера из белой пластмассы на своей подставке.
Адаптер надо приподнять с подставки и опустить на краешек вращающейся грампластинки, чтобы слушать песню про Чико-Чико из Коста-Рики, или О Маэ Кэро, или про солдата в поле вдоль берега крутого.
В тумбочке под радиолой было много бумажных конвертов с чёрными пластинками Апрелевского завода грамзаписи, о чём напечатано на круглых наклейках в центре, пониже названия песни и имени исполнителя, и что скорость вращения 78 об/мин.
Рядом с адаптером находился рычажок переключения скоростей: 33, 45 и 78.
Пластинки на 33 оборота были значительно меньше 78-оборотных, но на них – на таких маленьких – размещалось аж по две песни с одной стороны.
Наташа показала нам, что при запуске 33-оборотной пластинки на скорость в 45 или 78 оборотов даже хор Советской Армии имени Александрова начинает петь кукольно-лилипуточными голосами.
Папа не слишком-то увлекался чтением, если что и читал, то лишь журнал РАДИО со схемами-чертежами из диодов-конденсаторов-сопротивлений, который ежемесячно приносили в почтовый ящик на двери нашей квартиры.
А поскольку папа был партийный человек, то туда же ещё клали газету ПРАВДА и журнал БЛОКНОТ АГИТАТОРА без единой картинки и с беспросветно плотной печатью – по одному-два нескончаемых абзаца на странице, не больше.
Ещё из-за своей партийности папа иногда по вечерам ходил на занятия в школу партийной учёбы, после работы, чтобы записывать уроки в толстую тетрадь с дерматиновой коричневой обложкой, потому что в конце учебного года его ждал трудный экзамен.
С одного из вечерних уроков папа принёс домой пару партийных учебников, которые там распространяли среди партшкольников. Но даже в эти учебники он никогда не заглядывал.
И оказалось, что зря.
Потому что ещё через два года в одном из них он обнаружил свою «заначку» – часть получки припрятанной от жены для расходов по собственному усмотрению.
Он горько сожалел и громко сетовал по поводу своей находки, потому что заначка оказалась старыми деньгами, на которые после реформы ничего не купишь…
У Объекта, на котором мы жили, было ещё одно имя – Зона. Оно осталось с тех времён, когда Объект строили зэки, а ведь они живут и трудятся «на зоне».
После пары лет занятий в партийной школе папу и других её учеников возили «за Зону» – в районный центр на экзамены.
Папа переживал и говорил, что ни черта не знает, хоть исписал свою толстую тетрадку почти до самого конца. А как же не хочется остаться ещё на год в этой школе партийной учёбы!
Из «за Зоны» он вернулся довольный, потому что получил «троечку» и теперь хоть вечера будут свободны.
Мама спросила: как же так удалось, если он ничего не знал?
Тогда папа открыл толстую тетрадь и показал свою колдовочку – во время экзамена он на последней странице сделал карандашный рисунок осла, а внизу написал: «вы-ве-зи!»
Я не знал верить всему этому или нет, потому что папа очень смеялся, но я решил, что лучше никому не стану рассказывать про осла, который вывез папу из школы партийной учёбы…
Зато мама читала книги.
Она носила их с собою на работу, в свои смены дежурства на насосной станции.
Эти книги она брала в библиотеке Части (потому что мы жили не только на-Объекте-в-Зоне-и-в-Почтовом-ящике, но ещё и в войсковой Части номер такой-то).
В библиотеку путь неблизкий, не меньше километра. Сначала надо спуститься под гору по дороге из бетонных плит, внизу её пересечёт асфальтная, а бетонная превратится грунтовую улицу между рядами деревянных домов с невысокими палисадниками, по ней надо идти всё время прямо и, метров за двести до Дома офицеров, свернуть направо – к одноэтажному, но кирпичному зданию библиотеки Части.
Мама иногда брала меня с собой и пока она обменивала книги в глубине здания, я дожидался в широкой пустой передней комнате с плакатами про ядерный взрыв и атомную бомбу в разрезе (ведь мы жили на Атомной Объекте).
Кроме плакатов про бомбу на стенах были ещё фотографии как готовят диверсантов НАТО, где диверсант, вспрыгнув на спину часовому, раздирал ему губы пальцами своих рук.
От этой картинки становилось жутко, но не смотреть на неё я не мог и думал – скорей бы уж мама вышла с выбранными книгами.
Однажды я набрался смелости и спросил можно ли и мне брать тут книги?
Мама сказала, что это, вообще-то, библиотека для взрослых, но всё же завела меня в комнату, где за тумбовым столом со стопками разнообразных толстых книг сидела женщина-библиотекарь и мама ей сказала, что уже не знает что со мной делать, и что я уже перечитал всю школьную библиотеку.
С тех пор я ходил в библиотеку сам, без мамы; иногда даже относил её книги, а для себя брал по две-три и читал их вперемешку, разбросанными по дивану, на одном валике которого полз в тыл врага за «языком» вместе с разведчиками группы «Звезда», а перевернувшись к другому валику – утыкался в уже раскрытую страницу с мексиканскими кактусами, где скакал через пампасы белый вождь Майн Рида.
Вот только Легенды и мифы древней Греции в синем переплёте, с чёрно-белыми фотографиями греческих богов и героев, я почему-то, главным образом, читал в ванной, сидя на стульчике рядом с титаном, в котором горел огонь для нагрева воды.
За такой диванный образ жизни папа прозвал меня Обломовым, которого запомнил на уроках русской литературы в своей деревенской школе…
Зима была затяжная; метели сменялись морозом и солнцем. В школу надо было выходить в густых сумерках, чуть ли не затемно.
Но однажды, в оттепельный день, возвращаясь из школы домой и уже на подъёме между казармами для новобранцев и домами Квартала, я увидел непонятную чёрную полосу слева от дороги, свернул туда и, проваливаясь валенками в нехоженый снег, пошёл разобраться. Она оказалась полосою проступившей из-под снега земли – липковатой от влаги. Проталина.
На следующий день проталина удлинилась и кто-то оставил на ней почернелые опавшие шишки сосны.
И хотя назавтра ударил мороз, сковал снег твёрдым настом, и опять пошли снегопады, бесследно укрыв темневшую на взгорке проталину, я точно знал: а зима-то – пройдёт…
В середине марта, на первом уроке понедельника, Серафима Сергеевна сказала нам отложить свои ручки и выслушать её.
Оказывается, позавчера она с дочкой ходила в баню, а вернувшись домой обнаружила пропажу кошелька, со всей её учительской зарплатой.
Они с дочкой очень расстроились, и та ей сказала, что разве с такими людьми построишь коммунизм?
Но на следующий день к ним домой пришёл человек – рабочий бани, который нашёл кошелёк и догадался кто это вечером его потерял, и принёс вернуть.
И Серафима Сергеевна сказала, что коммунизм точно будет и попросила запомнить имя этого человека.
( … но я его уже позабыл, потому что «тело – заплывчиво, память – забывчива», как записано в словаре Владимира Даля …)
А в субботу солнце пригревало совсем по весеннему.
После школы и обеда я поспешил во двор Квартала на общий субботник.
Люди вышли из домов в ярко сверкающий день и лопатами расчищали от снега бетонные дорожки во всём огромном дворе.
Дети постарше нагружали снег в большие картонные коробки и на санках отвозили в сторонку, на кучу, где бы он не мешал.
В кюветах прокопали глубокие каналы, нарезая лопатами и вытаскивая целые кубы подмокшего снизу снега.
И по этим каналам с журчанием бежала тёмная вода.
Пришла весна и всё менялось каждый день…
Потом нам в школе выдали желтоватые листки табелей успеваемости с нашими оценками по предметам и за поведение, и наступили летние каникулы с каждодневными играми в классики, прятки и «ножички».
Для игры в «ножички» нужно найти ровную площадку земли, начертить круг и разделить на секторы – по числу участников, а потом по очереди бросать ножик, чтоб воткнулся в землю кого-то из соседей и заторчал там, после чего, по направлению лезвия, проводится черта, и сосед избирает: какой из двух кусков земли, поделённой чертою, останется ему, а какой отойдёт воткнувшему.
Игра в «ножички» заканчивалась когда у проигравшего не оставалось достаточно земли, чтобы стоять там хотя бы на одной ножке.
( … «сказка ложь, да в ней намёк…», говорил Пушкин.
По моему теперешнему разумению, в этой детской игре отражена вся суть всемирной истории …)
Но тогда это был просто азарт и сменявшие друг друга ликующая радость и горькое отчаяние.
Ещё мы играли в спички (именно «в» спички, а не «со»).
От сжатой в кулак руки отводится большой палец и между ним и средним суставом указательного вставляется спичка – туго, как распорка.
Соперник своею, точно так же зажатой спичкой, упирается в твою: крест-накрест, и победа за тем, чья спичка выдержала и не сломалась.
Та же идея, как в цоканье пасхальными яйцами друг об дружку.
На эту игру изводился не один коробок прихваченных из дому спичек.
Или мы просто бегали, играя в «войнушку» с криками «ура!» и «та-та-та!.. я тебя убил!», но убитый никак не падал и кричал в ответ: «ну, а я ещё при смерти!», и долго потом ещё бегал и «та-та-такал», прежде чем картинно повалиться в траву.
В бою применялись самодельные автоматы, из досочек. Некоторые мальчики играли магазинными – из чёрной жести, в них заряжались специальные боеприпасы – рулончики узеньких бумажных лент с посаженными на них крапушками серы.
Эти крапушки громко хлопали, когда пружинный курок ударял по заправленной в автомат ленте.
Мама купила мне подобный пистолет и коробочку пистонов – мелких бумажных кружочков с такими же крапушками серы.
Их надо было закладывать под курок по отдельности для каждого выстрела.
При бахканьи, из-под курка подымался лёгкий дымок с кислым запахом.
Когда я щёлкал пистолетом в куче песка рядом с мусоркой, мальчик из углового дома попросил подарить пистолет ему и я с готовностью отдал.
Ведь он был сын офицера – ему нужнее.
Мама никак не могла поверить, что мальчик способен так запросто отдать свой пистолет другому, и требовала, чтобы я сказал ей правду, что потерял мамин подарок.
Я упорно повторял свою правду и она даже повела меня к отцу того мальчика.
Офицер начал стыдить сына, а мама громко извинялась, потому что она просто хотела проверить и добиться, чтобы я не врал.
Ещё в то лето мальчики из нашего двора начали приносить желтоватые стреляные гильзы со стрельбища в лесу.
Мне тоже хотелось посмотреть какое оно – стрельбище, но мальчики объяснили, что ходить туда надо по особым дням, когда там нет стрельб. А то не пустят.
Особый день заставил долго себя ждать, но всё-таки наступил и мы пошли через лес.
Стрельбище оказалось большущей поляной с вырытым в песке котлованом, куда шёл крутой спуск.
Дальнюю стену котлована закрывал щит из брёвен поклёванных пулями, с квадратиками простреленных бумажных мишеней.
Гильзы приходилось долго отыскивать в песке под ногами.
Они были двух типов – автоматные, которые сужáются к концу, и мелкие ровные цилиндрики от пистолета ТТ.
Находкам громко радовались и выменивали их друг у друга.
Мне совсем не везло и я завидовал. Всклики более находчивых мальчиков тонули в жутковатой тиши стрельбище, недовольного нашим набегом в запретное место.
На другом краю поляны проходила траншея, как на поле боя, в которой песок стен удерживали щиты из досок.
Через поле, поперёк траншеи, тянулись рельсы узкоколейки, по ним, из конца в конец, громыхал колёсами большой фанерный макет танка на тележке, когда его потащат тросы ручной лебёдки.
Мальчики начали играть с макетом.
Я тоже посидел разок в траншее, пока над головой прокатится по рельсам фанерный танк, а потом пошёл на зов от края поля – что нужна моя помощь.
Мы тянули за трос, подтаскивая его к горизонтальному блоку, чтобы у мальчиков на той стороне поля боя легче крутилась лебёдка, приводящая в движение тележку с танком.
В какой-то момент я зазевался и не успел отдёрнуть руку – трос втянул мой мизинец в ручей блока.
Боль в защемлённом пальце выжала из меня истошный вопль и фонтаном брызнувшие слёзы.
Ребята у лебёдки, слыша моё уююканье и крик мальчиков: «стой! палец!», смогли остановить лебёдку, когда до выхода из ручья блока оставалось сантиметра два, и начали крутить в обратную сторону, протаскивая мой мизинец туда, где он был изначально закушен толстым стальным тросом.
Безобразно сплющенный, бледно почернелый палец, измазанный кровью лопнувшей кожи, медленно вызволился из пасти блока.
Он мгновенно распух и его обвязали платком, и сказали мне скорее бежать домой.
И я побежал, чувствуя, как болезненно отдаются толчки пульса в пожёванном пальце.
Дома мама велела сунуть мизинец под струю воды из крана над кухонной раковиной, несколько раз согнула и разогнула его и, смазав щипучим йодом, натуго обмотала бинтом, превратив в толстый негнущийся кокон, в котором всё-таки отдавались удары сердца.
Она сказала мне не реветь, как коровушка, и что до свадьбы заживёт…
( … и вместе с тем, детство вовсе не питомник садомазохизма: «ай, мне пальчик защемили! ой, я головкой тюпнулся!»
Просто некоторые встряски оставляют более глубокие зарубки в памяти.
Жаль, что память не удерживает то непрестанно восхищённое состояние открытия, когда песчинка, прилипшая к лезвию перочинного ножа, содержит в себе неисчислимые миры и галактики, когда любая мелочь, чепуховинка, есть обещаньем и залогом далёких странствий и головокружительных приключений.
Мы вырастаем, наращивая защитную броню, доспехи необходимые для преуспеяния в мире взрослом: я – халат доктора, ты – куртку гаишника; каждый из нас – нужный винтик в машине общества, у каждого отстругнуты ненужности типа вглядывания в огнетушители, или складывания лиц из морозных узоров на оконном стекле.
Сейчас на пальцах моих рук есть несколько застарелых шрамов: этот вот от ножа, этот вообще приблудный – не помню откуда взялся, а тут топором тюкнуто… Но вот на мизинцах не могу и следа различить от той трособлочной травмы.
Память – забывчива, тело – заплывчиво…
Но мне известны поговорки и посвежее; совсем недавно и очень даже неплохо кем-то сказано: «лето – это маленькая жизнь» …)
В детстве не только лето, а и всякий день – маленькая жизнь.
В детстве время заторможено – оно не летит, не течёт, и даже не движется, покуда не подпихнёшь.
Бедняги детишки давно бы пропали, пересекая эту безграничную пустыню застывшего времени в начале их жизней, если б их не выручали игры.
А в то лето, когда играть надоедало, или не с кем было, у меня уже имелось прибежище.
Диван.
Вот где настоящая жизнь!
С приключениями героев Беляева, Гайдара, Жюль Верна.
Хотя для приключений годится не только диван.
Один раз я целый летний день провёл на балконе, снаружи комнаты родителей, за чтением книги про доисторических людей – чунга и помы.
На них была шерсть, как на животных, и они жили на деревьях.
Но случайно обломившийся сук помог оборониться от тигра и они начали носить с собой палку.
Потом случился пожар; наступило похолодание.
Племя бродило в поисках пищи, обучалось добывать огонь и разговаривать друг с другом.
В последней главе постарелая пома не смогла больше идти и отстала от племени, а её чунг остался рядом с ней – замерзать в снегу.
А дети их пошли дальше. Они уже повзрослели и были не такие мохнатые, как их родители, и от холода защищались шкурами других животных.
Книга была не очень толстая, но я читал её целый день, пока солнце, поднявшись слева – позади леса за домами Квартала, неприметно передвигалось по небу, чтобы уйти за соседний квартал справа.
В какой-то момент, видно для отдыха от безотрывного чтения, я протиснулся меж вертикальных железных прутьев под перилами и стал прохаживаться по бетонной кромке балкона по ту сторону ограждения.
Это совсем не страшно, ведь я крепко хватался за прутья, как чунг и пома, когда ещё жили на деревьях.
Но проходивший внизу незнакомый дядя отругал меня и велел залезть обратно, и ещё пригрозил, что скажет моим родителям.
Их не было дома и он пожаловался соседям. Те потом наябедничали маме и она взяла с меня обещание никогда больше так не делать…
( … всякая дорога, при прохождении её в первый раз, кажется нескончаемо длинной, ведь ещё не можешь соизмерять пройденное с предстоящим.
При повторных прохождениях она кажется всё короче.
То же самое и с учебным годом в школе.
Но об этом я так и не узнал бы, если б сошёл с дистанции в начале второго учебного года …)
Был ясный осенний день и наш класс повели на экскурсию – собирать древесные листья.
Вела нас не Серафима Сергеевна, а пионервожатая школы.
Сначала мы шли через лес, потом спустились на дорогу к библиотеке Части и Дому офицеров, но не пошли по ней, а свернули в проулочек между деревянными домами.
Проулочек вывел к обрывистому спуску покрытому двумя широкими потоками дощатых ступеней, ведущих к настоящему футбольному полю, окольцованному гаревой дорожкой.
Ступени кончались деревянным помостом, от которого в обе стороны, параллельно обрыву за спиной, расходились с полдесятка длинных лав из деревянных же брусьев.
По другую сторону не было ни лавок, ни обрыва, а только одинокий белый домик и рядом с ним большущая картина двух футболистов зависших в прыжке, борясь за мяч ногами.
Зимою поле заливали водой и получался каток.
Мне смутно вспоминается тёмный зимний вечер с редкими фонарями по периметру поля, обида оттого, что так недолго меня катали на высоком стуле с округло загнутыми полозьями из тонких железных прутьев.
Девочки остались собирать листья между лав под деревьями крутой стороны, а мальчики, обогнув поле справа, гурьбой сбежали к Речке.
Когда я добежал туда же, трое или четверо уже бродили, закатав штаны до колен, в бурливых струях теснины на месте давно прорванной дамбы.
Большинство одноклассников оставались на берегу.
Я тут же принялся стаскивать ботинки с носками и подворачивать брючины.
Заходить в воду было малость страшно – не холодна ли?
Но оказалось – не очень, а вполне терпимо.
Течение шумливо бурунилось вокруг ног под коленями, а дно было на удивление гладким и ровным.
Один из мальчиков прокричал сквозь шум воды, что это бетонная плита от дамбы – ух, класс!
Мы бродили по ней туда-сюда, стараясь не заплескать подвёрнутые брюки, и вдруг всё: и плеск воды, и крики товарищей, и ясный ласковый день – как отрезало.
Я оказался в совершенно ином, безмолвном мире из одной только давящей желтоватой сумеречности, сквозь которую мимо меня устремлялись кверху струйки белесых мелких пузырьков.
Ещё не понимая что случилось, я взмахнул руками; вернее они сами это сделали, и скоро я вырвался на поверхность, где оглушительно шумела Речка, хлеща мне по щекам и носу, кто-то кричал «тонет!», а мои руки беспорядочно шлёпали по воде, пока не ухватились за чей-то ремень, брошенный с края коварно обрывавшейся подводной плиты.
Меня вытащили, помогли выжать одежду и показали широкую тропу в обход всего стадиона, чтоб не наткнулся на пионервожатую и ябедных девчонок, что собирали опавшие листья для осенних гербариев…
На чертёжном виде сверху здание школы, скорей всего, напоминает букву «Ш» без средней палочки, со входом в центре оставшейся перекладины.
Пол вестибюля покрыт квадратиками плиточек, а в двух, расходящихся к крыльям здания коридорах лоснящимся паркетом скользко-жёлтого цвета.
Ряд широких окон, вдоль каждого из коридоров, обращён внутрь охваченного зданием пространства, но двора там не было, а просто росли, как попало, молодые тонкокожие сосны.
В коридорной стене напротив окон изредка встречались белые двери с номерами и буквами классов.
Такая же планировка продолжалась и после поворота коридоров в две оставшиеся палочки от «Ш», но в правой коридор сменялся спортзалом школы, высотой в оба её этажа, в котором имелась также сцена с занавесом и пианино, потому что иногда спортивный зал превращался в актовый.
Второй этаж, куда вели лестничные марши из левого угла «Ш» лишённой средней палочки, в точности повторял планировку первого.
Только наверху уже, конечно, не было вестибюля с барьерчиками раздевалки и никелированными вешалками для шапок и пальто учеников. Зато из края в край второго этажа тянулся длинный-предлинный коридор с частыми окнами справа и более редкими дверями слева.
Зимой, когда в школу ходят не в ботинках, а в валенках очень даже здоровски получается скользить с разгону по паркету пола, если, конечно, на твои валенки не обуты чёрные резиновые калоши.
Мои валенки сперва очень тёрли мне вверху за коленками, но папа надрезал их сапожным ножом; он всё-всё умеет и знает.
Зимой в школу приходишь затемно.
Иногда я бродил по пустым ещё классам. Заглядывал во внутреннюю полость небольшого бюста Кирова на подоконнике в 7-м классе. Она выглядит примерно так же, как нутро фарфоровой собаки в комнате родителей.
А включив свет в 8-м, я увидел на учительском столе забытое яблоко из воска.
Понятно же, что не настоящее, но оно казалось таким манящим и сочным, как бы даже светилось изнутри, и я укусил неподатливо твёрдый воск, оставляя вмятины от зубов на безвкусном боку.
Стало стыдно, что я поймался на яркую подделку. Но кто видел?
Я выключил свет и тихонько вышел в коридор…
( … спустя 25 лет, в школе карабахского села Норагюх я увидел точно такой же муляж из воска, с отпечатком детского укуса, и понимающе усмехнулся – а я тебя видел, пацан!…
У детей любых времён и всех народов есть очень сходные черты, например, любовь к игре в прятки …)
В прятки мы играли не только во дворе, но и дома – нас же трое! – а иногда с участием соседских детей: Зиминых и Савкиных.
Конечно, дома не слишком-то много укромных мест.
Ну, под родительской кроватью, или за углом шкафа… ах, да! – ещё занавесочный гардероб в прихожей.
Его папа сам сделал.
Металлическая стойка в углу напротив входной двери и два прутка, скрепляющие верхушку стойки со стенами, отделили немалый параллелепипед пространства.
Осталось только накрыть его куском фанеры сверху, чтобы пыль не садилась, и пустить по пруткам колечки с ситцевой занавесью до пола, за которой на крашенной стене прибита досочная вешалка с колышками для пальто, а на полу стоит плетёный сундук из гладких коричневых прутьев, но и для обуви остаётся ещё много места.
Вобщем, особо так и не спрячешься, но играть всё равно интересно.
Затаившись, слушаешь осторожные шаги водящего, а потом мчишься наперегонки к валику дивана в детской – постукать и крикнуть: «тук-тук! за себя!», чтоб не водить в следующем кону.
Но однажды Сашка спрятался так, что я не смог его найти. Он просто исчез.
Я даже заглядывал в ванную и кладовку, хотя у нас был уговор туда не прятаться.
Я прощупал все пальто на вешалке за ситцевой занавесью в прихожей.
Я открыл гардероб в комнате родителей, где, в тёмном отсеке за дверью с зеркалом, висели на плечиках мамины платья и папины пиджаки; на всякий случай я проверил даже и за правой дверью, где выдвижные ящики со стопками простыней и наволочек, а в самом нижнем я однажды обнаружил синий квадрат моряцкого воротника, отпоротый от матросской рубахи.
Ещё там был кортик флотского офицера с жёлтой витой рукоятью, что прятал в чёрных тугих ножнах своё стальное длинное тело, сходящееся в игольчатое острие.
Позже, под большим секретом, я пытался сообщить про находки младшим, но Наташа небрежно ответила, что про кортик давным-давно знает и даже показывала его Сашке.
А вот теперь, похихикивая, она следит за моими тщетными поисками и когда я в отчаянии кричу брату, что согласен водить ещё кон и пусть он выходит, Наташа кричит ему сидеть тихо и не сдаваться.
Терпение моё лопнуло и я отказался играть вообще, но она предложила на две минуты выйти в коридор.
По возвращении я увидел в комнате неизвестно откуда взявшегося Сашку, который стоял молчком и довольно помаргивал, пока Наташка рассказывала, как он вскарабкался на четвёртую полку и она присыпала его там носками…
Иногда дома происходят сугубо семейные игры, без соседей.
Услыхав оживлённый смех из комнаты родителей, я откладываю книгу и спешу туда.
– Что это вы тут?– спрашиваю у всех, охваченных общим весельем.
– Горшки проверяем!
– Как это?
– Иди и тебе проверим.
Надо сесть на спину папы и ухватить его за шею, пока он крепко держит мои ноги.
Мне это нравится, но он разворачивает меня задом к маме и я чувствую, как её палец втыкается мне в попу насколько пускает одежда.
– А горшок-то дырявый!– говорит мама.
Все хохочут и я смеюсь, хотя мне как-то стыдно…
В другой раз папа спросил у меня:
– Хочешь Москву покажу?
– Конечно – хочу!
Он зашёл сзади, плотно наложил ладони на мои уши и, стиснув голову, приподнял меня на метр от пола.
– Что? Видишь Москву?
– Да! Да! – кричу я.
Он опускает меня на пол, а я стараюсь не показать слёзы от боли в сплющенных о череп ушах.
– Ага, купился!– смеётся папа.– Как же тебя легко купить!..
( … много позже я догадался, что он повторял шутки, которые шутили над ним в его детстве …)
По ходу пряток с исчезновение Сашки, прощупывая одежды в занавесочном отделении прихожей, я заприметил одинокую бутылку ситра в узкой расселине между стеной и плетёным сундуком.
Ситро я просто обожал, единственная претензия к этом газированному нектару в том, что чересчур уж быстро исчезает из стакана.
Ту найденную бутылку наверняка припасли для какого-нибудь праздника, но потом забыли.
Я никому не стал напоминать, и на следующий день, или после-следующий день, улучив момент, когда остался один дома, вытащил ситро из-за сундука и поспешил на кухню.
Ещё в коридоре нетерпеливая рука заметила податливость железной крышечки с кружком пробковой прокладки и, не доходя до кухонной двери, я запрокинул бутылку к жаждущим губам.
К середине второго глотка мне дошло – это ситро не то, чтобы не совсем оно, а вовсе даже не оно.
Перевернув бутылку обратно, я разглядел, что после праздников туда налили подсолнечное масло на хранение.
Хорошо, что никто не видел как я опростоволосился, кроме белого ящичка аптечки с красным крестом на дверце, что висит на стене между занавесочным гардеробом и кладовкой, да ещё чёрного электросчётчика чуть выше входной двери.
Но они никому не расскажут…
Следующим гастрономическим правонарушением стало похищение свежевыпеченной пышки, которую мама сняла вместе с другими, точно такими же пышками, с протвеня электропечки «Харьков» и разложила на полотенце поверх кухонного стола.
Их коричневато лоснящиеся спинки настолько были соблазнительны, что я преступил мамин наказ – дожидаться общего чаепития, и утащил одну из них в логово на плетёном сундуке за ситцем занавески.
Возможно, та пышка и впрямь оказалась слишком горячей, или чувство вины задавило вкусовые ощущения, но, торопливо заглатывая куски запретного плода кулинарного искусства, я не почувствовал обычной услады и хотел лишь, чтобы она поскорее закончилась; а когда мама позвала всех на чай с пышками, мне уже совсем не хотелось…
Ну, а вобщем, я был вполне законопослушным дитём; не очень умелым «копушей», но чистосердечно старательным, и если что-то делал не так, то не из вредности, а просто оно само так получалось.
Папа ворчал, что моя лень-матушка родилась раньше меня – только и знаю: день-деньской валяться на диване с книжкой, а мама отвечала, что читать полезно и, может быть, я стану врачом, потому что мне очень пойдёт белый халат.
Становиться врачом я не хотел; мне не нравился запах докторских кабинетов…
На одном из уроков Серафима Сергеевна показала нам фанерную рамочку 10см х10см – прообраз ткацкого станка, с рядочком маленьких гвоздиков на двух противоположных краях.
На гвоздиках, из края в край, натянуты толстые цветные нитки, поперёк которых вплетаются нитки разных других цветов, пока не получится кукольно крошечный коврик.
Учительница сказала нам принести на следующий урок такие же рамочки, родители, конечно же, помогут нам их сделать.
Но папа работал во вторую смену, а мама была занята на кухне. Правда, она помогла найти фанерку от старого посылочного ящика и разрешила взять пилу-ножовку из кладовой.
Работал я в ванной, прижимая фанерку ногой к табуретке.
Ножовка застревала, выдирала из фанерки мелкие щепочки, но через час кривоватый, в задирках, квадратик был отпилен.
И тут встала капитальная проблема – как выпилить внутри него ещё один квадратик, чтоб получилась рамочка?
Я попробовал выдолбить середину при помощи кухонного ножа и молотка, но только лишь расщепил с таким трудом сделанную заготовку.
Под вечер, изведя в безрезультатных попытках всю найденную фанерку, я понял, что не гожусь в мастера и разревелся перед мамой.
А уже совсем-совсем поздно, когда я засыпал и папа вернулся с работы, мама что-то ему говорили на кухне, а папа сердитым голосом отвечал:
– Ну, что «Коля»? Что «Коля»?
Наутро за завтраком мама сказала:
– Посмотри что папа тебе для школы сделал.
Я обомлел от счастья и восторга, увидев рамочку ткацкого станка из белой отшлифованной наждаком фанеры; и нигде ни трещинки, ни задоринки.
И два рядочка вбитых под линеечку гвоздиков…
На следующий год папа принёс мне с работы лобзик и маленькие пилочки к нему.
В школе я записался на кружок «Умелые руки» и по вечерам занимался выпиливанием из фанеры фигурок и полочек по чертежам в книжке «Умелые руки».
С выпиливанием у меня не заладилось – слишком часто ломались пилочки в лобзике.
Правда, я всё же изготовил (с папиной доводкой и лакировкой) рамочку для маминой фотографии.
А вот выжигание намного легче, и мне нравился запах углящейся фанеры, когда я выжигал на ней картинки к басням Крылова из той же самой книжки для начинающих умельцев.
Потом папа принёс домой выжигатель, который он сделал у себя на работе, даже получше магазинных.
А из магазина мне подарили конструктор – набор чёрных жестяных полосок и панелек со множеством круглых дырочек для продевания туда винтиков, чтобы гаечками притягивать деталь к детали по чертежам конструктора.
Получались разные машины, паровозы с вагонами. Один раз я два месяца собирал башенный кран – ростом выше табуретки, едва хватило винтиков.
И костюм робота на школьную новогоднюю ёлку сделал мне папа по рисунку, который мама нашла в своём журнале РАБОТНИЦА.
Он представлял собою короб из однослойного, но крепкого картона, который начинался от плечей и доходил до чуть пониже пояса.
Слева на груди короба написано «+», а на правой стороне «-», как на больших плоских батарейках для карманного фонарика.
Под моим коробом тоже была батарейка, но более мощная – чешская «крона», и маленький переключатель; от его щелчка загоралась лампочка-нос в кубообразной картонной голове робота, которая одевалась поверх моей, как шлём.
Квадратные прорези для глаз, по бокам от носа-лампочки, позволяли видеть с кем и как хороводишься вокруг ёлки…
А в библиотеке Части мне уже позволяли выбирать книги с полок, а не только из стопки недавно сданных читателями на стол библиотекарши.
Справа от её стола синей стеной стояли сплочённые тома полных собраний трудов Ленина (разных годов издания), теснились коричневые полосы многотомников Маркса и Энгельса, а ближе к выходу – рослые шеренги работ Сталина.
Нетроганные ряды широких книжных корешков с золотистым тиснением названий и нумерации, с выпукло рельефными портретами великих творцов на толстых лицевых обложках.
Но между ними был проход в ту часть библиотеки, где, образуя узкие коридорчики, стояли полки с книгами разной степени потёртости.
Они распределялись по алфавиту: Асеев, Беляев, Бубенцов…; или по странам: американская, бельгийская…; или по разделам: география, политика, экономика…
Там тоже были многотомники – Джека Лондона, Фенимора Купера, Вальтера Скотта (у которого я так и не нашёл романа про Робин Гуда, а только про Роб Роя).
Я любил бродить в тесной тишине между полок, снимать с них книги – насколько хватало роста – прочитывать названия и ставить обратно. Потом, выбрав одну-две, нести их к столу библиотекарши.
Иногда про какую-то из выбранных книг библиотекарша говорила, что мне это ещё рано и откладывала в сторону.
Однажды во время межполочных хождений со мной случился конфуз – я пукнул.
Не так, чтоб очень громко, но, заопасавшись, что звук дошёл и до библиотекарши, за её стеной из классиков марксизма, я принялся маскировать свой конфуз похаживанием между полок и попукиванием уже просто губами.
Мало ли какая фантазия может взбрести для развлечения мальчику, которому ещё рано читать некоторые книги?
Но один из маскировочных пуков получился настолько удачным, натуральным и раскатистым, что мне стало стыдно и досадно – первый-то она могла и не услышать, а уж этот точно донёсся до её стола.
( … как сказала бы твоя бабашка по маме: «почав перетулювати й зовсiм перехнябив» …)
В конце зимних каникул в ящик на дверях нашей квартиры среди прочей почты принесли номер ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ.
Конечно, я ещё был октябрёнок, но в школе нам сказали, что всё равно надо подписаться на эту газету и готовить себя, ведь мы – будущие пионеры.
Мама отдала мне её со словами:
– Вот это да! Тебе уже газеты носят.
Я почувствовал себя взрослым и целый день читал газету, всё, что было напечатано на её четырёх полосах.
Когда вечером родители вернулись с работы, я встретил их в прихожей – отрапортовать, что всё-всё-всё…
Они сказали «молодец», повесили свои пальто за занавеску и прошли на кухню.
Обидно малость, когда за все приложенные старания с тобой расплачиваются пусть ласковой, но безучастностью.
Любой богатырь, не жалевший себя в жаркой схватке со Змеем-Горынычем за освобождение красавицы-полонянки, и получивший от неё рассеянное «молодец», вместо причитающегося поцелуя в уста сахарные, перед следующим боем да призадумается: а стоит ли овчинка выделки?..
В первый и последний раз читал я номер ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ от доски (красный заголовок и пояснение принадлежности данного печатного органа) и до доски (московский адрес и номера телефонов редакции).
Однако, недополучив заслуженную награду, хочется восстановить справедливость и устроить себе компенсацию.
Так что на следующее утро я легко уговорил себя забыть наставление мамы, что в чашку чая нельзя сыпать больше трёх ложечек сахарного песка.
На кухне никого не было и, отмеряя сахар в чай, я отвлёкся разглядываньем морозных узоров на кухонном окне, потому-то и начал отсчёт не совсем с первой.
Да и к тому же, по ошибке, песок я отмерял не чайной, а столовой ложкой.
Получилась густая приторная жижа непригодная для питья и это стало мне очередным уроком – удовольствия в одиночку и не по правилам совсем никуда не годятся.
Факт прочтения ПИОНЕРСКОЙ ПРАВДЫ целиком, придал мне уверенности и при следующем посещении библиотеки я вынул с полок толстенный том с букетом шпаг на обложке – «Три мушкетёра».
Библиотекарша, чуть поколебавшись, записала книгу в мой формуляр и я гордо понёс домой увесистую добычу.
Читать её я начал не на диване в комнате, а на кухне за покрытым клеёнкой столом.
Первая страница, с её примечаниями кто был кто во Франции XVII века, показалась мне сложноватой.
Но потом пошло и к моменту прощания Д‘Aртаньяна с родителями я самостоятельно догадался о значении слов «г-н» и «г-жа»…
А ещё в ту зиму мама решила, что мне надо исправить косоглазие, о котором я и не подозревал, а то так нехорошо.
Она повела меня к окулисту и тот светил мне в глаза и заглядывал в них через узкую дырочку в своём блестящем вогнутом круге.
Потом медсестра накапала мне в глаза неприятно холодные капли и сказала, чтобы в следующий раз приходил один, потому что я уже большой и дорогу теперь знаю.
На следующий раз, возвращаясь домой после закапывания, я вдруг утратил резкость зрения – свет фонарей вдоль зимней дороги превратился в мутные пятна, а придя домой я не мог различить строчек в раскрытой книге.
Это меня напугало, но мама сказала – ничего, просто мне теперь надо носить очки, и последующие два года у меня были очки в пластмассовой оправе.
( … моим глазам придали параллельность, но в левом резкость так и остался сбитой.
При проверках у окулистов я не могу различить их указку, или палец, направленные на значки проверочной таблицы.
Впрочем, как выяснилось, жить можно и с одним рабочим глазом.
Косины у меня не осталось вовсе, правда, выражение глаз не совпадает; особенно если на фотографии их поочерёдно загораживать пальцем: вопрошающе любопытствующий взор правого сменяется мертвяще отмороженным равнодушием левого.
На портретах некоторых киноактёров я подмечаю такое же разночтение и думаю: их тоже от косоглазия лечили, или через их левый глаз следят за миром неведомые потусторонние силы?..)
И снова пришло лето, но в волейбол уже не играли, а на месте площадки под Бугорком забетонировали два квадрата для игры в городки и провели соревнование.
Обитые жестью палки бит несколько дней хлёстко жахкали о бетон, вышибая из квадратов цилиндрики деревянных городков, и застревали на песчаном откосе Бугорка.
До меня, как обычно, известие дошло с опозданием, но я успел на финал – единоборство мастеров, которые даже с дальней позиции умели выбить наисложнейшую из городошных фигур – «письмо» – всего тремя бросками, а на «пушку», или, там, «аннушку в окошке» больше одной биты не тратили .
Турнир закончился, а бетонные квадраты остались, где мы, дети, продолжили игру обломками окольцованных жестью бит и повыщербленными городками. Но нам и так было интересно.
Эта ровность перед Бугорком, даже когда обросла высокими кустами полыни, служила нам местом встречи.
Если, выйдя поиграть во двор увидишь, что никого нет, отправляйся к Бугорку – ребята точно там.
И мы не только играли, но и получали друг от друга знания о мире: вот эта трава без листиков называется «солдатики» и она вполне съедобна, как и щавель, но только простой, а не «конский» щавель.
Белую сердцевину из длиннолистых зелёных растений на болоте тоже можно есть, просто надо очистить – на, попробуй!
Мы знали какими именно камешками нужно бить друг о друга, чтоб посыпалась струйка бледных искр. Один должен быть кремень, а другой мутнобелый и после удара он пахнет неприятно-зовущим запахом прижжённой куриной кожи.
В общении и играх мы познавали мир и самих себя.
– Поиграем в прятки?
– Вдвоём не получается.
– Щас ещё двое будут, они пошли сходить за болото.
– Зачем?
– Дрочиться.
Вскоре появились и те двое с травяными веничками в руках.
Я не знаю зачем эти букетики без цветов, не знаю что такое «дрочиться», но по тому, как прихихикивают при этом слове другие ребята, понятно, что это что-то нехорошее, неправильное.
Я всегда был поборником правильности; мне против шерсти всё, что не так как надо.
Если, скажем, великовозрастный поросёнок с наглым визгом сосёт вымя коровы, меня так и подмывает разогнать их.
А корова тоже хороша – стоит себе безропотно покладистая, будто не знает, что молоко это только для телят и для людей!
Вот почему я, подбоченясь, со скрытым упрёком обращаюсь к пришедшим:
– Ну, что – подрочились?
И тут я узнаю́ , что борцам за правильность иногда лучше помалкивать.
Обидно, всё-таки, что я такой слабак и что меня так просто повалить в нежданной драке…
В футбол играли на травянистом поле между Бугорком, мусоркой и кюветом дороги вокруг кварталов.
Сперва определялись капитаны команд – по росту, возрасту и голосистости.
Потом мальчики, попарно, отходили от своих будущих вождей и неслышно сговаривались:
– Ты будешь «молот», а я – «тигр».
Затем пары возвращались к двум капитанам и спрашивали того, чья очередь была выбирать:
– Молот или тигр?
После раздела людских ресурсов начиналась игра.
Мне очень хотелось выбиться в капитаны, и чтоб все мальчики стремились попасть в мою команду. Но это оставалось лишь мечтами.
Я старательно бегал по траве – от одних ворот до других; отчаянно рвался к победе, но мяч мне почти не подворачивался и, прежде чем изловчусь пнуть по нему, набегали, если не свои так противники, отбирали недосягаемый мяч и я опять бегал туда-сюда по полю с воплями: «пас! мне!», но меня никто не слушал и все тоже вопили и бегали, и игра катилась без моего, фактически, участия…
В то лето все мы – родители и дети – поехали в Конотоп, на свадьбу маминой сестры Людмилы, которая выходила замуж за чемпиона области по штанге в полусреднем весе, молодого, но уже лысеющего Анатолия Архипенко из города Сумы.
Большая машина с брезентовым верхом отвезла нас через КПП Объекта до железнодорожной станции Валдай и там мы сели на поезд до станции Бологое, где у нас была пересадка.
Вагон оказался совсем пустой, с жёлтыми деревянными скамейками между зелёных стен.
Мне нравилось как он покачивает под перестук своих колёс.
Нравилось смотреть в окно, где набегали и тут же отставали тёмные столбы из брёвен, неся на своих перекладинах нескончаемо скользящую дорожку провисающих проводов.
На остановках поезд подолгу стоял, пропуская скорые и более важные поезда.
Особенно долгой была стоянка на станции Дно.
Это название я прочитал за стеклом вывески на зелёной будке.
И только когда мимо этой будки неторопливо пропыхкал одиночный паровоз, утопая своим длинным чёрным телом в клубах своего же белого пара, наш поезд тронулся дальше.
( … я и теперь иногда вспоминаю эту станцию и длинный чёрный паровоз, ползущий сквозь белый туман пара, после того как прочитал, что на станции Дно полковник российской армии Николай Романов подписал своё отречение от царского престола.
Только этим не спас он ни себя, ни женщин, ни детей своей императорской семьи, которых при расстреле добивали винтовочными штыками.
Хорошо, что не про всё мы знаем в детстве …)
Большинство домов по улице Нежинской в городе Конотопе стоят чуть отступив от дороги, позади своих заборов, отражающих степень зажиточности хозяев и основные этапы в развитии технологии заборостроения.
Однако, номер 19-й своей, когда-то беленой стеной, с двумя окнами и четырьмя ставнями для запирания этих окон на ночь, кратко прерывает строй заборной разношерстицы.
В дом заходят со двора, миновав калитку из высоких досок, рядом с такими же воротами, но те чуть шире и вечно заперты.
А точнее, в дом заходят через четыре входа – по два в каждой из двух веранд с дощатыми глухими стенками.
Первая от улицы веранда, как и половина всего дома, принадлежит Игнату Пилюте и его жене Пилютихе и это их окна выходят на улицу Нежинскую.
Вторая веранда, обвитая виноградной лозой с широкими зелёными листьями и бледными гроздьями мелких, никогда не вызревающих ягод, внутри поделена надвое продольной перегородкой.
Хата нашей бабки, Екатерины Ивановны, состояла (за вычетом полутёмной полуверанды) из кухни с одним окном, обращённым на свою же входную дверь в межверандном закутке, и с кирпичной плитой-печью у противоположной стены, возле двери в комнату, где тоже всего одно окно с видом на глубокие тенистые сумерки под исполинским вязом в палисаднике, и на невысокий штакетник, за которым уже двор и хата соседей Турковых.
За последней дверью жили старики Дузенко.
У них тоже всего только кухня и комната, но на два окна больше, чем в хате бабы Кати, поскольку, из-за симметричной планировки дома, во двор тоже выходит пара окон; как и на улицу.
Под каждым из Дузенкиных дворовых окон рос огромный американский клён с островидными пятипалыми листьями, а между этих двух клёнов старик Дузенко держал штабель красного кирпича для возможной перестройки в будущем.
Метров через шесть от деревьев и штабеля, параллельно им, тянулся ряд сараев из серо-чёрных от ветхости досок; без окон, с висячими замками на дверях, где хозяева держали топливо на зиму, а баба Катя ещё и свинью Машку.
Напротив веранды с бесплодным виноградом росло ещё одно неприступное для лазанья дерево, а за ним забор от соседей.
Под деревом стоял погреб Пилюты – сараюшка с глинобитными стенами.
Погреб Дузенко отстоял повыше и как бы продолжал ряд сараев, но не смыкался с ними, оставляя проход в огороды.
А под прямым углом к Дузенкиному, но не доходя до Пилютиного, совсем маленький погреб бабы Кати – дощатая халабуда над крышкой-лядой вертикальной ямы, уходящей на глубину в два метра, на дне которой вырыты пещерки-ниши, по одной на все четыре стороны, в них опускают на зиму картошку и морковку, а ещё буряки, чтоб не помёрзли.
В углу между дощатыми погребниками стояла ещё и собачья будка, с чёрно-белым кобелём Жулькой на цепи, которой он звякал и хлестал о землю, остервенело лая на всякого входящего во двор незнакомца.
Но я с ним подружился в первый же вечер, когда, по совету мамы, вынес и высыпал в его железную тарелку остатки еды после ужина.
Волосы у бабы Кати были совсем седые и чуть волнистые. Она их стригла до середины шеи и сдерживала пониже затылка полукруглым пластмассовым гребнем.
На чуть смугловатом лице с тонким носом круглились, словно от испуга, чёрные глаза.
А в сумеречной комнате на глухой стене висел портрет черноволосой женщины в высокой аристократической причёске и при галстуке, по моде нэповских времён – баба Катя в молодости. На соседнем фотографическом портрете – мужчина в косоворотке и пиджаке, с тяжёлым Джек Лондонским подбородком – это её муж Иосиф, когда он ещё работал ревизором по торговле, до ссылки на север и последующей пропаже при отступлении немцев из Конотопа.
Гостить у бабы Кати мне понравилось, хотя тут ни городков, ни футбола, зато ежедневные прятки с детьми из соседних хат, которые тебя ни за что не найдут, если спрятаться в будку к Жульке.
Вечерами на улице с мягкой чёрной пылью зажигались редкие фонари и под ними с бомбовозным гуденьем пролетали здоровенные майские жуки. Некоторые до того низко, что можно сбить рукой.
Пойманных мы сажали в пустые спичечные коробки и они шарудели там внутри своими длинными неуклюжими ногами.
На следующий день, открыв полюбоваться их пластинчатыми усами и красивым цветом спинок, мы подкармливали их кусочками листьев, но они, похоже, были не голодные и мы их отпускали в полёт со своих ладоней, как божьих коровок.
Жук щекотно переползал на пальцы, вскидывал жёсткие надкрылья, чтобы расправить упакованные под ними длинные прозрачные крылья и с гудом улетал: ни «спасибо», ни «до свиданья».
Ну, и лети – вечером ещё наловим.
Однажды днём из дальнего конца улицы раздались раздирающе нестройные взвывы, мерное буханье, брязги.
На звуки знакомой какофонии жители Нежинской выходили за калитки своих дворов и сообщали друг другу кого хоронят.
Впереди процессии шагали три человека, прижимая к губам блеск меди нестройно рыдающих труб.
Четвёртый нёс перед собой барабан, как огромный живот. Прошагав сколько надо, он бил его в бок войлочной колотушкой.
Барабан крепился широким ремнём через спину, оставляя барабанщику обе руки свободными и во второй он держал медную тарелку, чтобы брязгать её о другую, прикрученную поверх барабана, на что трубы разноголосо взвывали снова.
За музыкантами несли большую угрюмую фотографию и несколько венков с белыми буквами надписей на чёрных лентах.
Следом медленно двигался урчащий грузовик с отстёгнутыми бортами, где два человека держались за ажурную башенку памятника серебристого цвета, а у их ног лежал гроб с покойником.
Нестройная толпа замыкала неспешное шествие.
Я не решился выйти на улицу, хоть там были и мама с тётей Людой, и соседки, и дети из других домов.
Но всё же, движимый любопытством, я взобрался на изнаночную перекладину запертых ворот.
Свинцовый нос над жёлтым лицом покойника показались до того отвратительно жуткими, что я убежал до самой будки чёрно-белого Жульки, который тоже неспокойно поскуливал…
Баба Катя умела из обычного носового платка вывязывать мышку с ушами и хвостиком и, положив на ладонь, почёсывала ей головку пальцами другой руки.
Мышка вдруг делала резкий прыжок в попытке убежать, но баба Катя ловила её на лету и снова поглаживала под наш восторженный смех.
Я понимал, что это она сама подталкивает мышку, но, сколько ни старался, уследить не мог.
По вечерам она выносила в сарай ведро кисло пахнущего хлёбова из очистков и объедков, в загородку к нетерпеливо рохкающей свинье Машке и там ругалась на неё за что-нибудь.
Она показала нам какие из грядок и деревьев в огороде её, чтобы мы не трогали соседских, потому что в огородах нет заборов.
Но яблоки ещё не поспели и я забирался на дерево белой шелковицы, хотя баба Катя говорила, что я слишком здоровый для такого молодого деревца. И однажды оно расщепилось подо мной надвое.
Я испугался, но папа меня не побил, а туго стянул расщепившиеся половинки каким-то желтовато прозрачным кабелем.
И баба Катя меня не отругала, а только грустно помаргивала глазами, а вечером сказала, что свинья совсем не стала жрать и перевернула ведро. Уж до того умная тварь – чувствует, что завтра её будут резать.
И действительно весь тот вечер, пока не уснул, я слышал истошный вопль свиньи Машки из сарая.
Наутро, когда пришёл свинорез-колий, баба Катя ушла из дому и они тут уже без неё вытаскивали из сарая отчаянно визжавшую Машку, ловили по двору и кололи, после чего визг сменился протяжным хрипом.
Во всё это время мама держала нас, детей, в хате, а когда разрешила выйти, во дворе уже паяльной лампой обжигали почернелую неподвижную тушу.
На свадьбе тёти Люды на столе стояло свежее сало и жареные котлеты, и холодец, а один из гостей вызвался научить невесту как надо набивать домашнюю колбасу, но она отказалась.
Вобщем, в Конотопе мне понравилось, хотя жалко было Машку и стыдно за шелковицу.
И мне почему-то даже нравился вкус кукурузного хлеба, который все ругали, но брали, потому что другого нет, ведь Никита Сергеевич Хрущёв сказал, что кукуруза – царица полей.
Обратно мы тоже ехали на поезде и меня укачивало и тошнило, но потом в вагоне нашлось окно, куда можно высунуть голову, и я смотрел как наш зелёный состав катит по полю изогнувшись длинной дугой; мне казалось, что дорога не кончается из-за того, что поезд бежит по одному и тому же громадному кругу посреди поля с перелесками.
На какой-то остановке папа вышел из вагона и не вернулся при отправлении.
Я испугался, что мы потеряем папу и начал всхлипывать, но через несколько минут он пришёл с мороженым, ради которого задержался на перроне и вспрыгнул в другой вагон уходящего поезда…
В тот год мои младшие брат и сестра тоже пошли в школу и в конце августа папа с растерянно-сердитым лицом увёз расплакавшуюся напоследок бабу Марфу в Бологое – помочь с пересадкой на Рязанщину.
Через дорогу от угловых домов нашего Квартала стоял продуктовый магазин и теперь, без бабы Марфы, мама посылала меня за мелкими покупками – принести хлеб, спички, соль или растительное масло.
Более важные продукты она покупала сама: мясо, картошку, сливочное или шоколадное масло; на праздники – крупную красную, или мелкую чёрную икру.
Объект хорошо снабжался.
Вот только мороженое привозили раз в месяц и его сразу же раскупали, а вкусного кукурузного хлеба и вовсе не было.
Направо от магазина, у поворота окружающей Квартал дороги, стена леса чуть раздвигалась просветом узкой поляны, на которой стояла бревенчатая эстакада для ремонта автомобилей – ещё одно место сбора детей для игр.
– Бежим скорей!– сказал знакомый мальчик. – Там ёжика поймали!
Ежей я видел только на картинках и поспешил к галдящей группе пацанов.
Они палками отрезали ёжику путь бегства в лес, а когда тот свернулся в оборонительный комок – серо-коричневый шар из частокола иголок – то скатили его в ручеёк, где он выпростал острую мордочку с чёрной нашлёпкой носа и попытался убежать сквозь траву на коротких кривеньких ножках.
Его опять свалили и не дали свернуться, притиснув палку поперёк брюха.
– Гляди!– заорал один из мальчиков.– У него запор! Он покáкать не может!
В доказательство, мальчик потыкал стеблем крепкой травы в тёмную выпуклость между задних ножек.
– Слишком твёрдая какашка. Надо помочь.
Я вспомнил как меня спасала баба Марфа.
У кого-то нашлись плоскогубцы, животное прижали к земле несколькими палками и самозванный доктор Айболит потянул плоскогубцами застрявшую какашку, но та всё не кончалась и оказалась голубовато-белесого цвета.
– Дурак! Ты ему кишку выдрал!– закричал другой мальчик.
Ёжика отпустили и он опять прянул к лесу, волоча за собой вытащенную на полметра внутренность.
Все потянулись следом – смотреть что дальше будет, а меня окликнула Наташа, прибежавшая из Квартала сказать, что мама зовёт.
Я сразу же оставил всех и вернулся вместе с ней во двор, говорил с мамой, с соседками, что-то делал и думал не по-детски чётко сформулированную мысль: «как же мне теперь дальше жить после увиденного? как жить с этим?»
( … а, таки, выжил.
Спасло счастливое свойство памяти, отмеченное в словаре Даля.
Однако, в ряду известных мне примеров изуверской жестокости людей, что превращают в излохмаченные куски мяса даже себе подобных, самым первым идёт тот ёжик, волоча по сухой траве серовато влажную кишку прямого прохода, облипшую кусочками твёрдой земли.
И я дожил до понимания, что низким тварям нужны высокие оправдания своей низости: «для облегчения страданий; святая месть; ради очищения».
Хотя… Есть ли гарантия, что сам я никогда и ни при каких обстоятельствах не сделал бы подобного?
Не знаю …)
( … в детстве некогда оглядываться на всякие засечки в памяти; там надо всё вперёд и – дальше, к новым открытиям. Хватило б только духу открывать …)
Однажды, чуть отклонившись влево от маршрута «школа – дом», я углубился в лиственную часть леса и на пологом взгорке наткнулся на четыре дерева, выросших в паре метров друг от друга по углам почти правильного квадрата.
Гладкие широкие стволы без сучьев уходили вверх, где на высоте пяти-шести метров виднелся помост, куда вели перекладины из обрубков толстых сучьев, приколоченных к одному из деревьев в виде лестницы.
Кто и зачем устроил такое? Не знаю.
Зато знаю, что у меня не хватило духу взобраться на тот заброшенный помост…
Намного легче далось открытие подвального мира, куда я спускался вместе с папой за дровами для нагрева воды в титане перед купанием.
Лампочки в подвале были повывинчены и папа брал с собой фонарик, у которого из рукоятки выступает упругий рычажок.
Стиснешь ладонь с фонариком и рычажок натужно прячется в рукоятку, ослабишь нажим – выдвигается наружу.
Вот так и качай, чтобы внутри рукоятки зажужжала динамо-машинка, дающая ток лампе фонарика.
Чем быстрее раскрутишь жужжливую динамку, тем ярче свет фонаря.
Кружок света скакал по стенам и по бетонному полу левого коридора от лестницы, в самом конце которого находился наш подвал.
Стены коридора дощатые, а в них двери, тоже из досок, с висячими железными замками.
За нашей дверью открывалась квадратная комната с двумя бетонными стенами и деревянной перегородкой от соседнего подвала.
Отперев замок, папа включал в нашем подвале яркий свет и становилось видно поленницу нарубленных дров и всякие хозяйственные вещи на гвоздях и полках – санки, лыжи, инструменты.
Одно полено папа измельчал топором на щепки для растопки титана. Эти щепки и пару дровин нёс я, а он прихватывал целую охапку.
Иногда папа что-то строгал или пилил в подвале, а я, прискучив ожиданием, выходил в коридор с узкой зарешечённой канавкой вдоль бетонного пола.
Через распахнутую дверь лампочка бросала чёткий прямоугольник света на противоположный отсек, а дальний конец коридора, откуда мы пришли, терялся в темноте. Но я ничего не боялся, ведь за спиной работает папа в чёрном матросском бушлате с двумя рядами медных пуговиц с якорьками.
Дрова в подвал попадали в начале осени. У фундамента в центре торцевой стены дома имелся приямок – зацементированная яма под крышкой из листовой жести.
Чуть выше её дна проём 50см х 50см, как будто лаз сквозь фундамент, он выходил в подвальный коридор на высоте полутора метров от пола.
Рядом с этим приямком останавливался самосвал и ссыпáл холмик грубо нарубленных дров, которые надо посбрасывать в приямок, оттуда в подвал и дальше уже отнести в отсек – кому они привезены.
И вот папа поручил мне, как уже большому, перебрасывать дровины в приямок, чтобы он из подвала продёргивал их внутрь через проём.
Мне его не видно было, но из подвала слышался его голос, когда он кричал мне повременить, если груда поленьев в приямке грозила затором проёма, а потом доносился глухой утробный стук – это далеко внизу дрова валились на бетонный пол.
Всё шло хорошо, покуда Наташка не сказала дома Саньке, что нам привезли дрова и что я помогаю папе спускать их в подвал.
Он прибежал к дровяному холмику и тоже стал перебрасывать дрова в приямок; упрямо и молча посапывая в ответ на мои бурные объяснения, что он нарушает возрастной ценз на участие в подобных работах, и что сброшенные им добавочные поленья непременно создадут затор в проёме.
( … риторика бесполезна с теми, кому хоть кол на голове теши!..)
Но я не только ораторствовал, а тоже швырял дрова, чтобы потом, за обедом на кухне, Санька не слишком бы хвастался, будто сделал больше меня…
И вдруг он отшатнулся от приямка, схватившись рукою за лицо, а из-под пальцев показалась кровь.
Наташа бросилась домой звать маму и та прибежала с влажной тряпкой – обтереть кровь у стоящего с запрокинутым лицом Сашки.
Папа тоже прибежал из подвала и никто не слушал моих объяснений, что это случилось нечаянно, а не нарочно, когда брошенная мною дровина зацепила нос брата и оцарапала кожу.
Мама накричала на папу, что допустил такое, папа тоже рассердился и сказал всем уходить домой, и доканчивал работу сам.
Царапина зажила даже и без пластыря, который упрямый Сашка отлепил с носа ещё до ужина…
( … вряд ли брат мой помнит про этот случай, а я до сих пор чувствую себя виноватым: мало ли, что не нарочно – меньше б орал, а смотрел бы лучше куда швыряю …)
В школе я постоянно записывался в какой-нибудь кружок, стоило лишь его руководителю зайти к нам в класс для вербовки желающих.
Занятия в кружках проводились после обеда. Нужно сходить домой, покушать и снова идти в школу на кружок, участники которого возвращались домой уже среди ночной темноты.
Как-то вечером, после занятий в очередном кружке, мы, кружковцы, заглянули в спортзал, где на сцене задёрнутой занавесом стояло пианино и где один мальчик показал мне однажды, что если ударять по одним только чёрным клавишам – получается китайская музыка.
Но на этот раз я забыл про всякую музыку, потому что на сцене оказались несколько старшеклассников, а с ними – пара настоящих боксёрских перчаток!
Мы осмелились попросить разрешения потрогать их и примерить.
Они великодушно позволили, а потом придумали устроить поединок между мелкотой «горки», то есть проживающих в каком-то из двух каменных кварталов, и «нижняков» – жителей деревянных домиков под спуском.
Выбор пал на меня – мне так этого хотелось! – и плотного рыжеволосого Вовку из «нижняков».
На сцене не хватало освещения для боя.
Нас вы вели под лампочку в прихожей спортзала, где за стеклом широкого окна уже стояла чернильно зимняя темень, и сказали начинать.
Сперва мы с ним похихикивали, бухая друг по другу громоздкими шарами перчаток, но потом остервенели и я страстно желал угодить ему в голову, но никак не мог дотянуться, а по его глазам видел, что и ему хочется сшибить меня.
Вскоре у меня жутко заныло левое плечо, которое я подставлял под его удары и совершенно ослабела правая рука, которой я долбил в плечо подставленное им.
Наверно, ему приходилось не лучше.
Наше хихиканье перешло в покряхтыванье и пыхтенье.
Было плохо и больно до слёз, потому что его удары, казалось, проникают до самой кости предплечья, но я бы скорей умер, чем сдался.
Наконец, старшеклассникам надоело такое однообразие, нам сказали «хватит» и забрали перчатки.
Наутро на моём левом плече проступил огромный багрово-чёрный отёк. К нему несколько дней больно было прикасаться и даже от дружеского похлопывания я скрючивался и болезненно сычал…
Если выпадал пушистый снег, но не слишком много, мы всей семьёй выходили во двор – чистить ковёр и дорожку.
Мы их укладывали лицом на снег и топтались по жёсткой изнанке. Затем ковёр переворачивали, наметали на него веником чистого снега и выметали его обратно, а ковёр складывали.
Длинную зелёную дорожку после топтания не переворачивали, а становились на неё вчетвером – мама и мы трое, а папа тащил дорожку по сугробам и всех нас на ней, оставляя позади вмятую борозду снега с пылью; вот такой он у нас сильный.
А когда пошёл мокрый снег, то мальчики нашего двора начали катать из него комья и делать крепость.
Лепишь из снега комок – размером в полмяча; кладёшь его на сугробы и катаешь туда-сюда, а он тут же обрастает слоями мокрого снега, превращается в снежный шар, растёт выше колен, плотнеет, тяжелеет и приходиться созывать на помощь и катить его вдвоём-втроём туда, где вырастает снежная крепость.
Мальчики постарше взгромаждают шары плотного снега на круговую стену, которая уже выше твоего роста.
Мы делимся на команды – защитники крепости и те, кто пойдёт на штурм.
Заготовлены боеприпасы снежков и – началась атака.
Крик, гвалт, снежки со всех сторон и во все стороны.
Я высовываюсь над стеной крепости, чтоб тоже хоть в кого-нибудь залепить, но в глазах вдруг сверкает жёлтая молния, как от лопнувшей электролампы. Спиной по стене я сползаю обратно, руки зажали глаз, куда врезал снежок.
( … «ах, да – я был убит…», так много лет спустя скажет об этом поэт Гумилёв …)
А бой не стихает и никому нет до тебя никакого дела. Все слиты в общем крике: а-а-а-а-а-а-а!!
Бой кончен, крепость не сдалась, а превратилась в метровую горку утоптанного до ледяной плотности снега, но крик не смолкает, мы всё также орём и скатываемся по ней на животах.
В голове пустая глухота от своего и всехнего ошалелого вопля.
А-а-а-а-а-а-а!!
Глаз мой уже смотрит. Я сошлёпываю снежок и влепляю им в голову мальчика старше себя.
Какая ошибка!
Во-первых, бой закончен и на нём уже даже коньки, а во-вторых – он старше, и значит сильнее.
Что сделало меня столь опрометчивым?
Борьба за справедливость, чтоб всё было правильно.
В начале строительства крепости совсем старшие мальчики – семи-восьмиклассники, всем объявили: кто не строит, играть не будет.
И я точно знал – этот мальчика в коньках не строил.
Но кто сейчас за этим смотрит? Многие из мальчиков-основоположников уже ушли. Другие давно забыли уговор.
Но объяснять причины своей дерзости времени нет и некого позвать на помощь – надо спасаться.
И я бросаюсь наутёк – вдруг не догонит? – к своему подъезду.
Бегу, выдохшийся от многочасовой игры. Но бегу.
Дверь совсем уже рядом.
– А вдруг догонит?– мелькает в голове и я и получаю коньком под зад за этот ненужный страх.
Хлопнув дверью, я влетаю в подъезд, где он уже не преследует – чужой дом…
( … чтоб всё получалось как надо – нельзя сомневаться в себе …)
Весной мои родители сделали попытку заняться сельским хозяйством, то есть они решили посадить картошку.
Когда с лопатой и картошкой в сумке они после работы отправились в лес, я упросил, чтоб и меня тоже взяли.
Мы вышли на длинную просеку с полосой земли вдоль неё – бывшая граница Зоны, до того, как её расширили.
Папа делал ямки лопатой в грядке, которую вскопал днём раньше, и мама опускала туда картофелины.
Лица родителей были печальными и папа с сомнением качал головой.
Это не земля, а просто суглинок. Ничего тут не вырастет.
Тихо сгустились весенние сумерки и мы ушли домой.
( … забегая вперёд, скажу, что ничего на той грядке так и не уродилось.
Из-за суглинка, или сомнения в своём деле?
Но самое непонятное – зачем они вообще это начали?
Для экономии расходов на картофель? Так, вроде, не бедно жили.
В их комнате появился раздвижной диван, два кресла с лакированными подлокотниками и журнальный столик на трёх ногах – всё вместе называется мебельный гарнитур.
Наверное, захотели отдохнуть от мебели, вот и нашли себе отговорку для выхода в лес …)
И снова наступило лето, причём намного раньше, чем в предыдущие годы.
А вместе с летом в мою жизнь пришла Речка. Или же пределы моего жизненного пространства расширились аж до неё.
Сначала пришлось увязаться за компанией более знающих мальчиков и мы долго шли под гору по дороге с вязким от жары гудроном на стыках бетонных плит.
Потом через кусты обрывистого спуска, по тропам срезающим напрямик, пока не открылось её сверкающее солнечными бликами течение по неисчислимым булыгам и валунам.
Все десять метров её ширины можно пересечь не погружаясь глубже, чем по пояс.
А можно просто стоять по колено в быстром течении и смотреть как табунчики полупрозрачных мальков тычутся в твои ноги в зеленоватом полумраке неудержимо катящей массы воды.
Потом, на берегу, мы играли в «ключик-замочек», загадывая какой получится всплеск от брошенного в речку камня: если одиночным столбиком – ключик, а если широким лепесточным кустиком – замочек.
В спорных случаях побеждал авторитет того, кто лучше играет в футбол, или чей плоский камешек больше проскачет по воде при «печении блинчиков».
Вскоре я начал ходить на Речку один, или на пару с кем-нибудь из мальчиков, но на берегу мы разделялись, потому что пришли ловить рыбу.
Снасть – удочка из срезанного ивового хлыста, крючок, свинцовый шарик грузила на тонкой леске и самодельный поплавок из коричневатой винной пробки, или красно-белый, магазинный, из ощипанного гусиного пера, приплясывает на мелких волнах быстрого течения, либо застывает в небольшой заводи позади валунов…
Рыбалка – это нечто личное, у кого-то больше надежд на эту тихую заводь, другому больше нравится пускать поплавок за быстриной, вот и расходимся.
Рыбалка – это прилив азарта, стóит только поплавку дёрнуться и хотя бы разок уйти под воду: клюёт!
Леска не поддаётся, упирается, тянет на себя, сгибает удилище, рассекает воду из стороны в сторону и вдруг, подавшись, взмыла вверх и несёт к тебе сверкающее трепыханье пойманной рыбины.
Потом, конечно, оказывается, что это не рыба, а рыбёшка, но зато следующая точно будет во-о-т такая!
Чаще всего попадались горюхи – не знаю как их по научному зовут.
Эти дуры цеплялись даже на голый крючок, без червяка; цеплялись чем попало – брюхом, хвостом, глазом.
Слишком жирно для таких горюх, чтоб их уклейкой называли, или как-нибудь ещё.
С рыбалки я приносил с полдюжины уснулой мелочи в бидончике и кошка тёти Полины Зиминой с урчаньем пожирала их из блюдца на площадке второго этажа.
Рыбалить в тот день я начал от моста между насосной и КПП на выезде из Зоны.
Шёл, как обычно, за течением, меняя наживку, глубину погружения крючка.
Почти не отвлекался.
Только на песчаной косе вдоль полосы кустарника немного подреставрировал скульптуру лежащей на спине женщины. Её за пару дней до этого слепили два солдата из песка.
По одежде сразу видно, что солдаты – в трусах и сапогах. Кто ещё станет носить сапоги летом?
Я нарастил ей осевшие груди и подкруглил бёдра. Они показались мне шире, чем нужно, но исправлять я не стал.
Зачем я вообще это делал?
Так ведь неправильно же, чтобы произведение искусства сравнялось с остальным песком и весь солдатский труд пошёл прахом…
( … или мне захотелось пошлёпать по женскому бюсту и ляжкам, хотя бы и песчаным?
Э! К чертям Фрейда и прочих психоаналитиков!
Вернусь-ка я обратно на рыбалку, там интереснее …)
…и я и не стал на неё ложиться: как один из солдат два дня назад, а продолжил удить.
Течение принесло поплавок к прорванной дамбе пониже стадиона, где я целую вечность тому назад оступился с коварной плиты.
Значит половина Речки уже пройдена; ещё столько же и она уйдёт за Зону, по ту сторону двух рядов колючей проволоки на столбах, между которыми полоса взрыхлённой земли, для отпечатков следов нарушителя.
А в бидончике – всего пара несчастных горюх; кошка обидится.
Когда завиднелся второй – финишный – мост, я решил дальше не ходить, а позакидывать удочку на крутой излучине под обрывом.
Тут и случилось то, ради чего люди вообще ходят на рыбалку: поплавок не задёргался, а мягко и глубоко ушёл в воду; я стал тянуть на себя, чувствуя как вибрирует, сопротивляясь, удилище в руках. Никакого вспорха рыбки в воздух. Пришлось тянуть тугую леску до самого берега и выволакивать рыбину на сушу.
Она билась на песке, а мне и ухватить её страшновато – никогда таких не видел: вся тёмно-синяя, похожа на толстый шланг.
Я выплеснул горюх в речку, зачерпнул воды в бидончик и опустил в него добычу, но ей пришлось там разместиться торчком – длина не позволяла кувыркаться.
От моста подошли два мальчика, что уже кончили рыбалку и шли домой; они спросили как улов и я показал им рыбу.
– Налим,– мгновенно определил один.
Когда они ушли, я понял, что ничего лучшего мне уже не поймать, смотал леску на удилище, взял бидон в руку и тоже пошёл домой.
Я шёл, а слава бежала впереди меня – несколько мальчиков встречали на подходе к Кварталу: посмотреть налима. А когда я уже подходил к нашему дому, незнакомая тётенька из соседнего здания остановила меня на дорожке, спросила правда ли это, заглянула в бидон на круглую морду заторчалого там налима и попросила отдать его ей.
Я тут же и беспрекословно протянул бидон и подождал, пока она отнесёт рыбу к себе и вернёт мне тару.
В те годы леты было намного длиннее нынешних и в них много чего умещалось.
Например, в одно лето с налимом нас вывезли в пионерский лагерь, хотя мы ещё не были юными пионерами.
Утром дети нашего Квартала и соседнего, и дети «нижняки» из деревянных домиков сошлись у Дома офицеров, где нас ожидали автобусы и пара больших машин с брезентовым верхом. Родители дали детям чемоданчики с одеждой и сумки со всякими вкусными вещами и помахали нам вслед.
Колонна миновала мост у насосной станции и подъехала к КПП, а там, через белые ворота, покинула Объект за колючей проволокой, что окружала его весь с его лесом, горками, болотами и кусочком Речки.
После КПП мы свернули вправо, на длинный подъём, а потом долго ехали по шоссе, с которого снова свернули вправо, но уже на лесную дорогу среди могучих сосен, а ещё через полчаса подъехали к другим воротам, от которых тоже расходились ряды колючей проволоки, но на этот раз не в два ряда и без часовых, потому что это – пионерский лагерь.
Недалеко от ворот стояло одноэтажное здание столовой и медпункта, и комнат для воспитателей, директора и просто работников лагеря.
Позади столовой раскинулось широкое поле с высокой мачтой «гигантских шагов» на висячих цепях, но на них никто никогда не крутился.
Вдоль ряда высоких берёз по краю поля шла аккуратная дорожка с ямой для прыжков в длину.
За полем снова начинался лес отрезанный забором из колючей проволоки.
Влево от столовой, ряд зелёных кустов отделял от неё четыре квадратные шатра брезентовых палаток для старшеклассников из первого отряда.
Чуть дальше высилась другая железная мачта, но уже без цепей, а с тонким тросом для красного лагерного флага.
На утренних и вечерних линейках-построениях, командиры отрядов по очереди подходили к старшей пионервожатой с докладом, что отряд построен, потом она подходила к директору доложить, что лагерь построен, и тот отдавал приказ поднять, или спустить флаг на мачте – в зависимости от времени суток.
Баянист растягивал меха своего инструмента и тот исполнял гимн Советского Союза; два пионера, перебирая руками, тянули трос, и флаг рывками полз вдоль мачты – утром вверх, а вниз вечером.
Ещё дальше влево и чуть ниже виднелся приземистый барак с двумя длинными раздельными спальнями и залом покороче, но пошире, в котором имелась сцена, места для зрителей и белый экран для показа кино.
В спальнях стояли ряды железных коек с пружинистыми сетками.
В день приезда, до получения матрасов и постелей, дети, побросав на пол свои чемоданчики, бегали из конца в конец спален на полуметровой высоте по упруго подбрасывающим тебя сеткам коек.
В этом спорте главное – не столкнуться со скачущими навстречу попрыгунчиками.
Потом все достали печенье из чемоданчиков и сумок и начали есть его, запивая сгущёнкой из сине-белых жестяных банок.
Оказывается, для наслаждения сгущёнкой не нужен ни консервный нож, ни ложка. Достаточно найти торчащий в стене гвоздь и пробить об него дырку в крышке, но так, чтоб не посерёдке, а с краю. На другом краю той же крышки нужна ещё одна дырочка и – пожалуйста! – сосётся без остановки и ничуть не перемажешься, как тот гвоздь с висячей на нём каплей густой сгущёнки.
А если ты неумека, или не хватает роста – дотянуться до гвоздя в стене – попроси мальчиков постарше, они и для тебя пробьют; всего за два отсоса из твоей банки.
Перед мачтой с флагом устроены квадраты взрыхлённой земли – по одному для каждого отряда, где дети выкладывают сегодняшнее число головками оторванными у цветов, или зелёными листьями, потому что идёт соревнование на лучшее оформление отрядного календаря.
По воскресеньям в лагерь приезжают родители, привозят своим детям пряники, конфеты и – ситро!
Мама отводит нас куда-нибудь в зелёную тень деревьев, смотрит как мы жуём и расспрашивает про жизнь в лагере, а папа щёлкает новеньким фотоаппаратом ФЭД-2.
Жизнь в лагере, как жизнь.
Недавно все отряды выходили в поход, до самого обеда, а вернулись – опаньки! Сюрприз!
На дощатом помосте в ограждении высоких беседочных перил, напротив входа в зрительный зал барака, нас всех ожидал ресторан.
Оказывается девочки старших отрядов вместо похода расставили там столы и стулья и вместе с поварихами приготовили обед.
На столах разложены тетрадные листочки со списком блюд и все подзывают девочек взрослым словом «официант!», чтоб те приняли заказ на салат «майский» или «луковый».
Когда ресторан закончился, я случайно услыхал, как две официантки подсмеивались между собой, что все заказывали «майский», а «луковый»-то был вкуснее и им больше досталось.
Я дал себе наказ: не покупаться в будущем на финтифлюшные названия.
Жаль только, что в распорядке лагеря остался пережиток детсадного прошлого, правда, под новым именем – «мёртвый час».
После обеда всем разойтись по своим палатам и по койкам. Спать!
Спать среди дня не получается, и двухчасовый «мёртвый час» тянется ужасно медленно.
В который раз уж переслушаны все страшные истории: и про женщину в белом, которая пьёт собственную кровь, и про чёрную руку, что душит всех подряд, а до подъёма всё те же бесконечные тридцать восемь минут…
Как-то в обед я заметил, что трое мальчиков из моего отряда обмениваются многозначительными кивками и зашифрованными знаками условных взмахов рук.
Яснее ясного – тут сговор. А как же я?
И я до того упорно пристал к одному из них, что тот открыл мне тайну – договорено не идти после обеда на «мёртвый час» в палату, а убежать в лес, там кто-то из них знает место, где малины – больше, чем листьев.
Обед закончился и когда мальчики, пригнувшись, украдкой побежали в другую от барака сторону, я припустил следом, отразил попытку предводителя завернуть меня обратно, в палату, и вместе со всеми выполз под колючей проволокою в лес.
Мы вооружились палками типа винтовок и автоматов, и зашагали по широкой тропе между сосен и кустарников. Потом, вслед за командиром свернули на какую-то из полян и снова зашли в лес, но уже без тропинки.
Там мы долго блуждали и вместо малины попадались лишь кусты волчьей ягоды, а её есть нельзя – она ядовитая.
Наконец, нам это надоело и командир признался, что не может найти обещанного малинного места.
Ему сказали: «эх, ты! тоже мне!», и мы опять стали блуждать по лесу, покуда не вышли к колючей проволоке.
Следуя путеводным колючкам лагерного ограждения, мы вышли к знакомой уже тропе и воспрянувший духом командир отдал команду строиться.
Похоже, начнём играть в «войнушку».
Мы исполнили команду и встали в шеренгу вдоль тропинки, прижимая к животам сучкастые автоматы.
И тут из-за густого куста, с воплем «бросай оружие!», вдруг выпрыгнули две взрослые женщины, лагерные воспитательницы.
Мы ошарашенно обронили свои палки и, приготовленной уже шеренгой, были отконвоированы к воротам лагеря.
Одна шла впереди, вторая замыкала строй.
На вечерней линейке директор объявил, что случилось ЧП, и что родителям сообщат, и что будет поставлен вопрос об исключении нас из лагеря.
После линейки мои брат с сестрой подошли ко мне из своего младшего отряда:
– Ну, тебе будет!
– А!– отмахнулся я, хоть и страшился неопределённости наказания за постановку вопроса о твоём исключении.
Эта неопределённость мучила меня до конца недели, когда снова настал родительский день и мама привезла сгущёнку и печенье, но ни словом не помянула мой проступок.
Мне отлегло, а когда родители уехали Наташа рассказала, что мама уже знала о случившемся и, в моё отсутствие, расспрашивала кто ещё ходил в бега со мною, а потом сказала папе:
– Ну, этих-то не исключат.
В конце лета в жизни Квартала произошло изменение, каждый день в пять часов во двор стала приезжать машина для мусора, она громко сигналила и жильцы домов несли к ней свои мусорные вёдра.
А ящики из мусорки за нашим домом куда-то увезли и заколотили её ворота досками.
В сентябре на длинном поле от Бугорка до мусорки тарахтел и лязгал бульдозер, передвигая горы земли. После него осталось широкое поле, метра на два ниже прежнего, в следах от его гусениц.
Ещё через месяц был воскресник для взрослых, но папа разрешил и мне пойти с ним.
За соседним кварталом на опушке леса стояло длинное здание похожее на барак в пионерлагере и люди воскресника начали его бить и разваливать.
Папа забрался на самый верх, он ломом сбрасывал целые куски крыши и при этом покрикивал:
– Э! Ломать не строить! Душа не болит!
Мне воскресник не очень понравился – там прогоняют, чтоб ты близко не подходил, а просто слушать как визжат гвозди, когда их вместе с досками отдирают от балок, быстро надоедает.
( … теперь вот никак не вспомню – накануне воскресника, или сразу после него, Никита Сергеевич Хрущёв был свергнут с поста и самым главным стал Леонид Брежнев.
И это когда до коммунизма оставалось каких-нибудь восемнадцать лет …)
В своей весьма полезной книге Сетон-Томпсон настаивает, что луки надо делать непременно из ясеня.
Но где тут его найдёшь, ясень-то? В лесу одни только сосны да ели, а из лиственных берёза с осиной, а всё прочее уже кустарник.
Так что луки, по совету соседа по площадке Степана Зимина, я делал из можжевельника.
Можжевельник нужен не старый, тот слишком ветвист, и не слишком толстый, а то не согнуть.
Полутораметровое деревце в самый раз – лук будет упругим и сильным.
Пущенная из него стрела взовьётся в серое осеннее небо метров на тридцать, едва разглядишь, а потом отвесно упадёт и воткнётся в землю, потому что наконечником у неё гвоздь примотанный изолентой.
Саму стрелу надо делать из тонкой штукатурной рейки – расщепить её вдоль и обстругать округло.
Вот только оперения у моих стрел не было, хоть у Сетон-Томсона и объяснялось как его делать.
Во-первых, откуда перья взять? Папу просить бесполезно, у него на работе только механика…
На зимних каникулах я узнал, что мальчики из наших двух кварталов по субботам ходят в Полк смотреть кино в клубе части.
Полк – это где солдаты продолжают службу после окончания школы новобранцев.
Идти туда в первый раз было немного страшновато, потому что среди детей ходили неясные слухи будто в лесу какой-то солдат задавил девочку, как и зачем непонятно, но точно, что чёрнопогонник, а в Полку все солдаты – в красных погонах.
Туда идти, как в школу, но только мимо неё и – дальше, по широкой тропе под высокими елями, а потом всё прямо и прямо, пока не выйдешь на асфальтную дорогу; по ней подняться к воротам, где часовые, но мальчиков они не останавливают и можно проходить к зданию с вывеской Клуб Части.
Внутри длинный коридор с тремя двустворчатыми дверями, на стенах между которыми картинки с портретами солдат и офицеров и краткое описание их беззаветных подвигов и героической смерти для защиты советской Родины.
Широкие двери открывались в огромный зал без окон, с рядами прибитых к полу кресел из фанеры, а между раздвинутых кулис высокой сцены натянут белый тугой экран. Проход от сцены к задней стене делил зал пополам.
Солдаты входили группами, стуча сапогами по доскам пола, громко перекликались и понемногу заполняли зал.
Время тянулось долго.
И я в очередной раз перечитывал надписи на красном кумаче двух плакатов по обе стороны от сцены, за которыми прятались чёрные ящики динамиков.
На левом плакате жёлтая рамочка охватывала портрет головы человека в широкой бороде и длинных волосах вместе с его словами:
«В науке нет широкой столбовой дороги, и только тот, кто не страшась усталости карабкается по её каменистым тропам, достигнет её сияющих вершин.»
И подпись – К. Маркс.
На правом – голова без волос и бородка клинышком – ещё до подписи понятно, что это Ленин, и он сказал:
«Кино не только агитатор, но и великий организатор масс.»
По мере заполнения зала, мальчики перебирались с первых рядов на сцену и кино смотрели с обратной стороны экрана – он просвечивался. Какая разница проплывёт Человек-Амфибия слева направо или наоборот?
А бунтовщик Котовский всё равно убежит прямо из зала суда.
Некоторые мальчики оставались сидеть в зале на подлокотниках между сиденьями.
По ходу кино в темноте порой раздавался крик от какой-нибудь из дверей:
– Ефрейтор Сóлопов!
Или же:
– Второй взвод!
А заканчивалось одинаково:
– На выход!
Если кино вдруг обрывалось и зал тонул в полной темноте, со всех сторон вставала оглушительная стена свиста, грохота сапогов о доски пола и криков:
– Сапожник!!!!!!!!!!!………..
После кино мы шли по ночному лесу домой и пересказывали друг другу то, что вместе же и смотрели:
– Не! Ну, а как он его двинул! А?
– Не! Не! А тот и не понял, что он там!
Конечно же, кино показывали не только в Полку.
Ещё и в Доме офицеров, но там вход по билетам и, стало быть с родителями, а им же некогда.
Правда, по воскресеньям был бесплатный дневной сеанс для школьников – чёрно-белые сказки, или цветной фильм про пионера-партизана Володю Дубинина.
В одно из зимних воскресений я сказал маме, что иду во двор.
– Ещё чего! В такую погоду никто не гуляет.
За стёклами кухонного окна теснился сумрак исчёрканный линиями суматошно несущихся снежинок.
– Видишь что творится?
Но я канючил и не отставал, пока мама не рассердилась и сказала, чтоб я шёл куда хочу, но всё равно там никого не будет.
Во дворе и впрямь не было ни души.
Отворачивая лицо от вихрей секущего снега, я обогнул дом и пересёк дорогу к полю рядом с забором заколоченной мусорки.
Конечно, и тут никого, потому что себя-то я не мог видеть, а видел только, что весь мир стал сплошь тёмно-серым, исполосованным метелью колючего снега.
Стало одиноко и захотелось домой.
Но мама скажет «я тебе говорила!», а младшие начнут подсмеиваться…
И тут на дальнем краю поля, где когда-то играли в волейбол, а потом в городки, раздался голос голос из репродуктора на неразличимом в такую непогоду столбе.
– Дорогие ребята! Сегодня мы разучим песню про весёлого барабанщика. Сначала прослушайте её.
И дружный хор ребячьих голосов запел про ясное утро и кленовые палочки, которые берёт в руки весёлый барабанщик.
Песня закончилась и диктор начал диктовать слова, чтобы слушатели записывали:
– Встань, по-рань-ше, встань, по-рань-ше, встань, по-рань-ше, толь-ко, ут-ро, за-ма-я-чит, у, во-рот…
И я уже был не один в этом взбураненном мире. Я бродил по сугробам пустого поля, но снег не мог попасть ко мне в валенки – их плотно облегали тёплые штаны.
Диктор закончил диктовать первый куплет и дал прослушать его снова. Потом он диктовал второй, тоже с последующим исполнением, и третий.
– А теперь прослушайте всю песню, пожалуйста.
И нас стало много: барабанщик, дети со звонкими голосами, и даже вьюга стала одной из нас и бродила со мной по полю, только я проваливался валенками в зыбучий снег под коркой наста, а она плясала поверх него своей колючей крупой.
Когда я вернулся домой, мама спросила:
– Ну, что? Видел кого-нибудь?
Я сказал, что нет, но никто не смеялся.
Одиночная прогулка в большой компании, под диктовку Весёлого Барабанщика, уложила меня в постель с температурой.
Все ушли на работу и в школу. Отнести книги в библиотеку Части и обменять их мне нельзя. Пришлось взять из домашней ту, что давно манила своим названием, но отпугивала толщиной – «Война и Мир» Толстого – в четырёх томах.
Первая глава меня сперва напугала сплошными страницами французского текста, но когда углядел, что внизу в примечаниях дан перевод – отлегло.
Так что свою болезнь я и не заметил: наскоро проглатывал лекарства и возвращался к Пьеру, Андрею, Пете, Наташе, иногда забывая вынуть градусник из подмышки.
Прочитал все тома с эпилогом и только заключительную часть с рассуждениями про предопределения не получилось одолеть: нескончаемо длинные предложения стояли отвесной стеной – вскарабкиваясь на чуть-чуть, я тут же соскальзывал обратно к её подножию. Неприступная стена простиралась в обе стороны и я уже не помнил как добирался сюда. Пришлось закрыть не дочитав.
( … пару лет назад я вновь перечитал эти тома уже от корки до корки и сказал: если человек может писать так, как Толстой в заключительной части «Войны и Мира», то зачем понадобилась вся та беллетристика, включая эпилог?
Не исключаю, что я отчасти выпендривался, но только отчасти …)
А пока я валялся на раскладушке вперемешку с полем Аустерлица, жизнь не стояла на месте. Брат и сестра приносили новости, что мусорку снесли и поставили там раздевалку, в которой выдают коньки.
И каток устроили тут же, между раздевалкой и Бугорком, на поле, которое осенью разравнивал одинокий бульдозер. Приехала пожарная машина, с неё сбросила на землю шланги, из которых натекла вода, и – получился каток.
Теперь можно приходить, брать в раздевалке коньки, или с собой приносить и – кататься!
Я не хотел отставать от жизни и поскорее поправился.
Однако – опоздал.
В раздевалке коньков уже не выдавали и надо приносить свои, но лавки остались: можно сесть и переобуться в те, что принёс, а под лавками ящички – оставлять свои валенки пока катаешься.
Для входа в раздевалку нужно подняться на высокое деревянное крыльцо с двумя дверями – одна раздевалкина, а другая в соседнюю комнату, где поставлен станок для заточки коньков и печка-буржуйка из широкой железной бочки.
В печке полыхал жаркий огонь для отогрева застывших рук, или же варежки обсушить, только надо присматривать – если вовремя не снимешь их с раскалённого железа, то начинают вонять палёной шерстью ниток, из которых связаны.
Как мне хотелось научиться гонять на коньках! Они так вкусно хрустят по льду. Они несут – словно на крыльях.
Ученье началось с двухполозных, которые надо привязывать к валенкам бечёвками, но меня засмеяли, что это детсадная безделушка. Потом были «снегурки» с круглыми носами, но тоже на бечёвках. И на них ничего не получилось.
Наконец, мама откуда-то принесла настоящие «полуканадки», приклёпанные к своим ботинкам.
С ними я поспешил в раздевалку катка. Переобулся из валенков. Вышел на лёд, проковылял туда-сюда на подворачивающихся коньках, они никак не хотели стоять ровно – подламывались то внутрь, то в стороны, до боли выкручивая мне ступни.
К раздевалке пришлось возвращаться по сугробам – плотный снег удерживал лезвия коньков вертикально и они уже не выворачивали мне щиколотки на излом.
Последняя попытка произошла вечером, когда папа пришёл с работы и, по моей просьбе, накрепко зашнуровал ботинки «полуканадок» поверх толстовязанных шерстяных носков.
Я процокал по лестнице вниз, держась за перила.
От перил до двери подъезда я шёл припадая руками к стене. Она же помогла мне обогнуть дом. Дальше пошли вспомогающие сугробы, но на дороге их не было и её я пересекал трепеща руками, как канатоходец.
Наконец я добрёл до катка, но всё повторилось опять – коньки выламывали ступни, несмотря на тугую шнуровку.
Я постоял в толчее окрылённых коньками счастливчиков и нескончаемо болезненным путём побрёл обратно.
( … больше ни разу в жизни я не пытался встать на коньки.
Рождённый ползать – летать не может …)
В один из ясных выходных дней сосед по площадке из квартиры наискосок – Степан Зимин, позвал меня и своего сына Юру сходить в лес на лыжах.
Для такого случая родители раздобыли мне лыжи с палками.
Крепленья у таких лыж – ременные петли посередине, куда надо совать нос валенка и белой резинкой от трусов, что привязана к каждой петле, охватить его повыше пятки.
Степан на эту вылазку пошёл совсем без лыжных палок, но ездил – залюбуешься.
Мы свернули в лес левее школы новобранцев и углубились в чащу почти непролазных сосен с иссохшими ветвями в нижних ярусах.
Потом нам встретились пара квадратных ям и Степан сказал, что это от землянок вырытых тут во время войны.
У меня такое в уме не укладывалось, война ведь прошла до моего рождения – то есть целую вечность тому назад. За такое время все траншеи с землянками и блиндажами должны совершенно изгладиться с лица земли.
Больше Степан Зимин не выводил нас на лыжные прогулки, но мне понравилось катание на лыжах и я начал обкатывать ближайшие спуски за обводной дорогой.
Когда в школе проводилось лыжное соревнование среди учащихся, я, конечно же, вызвался в нём участвовать и вечером накануне забега попросил папу сменить изношенные резинки на креплениях, но он сказал – пойдут и эти.
Старт давался с той же поляны, где осенью проходил воскресник по развалу длинного барака. Оттуда лыжня уходила в лес и, попетляв там, возвращалась обратно.
Старт, он же и финиш; два в одном.
Нашу группу, четвёртые-пятые классы, пустили в забег всех вместе и впереди бежал старшеклассник, чтоб мы не сбились не на ту лыжню.
Меня обгоняли и я обгонял кого-то, кричал «лыжню! лыжню!» бежавшим впереди, чтоб уступили две узкие дорожки накатанного снега, и неохотно съезжал с них в сторону, когда и мне в спину кричали «лыжню!»
На уже знакомом спуске, где солдаты-лыжники устроили высокий трамплин из снега, мы сбились в кучу-малу, хоть и съезжали в объезд трамплина.
Из кучи я выбрался одним из первых и резво рванул дальше, но метров за двести до финиша лопнула подлая резинка на правом валенке и лыжина перестала держаться.
Сдерживая злые слёзы, я добрёл до финиша в одной, пинками подгоняя правую скользить вперёд по её половине наезженной лыжни.
Судьям это понравилось – они смеялись, а я, когда пришёл домой, разрыдался: ведь я же знал, ведь просил же!
Мама упрекнула папу.
Он вскипел, но ничего не сказал, а назавтра на ременные петли лыж закрепил круглую резинку цвета слоновой кости и толщиной с мизинец, которую он принёс с работы.
( … та резинка ни разу не подвела, и даже двадцать два года спустя служила как надо.
Лыжи, они, вобщем-то, очень живучи …)
С такими надёжными креплениями я закатывался по воскресеньям в лес на целый день.
Нескончаемая, плотная лыжня тянулась там неизвестно откуда и куда. Порой раздваивалась и шла парой.
Мне нравится звук, с которым лыжи прищёлкивали по лыжне. Иногда на пути встречались одиночные солдаты-лыжники без шинелей, в одних только гимнастёрках и без ремня.
Прямая лыжня выводила к моему излюбленному месту катания – глубокой ложбине, где набранная при спуске по одному склону скорость выносит тебя чуть ли не на треть противоположного.
Мне это нравилось и я гордился, что могу кататься как солдаты, хотя случалось и падать, особенно на том трамплине, что они построили для своих прыжков.
Однажды я приметил укромную лыжню, что уходила в лес от магистральной, проложенной по просеке бывшей контрольной полосы Зоны-Объекта до её-его расширения в новые границы.
Неукатанная лыжня вывела меня к великолепной лыжной горке посреди чащи.
Правда, спуск обступали многолетние ели-великаны, понуждая к плавному повороту в конце; но если удержаться на том повороте, разгон уносит тебя невообразимо далеко, скорость выжимает слёзы из глаз и дарит восторг, что заставляет вернуться и съехать ещё и ещё…
На следующее воскресенье я там почти уже не падал и закатался до позднего часа, когда из-под разлапистых, отягчённых плотным снегом ветвей на елях начинают сочиться сиреневые сумерки.
И я вдруг почувствовал, что не один здесь, кто-то за мной наблюдает из-за спин неохватных елей; сначала стало как-то не по себе, но потом я услышал затаённое молчание леса вокруг и понял – это он, лес, дружески подсматривает за мною, потому что мы с ним заодно; и тут я вспомнил, что до Кварталов ещё два километра пути.
( … конечно, домой я заявился уже в потёмках и получил громкий нагоняй. Зато до сих пор, когда вспомнятся те сиреневые зимние сумерки и тишь дружелюбного леса, я знаю, что жил не зря …)
Такое же чувство растворённости и сопричастности всему вокруг, где ты всего только частица, но где уже не различить где заканчивается твоё «я» и переходит в «не-я», повторилось у меня уже в Карабахе, но тут наблюдающей стороной был уже я и всё происходило не зимой, а летом.
Правда, рассказ об этом случае несколько нарушает линейность повествования и прёт против классических канонов единства времени и места, но, в конце концов, письмо моё и жизнь моя – как хочу, так и верчу.
Так вот…
В Степанакерте меня невозможно обнаружить за день-два до моего дня рожденья и столько же, примерно, после; потому что на этот период я ухожу на волю.
( … зацени выгодность рождаться летом!..)
Мои местные родственники уже перестали удивляться, решили, что это такой старинный красивый украинский обычай – на день рожденья уходить куда глаза глядят.
Так же было и в августе конца девяностых, точно год не помню, но не позднее, потому что с двухтысячного у меня появилась палатка.
В тот раз я пошёл на север через леса и тумбы без деревень; и всё красы неописáнной, но, как предрекла мне моя мать: «ты будешь там один».
В конце дня, поднимаясь по тумбам всё выше, где леса сменяются альпийскими лугами, я наткнулся на куски обгорелого шифера и несколько полуобугленных жердей.
По-видимому, до войны сюда поднимались пастухи с отарами, вот и притащили стройматериал для халабуды.
А кто сжёг? Да, мало ли…
Может и молния ударила. Мне-то что за дело?
Ещё выше, в седловине, за которой подымались тумбы уже со скальными гребнями на вершинах, я увидел древнюю могилу.
Как догадался про древность? Очень просто, она раскопана – кто-то искал богатства.
Осталась яма да несколько полутораметровых плит из тёсаного камня по полтонны каждый. При социализме так не хоронили, да и при капитализме тоже. Поблизости такого камня нет, значит везли издалёка. Зачем?
Ну, если посмотреть хоть раз по сторонам, вопрос сам собой отпадает – красота неимоверная: небо без края, волны тумбов – на дальних леса, на ближних луга.
Но чтоб доставить сюда плиты невесть откуда, нужны средства и немалые, значит кто-то из князей-меликов. Забрёл на охоте и – прикипел. Но не учёл алчь осквернителей праха.
Так вот запросто решается любая загадка истории, когда никто тебе не возражает.
Я взошёл на следующий тумб и тут меня прихватил дождь, но у меня есть отработанный приём – снимаю с себя всё, засовываю в целлофан и выплясываю нагишом под струями ливня. Пляски не языческий ритуал, а для тепла: наверху, без солнца да под дождём весьма даже прохладно.
Но, наверное, и от язычества что-то да есть, иначе чего бы я орал и гикал?
Так что и у одиночества есть преимущества – не повяжут за нарушение общественного порядка. Дождь перестанет, оботрусь свитером и одеваюсь в сухое, что в целлофане пережидало.
Но в тот раз за одним дождём пошёл другой и свечерело. Дождь перестал и я залёг на ночёвку в неглубокой ложбине, чтоб ветер не слишком донимал.
Ближе к полуночи по спальному мешку застучали капли следующего дождя и я понял, что мне кранты, потому что по ложбине побежал бурлящий ручей дождевой воды, пришлось вылезти из мешка и стоять раздвинув ноги, пропуская поток.
Покинуть ложбину я тоже не мог – к дождю присоединился шквалистый ветер.
Вот так и пришлось дожидаться рассвета: в позе буквы «зю», прикрывая мокрющим как хлющ спальным мешком не менее мокрого себя.
Крупная дрожь била меня изнутри, а снаружи хлестали струи сменявших друг друга дождей, которым я потерял счёт в ту ночь.
Утром пришёл туман, но без дождя, и ветер улёгся.
Трясясь как припадочный, я выжал одежду и спальный мешок, насколько смогли задубелые руки.
У меня не осталось желания идти дальше. Надо возвращаться к очагам цивилизации.
Я брёл обратно, но ходьба не согревала меня. Дрожь то усиливалась, то ослабевала, но неизменно оставалась при мне.
Идти вниз легче, чем наверх, но для меня эта разница, почему-то пропала, моментами я вроде, типа, как бы плыл. А до очагов этих самых день пути нормального хода.
И тут я вспомнил про шифер – это намного ближе, лишь бы только найти. Он на том тумбе, где лес сменился лугами.
По тому тумбу я спускался зигзагами, чтоб не пройти мимо шифера в высокой траве. И он нашёлся.
Всё с той же ознобной дрожью, я начал восстанавливать халабуду и работа меня согрела лучше ходьбы.
Получился просторный шалаш под шифером. Я разложил костёр на входе из обломков неиспользованных жердей и сухостоя, который приволок из недалёкого леса. Обогрел свои бока и просушил спальный мешок. Когда от него перестал исходить пар и ткань его посветлела, я понял что выживу.
На следующий день во всю жарило солнце, но у меня была крыша над головой на обугленных жердях, по которым беззвучно сновали ящерки, такие же ленивые, как и я – из шалаша, за целый день, вышел лишь, чтобы надрать травы для подстилки под мешком, а то всё валялся.
И так день за днём, без перемен, просто понемногу прибавлялось знакомых – осторожным мышам, что не решались переступать пепел костра, я оставил кусок печёной картошки на ночь, но остальную вместе с хлебом и сыром подвесил в мешке под шифер.
По ночам всходила полная луна, наполняя мир чёткими тенями.
Один раз заполночь я вышел помочиться и чуть не наступил на выводок куропаток ночевавших тут же в высокой траве. Они всполошено вспорхнули у меня из-под ног с криком:
– Разуй глаза! Слепой, что ли? Не видишь куда прёшь?
Как будто они меня не напугали!
В свете дня над ширью долин плавали коршуны на неподвижных крыльях. Из глубины долин они видятся в далёкой вышине, а мне из шалаша даже и голову не приходилось задирать.
Когда один из них нарушил границы охотничьих угодий другого, тот взобрался повыше и, сложив крылья, камнем свалился на наглеца. Я слышал свист свободного падения у входа в шалаш.
Но коршун промахнулся, а может и не хотел сбивать, а просто отпугнул, свои же как никак.
Так всё и шло. У меня всех дел было – переворачиваться с боку на бок, с живота на спину, без каких либо желаний, стремлений, планов; порою засыпал без оглядки на время суток: какая разница?
Ну, и, конечно же, смотрел. Смотрел до чего красив и как совершенен этот мир.
Иногда вот думаю, а может назначение человека именно в том, чтобы видеть эту красоту и совершенство? Человек – это зеркало мира, иначе тот и не узнал бы насколько он прекрасен.
Через шесть дней пришлось прибрести обратно в цивилизацию.
Просто из чувства долга.
На расспросы отвечал односложно, потому что голосовые связки от долгого безделья тоже разленились и я мог говорить лишь сиплым шёпотом.
( … так это всё к тому, что в обоих случаях – в зимнем лесу и на летнем тумбе, у меня было сходное ощущение. Сопричастности, что ли. Будто я не один и кто-то ещё наблюдает за тем пацаном на лыжах и этим лежебокой в шалаше; вернее, я сам за собой наблюдаю из сумерек леса и из высокой травы, потому что мы сопричастны.
Короче, полная каша …)
Ближе к весне нас, четвероклассников, начали готовить к приёму в пионеры. Мы переписывали и заучивали торжественную клятву юных ленинцев. А однажды после перемены Серафима Сергеевна зашла в класс с незнакомой женщиной и сказала, что это новая пионервожатая школы и у нас сейчас будет ленинский урок – надо выйти в коридор и вести себя очень тихо, потому что в остальных классах идут занятия.
Мы вышли в длинный коридор второго этажа, где на стене между дверями в классы висели картинки с Лениным.
Вожатая начала рассказывать по порядку: вот он, ещё совсем юноша, утешает мать после казни брата Александра словами «Мы пойдём другим путём».
А тут он в группе товарищей из подпольного комитета…
В школе было тихо, мы проходили мимо молчащих дверей, за которыми шли уроки, и только мы одни, как тайные сообщники, вышли из обычного течения школьной жизни и словно бы приобщились к жизни подпольщиков, следуя за негромким голосом вожатой, что вела нас от картинки к картинке.
Потом снова пришла весна и опять проступили проталины вдоль подъёма к Кварталу от школы новобранцев и я, подымаясь из школы домой, обгоняю незнакомую девочку одного, примерно, со мною роста. Наверное, из параллельного четвёртого класса.
Я оглядываюсь на её лицо, преисполненное полным незамечанием меня.
Надо ей показать, что я имею вес в окрýге, ведь у меня тут, между прочим, имеется знакомая шайка, как у разбойника Робин Гуда.
Обернувшись налево, я на ходу делаю красноречивые знаки руками в направлении Бугорка, по ту сторону растаивающего катка.
Руки мои сигналят разбойникам:
«Ну, что ж вы так неосторожно? пригнитесь-ка получше, а то заметят ведь.»
Так что, если эта задавака туда посмотрит, то никого уже не будет видно.
В другой раз, когда снега уже вовсе не было, я шёл тем же путём, только хорошенько прижмурившись, но не полностью, а до узенькой щёлочки, до соприкосновения ресниц, когда видишь мир как бы сквозь крылья стрекозы, и я уже не шёл по дороге, а словно летел над ней в маленьком вертолётике, который видел на рисунке в «Весёлых Картинках», потому что хоть у меня и миновал дошкольный возраст, я иногда заглядывал в этот малышовский журнал.
И тут мне вспомнилось как Котовский, из кино в Клубе части, говорит заносчивому помещику:
– Я – Котовский!
Хватает того и вышвыривает через оконные стёкла помещичьей усадьбы.
И я тоже хватаю руками наглеца за грудки и отшвыриваю его через кювет у дороги.
Мне так нравиться говорить про себя: «я – Котовский!» и быть таким сильным, что я повторяю эту сцену несколько раз, шагая вверх к домам Квартала. Всё равно ведь никто не видит.
Дома мама сказала, что они с соседкой ухохатывались, глядя из её окна на мои швырки непонятно кого.
Но я ей так и не признался, что я был Котовским.
А в конце апреля нас приняли в пионеры. Приём состоялся не в школе, а перед входом в Дом офицеров, потому что там белокаменная голова Ленина на высоком пьедестале.
Накануне вечером мама нагладила мне брюки через марлю, белую рубашку парадной формы и алый треугольник пионерского галстука.
Эти вещи она повесила на спинку стула, чтоб утром всё было наготове.
Когда в комнате никого не было, я потрогал ласковый шёлк пионерского галстука. Мама говорила, что он куплен в магазине, но разве такие вещи продаются?
Утром светило яркое солнце. Мы, четвероклассники, стояли лицом к строю всех школьников.
Алые галстуки висели у нас на правой руке, согнутой в локте перед грудью. Воротники наших рубашек отвёрнуты кверху, чтоб старшеклассникам было удобней повязывать нам наши галстуки; но прежде мы хором торжественно поклялись перед лицом своих товарищей – горячо любить свою родину, жить, учиться и бороться, как завещал великий Ленин, как учит коммунистическая партия…
А за неделю до конца учебного года я заболел.
Мама думала, что это простуда, велела мне лежать в постели, но ничем не могла сбить жар и, когда температура поднялась до сорока градусов, она вызвала скорую помощь из больницы, потому что ещё через два градуса температура стала бы смертельной.
Я был слишком вял, чтобы гордиться или пугаться, что за мной одним приехала целая машина.
В больнице сразу определили, что это воспаление лёгких и начали сбивать температуру уколами пенициллина через каждые полчаса.
Мне было всё равно.
Через сутки частоту уколов снизили до одного в каждый час. На следующий день ещё на час реже.
В палате лежали взрослые больные из солдат срочной службы.
Через неделю я уже гулял во дворе больницы и весь четвёртый класс вместе с учительницей пришли меня навестить и отдать табель с моими оценками.
Мне было неловко и, почему-то, стыдно и я, вместе с мальчиками нашего класса убежал за угол больницы. Но потом мы вернулись и девочки вручили мне подарок от класса – книгу «Русские Былины», которую мне читала баба Марфа, но только совсем новенькую.
Вот так понемногу и начало всё как-то повторяться в жизни.
Летом нас опять повезли в пионерский лагерь к привычным столовой, бараку, линейкам, «мёртвому часу», родительским дням.
Но кое-что поменялось. Как полноправного пионера, меня зачислили в третий отряд и нас, вместе с первым и вторым, возили из лагеря купаться в озере. Просто надо подождать одну неделю и чтобы в этот день не зарядил дождь с утра.
Мы дождались, погода тоже не подкачала и нас повезли на озеро Соминское в машинах с брезентовым верхом.
Дорога шла всё лесом, по просеке, и мы перепели все какие знали пионерские песни и мою любимую «ах, картошка объеденье…», и не слишком любимую «мы шли под грохот канонады…» и вообще все, а дорога никак не кончалась, и меня укачивало на её кочках.
Потом те, кто сидел у квадратного окошечка прорезанного в передней брезентовой стенке закричали, что впереди над просекой что-то заяснело и мы выехали на заросшую травой поляну на берегу озера.
В воду мы заходили по-отрядно, а потом нам кричали выйти на берег, чтоб запустить следующий отряд.
Вода была тёмной, а дно мягковато липким.
Сперва я просто подпрыгивал, стоя по грудь в воде, а потом научился плавать, потому что мне дали надувной резиновый круг и показали как надо грести руками и бить ногами.
Вскоре нас перестали выгонять из воды. Я выпустил воздух из спасательного круга, но всё равно сумел проплыть метра два.
Когда в конце дня всем крикнули выходить на берег, потому что уезжаем, я ещё пробултыхался напоследок – убедиться, что умение остаётся при мне и с чувством выговорил в уме:
– Спасибо тебе, Соминское!
В другой раз нас повезли на озеро Глубоцкое.
Старшеотрядники говорили, что там лучше – есть пляж и дно песчаное.
Ехать туда пришлось ещё дольше, но зато автобусом по ровной дороге и меня не укачивало.
Озеро оказалось просто огромным; говорят, оно соединяется с другими озёрами, по которым ходит катер и где есть Муравьиный остров.
На том острове муравьиные кучи – в рост человека, а ещё там есть монастырь и если кто-то в нём провинится, то его связывают и бросают на какой-нибудь из муравейников. Муравьи думают, что это нападение и за сутки от наказанного остаётся лишь начисто обглоданный скелет.
Но с места купания никаких катеров и островов видно не было.
А дно и впрямь оказалось песчаным, только по нему надо долго брести, пока кончится мелководье.
Выбредая обратно, я глубоко разрезал ногу на ступне возле пальца.
Кровь шла очень сильно и на берегу мне забинтовали рану. Бинт пропитался кровью, но не выпускал её выливаться.
Всех предупредили быть осторожнее, а потом кто-то из взрослых нашёл половину разбитой бутылки в песчаном дне и забросил её подальше к середине озера, но меня это не утешило.
На обратном пути я даже начал всхлипывать в автобусе, но кто-то из воспитателей оборвал меня: «ты парень, или тряпка?» и я прекратил скулёж и в дальнейшей жизни стыдился стонать от боли.
Два раза за смену нас возили в баню в соседней деревне.
Первый раз я пропустил – вернулся в палату отряда взять забытое мыло, а когда прибежал к столовой автобусы и машины уже уехали.
В лагере стало тихо и пусто: только поварихи в столовой да я. Делай что хочешь, ходи куда хочешь: можно даже в палатки первоотрядников с четырьмя железными койками на некрашеных досках пола, где по брезентовым стенам играют резные тени листвы ближайших деревьев.
A я почему-то вскарабкался на будку без крыши, но зато с железной бочкой поверх дощатых стен.
Это душ воспитателей и вожатых. Воду в бочку заливали вёдрами и она нагревалась там солнцем.
Все два часа безлюдья я провёл на той будке, бродя по узким брусьям вокруг бочки, пока не вернулся весь лагерь.
А второй раз я не пропустил, но баня мне не понравилась – никаких ванн, а мыться надо из тазика с ушками, который наполняешь из двух больших кранов в стене – в одном обжигающий кипяток, в другом холодная вода. Не сразу и сообразишь из какого сколько надо набрать в тазик, а сзади подгоняет очередь с пустыми тазиками в руках.
В конце смены в лагере устраивали прощальный костёр. Для него отводилось место на дальнем краю поля позади столовой, где опять начинается лес.
С утра, после завтрака, старшие отряды шли в тот лес, через временный проход в колючей проволоке, и заготавливали сухой валежник для костра. Заготовка продолжалась и после обеда, так что к вечеру на поле вырастала груда из сухих ветвей и сучьев выше человеческого роста.
В послеужинных сумерках эту груду поджигали с разных концов и она высоко пылала под наши хоровые песни и марши баяниста.
Директор и воспитатели о чём-то спорили громкими голосами. Директор соглашался и отдавал распоряжение своему шофёру. Тот отвечал: «как знаете», уходил в сторону лагерных строений и приезжал обратно на «газике», из которого доставал железную канистру.
Детям приказывали отойти от костра и шофёр плескал на огонь из канистры.
Жирный клуб красно-чёрного пламени с гулом взмётывался в ночную тьму, метра на три – не меньше, и снова опадал до следующего выплеска.
Наутро мы садились в автобусы и нас везли домой.
Но окончание лагерной смены не означало конец лета.
И снова Речка, и снова лес, игры в «войнушку», казаки-разбойники, в «американку» и «12 палочек». И всё новые приключения из библиотеки части.
Однако, помимо прогулок по дальним планетам и таинственным островам, которые совершались лёжа на боку перед раскрытой на диване книгой, я гулял ещё и по лесу.
Причины случались разные: то соседский Юра Зимин позовёт собирать заячью капусту, а мне очень интересно – какая у зайцев капуста? Кисленькая, но вкусно, только больно уж листочки махонькие.
Или сестра Наташа сообщит, что на болоте, позади соседнего квартала, голубики видимо-невидимо! Один мальчик целый бидон принёс!
Тут уж меня обуревал дух соревнования – не уступать же какому-то одному мальчику!
Но чаще я бродил один и почти без цели, ну, если не считать поиск ствола можжевельника пригодного для лука. Или сбора зелёных шишек сосны для всяких поделок – воткнёшь в шишку четыре спички и это уже ноги, а на торчащую кверху спичку насадишь шишку помельче и – вот тебе лошадка, осталось только хвост приделать.
За шишками надо залазить на молодые сосны с нежной светло-коричневой корой, которая шелушится и липнет к ладоням бесцветной смолой, а та через несколько минут чернеет на коже, а на штанах остаётся белыми пятнами.
Сосны качаются от ветра и от твоего веса. Зато молодые шишки такие красивые: зелёные, плотные – будто лакированные.
А на старых больших соснах шишки серые и разъерошенные врастопырку.
Зелёные на них тоже бывают, но на концах длинных веток, куда не дотянуться, а ветку не согнуть – слишком толста.
Среди мальчиков новые занятия расходятся как эпидемия. Не успеешь и глазом моргнуть, а все уже увлечены подрывным делом.
Изготовить мину проще простого: наливаешь в бутылку воды на три четверти, сверху впихиваешь клок травы, а на неё насыпаешь синеватые кусочки карбида. Их полно в железной бочке на строительстве пятиэтажки по ту сторону Квартала. Солдаты-чёрнопогонники тебе и слова не скажут.
Теперь бутылку надо плотно закупорить выструганной из дерева пробкой, перевернуть горлышком вниз и воткнуть в какую-нибудь кучу песка или грунта.
Готово.
Осталось дождаться когда карбид в бутылке, вступив в реакцию с водой, начнёт выделять газ и создаст там такое давление, что бутылка взорвётся с громким хлопком, разбрасывая в стороны песок и свои осколки.
Просто надо проявлять осторожность и не порезать пальцы, когда выстругиваешь пробку. А когда, сидя на земле, вбиваешь пробку в заряженную бутылку, то нельзя стискивать бутылку между ног; у меня одна треснула и отскочившее горлышко глубоко распороло кожу на правой ляжке, где кончаются шорты.
Из-за чтения книг я здорово отставал от движения общественной жизни. Например, в то же самое лето, отложив на диване распластанную вверх корешком книгу, я вышел во двор и – изумился: его пересекали разновозрастные мальчики, волоча обрезки досок и брусков.
Я подбежал расспросить: что? как?
Мне сказали идти на стройку многоэтажки, где ещё одна группа собирает отходы стройматериала, которые солдат-сторож великодушно позволил утащить.
Я прибежал как раз во время, чтоб ухватиться за конец длинной половой доски, которую мальчикам постарше удалось выпросить у сторожа.
Он только сказал, чтоб побыстрей уносили, пока никто не видит.
Мы пронесли её через двор Квартала и вниз по спуску к школе новобранцев и, не доходя до тропы ведущей к детскому садику, свернули под крутой откос сдвинутой земли, что ссыпáлась сюда под ножом бульдозера, когда тот наверху разравнивал поле для катка.
Тут, у кромки леса, стучали молотки и кипела работа.
Старшие мальчики пилили доски и прибивали их к врытым в землю столбам и получались стены сарая, у которого не было окон, но дверь уже висела и даже был потолок из досок.
Внутри царил полумрак и стояла деревянная лестница, что вела наверх через квадратный лаз в плоской крыше из досок.
Я взобрался туда. Старшие мальчики обсуждали достаточно ли крепок этот верх.
Ещё они говорили, что сарай станет штабом ребят нашего двора. Но никто не дал мне поработать ни ножовкой, ни молотком да ещё и прикрикнули, чтоб я спускался – и так нагрузка велика.
Я слез по лестнице. Ни в полутёмном сарае, ни вокруг уже не оставалось никого из моих ровесников и я пошёл домой, к дивану с книгой, радуясь, что теперь у нас будет свой ребячий штаб, как у Тимура и его команды.
Позднее я не раз подходил к тому сараю, когда шёл гулять в лесу, но там никого не было, а на дощатой двери висел железный замок.
Под осень рядом с сараем появился стожок сухой травы, а в нём поселились куры через выпиленный внизу двери проём.
Не получилось штаба.
У папы была парикмахерская машинка – никелированный зверёк с двумя рожками.
Вернее, это были ручки, и ими папа приводил её в движение, сжимая и послабляя свою ладонь, в которой держал её.
Приходил день стрижки и меня с братом по очереди усаживали посреди кухни на табуретку поставленную на стул, чтоб мы сидели повыше и папе не пришлось бы сгибаться к нам в три погибели.
Мама плотно окутывала нас белой простынёй вокруг шеи и закрепляла её прищепкой.
Потом она держала перед нами большое квадратное зеркало и давала папе советы. А папа от них отмахивался, свободной рукой склонял нам головы: туда-сюда, и двигал своей челюстью из стороны в сторону, в такт движений машинки у него в ладони.
Иногда машинка не стригла, а заедала волосы. Это больно.
Папа психовал, резко дул в неё и продолжал стрижку.
Однажды дутьё не помогло, машинка продолжала драть и Санька заплакал.
С того дня мы стали ходить во взрослую парикмахерскую не только перед началом учебного года, но и когда мама решала, что мы слишком уж позарастали.
Фотографировать папа научился сам, по толстой книге.
Его фотоаппарат ФЭД-2 не вынимался из коричневого футляра на тонком ремешке, а был туда ввинчен. Для съёмки нужно расстегнуть кнопки на спине футляра, сделать снимки и снова застегнуть.
Фотоаппарат вывинчивался лишь для смены кассеты с фотоплёнкой, когда на той заканчивались все тридцать шесть кадров.
Потом плёнку надо в полной темноте перемотать из кассеты в чёрный круглый бачок и обработать раствором проявителя, промыть, затем закрепителем и снова промыть, а потом уже развешивать для сушки. Но если на плёнку до последнего промывания попадёт хоть лучик света, она засветится и пропадёт – просто выбрасывай.
Когда собиралось несколько готовых плёнок, папа устраивал фотолабораторию в ванной комнате – покрывал ванну специально сделанными щитами из плотно сбитых досок – вот вам и стол, пожалуйста. На нём устанавливал пузатый проектор с линзой смотрящей вниз.
Повыше линзы через проектор продевалась рамочка для протяжки плёнки с кадрами, как в диапроекторе.
В фотолабораторной ванной папа включал специальную красную лампу, потому что фотобумага тоже портится от света, и только вот красный её не засвечивает.
В проекторе чуть ниже линзы имелся подвижнóй фильтр-занавесочка, тоже из красного стекла, чтобы не засветилась чувствительная к свету фотобумага, покуда линзой наводится резкость изображения.
Правда, изображения эти негативные – чёрные лица с белыми губами и глазницами, и волосы тоже белые.
Потом красный фильтр отводился в сторону, чтоб из проектора сквозь плёнку падал полный свет, папа отсчитывал несколько секунд и поворачивал фильтр на своё место.
Листок белой фотобумаги из-под проектора перекладывался в пластмассовую ванночку с раствором проявителя и тут начиналась магия – на чисто белом листе в неярком свете красного фонаря постепенно проступали черты лица, волосы, одежда.
Но в проявителе нельзя передерживать, а то бумага полностью почернеет.
Листок с проявленным изображением нужно взять пинцетом, сполоснуть в простой воде и положить в ванночку с закрепителем, иначе всё равно почернеет, а оттуда минут через пять-десять переложить в большой таз с водой.
Когда распечатка заканчивалась, папа доставал мокрые снимки из таза, клал их лицом на листы оргстекла и раскатывал резиновым валикам со спины, чтоб хорошо прилипли.
Эти стёкла он ставил у стены в родительской комнате и на следующий день высохшие фотографии сами собой осыпались на пол. Гладкие и глянцевые.
Вот я, с круглыми глазами и перебинтованной от ангины шеей.
Брат Санька, с доверием глядящий в объектив.
Мама одна, или с подругами, или с соседками.
А это вот сестра Наташа задрала нос, а сама заглядывает в сторону и бантик в одной из косичек, конечно, уже растрепался.
Кроме фотолюбительства папа увлекался радиоделом, потому-то и выписывал журнал с разными схемами и однажды собрал радиоприёмник размером немногим больше фотоаппарата ФЭД-2.
Корпус, внутри которого размещалась плата с напаянными деталями, он сделал из фанеры и отлакировал. Снаружи коробочки остались только ручки для настройки громкости и отыскания радиостанции.
Потом он сшил для приёмника футляр из тонкой кожи, потому что умел работать шилом и дратвой, а к футляру прикрепил узкий ремешок, чтобы носить приёмник на плече.
Потом он ещё сделал специальный станок на табуретке и переплёл свои радиожурналы в подшивки по годам.
У него просто золотые руки.
И у мама, конечно, тоже руки золотые, потому что она готовила вкусную еду, шила на швейной машинке и раз в неделю-полторы устраивала генеральную стирку в стиральной машинке «Ока».
Иногда она завала меня на помощь при отжиме – крутить ручку резиновых валиков, что устанавливаются поверх машинки.
Всовываешь уголок стиранной вещи между валиков, крутишь ручку и они втягивают эту вещь между собой, выдавливая из неё воду, а она выползает позади них сплющенная, влажная, но отжатая.
А развешивали стирку только родители, потому что во дворе не разрешалось и даже верёвок не было и все сушили свои стирки на чердаках зданий, а туда надо влазить по отвесной железной лестнице.
Только папа мог поднять туда тяжёлый таз с влажными вещами.
Вот только своими золотыми руками он однажды сам себе создал долговременную проблему – устроил «жучок» в электросчётчике, чтоб тот не крутился даже когда горит свет, или гудит стиральная машинка.
Папа сказал, что это экономия, но он очень переживал и боялся, что нас поймают и оштрафуют.
Зачем так себя мучить из-за какой-то экономии?
А к маме у меня претензий нет, за исключением тех жёлтых вельветовых шортов на помочах, что она пошила мне в детском садике.
Как я их ненавидел!
И оказалось, что не зря – именно в них меня искусали те рыжие муравьи.
Во время одной из одиночных лесных прогулок я выбрел на поляну и почувствовал, что с ней что-то не так, но что?
Ах, вот оно что – тут дым какой-то!
И вслед за этим я разглядел, как почти прозрачное на солнце пламя, трепыхаясь, обугливает кору деревьев и расползается по толстому ковру хвои.
Так это же пожар в лесу!
Сперва я пробовал затаптывать язычки пламени, но потом догадался сломить ствол густого можжевельника и дело пошло на лад.
Когда борьба с пожаром завершилась победой, я увидел, что выгорело не так уж и много – метров десять на десять.
Рубашка моя и руки извозились чёрной сажей. Ну, ничего – боевая копоть. Я даже провёл рукой по лицу, чтоб всякому было понятно – вот герой спасший лес от гибели.
Жаль, что по дороге домой мне никто не встретился, когда я шёл и мечтал, что про меня напишут в газете «Пионерская Правда», где напечатали статью про пионера, который посигналил своим красным галстуком машинисту поезда о том, что впереди сломался железнодорожный путь.
Уже на подходе к кварталам мне встретились пара прохожих, но никто не догадался сказать:
– Что это у тебя лицо в саже? Наверное, ты тушил лесной пожар?
А дома мама на меня накричала, что стыдно ходить таким замазурой и что на меня рубашек не настираешься.
Мне стало горько и обидно, но я терпел.
А вечерами дети Квартала и мамы тех детей, за которыми ещё нужен присмотр, выходили на окружную дорогу, потому что на закате дня из школы новобранцев туда же подымались солдаты построенные по-взводно для вечерней прогулки.
Выйдя на бетон дороги, они начинали чётко отбивать шаг и словно сливались в цельное существо – сомкнутый строй – у которого одна нога во всё длину фланга, состоящая из десятков чёрных сапогов, что одновременно отрывались от дороги и снова слаженно впечатывались в неё, чтобы строй продвинулся дальше.
Это было завораживающее существо.
Потом шагавший сбоку старшина командовал: «запевай!», и изнутри ритмично сотрясающегося общим шагом строя, под слитное щёлканье подошв о бетон, взвивался молодой упругий тенор, а ещё через несколько шагов ему в поддержку гремел хор, что
…нам, парашютистам, привольно на небе чистом…Строй удалялся ко второму кварталу, где его уже тоже ждали, некоторые из детей бежали за ним, а молодые мамы смотрели вслед и становилось так хорошо и спокойно, потому что мы самые сильные и так надёжно защищены от всех натовских диверсантов из прихожей в библиотеке части.
В дома верхних кварталов провели газ.
Но сначала вдоль всей внутренней дороги двора Квартала положили длинные железные трубы – они громко и протяжно звякали, когда ударишь палкой, но сколько я ни бился, так и не смог выстучать на трубах барабанную дробь, с которой белые шли в «психическую» атаку против Анки-пулемётчицы в фильме «ЧАПАЕВ».
Трубы скоро закопали и моё музыкальное образование прервалось.
Теперь у нас на кухне стояла плита с газовыми комфорками, а на стене висела колонка, которую зажигали, чтобы согрелась вода для мытья посуды, купания и стирки в ванной.
Поэтому заготовка дров на зиму стала уже не нужной и папа в подвале сделал мастерскую для домашних работ и всяких инструментов.
Однажды в начале лета, когда родители были на работе, я взял в кладовой ключ от подвала и унёс оттуда большой папин топор, потому что мы с одним мальчиком сговорились сделать костёр в лесу.
Мы спустились в чащу позади Бугорка, а там начали подыматься на другой холм.
На крутом подъёме среди прочей поросли стояла густая ёлочка – небольшая, метра полтора.
А перед этим, идя по лесу с топором в руках, я чувствовал, что меня так и тянет пустить его в ход.
И вот он – удобный случай!
Один-два взмаха и срубленная ёлка валяется на склоне.
А я стою рядом и никак не пойму – зачем?
Ведь из неё не получится ни лук, ни автомат с рожком.
Зачем я её так бесцельно убил?
Мне уже не хотелось ни костра, ни прогулки.
Нужно как можно скорее избавиться от топора – пособника моей глупой жестокости.
Я отнёс его обратно в подвал и с той поры ходил в лес в одиночку.
( … видишь какой умилительный мальчик?
Но в этом пафосном самовосхвалении через самопорицание, вобщем-то, ничего не наврано…
Однако, не спеши зачислять своего папу в категорию «добрый человек», уж слишком я разный. Сегодня – прекраснодушный дальше некуда, а завтра…
Не знаю, не знаю…
Когда мой бачьянаг (тут опять украинская «г», а само слово на карабахском означает «муж свояченицы») выдавал замуж свою старшую дочь, то все родственники помогали как могли. Не деньгами, конечно, он бы и не взял – расходы несёт счастливый отец, а, главным образом, кулинарно.
За стандартный набор угощений в Доме Торжеств платят наличными, но к стандарту добавляется ещё много всякого чего приготовленного тётками, бабками, матерями, сёстрами, племянницами, дочками ближайших и последующих родственников.
В Карабахе сильны ещё пережитки родового-общинного строя. Получается такая себе love labour – из продуктов закупленных устроителем торжества.
Но некоторым продуктам требуется предварительная обработка и, согласись, что зарезать полтора десятка куриц на балконе многоэтажки несколько сложнее, чем в недостроенном, но всё же частном доме. Потому куриц привезли ко мне. Перетащили в недостроенную прихожую и – уехали заниматься другими предсвадебными делами.
Каждому – своё.
И вот лежат эти пятнадцать живых созданий со связанными ногами, а над ними один я со свежезаточенным ножом и все мы знаем зачем мы тут.
Пятнадцать – не одна, и надо уложиться к сроку, когда женщины придут ощипывать готовые полуфабрикаты.
А у каждой своя окраска, свой возраст, своё отношение к происходящему, свой запас жизненной энергии, определяющий громкость вскликов и длительность трепыхания с отнятой головой.
Без методичности тут не обойтись.
Вот я и стал роботом методично повторяющим набор одних и тех же движений.
Пятнадцать раз…
Иногда я выглядывал сквозь оконный проём без рамы на белое облако в синей выси. Такое пушистое. Чистое. Само совершенство.
Такой себе сентиментальный робот.
С того случая как-то во мне поменялось отношение к палачам. Понял, что ничто ихнее мне не чуждо.
Вобщем, на той свадьбе я был вегетарианцем.
А насчёт того, что во всём виноват тот топор – типа, это он меня подбил срубить невинную ёлочку, так и тут ничего нового – «я выполнял приказы».
Зомби недоделанный …)
В пятом классе у нас сменилась классная руководительница, потому что мы уже закончили начальное обучение.
Новую учительницу звали Макаренко Любовь… Алексеевна?.. Антоновна?.. Никак не вспомню отчества.
Между собой мы её звали попросту – Макаря.
– Атас! Макаря идёт!
(«Атас» означает «берегись».)
Но это потом, а первый раз я встретил её за день до школы, когда мама пришла со мной узнать расписание и познакомиться с моей новой учительницей.
Новая учительница попросила, чтобы я ей помог сделать рамочку на листе ватмана, где, отступя пять сантиметров от краёв, уже имелась карандашная линия.
Это будет наш классный уголок.
Она дала мне кисточку, коробку с акварельными красками – но использовать только синюю! – стакан воды и вышла вместе с мамой знакомиться дальше.
Гордясь оказанным доверием, я тут же приступил. Намочил синий кирпичик краски смоченной кисточкой и начал закрашивать полоску ватмана между его краем и карандашной отметкой, стараясь не заезжать за неё.
Дело оказалось кропотливым – красишь, красишь, а ещё вон сколько!
А главное, эта краска очень неровно ложиться: где светлее, где темнее.
Но я упорно продолжал – не каждый же день мальчику доверяют делать рамочки на листах ватмана.
Когда учительница и мама вернулись, я успел закрасить всего четверть рамочки. Учительница сказала, что больше не надо, и что нужно было просто один раз провести кисточкой по карандашной линии, но теперь уже поздно.
Мама пообещала принести лист ватмана со своей работы, но учительница отказалась.
Я придумал – а что, если наклеить полоску бумаги поверх акварельной краски?
Но и это предложение не прошло.
Мы ушли, но по дороге мама меня не ругала, да и не за что: разве я виноват, что учительница за свою жизнь не видела рамочек из фанеры, а только такие, как на словах Маркса или Ленина в клубе части?
Когда начались занятия, в классе висел Классный Уголок на листе ватмана.
Наверное, из всех учеников лишь я один так долго изучал его синюю рамочку.
Однако, классная руководительница не полностью утратила ко мне доверие, потому что месяц спустя дала мне маленькое, но ответственное поручение – сходить в наш бывший класс и что-то передать Серафиме Сергеевне на словах.
Я постучал в знакомую дверь и повторил слова для Серафимы Сергеевны, что сидела за столом перед новой порослью первоклашек. Она поблагодарила и напоследок попросила меня прикрыть форточку в окне напротив двери.
Я с готовностью вскарабкался на подоконник, дотянулся, стоя на нём, до форточки и захлопнул. Но для спуска я не стал опять ложиться на него животом, а спрыгнул на пол.
Прыжок получился на удивление ловким и я гордо вышел мимо парт с восторгом и почтением притихшей малышни.
Неужто это мне когда-то казались недосягаемо взрослыми созданьями те первоклассницы, что приходили с визитом в нашу детсадовскую группу? Заносчивые гусыни!..
А дома у нас появился телевизор. В нём дикторы читали новости на фоне кремлёвских стен и башен, показывали чемпионат Европы и мира по хоккею, КВН, Кинопанораму: ну, и фильмы, конечно.
Я никогда бы не подумал, что может быть фильм аж из четырёх серий, как «Вызываю огонь на себя».
А вот итальянское кино мне не понравилось, потому что когда я переспросил про только что услышанное слово, когда Марчелло Мастрояни заговорил про «аборт», соседка засмеялась, а папа сказал мне идти в детскую – это кино не для меня.
Гонка вооружений шла не только в телевизоре, но и в нашей мальчукóвой жизни.
Мы доросли до шпоночного оружия. Шпоночные пистолеты, шпоночные автоматы.
Что такое рогатка никому объяснять не надо. Но рогатки бывают двух видов: для стрельбы камнями и для стрельбы шпонками.
( … камнестрельные рогатки – убойное оружие, в голодные послевоенные годы в Степанакерте пацаны сшибали ими воробьёв с деревьев себе на обед …)
Рогатка шпоночная – почти игрушка сделанная из алюминиевой проволоки, и вместо полос резины нарезанной из противогаза – у неё круглая авиамодельная резинка. А заряжается она кусочками согнутой в дугу алюминиевой проволоки – шпонками.
Захватил резинку в изгиб шпонки, потянул на себя – отпустил и она полетела.
Убить не убьёт, но почувствуется; лишь бы только не в глаз.
Теперь, если вместо рогатки резинку закрепить на кончик оструганной досочки и шпонку оттянуть вдоль той же досочки, то точность попадания намного возрастает, ведь шпонка берёт разгон по направляющей.
Остальное на твоё усмотрение – выпилить из досочки автомат, или пистолет.
В том месте, куда оттягивается шпонка, надо приладить курок из той же алюминиевой проволоки. Кусок туго натянутой бельевой резинки заставит курок удерживать шпонку на досочке, пока не спустишь его для выстрела.
С таким оружием не «та-та-та-кают», с ним спускаются в подвал и начинают охотиться друг на друга в темноте или полумраке. Дзиньк шпонки о цементный пол или о стену подсказывает, что противник недалеко и открыл по тебе огонь.
Но если ты занял позицию в приямке, то это почти неприступный дот. Сиди и посылай шпонки на звук крадущихся шагов и если услышится «ой!» – значит ты попал.
Осенью рядом с Кварталом прошла сдача и заселение двух пятиэтажек и шпоночные военные действия сразу развернулись в их бесконечных подвальных коридорах и бетонированных залах, которые освещались редкими жёлтыми лампочками, но только поначалу – их гасили меткими попаданиями всё тех же шпонок.
Пожалуй, единственным недостатком шпоночного оружия являлась его почти бесшумность. Для самоутверждения тянет сделать побольше тарарама.
Жизнь не стоит на месте и во дворе Квартала вечерами начало раздаваться громкое бахканье – точь-в-точь выстрелы.
Мальчики вооружились «пиликалками», а я опять припоздал и приходится заискивающе выспрашивать как делать эту «пиликалку».
Узкую медную трубочку надо согнуть как букву «Г», короткую часть буквы сплющить и через оставшуюся трубочку залить малость расплавленного свинца, чтоб тот, остывая, образовал в трубочке ровно дно.
Находим толстый длинный гвоздь, чтоб доставал до дна трубки и ещё вытарчивал бы сантиметров на пять.
Торчащую часть гвоздя тоже загибаем, но сгиб должен быть выше края трубки, в которой он стоит.
Теперь гвоздь и трубка объединены в систему поршень-цилиндр и, в сборе, смахивают на оквадраченную букву «С».
Загибы трубки и гвоздя соединяем связанной в кольцо бельевой резинкой – стало похожим на маленький лук, и теперь, когда гвоздь наполовину вытащен, натяжение резинки заставляет его упираться в медную стенку трубки, до тех пор, пока не сожмёшь в ладони трубку с резинкой – при нажиме гвоздь соскальзывает внутрь и резко ударяет в свинцовое дно.
Вот и – пожалуйста! – «пиликалка» готова!
Остаётся лишь зарядить её, соскребая серу с головок спичек внутрь медной трубки, потом взвести гвоздь, зажать «пиликалку» в ладони, сдавить резинку пальцами и – ба-бах!
Тёмным вечером даже виден выплеск пламени из жерла трубки.
Вобщем, те же пистолетики с пистонами, но посолидней.
Я хотел изготовить себе «пиликалку», но у папы на работе не нашлось нужной медной трубки. Однако, «пиликалка» у меня была. Наверное, кто-то из мальчиков поделился.
Да, быть школьником – это хорошая школа жизни…
Ну, а в самой школе наш класс перевели в одноэтажный нижний корпус, отстоявший метров за сто от главного её здания.
Кроме нашего класса там были только мастерские с тисками и даже с токарным станком, но их открывали лишь для уроков труда старших классов.
Учение на отшибе имеет немало преимуществ. Например, во время перемены бесись сколько влезет, не опасаясь нарваться на окрик учителя – они приходили в наш корпус по звонку, да и то не сразу, а после того как кто-нибудь из одноклассников прибежит со сторожевого поста на углу корпуса сказать кто из учителей спускается от школы к нам.
Дозорный нужен, чтоб нас не застали врасплох при наших издевательствах над розеткой в классной комнате, мы запихивали в её дырочки ножки радиодетальных сопротивлений.
Получалось короткое замыкание и розетка плавила деталь, негодующе плюясь большими искрами.
( … сейчас просто диву даюсь почему никого из нас ни разу не шибануло током. Наверное, розетка добрая попалась …)
В нашем доме тоже случились перемены – уехала семья Зиминых, потому что Степана сократили.
Хрущёв пообещал Западу уменьшить численность Советской армии до двадцати миллионов и обещание это выполнялось даже после его отставки на пенсию.
Сокращение затронуло даже атомные объекты.
Кроме Зиминых уехали ещё жильцы из квартиры под нами, а их взрослая дочь Юля, уезжая, подарила нам свой альбом, куда собирала этикетки со спичечных коробков, потому что в то время коробки делались не из картона, а из очень тонкой фанеры, в один слой.
Спичечный коробок обтягивался синей бумагой, а сверху ещё и наклеивали какую-нибудь картинку-этикетку: с балериной Улановой, или морскими животными, или с портретами космонавтов.
Этикетки можно было коллекционировать как почтовые марки. Только сперва их надо отлепить с коробка намочив водою, ну, а потом, конечно же, высушить.
В альбоме Юли этикетки разделялись по темам: спорт, развитие авиации, города-герои, и всякое такое.
Конечно, мне с братом и сестрой пришлось увлечься ими и мы продолжили коллекцию.
Вместо Юры Зимина моим другом стал тоже Юра, но теперь Николаенко и уже не сосед по площадке, а сосед по двору.
Когда выпал снег мы с ним и ещё одним мальчиком ходили отыскивать в лесу норы лисиц, или хотя бы поймать зайца, потому что третий мальчик жил в деревянном доме и у него была собака.
Он привёл её на верёвочном поводке и собака долго таскала нас за собой по лесу, где и вправду попадалось немало заячьих следов.
Однако, собака не обращала на следы никакого внимания, а бегала по сугробам и что-то вынюхивала.
Наконец, она начала рыться в одном из них и мы надеялись, что откопает затаившуюся в норе лису. Мы даже палки приготовили на зверя, но она вытащила из-под снега большую старую кость и мы прекратили охоту.
На каникулах многих детей моего возраста пригласили в соседний дом, где нововъехавшие жильцы справляли день рождения своей дочери.
За столом были одни только дети, без взрослых, и много ситра в бутылках.
Оказалось, что именинница тоже будет учиться в нашем классе. Она походила на Мальвину из Золотого Ключика, только волосы не локонами, а прямые.
Красивая девочка начала делиться воспоминаниями, что там, где они жили раньше, она была королевой двора, а мальчики как бы её пажами.
Наверное, я простудился на каникулах и приступил к учёбе позже остальных, потому что не понял что происходит в то утро, когда я наконец-то пришёл в класс.
Уроки ещё не начались и вслед за мной в дверях появилась недавняя именинница. Как и остальные школьницы она была одета в стиле королевы Виктории – коричневое платье с кружевным воротничком и чёрный фартучек с пышными лямками на плечах.
Ступив через порог, она остановилась и выжидающе замерла.
Тут и раздался многоголосый крик:
– Корова двора!
Она уронила портфель на пол и охватив руками голову побежала по проходу между партами на своё место, а все – и мальчики и девочки, загораживали путь, что-то вопили ей в уши, улюлюкали, а Юра Николаенко бежал следом и тёрся сзади как собачка, пока она не села за парту.
Гам улёгся лишь когда в класс зашла учительница с вопросом «что тут творится?!», видно она понимала не больше моего.
Девочка выбежала даже не подобрав портфеля.
На следующий день у нас было классное собрание, но без той девочки. Вместо неё пришёл её папа с красным лицом и кричал, что мы негодяи и щиплем её за груди, даже руками на себе показал как.
Потом классная руководительница говорила, что пионерам не к лицу травить своих одноклассников, таких же пионеров. И мне стало стыдно, хоть я не щипал и не травил.
Красивая девочка больше не пришла в наш класс. Наверное, её перевели в параллельный.
( … толпа – это зверь, не знающий пощады, как сказано в поэме Аветика Исаакяна, но я это увидел ещё до того как её прочитал …)
Впрочем, индивидуальная жестокость не намного лучше и меня глубоко царапнуло зрелище материнской педагогики случившееся по весне во дворе Квартала.
Послеобеденный двор был пуст и в него между нашим и соседним домом вошла женщина, направляясь к домам на дальней стороне. За ней с плачем бежала девочка лет шести, она протягивала к женщине руку и охрипшим от рёва голосом повторяла один и тот же вопль: «мамочка! дай ручку!»
Женщина шла не останавливаясь и лишь иногда оборачивалась на ходу и тонким прутом стегала по протянутой к ней руке. Девочка вскрикивала, но руку не убирала и не переставала повторять «мамочка! дай ручку!»
Они пересекли двор и зашли в свой подъезд, оставив меня мучится неразрешимым вопросом: разве могут в нашей стране быть такие фашистские мамы?
Между левым крылом здания школы и высоким штакетником, что отделял территорию школы от леса, располагались грядки пришкольного участка.
Вряд ли суглинок вперемешку с иссохшей хвоей, осыпáвшейся с редких внутридворовых сосен, способен принести какой-то урожай.
Однако, когда в классе объявили всем явиться на воскресник для вскопки грядок, я пришёл в назначенный утренний час выходного, хотя погода была пасмурной и мама меня отговаривала.
Всё оказалось, как она говорила – во всей школе ни души.
Но может ещё подойдут?
Мне не хотелось торчать перед запертой дверью здания и я спустился в нижнюю часть школьной территории к одноэтажному корпусу мастерских и нашего класса.
Напротив корпуса находился приземистый кирпичный склад с двумя воротами – оказывается, на его крышу можно взобраться сзади, с близкого откоса крутого взгорка.
Крышу покрывал чёрный рубероид.
Пустая, чуть покатая крыша.
Я обошёл её. Постоял. Обернулся к пустому школьному двору.
Никого.
Ладно, подожду ещё чуть-чуть и уйду.
Тут выглянуло солнце и ждать стало веселее.
А потом я заметил, что от чёрной крыши местами подымается лёгкий прозрачный парок.
Солнце греет, догадался я.
Более того – по рубероиду стали намечаться просохшие участки. Они ширились, соединялись между собой, разрастались.
Меня захватило это расширение солнечных владений.
Я знал, что уже никто не придёт и мне можно уходить, но пусть ещё вон там влажный рубероид станет серовато-сухим, а вон тот островок дорастёт до самого края.
Я вернулся домой к обеду и не стал объяснять маме, что солнце меня завербовало в свои сподвижники.
Ближе к лету папа собрался пойти на рыбалку за Зону и он согласился взять меня с собой, если накопаю червей для наживки.
Я знал хорошие места по копке червей и заготовил их целый клубок – половину консервной банки.
Мы вышли очень рано и возле КПП к нам присоединились ещё два взрослых рыбака с такими же бумажками разрешения на выход из Зоны на целый день.
За воротами мы свернули вправо и пошли через лес. Мы всё шли и шли. И снова шли, но вокруг оставался всё тот же лес. Иногда тропа подходила к опушке, но опять уводила в глушь.
Я терпеливо шёл, потому что папа меня предупреждал заранее, что идти надо аж восемь километров, а я ответил, что ничего, дойду. Вот и шёл, хотя моя удочка и банка с наживкой стали совсем тяжёлыми.
Наконец, мы вышли к лесному озеру, рыбаки сказали, что это Соминское, но я его не узнал, хотя именно в нём когда-то научился плавать.
Мы прошли по заросшему травой мысу и в конце него увидели настоящий плот.
Один рыбак остался на берегу, а мы трое поднялись на плот.
Он был сделан из брёвен от лиственных деревьев в тонкой зелёной коре. Упираясь в дно длинными жердями, папа и второй рыбак вывели его метров за тридцать от берега, где мы остановились и начали ловлю.
Брёвна плота были связаны не слишком плотно и под ними виднелись поперечные брёвна, утопленные в непроглядно чёрную глубь, так что приходилось быть осторожным.
Мы забросили удочки на три разные стороны и начали лов.
Пойманные рыбы оказывались не такими крупными, как ожидается по упорству их сопротивления твоей удочке. А вокруг головы у них топорщатся колючие шипы.
Папа сказал, что это ерши, а рыбак добавил, что самая вкусная уха получается из них.
Потом, когда мы вернулись на берег и в котелке над костром приготовили из них уху, я, конечно, всё съел, но не смог разобраться насколько она вкусная – уж больно была горяча.
Рыбаки сказали, что клёва больше ждать нечего и легли поспать под деревьями.
Папа тоже поспал, а когда все проснулись мы потихоньку пошли обратно.
Мы шли уже не через лес, а вдоль его края, по пригоркам и долинам, потому что увольнительная до самого вечера.
В одном месте мы сверху увидели совершенно круглое озерцо, обросшее камышом.
Мы спустились к нему и папа захотел обязательно в нём поплавать.
Один рыбак отговаривал его, потому что это озерцо названо Ведьмин Глаз и тут постоянно кто-нибудь утопает запутавшись в ряске.
Но папа всё равно разделся, ухватился руками за корму маленькой лодки, что была возле берега, а браслет своих часов повесил на гвоздь вбитый в доску кормы, и, взбивая ногами пенные всплески, проплыл к тому берегу и обратно, несмотря на то, что длинные космы озёрной ряски оплетали его за плечи.
Когда он уже выходил на берег мы увидели, что через наклонное поле с криками бежит женщина в длинной деревенской одежде.
Но она ничего нового не сказала, а только повторила слышанное нами от рыбака-попутчика.
На подходе к КПП нас застигло ненастье, мы хорошенько промокли пока дошли домой, но никто потом не заболел.
С велосипедами у меня дружба сызмальства.
Свой первый трёхколёсный я уже и не помню, но фотографии подтверждают – вот он, с педалями на переднем колесе, подо мною, трёхлетним толстячком в тюбетеечке.
Зато помню следующий – красный трёхколёсник с цепным приводом, из-за него приходилось спорить с братом и сестрой чья очередь кататься.
Позднее папа пересобрал его в двухколёсный, но после пятого класса он стал мне слишком мал и пришлось уступить его младшим.
Зато мне папа где-то раздобыл настоящий взрослый велосипед. Да, подержаный, не не дамский и не какой-то там нибудь юношеский «Орлёнок».
В один из вечеров после работы папа даже пробовал научить меня на нём ездить, но без папиной поддержки за седло я заваливался не в одну, так в другую сторону.
Папе это надоело и он сказал «учись сам».
Через пару дней я уже мог ездить, только не в седле, а продев ногу под рамой и стоя на педалях велосипеда.
Но потом мне стало стыдно, что один мальчик, даже младше меня, не боится разбежаться и, стоя одной ногой на педали, перебросить вторую поверх седла и багажника ко второй педали. Ему не хватало длины ног, чтобы из седла доставать до педалей и при езде он сидел на раме то левой, то правой ляжкой, поочерёдно. Рядом с таким малолетним храбрецом кататься «под рамой» просто позор.
И вот, наконец, после многих попыток и падений с ушибами и без, у меня получилось!
Ух ты! Как стремительно несёт меня велосипед над землёй – никто и бегом не догонит.
И главное, до чего легко и просто ездить на велосипеде!
Я гонял по бетонным дорожкам внутри двора вокруг его двух деревянных беседок, как по космической орбите.
Потом этого стало мало и я начал кататься по дороге из бетонных плит окружавшей оба квартала.
На бóльших скоростях началось освоение высшего велосипедного пилотажа – езда «без ручек», когда отнимаешь руки от руля, а велосипедом правишь подаваясь телом в ту, или другую сторону. И он тебя понимает!
А другим достижением того лета стало умение открывать глаза под водой.
Ту дамбу, где когда-то я оступился с плиты, снова отремонтировали и перед ней получился широкий водоём для купания.
Мы с мальчиками играли в воде в «пятнашки», когда водящий должен догнать и прикоснуться к другому игроку. А оттого, что игра происходит в воде, то убегали и догоняли нырянием.
Во время нырка можно ведь и поменять направление и неизвестно где кто вынырнет.
Прежде я всегда нырял крепко зажмурившись, но лишь открытыми глазами могут различить в какой стороне мелькают белые пятки уплывающего.
Под водой, в её желтоватом сумраке видно не очень далеко, а вот звуки слышатся чётче, если, допустим, сесть под водой и двумя камнями постучать друг об друга.
Правда, долго там не усидишь – набранный в лёгкие воздух тащит тебя на поверхность, когда не гребёшь руками и ногами в глубину.
Летом родители ездили в отпуск по очереди.
Сначала папа поехал в свою деревню Канино на Рязанщине.
Он взял меня с собой, только предупредил, чтобы по дороге я никому нигде не говорил, что мы живём на Атомном Объекте.
На вокзале в Бологове нам пришлось долго ждать пересадку на поезд до Москвы.
Папа отошёл компостировать билеты, а я сидел на чемодане в зале ожидания.
Неподалёку какая-то девочка на скамейке для ожидающих читала книгу. Я подошёл и заглянул ей через плечо – это был «Таинственный Остров» Жюль Верна.
Я немного почитал знакомые строки. Она тоже читала и не обращала на меня внимания.
Мне хотелось заговорить с ней, но я не знал что сказать – что это хорошая книжка? что я тоже её читал?
Пока я думал пришли её взрослые, сказали что их поезд прибывает, собрали свои вещи и вышли на посадку.
Потом и папа пришёл.По моей просьбе он купил мне книгу в книжном киоске про венгерского мальчика, который стал юношей и сражался против австрийских захватчиков своей родины.
Когда гулкое эхо репродуктора невнятно объявило прибытие нашего поезда, мы вышли на перрон.
Мимо прошёл мальчик моих, примерно, лет. Папа сказал мне:
– Вот смотри – это называется бедность.
Я снова посмотрел вслед мальчику и увидел то, что вовсе не заметил сразу – грубые заплаты на его брюках.
В Москву мы приехали утром. Я всё время спрашивал когда же она будет и проводник сказал, что вот мы уже в Москве.
Но за окном вагона тянулись такие же развалюшные домики как на станциях Валдая, просто очень много и они никак не кончались. Только когда наш поезд втянулся под крышу вокзала, я поверил, что это Москва.
На другой вокзал мы пошли пешком, он очень близко. Папа там опять компостировал билеты, но на этот раз ждать нужно было до вечера, поэтому он сдал чемодан в камеру хранения и мы поехали в Кремль на экскурсию.
В Кремле нас предупредили, что тут нельзя фотографировать, но папа показал, что у меня через плечо на тонком ремешке висит не фотоаппарат, а его самодельный радиоприёмник в кожаном футляре и мне позволили носить его и дальше.
Там были белые дома и тёмные ёлки, но совсем мало, хотя и густые.
Нам показали Царь-колокол с отбитым краем, который упал с колокольни и с тех пор не звонит. Жалко.
А когда нас подвели к Царь-пушке, я мигом взобрался на кучу больших полированных ядер у неё под носом и сунул голову внутрь жерла. На стенах было много пыли.
– Чей это ребёнок?! Уберите ребёнка! – закричал какой-то дяденька в сером костюме, подбегая от ближней ёлки.
Папа признался что я – его, и дальше, пока мы не покинули Кремль, всё время держал меня за руку.
Когда мы вернулись на вокзал, папа сказал, что ему ещё нужно купить часы, вот только денег маловато.
Мы зашли в магазин где было много разных часов под стеклом и папа спросил у меня какие ему купить.
Я помнил его жалобу про нехватку денег и показал на самые дешёвые – за семь рублей, но папа купил дорогие – за двадцать пять.
В деревне Канино мы жили в избе бабы Марфы, которая состояла из одной большой комнаты и бревенчатого сарая, но вход в него был с обратной стороны избы.
В сарае я нашёл три книги – роман про Багратиона, повесть про установление Советской власти на Чукотке и «Маленького Принца» Экзюпери.
Один раз на обед приходили папины брат с сестрой и баба Марфа приготовила круглый жёлтый омлет, а другие обеды я не помню.
Глубокая ложбина с широким ручьём, разделяет деревню на две части. Берега у него сплошь заросшие ивняком. Ручей неглубокий – чуть выше колен, с приятным песчаным дном. Мне нравилось бродить по нему.
Один раз папа повёл меня на речку Мостью. Идти туда неблизко, зато было где поплавать от одного заросшего дёрном берега до другого. На берегах оказалось немало отдыхающего люда, наверно, из других деревень.
Когда мы возвращались, то увидели комбайн, который убирал хлеб в поле.
Мы остановились на краю поля и, когда комбайн проехал мимо к другому краю, папа сердито сказал «тьфу!»
Оказывается, комбайнёр халтурил и срезал только самый верх колосьев – так быстрее, а когда увидел незнакомого мужчину в белой майке да ещё с мальчиком городского вида, то подумал, будто мой папа отдыхающий начальник из района и, проезжая мимо нас, косил под самый корень.
Рядом с домом бабы Марфы появился большой стог сена, а в самом доме начался небольшой ремонт, поэтому баба Марфа перешла ночевать в сарай, а нам с папой стелила постель на стогу.
Спать было удобно, но оттого, что над тобою всё время звёзды немного непривычно и даже жутковато и петухи кричат ни свет, ни заря, а потом приходится засыпать снова.
Однажды я забрёл вверх по течению ручья так далеко, где была другая деревня и запруда из дёрна, которую сделали тамошние мальчики, чтоб можно было купаться.
Но я после того купания заболел и меня отвели в ту же деревню, потому что только там был лазарет с тремя койками.
На одной из них я проболел почти целую неделю, читая «Знаменосцев» Гончара вперемешку с клубничным вареньем, которое принесла папина сестра, тётя Шура.
Так мы провели папин отпуск и вернулись на Объект.
Вскоре после нашего возвращения мама взяла с собой Сашу и Наташу и поехала в свой отпуск на Украину в город Конотоп.
Мы опять остались с папой одни и на обед он готовил вкусные макароны по-флотски и рассказывал, что на кораблях многие команды подают сигналом трубы.
Сигналы эти не просто «ду-ду-ду-дý ду-ду-ду-дý», как пионерский горн с барабаном, а особые мелодии.
Например, в обед труба поёт: «бери ложку, бери бак и беги на полубак».
Бак – это котелок, куда матросу выдают обед, а полубак – та часть палубы, где кок выдаёт его.
У штатских «кок» это – повар, а клотик на корабле это – самая верхушка мачты.
Когда хотят подшутить над молодым матросом, ему дают чайник и посылают принести чай с клотика, а он не знает что оно такое, ходит по кораблю с чайником и спрашивает где это; бывалые моряки направляют его от одного борта к другому, или в машинное отделение для смеху.
Ещё папа рассказывал, что некоторые зэки до того втягиваются в лагерную жизнь, что уже не могут жить на воле.
У одного рецидивиста закончился срок так он попросил начальника не выпускать его, оставить в лагере. Но тот ответил:
– Закон есть закон – уходи.
Вечером рецидивиста привезли обратно в лагерь, потому что он убил человека в ближней деревне.
И убийца кричал:
– Говорил я тебе, начальник! Из-за тебя душу невинную пришлось загубить!
На этих словах у папы глаза смотрели куда-то вбок и вверх, и даже голос как-то менялся.
Некоторые книги я перечитывал по нескольку раз, не сразу, конечно, а спустя какое-то время. В тот день я перечитывал книгу рассказов про революционера Бабушкина, которую мне подарили в школе в конце учебного года за хорошую учёбу и активную общественную жизнь. Он был простым рабочим и трудился на богатеев заводчиков, пока не стал революционером.
Когда папа позвал меня обедать, я пришёл на кухню, сел за стол и, кушая суп, сказал:
– А ты знаешь, что на Путиловском заводе рабочих один раз заставили трудиться сорок восемь часов подряд?
На что папа ответил:
– А ты знаешь, что твоя мама поехала в Конотоп с другим дядей?
Я поднял голову от тарелки. Папа сидел перед нетронутым супом и смотрел на кухонное окно.
Мне стало страшно, я заплакал и сказал:
– Я убью его!
Но папа всё так же глядя на окно ответил:
– Не-ет, Серёжа, убивать не надо.
Голос у него чуть гнусавил, как у того рецидивиста-душегуба.
Потом папа попал в больницу и на кухню два дня приходила соседка сменившая Зиминых, а на третий вернулась мама и мои брат с сестрой.
Мама пошла навестить папу в больнице и взяла меня с собой.
Папа вышел во двор в больничной пижаме и мне сказали идти поиграть. Я отошёл, но не слишком далеко и слышал, как мама негромко и быстро что-то говорила папе, а он смотрел перед собой и повторял: «дети вырастут – поймут».
( … когда я вырос, то понял, что из Конотопа опять пришло письмо с доносом, но не в Особый отдел, а моему отцу.
Зачем? Ведь это не сулило доносителю расширения жилищных условий, или каких-то других улучшений быта. Или, может, просто по привычке?
А может что и не соседи вовсе.
Просто когда людям плохо, они думают что полегчáет, если сделать плохо кому-то ещё.
Не думаю, что это срабатывает, но знаю, что такие есть.
У брата с сестрой я ни тогда, ни позже, в жизни не спрашивал про дядю, ездившего с ними в Конотоп, хотя теперь знаю, что так оно и было.
Мама оправдывалась непутёвым поведением папы на отдыхе в крымском санатории, куда он предыдущим летом ездил один по профсоюзной путёвке.
Там он повёл себя настолько легкомысленно, что даже не догадался избавиться от улик на своём нижнем белье и маме потом пришлось отстирывать эти улики в машинке «Ока» …)
Потом папа выписался из больницы и мы стали жить дальше…
В школе наш шестой класс перевели обратно в главный корпус на второй этаж.
За чтением книг и телевизором на выполнение домашних заданий почти не оставалось времени, но я оставался хорошистом, просто по инерции.
В общественной жизни я исполнил роль коня в инсценировке приготовленной силами пионерской дружины школы.
Роль мне досталась потому, что папа сделал большую лошадиную голову из картона и я в ней выходил на сцену изображая конский пéред.
Мои руки и плечи скрывала большая цветастая шаль и под ней же прятался второй мальчик, в согнутом виде, который держался сзади за мой пояс и исполнял роль задних ног.
Конь в сценке ничего не говорил и появлялся только с целью напугать лентяя, чтобы тот начал хорошо учиться.
Мы выступили в спортзале школы, в клубе части и даже выезжали на гастроли за Зону – в клуб деревни Пистово.
Появление коня повсюду вызывало оживление среди зрителей.
Помимо кино в клубе части я иногда ходил на фильмы в Доме офицеров – родители давали мне деньги на билет.
Там я впервые посмотрел французскую экранизацию «Трёх Мушкетёров».
Народу собралось как никогда.
В толпе перед зрительным залом ходили нехорошие слухи, будто фильм не привезли и вместо него покажут что-то другое, чтоб не пропадать билетам.
На стене вестибюля висел многометровый портрет маршала Малиновского при всех его орденах и медалях. Их у него столько, что на кителе не осталось свободного места – награды свисали даже ниже пояса, как кольчуга.
Глядя на маршала, я думал, что ни на что другое не пойду, хоть и деньги за билет уже отданы.
Но тревога оказалась ложной и счастье длилось, под звон шпаг, целых две серии в цвете.
Освоение библиотеки части шло весьма успешно.
Мало того, что меня давно перестали пугать картинки в прихожей, так я ещё стал заправским полколазом.
Поскольку шкафы с книгами стояли довольно тесно, я наловчился взбираться на самый верх упираясь ногами в полки по обе стороны от узких проходов. Не могу сказать, что на недосягаемых прежде полках нашлись особые книги, однако, приобретённые навыки альпинизма повышали моё самоуважение.
Как и в том случае, когда Наташа отвлекла меня от диванного чтения известием, что в подвале соседнего дома обнаружена сова.
Конечно, я сразу же выбежал вслед за ней.
Это был подвал углового дома, и тамошний коридор освещала одинокая лампочка, уцелевшая во время шпоночных воен.
В конце коридора под проёмом в приямок на полу сидела крупная птица – куда больше совы. Целый филин. Он покачивал ушастой головой с загнутым клювом.
Понятно, почему малыши не решались подойти.
Я действовал не раздумывая, как будто каждый день сталкивался с филинами – снял свою рубашку и накинул её на птицу, а потом приподнял с пола за когтистые ноги. Филин не сопротивлялся под покровом моей одежды.
Ну, а куда же его ещё, если не к нам домой? Тем более, что я не одет.
Мама не согласилась держать дома такого великана, хотя у соседей Савкиных в квартире жила здоровенная ворона.
Мама сказала, что бабушка Савкиных целый день подтирает вороний помёт. А у нас кто будет, если все на работе и в школе?
Скрепя сердце, я пообещал на следующее утро отнести филина в школьный уголок, где жили белка и ёж в клетках. А пока пусть посидит в ванной.
Чтоб он подкрепился, я отнёс в ванную краюху хлеба и блюдце с молоком.
Он сидел в углу на плиточном полу и даже не взглянул на пищу.
Я выключил свет, надеясь, что он и в темноте найдёт, ведь это ночной хищник.
Утром оказалось, что филин так ни к чему и не притронулся.
Позавтракав, я взял его за ноги и понёс в школу.
Наверно, филинам неудобно висеть вниз головой, поэтому он подворачивал её кверху, насколько пускала шея.
Иногда я отдавал свой портфель брату и нёс птицу двумя руками в нормальном положении.
Когда с пригорка показалась школа, голова филина обвисла вниз и я понял, что он сдох.
Я даже несколько обрадовался, что ему не придётся жить в неволе живого уголка, отнёс его подальше от тропы и спрятал в кустах, потому что однажды видел на Бугорке ястреба повешенного там на толстом суку старого дерева.
Мне не хотелось, чтобы у моего, даже мёртвого, филина выдирали перья или как-то ещё издевались.
Мама потом сказала, что наверное он умер от старости, потому и в подвал залез, но я думаю всё так случилось, чтобы мы с ним встретились – он был посланцем мне, а в чём заключалось послание я пока ещё не разгадал.
( … птицы, они ведь не только птицы, об этом ещё авгуры знали.
Мой дом в Степанакерте расположен на склоне глубокого оврага позади роддома. Самый крайний дом в тупике, практически на отшибе.
Как-то, возвращаясь домой я увидел в траве птицу, чуть больше воробья. Она продиралась сквозь траву нетвёрдыми шагами, словно тяжко раненная, и волочила крылья позади себя.
Я прошёл мимо – слишком много своих проблем.
На следующий день узнал, что в тот же самый момент в овраге зарезали молодого человека. Наркушные разборки.
Та птица была душой убитого и ничто меня в этом не переубедит …)
В осень после раздельных летних отпусков, в нашей семье увлеклись поездками за грибами.
Их, конечно, и вокруг хватало – сверни в любую сторону со школьной тропы и вот тебе сыроежки, моховики, подосиновики, не говоря уж о лисичках с опятами.
Просто прохожим не до них, им некогда.
А тут дают увольнительную для выхода за Зону на целый день – воскресенье, и даже грузовик выделяют, который повезёт грибников в за-Зонный лес.
Возможно, так делалось и раньше, просто без участия моих родителей, а тут они решили покрепче помириться после раскольного лета.
( … тогда я о таких вещах не думал, а просто радовался, что еду с родителями в лес за грибами …)
Папа сделал специальные вёдра из картона, лёгкие, но вместительные.
В лесу грибники разделялись и бродили каждый сам по себе, иногда аукались.
Мне нравилось идти по тихому осеннему лесу, влажному от измороси и туманов и высматривать: где же они прячутся?
Сыроежки мы, конечно же, не брали – слишком уж хрупкие, но моховики, маслята хорошая добыча.
Папа сделал маленький ножик для каждого, чтоб не портить грибницу, да и на срезе лучше видно – червивый гриб или нет.
Самый лучший из грибов – белый, но мне он никак не попадался.
Незнакомцев я относил к папе и он объяснял, что это рыжики, волнушки, грузди или просто поганки.
Дома грибы пересыпали в большой таз и заливали водой.
Потом мама их готовила, или мариновала.
Вкусно, конечно, но ходить за ними по лесу намного вкуснее.
На выходной, когда родители ушли куда-то в гости, мы втроём стали беситься и бегать друг за другом по всей квартире, пока в дверь не постучали новые соседи с первого этажа. Сказали нечего делать тарарам, даже если и родители не дома, а когда придут – узнают, что мы не можем себя вести.
Вечером Наташа прибежала с лестничной площадки с тревожным сообщением, что мама с папой уже идут, а нижние жильцы переняли их внизу и жалуются на нас. Ой, что будет!
Как она оказалась в нужное время в нужном месте?
Да, очень просто, ведь лестничная площадка – это продолжение квартиры, тем более такая широкая, что можно запросто втроём играть в волейбол воздушным шариком.
А мама, например, начала по вечерам после работы выходить на площадку и прыгать со скакалкой, так что и мы, дети, наперебой последовали её примеру.
Когда родители вошли в прихожую у папы было очень злое лицо.
Он, не снимая пальто, прошёл на кухню, принёс оттуда табурет в свою комнату и, сдвинув ковровую дорожку, ударил табуретом об пол.
– Не шуметь?!– прокричал он в пол и снова хлобыстнул табуретом туда же.– А так хорошо?!
Я понял, что нас ругать не будут, но что-то всё равно было как-то не так.
С собою в школу мы несли по бутерброду; мама заворачивала их в газетный лист, чтоб на перемене мы доставали из портфелей и кушали.
Саше с Наташей один свёрток на двоих, потому что они учились в одном классе.
А перед выходом в школу мы ещё и завтракали на кухне.
Но в ту субботу я пошёл в школу без портфеля и один, потому что в школе проводилась военная игра и у младших классов отменили занятия.
Классы постарше были разделены на два отряда: «синих» и «зелёных».
В день игры отряды разойдутся в лес, каждый в свою сторону, чтобы потом выследить друг друга и захватить в плен, и отнять знамя. Игрокам надо пришить себе погоны из бумаги своего цвета и когда в ходе игры сорвёшь с противника его погоны он считается убитым, а если один погон, то он в плену.
На кухню я пришёл завтракать с опозданием.
Во-первых, меня не разбудил подъём младших – им-то не идти; а во-вторых, прошлым вечером я допоздна пришивал на курточку бумажные погоны мелкими и частыми стежками, чтобы плотнее прилегали и не получалось бы враз сорвать.
Мама уже опаздывала на работу и сказала, что есть вчерашние макароны или, если захочу, могу сварить себе яйцо на завтрак.
Я сказал, что не умею, а она ответила, тут и уметь нечего: чтобы было всмятку – варить полторы минуты, а чтоб вкрутую – три.
Она даже принесла будильник из своей комнаты и поставила его на подоконник, рядом с банкой гриба, и быстренько ушла.
Этот гриб не из тех, что собирают в лесу. Такой гриб на Объекте держали почти в каждой кухне.
Он плавал в трёхлитровых банках, похожий на кусок зеленоватой тины.
Вода в тех банках становится приятною на вкус, словно бы квас.
Когда вода выцежена и гриб спустился уже чуть ли не до дна, в банку опять наливают воды и дают ей настояться.
Хозяйки делились друг с дружкой кусочками гриба, потому что он может расти, а когда разрастается слишком толстым слоем – половину приходится выбросить.
Я налил воды в кастрюлю, опустил туда яйцо, поставил на огонь газовой плиты и засёк на будильнике время.
Спустя полторы минуты вода выглядела не слишком горячей и, на всякий случай, я решил – ладно, пусть будет вкрутую.
По истечении трёх минут, от воды начал подыматься парок, а на стенках кастрюли собралось много мелких пузырьков и я выключил газ, потому что у меня были чёткие инструкции по приготовлению варёных яиц.
( … поговорку про то, что «первый блин получается комом», можно смело дополнить, что «первое яйцо жидчее всмятошного»… )
Участники военной игры пришли, в основном, в спортивной форме и никому почему-то не хотелось зайти в здание школы; так все и толпились во дворе среди своих возрастных групп.
В моей все оценили до чего плотно пришиты на мне погоны.
Ну, просто никак не ухватишь, тогда как у некоторых они лишь примётаны парой стежков с двух концов, да ещё и оттопыриваются мостиком – тут и мизинцем оторвёшь.
И вдруг мальчик из параллельного класса – ни с того, ни с сего – налетел на меня, повалил на землю и клочьями выдрал мои погоны.
( … драться я не умел, да и теперь не умею, скорее всего, обозвал его за это «дураком», а потом ушёл в лес – обратно домой …)
В лесу я снял курточку. От погонов осталась только бумажная рамочка под плотными стежками чёрной ниткой.
Я выщипал бумажные обрывки и рассеял по опавшей осенней листве.
Может даже всплакнул от обиды, что меня так не по правилам и преждевременно убили, не дожидаясь начала военных действий, а ведь я мечтал взять в плен штаб противника…
Иногда на уроках в школе я рисовал схемы своего тайного жилья-убежища.
Конечно, оно находилось в пещере внутри непробиваемой скалы, как у тех людей заброшенных на «Таинственный остров» у Жуль Верна.
Но в мою пещеру можно зайти лишь по подземному ходу, что начинался далеко от скалы, среди густого леса.
Ну, а в самой пещере есть ещё ход наверх, в пещеру поменьше, где были узкие расселины – посмотреть, как из окошка, что там вокруг делается.
Рисовал я карандашом, обратный конец которого украшала маска наподобие каменных идолов на острове Пасхи.
Делать такую резьбу на карандаше я тоже научился в школе.
Ничего сложного, просто нужно опасное лезвие для бритья; стёсываешь два продольных углубления по бокам будущего носа, поперечным надрезом заканчиваешь его; теперь, чуть отступив, широкий срез-углубление туда же, засечка поперёк среза – это рот, а короткие прорези в продольных углублениях вдоль носа, по одной на каждое – это глаза.
Идол с острова Пасхи – готов, но поосторожней с опасным лезвием, больно уж оно острое и может порезать пальцы.
Такие лезвия можно взять из папиной коробочки в ванной.
Синяя маленькая коробочка с надписью «Нева», а на ней чёрный кораблик парусник; и каждое лезвие в отдельном конвертике с такой же надписью и рисунком.
В начале зимы у меня почему-то стала отшелушиваться кожа на кистях рук. В одном месте взбугриться – потянешь и снимается целый клочок. Я никому не рассказывал и за пару дней снял всю, как перчатки, а внизу оказалась новая.
( … не знаю какое есть научное объяснение такому явлению, но по-моему всё из-за книги, которую я видел на полках в библиотеке части.
Она называлась «Человек меняет кожу». Я не брал её читать, но название запомнилось и, будучи впечатлительным ребёнком, проверил на себе возможность такого обмена …)
У меня всегда были две ахиллесовых пяты – наивность и впечатлительность.
Один раз меня до того впечатлила песня с пластинки на 33 оборота, что я захотел непременно переписать её слова, хотя она была на иностранном языке. К сожалению, дальше начальной строки дело не пошло, да и та никак не поддавалась. Один раз крутишь пластинку – слышится «эссо лацмадэри», второй раз – «эссо дазмадери». Но ведь так не бывает, чтобы пластинка меняла слова. Так и остался проект незавершённым.
( … спустя годы я снова встретил и узнал эту песню, когда Луи Армстронг запел:
> -Yes, sir, that’s my lady …)
Каток через дорогу с самого начала предназначался для игры в хоккей, поэтому его окружал борт из плотно сбитых досок, а по концам поля поставили хоккейные ворота.
После снегопадов поле расчищали парой широких металлических щитов, которые в одиночку и не потолкаешь.
Снег сдвигали к противоположному от раздевалки борту, а там уже шли в ход большие снеговые лопаты из фанеры, чтоб выбросить его с катка.
Поэтому за дальним бортом получились снеговые залежи вдвое выше него самого. И в тех снеговых горах дети прорыли длинные туннели с разветвлениями, как на моих схемах тайного убежища.
По вечерам мы там играли в прятки в чернильной темноте, потому что освещение направлялось только на каток.
А если в тоннеле посветить фонариком, проступали белые оледенелые стены с искорками.
Школьная четверть заканчивалась и год тоже кончался.
На отрывном календаре рядом с кухонным окном почти не осталось листиков под его чёрным блестящим корешком.
В отрывном календаре столько листков, сколько дней в году. Листки небольшие – размером с ладонь, но в начале года их много и календарь такой пухлый, солидненький.
Каждый день из него отрывают один листок, где написано какое это число и какой день недели, а также в котором часу встаёт и заходит солнце и какая идёт фаза луны.
В центре листка портрет кого-нибудь из членов Политбюро ЦК КПСС, у которого день рождения в этот день, или кого-нибудь из героев Гражданской и Отечественной войны.
На оборотной стороне ихние биографии, но коротко, потому что листок-то маленький.
Иногда бывает кроссворд или число красного цвета, значит этот день праздник – Первомай, годовщина Октябрьской революции или день Конституции.
Но потом мама стала покупать женские отрывные календари, там вместо портретов картинки берёзок, а на обороте швейные выкройки, рецепты пирогов и всякие полезные советы.
В одном из них я вычитал как отучить вашего мужа от склонности к выпивке.
Надо подсыпать в вино жжёную пробку и угостить его перед приходом гостей. Когда гости соберутся, пробка начнёт оказывать своё действие и пьяница не сможет удерживать газы в животе. Он будет пукать, ему станет стыдно перед гостями и он отучится от своей привычки к спиртному.
Я поделился этим способом с мамой, потому что она иногда ругалась с папой, что он много выпивает. Однако, мама отказалась использовать этот совет.
( … тогда я не понял – вроде, жаловалась, а не хочет избавиться от причины раздоров.
Когда я вырос, то понял маму, но теперь уже не понимаю: как можно печатать такой идиотизм?
Видно моё понимание – как тот журавль на топком болоте: шею вытащит – крыло увязло, крыло вызволит, ан – нога застряла …)
За неделю до каникул классная руководительница объявила, что на школьном Новогоднем вечере состоится конкурс на лучший маскарадный костюм, нам нужно постараться и победить в нём.
Конечно же, меня воспламенила поставленная задача и тут же осенила идея неотразимого костюма – никаких медведей или роботов, я переоденусь цыганкой!
Мама засмеялась услышав мои планы, но пообещала помочь с костюмом, у неё ведь есть связи в танцевальной самодеятельности.
На мои осторожные расспросы в классе кто что готовит для конкурса, друзья одинаково отвечали, что никаких маскарадных костюмов никто не приготовит, все придут в обычном виде.
Меня такая перспектива подавляла – ведь на Новый год всё должно быть как в кино «Карнавальная ночь», чтоб серпантин летал и конфетти кружилось.
А может это просто ненужная паника, как перед сеансом «Трёх Мушкетёров», который всё же состоялся?
Ну, а если приятели придут в своих, а не маскарадных костюмах, то есть же и другие ребята, особенно старшеклассники, на которых можно надеяться.
Мама сделала мне маску как у Мистера Икс, только бархатную и с чёрной же сеточкой до середины лица.
Теперь меня никто не узнает, потому что из самодеятельности она принесла настоящий парик с длинной чёрной косой до пояса, красную юбку, блузку и шаль.
Когда я переоделся в комнате родителей, она со своей новой подругой, что въехала на место Зиминых через площадку, хохотали до упаду.
Потом они сказали, а вдруг меня кто-то пригласит на танец? Надо потренироваться.
По их совету, я взял в руки стул и немного покружился с ним под пластинку с вальсом.
Отсмеявшись, они сказали, что нужны женские туфли – мои не годятся.
Туфли тоже нашлись, но на каблуке, ведь босоножки не зимняя обувь.
Ходить на каблуках было очень неудобно, но мама сказала – терпи, казак, и тренируйся пока есть время.
За час до Новогоднего вечера мой карнавальный костюм был уложен в большую сумку и я пошёл в школу через тёмный, почти ночной лес.
В школе я поднялся на второй этаж, где даже и свет не включали, и в одном из тёмных классов переоделся в свой маскарадный костюм.
По лестнице я спускался держась за перила, потому что туфли на каблуках почти такая же мýка, как коньки.
В вестибюле и коридорах первого этажа света тоже было маловато, но достаточно, чтобы увидеть – все ребята, даже старшеклассники пришли хоть не в школьной форме, но и не в карнавальном.
Они стояли группками, или бегали туда-сюда и замолкали, когда я цокал каблуками мимо них по паркету, по плиткам вестибюля и снова по паркету.
А где же праздник-то? Где серпантин и конфетти?
Пара старшеклассников пошушукались и подошли ко мне. Один сказал:
– Погадаешь, цыганка?
Но тут появилась школьная пионервожатая и позвала меня с собой в спортзал, потому что сейчас начнётся спектакль.
Зал оказался заставленным рядами сидений до самой ёлки и по сторонам от неё.
Зря я кружил тот стул – танцев не будет.
Она усадила меня посреди первого ряда перед сценой, отошла ненадолго и привела какую-то девочку в костюме Арлекино и в маске – такую же, как и я, дуру несчастную.
Её посадили рядом со мной; больше ряженых не было.
Занавес распахнулся и ученики девятого класса представили свою постановку Золушки.
У них были хорошие костюмы, особенно мне понравился Шут в клетчатом колпаке.
Спектакль закончился, все стали хлопать, а я понял, что сейчас даже Шут переоденется в пиджак и брюки.
Я вышел из спортзала, поднялся в тёмный класс, где оставлял свою одежду, переоделся и сменил мучительные туфли на долгожданные валенки. Какое блаженное удобство!
На выходе из школы я столкнулся с мамой и Наташей – они пришли полюбоваться моим маскарадным триумфом.
Я коротко объяснил, что никакого карнавала нет и мы пошли домой всё тем же лесом.
( … главное – не оглядываться и память быстренько сделает своё дело – забудет и затрёт твои промахи, горести и боли.
Главное – смотреть вперёд, навстречу удовольствиям, удачам и праздникам …)
А впереди ждали каникулы и целых семнадцать серий «Капитана Тэнкеша» по телевизору.
В комнате родителей, как всегда, стояла ёлка под потолок, а на ней, среди блестящих игрушек, конфеты «Батончики» и даже «Мишка в Лесу».
После провального карнавала жизнь снова улыбалась.
В Новогоднюю ночь папа работал в третью смену, чтобы на Объекте не гасли огоньки на ёлках, а утром на работу ушла мама, чтобы из кухонных кранов текла вода.
В наступившем году я проснулся поздно, когда папа уже пришёл с работы.
Он спросил кто вчера приходил и я сказал, что мамина новая подруга из квартиры наискосок.
Потом я читал, сходил на каток, поиграть в хоккей в валенках; и как раз смотрел концерт певицы Майи Кристалинской, как всегда в её широкой косынке на шее – скрыть следы жизненной драмы, когда с работы вернулась мама.
Я выбежал от телевизора из комнаты родителей в прихожую, куда, оказывается, пришёл и папа с кухни; он стоял перед мамой, которая не успела ещё снять пальто.
Дальше произошло что-то непонятное – они всё так и стояли, не двигаясь, и только папина ладонь, как-то сама по себе, без размаха, ударили маму по щекам.
Мама проговорила:
– Коля, ты что?!– и заплакала слезами, которых я никогда у неё не видел.
Папа стал кричать и показывать блюдце с папиросными и сигаретными окурками, которое он нашёл за занавесочкой на подоконнике кухонного окна.
Мама говорила что-то про соседку, но папа отвечал, что та папирос не курит.
Он резко оделся и, перед тем как выйти, крикнул:
– Ты ж клялась, что с ним и срать на одном гектаре не сядешь!
Мама ушла на кухню, а потом к новой подруге в бывшей квартире Зиминых.
Я оделся и опять пошёл на каток и по дороге встретил возвращавшихся оттуда брата с сестрой, но ничего им не стал говорить.
На катке я пропадал до темна.
Играть мне не хотелось, но и домой идти тоже; так и бродил вокруг поля или сидел в раздевалке возле печки.
Когда совсем уже стемнело, ко мне подошла Наташа и сказала, что мама и брат ждут меня на дороге и что дома папа повалил на пол ёлку и пнул Саньку ногой, а сейчас мы пойдём ночевать к знакомым.
Под фонарями над пустой объездной дорогой мы вчетвером прошли к пятиэтажке и мама постучала в дверь квартиры на первом этаже.
Там жила семья офицера с двумя детьми. Мальчика я знал по школе, но его сестра была из слишком старшего класса.
Мама принесла с собой бутерброды, но есть мне не хотелось.
Она и брат с сестрой легли спать на раздвижном диване, а мне постелили на ковре рядом с книжным шкафом.
Через его стеклянные дверцы и я высмотрел книгу «Капитан Сорви-Голова» Луи Буссенара и попросил разрешения почитать пока до ковра доходит свет из кухни.
Утром мы ушли оттуда и пересекли двор Квартала к дальнему угловому зданию.
Я знал, что это общежитие офицеров, но никогда туда не заходил.
На втором этаже в длинном коридоре мама сказала нам подождать, потому что ей надо поговорить с дядей, имени которого я совершенно не помню.
Мы втроём молча подождали пока она не вернулась и не повела нас домой.
Она открыла запертую дверь. Из прихожей через распахнутую дверь в комнату родителей виднелась ёлка в игрушках, что валялась на боку перед балконной дверью.
Шкаф стоял нараспашку, а перед ним мягкий холмик из маминых одежд, разодранных от верха до низа.
Папы дома не было целую неделю.
Потом Наташа сказала, что завтра он придёт – так и случилось.
И мы стали жить дальше…
Когда настало время снова ходить в школу, оказалось, что перед каникулами я забыл в портфеле газетный свёрток с несъеденным бутербродом.
Ветчина испортилась и провоняла весь портфель.
Мама помыла его изнутри с мылом, но запах так до конца и не ушёл.
В школе объявили сбор макулатуры и мы, пионеры, после занятий ходили по домам кварталов и пятиэтажек, стучали в двери и спрашивали нет ли у них макулатуры.
Иногда нам давали кипы газет и журналов, но в угловое общежитие Квартала я не пошёл.
Зато в библиотеке части нам отдали несколько стопок книг.
Некоторые совсем целые, у других чуть надорванные обложки, как у «Последнего из Могикан» с гравюрами-картинками.
Однажды вечером, когда мы играли в прятки в снеговых туннелях вдоль бортов катка, один мальчик постарше сказал, будто он сможет поднять пять человек за раз. Запросто.
Я начал говорить, что это невозможно и мы с ним поспорили на что-то.
Он сказал, что эти пять человек должны улечься поплотнее, чтобы удобней ухватить.
Мы с ним, как спорщики, и ещё несколько мальчиков отошли к Бугорку, куда не падал свет от фонарей над катком, зато было ровное место.
Я лёг на снег и раскинул руки и ноги, как он объяснял и на них навалилось по мальчику – всех вместе пять.
Только он не стал подымать. Я почувствовал, как чужие пальцы расстёгивают мне штаны и лезут в трусы. Но сбросить четверых мальчиков мне было не под силу и я только орал не помню что.
Потом вдруг я оказался на свободе, потому что они все убежали.
Я застегнулся и пошёл домой злясь на себя, что так запросто купился на дурацкую шутку. Опять ходил с чайником на клотик.
( … и лишь совсем недавно мне вдруг дошло, что это была не злая шутка типа «показать Москву», а проверка подозрений вызванных моим маскарадным костюмом на Новый год.
Смешно сказать – почти целая жизнь прошла пока догадался.
И это уже третья, но, пожалуй, главная из моих ахиллесовых пяток – тугодумство …)
По дороге из школы, мой друг Юра Николаенко рассказал мне новость, что на стенде возле Дома офицеров нарисовали карикатуру на мою маму.
Она там задаёт себе вопрос – пойти к любовнику, или к мужу?
Я ничего ему не ответил, но больше месяца и близко не проходил мимо Дома офицеров.
Потом, конечно же, пришлось, потому что там показывали «Железную Маску» с Жаном Марэ в роли Д‘Aртаньяна.
Перед сеансом, как-то весь внутренне сжимаясь, я подошёл к стенду, но там уже висела новая карикатура на пьяного водителя в зелёной телогрейке, а его жена и дети плачут синими слезами.
( … мне полегчало, но почему-то я до сих пор вижу ту карикатуру на мою маму, которую никогда и в глаза не видел: там у мамы острый нос и она гадает на пальцах с красными от маникюра ногтями – туда, или сюда?
Нет, Юра Николаенко мне не описывал картинку, а только передал какая подпись …)
Весной у папы на работе состоялось собрание и он вернулся оттуда расстроенный, потому что опять начались сокращения и там сказали – если сокращать, то кого же как не его?
Так мы начали упаковывать вещи для погрузки их в железный контейнер. Но грузить их остался папа, а мы вчетвером выехали на пару недель раньше.
Вечером накануне отъезда я был в комнате у маминой подруги наискосок через площадку, сидел там на диване с толстой книгой, где описывалась биография какого-то дореволюционного писателя.
Это я отдал ей книгу, принесённую из библиотечной макулатуры.
Я раскрыл её где-то посредине и вписал на полях «мы уезжаем».
Потом мне вспомнился принцип создания мультфильмов – если на нескольких страницах написать по одной букве слова, а потом согнуть их и отпускать по одной, чтоб они быстро и поочерёдно пролистались, то буквы пробегут, сменяя друг друга и складываясь в это слово.
Тогда я побуквенно вписал на уголках страниц «я-С-е-р-г-е-й-О-г-о-л-ь-ц-ов-у-е-з-ж-а-ю».
Но мультфильма не получилось, да и ладно, не очень-то и хотелось.
Я захлопнул книгу, оставил её на диване и ушёл.
Рано утром из Квартала отправился автобус до станции Валдай.
Кроме нас четверых ехали ещё какие-то отпускники.
Когда автобус спускался по дороге из бетонных плит, мама вдруг спросила меня – с кем нам лучше жить дальше: с папой или дядей, имя которого я совершенно не помню.
Я сказал «мама! не надо нам никого! я работать пойду, буду тебе помогать», но она промолчала.
Это были не просто слова – я верил в то, что говорю, но мама лучше меня знала трудовое законодательство.
Когда спуск кончился то, на повороте к насосной и КПП, автобус остановился и в него зашёл дядя, про которого спрашивала мама.
Он подошёл к ней, взял её за руку и что-то говорил.
Я отвернулся и стал смотреть в окно.
Он вышел, автобус захлопнул двери и поехал дальше.
Мы подъехали к белым воротам КПП, часовые проверили нас и отпускников и открыли ворота, чтобы выпустить автобус за Зону.
Мне было совершенно ясно, что никогда уж не вернусь сюда, просто пока ещё не знал, что это я покидаю детство.
~ ~ ~
~~~отрочество
( …и на этом, пожалуй, уже хватит.
Пора выкатывать картошку из золы пока не испеклась насквозь.
Может в углях и есть килокалории, но вкус не тот.
Да и стемнело уже, а я не хочу переедать на ночь глядя.
Как там у тех арабских диетологов: «ужин – отдай врагу»?
Правда, у меня с врагами туговато – откуда взять-то, если тебя готовили жить в обществе, где «человек человеку – друг, товарищ и брат»?
А всё же тянет поделиться навешанной тебе лапшой. Однажды, я начал заливать твоей старшей сестре, Леночке, что все люди хорошие и добрые, просто они это не осознают.
И надо же, чтоб именно в тот вечер по телевизору показали пьесу Шекспира «Ричард III». Как безотрывно она смотрела, пока те люди добрые друг друга резали, душили и терзали!
А на следующее утро ещё и повтор пересмотрела.
Но не мог же я против Шекспира рыпаться.
Всё-таки, классика – это сила.
С тех пор у меня с телевизором вооружённый нейтралитет.
Это всё к тому, что и будь у меня даже враг, я бы ему последнюю рубаху отдал, но только не ужин, а тем более печёную на костре картошку.
Ведь это ж невозможно передать до чего она шедевр кулинарии, когда разломишь обуглившуюся корочку и сыпнёшь чуть-чуть соли на её исходящую паром сердцевину – тут никакие кулебяки с бефами струганными и омарами под шерифами не идут ни в какое сравнение.
Пусть все те финтифлюшки остаются заумным гурманам, а мы люди из села – тёмные, нам абы грóши да харчи хорóши.
Да будь я помоложе, а не негром преклонных годов, придавленным бытовухой в ходе борьбы за существование, то – ей-же-ей! – оду б ей сложил – картошке на костре печёной…
Недаром в самом пронзительном эпизоде Юлиана Семёнова, обряженный в форму фашиста Штирлиц печёт, в камине своей берлинской квартиры, картошку на день Советской армии и флота.
Но вместе с тем, и при всём уважении к его ностальгическому патриотизму, это не то.
Чтобы понять вкус печёной картошки нужно сидеть на земле, под открытым небом, с таким вот вечером вокруг…)
В Конотопе баба Катя всех нас перецеловала и расплакалась.
Мама стала её утешать, потом заметила две детские головки, что потихоньку выглядывали из-за створок двери в комнату.
– Людкины?– спросила мама.
– Да, это у нас Ирочка и Валерик. Вон уже какие большие. Ей три исполнилось, и Валерику скоро два будет.
Потом приехал с работы их отец, дядя Толик, я впервые не в кино, а в жизни, увидел мужчину в лысине от лба до затылка, но постарался не слишком пялиться; а ещё через час мы с ним вышли встречать тётю Люду.
Магазин её закрывается в семь, и с работы она всегда несёт сумки.
Идя с дядей Толиком, я изучал дорогу на Путепровод, который ещё зовётся Переéздом.
Мне смутно вспоминалось долгое ожидание, пока подымется шлагбаум перед железной дорогой и множество людей, вперемешку с парой телег и каким-нибудь грузовиком, устремятся с двух сторон на переезд через рельсы, сложенный из чёрных шпал.
В тот раз мы ехали из Конотопа на Объект.
За моё отсутствие под путями провели высокий бетонный тоннель, отсюда официальное – Путепровод, он же, по старинке, Переезд.
За Переездом ходили длинные трамваи от Вокзала в Город и обратно. На одном, идущем из Города, и должна была подъехать тётя Люда с работы.
Дядя Толик подговорил меня, чтобы когда она сойдёт с трамвая и под редкими фонарями пойдёт по спуску в Путепровод, ухватить за одну из её сумок и сказать:
– Не слишком тяжело?
Но она меня узнала, хоть дядя Толик и сдвинул мне козырёк кепки на глаза.
Мы все вместе пошли на Нежинскую и дядя Толик нёс сумки с продуктами, которые тётя Люда брала в счёт получки в магазине, где она работала.
Поднявшись из Путепровода, мы пересекли Базар по проходу меж его пустых, в эту тёмную часть суток, прилавков с высокими, как у беседок, крышами; и прошли ещё, примерно, столько же до начала Нежинской.
Вдоль всей её длины горели два или три далёких фонаря, но и этого достаточно, чтоб отличить от других улиц.
В Конотоп мы приехали к последней четверти учебного года и пошли в школу номер тринадцать.
Она стояла на улице Богдана Хмельницкого, мощёной неровными булыгами, как раз напротив Нежинской.
Ещё эту школу называли Черевкиной.
При царском режиме богатей из села Подлипное, по фамилии Черевко, построил двухэтажный трактир, но тогдашние власти не позволили его открыть, за то, что слишком близко стоит к заводу – весь рабочий люд сопьётся, и Черевко отдал дом под школу из четырёх классных комнат.
В советское время вслед за двухэтажным построили ещё и длинное одноэтажное здание барачного типа, тоже из кирпича; вдоль тихой улочки, что спускается к Болоту, оно же Роща, за которыми стоит село Подлипное.
Мне вспомнилось как в первый приезд тётя Люда и мама водили меня купаться в круглом пруду рядом с селом и там плавали утки.
В первое утро по дороге в школу меня удивили холщовые мешочки на верёвочках, которые многие ученики несли помимо своих портфелей или папок.
Оказывается, там были чернильницы для уроков в школе.
На следующее утро я воспринимал их уже как должное, хотя школьники на Объекте давно уже писали авторучками с внутренними ампулами, куда чернила втягиваются через перо и хватает почти на неделю, если не слишком много пишешь.
На переменах все выходили в широкий двор с одним старинным деревом перед маленьким зданием, в котором была пионерская комната, учебная мастерская, библиотека и, как я узнал впоследствии, склад лыж для физкультуры.
Напротив спортзала, пристроенного под прямым углом к концу длинного здания школы, стоял побеленый кирпичный домик туалетов и туда направлялась оживлённая цепочка ребят, но пацаны, и только пацаны, не доходя до туалета сворачивали за угол спортзала.
Там, в узком проходе между стеной спортзала и забором соседского огорода, шла бойкая игра на наличные деньги – школьный Лас-Вегас.
Игра называется «биток», игроки ставят условленную сумму копеек, от двух до пяти, на кон – с десюлика, пятнашки, двацулика и полтинника сразу же выдаётся сдача.
Копейки ставятся на кон в прямом смысле – стопочкой на земле, одна на другую, решками кверху.
Теперь в игру вступает «биток» – у каждого игрока какая-нибудь своя излюбленная железяка: болт, огрызок крепильного костыля, шар от очень крупного подшипника; ограничений нет – бей чем хочешь, да хоть и камешком.
Куда бить?
Да по стопке копеек, конечно, сколько перевернулось орлами кверху – твои. Собери их и бей по оставшимся.
Не перевернулись – бьёт следующий.
Иногда от угла спортзала раздавался крик «Шуба!» – сигнал, что приближается кто-то из учителей, деньги тут же исчезали с земли по карманам, дымящиеся сигареты прятались в ладони, но тревога всегда оказывалась ложной – учителя сворачивали в туалет, где имелся отсек для директора и преподавателей, и игра продолжалась.
За три кона я спустил пятнадцать копеек, которые дала мне мама на пирожок из школьного буфета, потому что у этих биточных виртуозов рука набита будь-будь, а мне приходилось бить позыченым битком – взятым у кого-то из них напрокат.
Может и к лучшему – не успел пристраститься.
Классная руководительница, Альбина Георгиевна, посадила меня рядом с худенькой рыжей девочкой, Зоей Емец, и неоднократный второгодник Саша Дрыга с последней парты в среднем ряду остался очень этим недоволен, о чём и предупредил меня после уроков.
А по дороге из школы я познакомился со своим одноклассником Витей, по фамилии Череп, потому что мы вместе шли по Нежинской, только ему идти дальше – до Нежинского Магазина, что на полпути от любого конца улицы.
На следующий день я попросил Альбину Георгиевну пересадить меня на последнюю парту в левом ряду, к Вите Черепу, потому что мы соседи по улице.
А на предпоследней сидел Вадик Кубарев и так началась наша тройственная дружба.
Но, конечно, в школе только лишь учителя зовут ребят по фамилии, а между собой Череп превращается в Чепу, а Кубарев в Кубу.
Как окрестили меня? Голым или Гольцем?
Если твоё имя Сергей, то фамилию твою не трогают и ты становишься просто Серый.
Дружба – это сила, когда мы втроём даже Саша Дрыга не слишком выпендривается.
Дружба – это знание.
Я поделился стихами не вошедшими в школьную программу, но выученными наизусть всеми мальчиками Объекта: и «себя от холода страхуя, купил доху я…», и «огонёк в пивной горит…», и «ехал на ярмарку Ванька-холуй…»; а мне, в рамках культурно-филологического обмена растолковали смысл выражений «ты из Ромнов сбежал?» или «тебе в Ромны пора» – в Ромнах находится областная психушка для чокнутых.
В то утро «биточные» баталии позади спортзала иссякли.
В то апрельское ясное утро ребята стояли и спорили, и ждали подтверждения слухов, что вчерашняя программа «Время» по телевизору ошиблась.
Кто-то слышал, что в Городе ребята из десятой школы говорили, будто вчера вечером в Сарнавский лес опустился человек на парашюте.
Сейчас придёт Саша Родионенко, он переехал на Мир, но продолжает учиться в нашей школе, он ездит из Города, он подтвердит.
Мне вспоминался полёт Гагарина, и как Титов летал целые сутки, а вечером сказал «ложусь спать», а папа засмеялся и сказал «во, дают!»
Наши космонавты всегда были первыми, а мы, тогда ещё мальчики, доказывали друг другу кто из нас первым услышал, когда по радио объявляли про полёт Поповича, Николаева, Терешковой.
Саша пришёл, но ничего не подтвердил.
Значит «Время» не ошиблось. Солнце померкло в трауре.
Космонавт Владимир Комаров.
В спускаемом модуле.
При входе в плотные слои атмосферы.
Погиб.
Потом приехал папа, а неделей позже прибыл и железный контейнер на товарную станцию. Оттуда грузовик привёз давно знакомый шкаф, с зеркалом в двери, раскладной диван, пару кресел с деревянными ручками, телевизор и другие вещи.
( …сейчас подумаю и – оторопь берёт: как могли две семьи плюс общая баба Катя умещаться и жить в одной комнате и кухне?
Но тогда я о таком не задумывался – просто раз это наш дом и раз мы тут живём и живём так, как живём, значит по-другому и быть не может, всё – как надо, так что я просто жил и всё тут..)
На ночь мы с Сашкой ложились на раскладном диване, а Наташа поперёк того же дивана, у нас в ногах, так что приходилось их поджимать, а то начнёт ворчать и жаловаться родителям на их кровати у противоположной стенки, чтоб они сказали мне с Сашкой не брыкаться.
А у самой к дивану ещё и стул приставлен – вытягивайся сколько хочешь, но когда я предлагал ей поменяться местами, она отказывалась.
Семья Архипенков и баба Катя спали на кухне.
Метров за триста от Нежинской и параллельно ей идёт улица Профессийная с высоким забором из бетонных плит вокруг Конотопского Паровозо-Вагоноремонтного завода, короче – КПВРЗ.
Вот почему часть Конотопа по эту сторону Путепровода-Переезда зовётся заводским Посёлком.
По ту сторону завода находится Вокзал и затем товарная станция, где длинные товарные поезда дожидаются своей очереди проехать дальше, потому что Конотоп – узловая железнодорожная станция.
На товарной станции есть даже горка для формирования составов, где вагоны, с железным визгом башмаков, гахкают друг об друга, а на столбах неразборчиво орут громкоговорители про такой-то состав на таком-то пути.
Правда, в дневное время на Посёлке трудовую симфонию станции почти не слыхать, не то что в ночной тиши.
А когда ветер дул со стороны села Поповка, в воздухе неприятно пахло тамошним спиртзаводом; запах не смертельный, но лучше не принюхиваться.
Профессийную с Нежинской соединяют короткие улочки; первая – по пути из школы – называется Литейной, потому что выходит к бывшему литейному цеху завода, хоть его и не видно за бетонным забором; затем идёт Кузнечная – напротив неё в заводе виднеется высокая кирпичная труба; а после нашей хаты, в направлении к Нежинскому Магазину – улица Гоголя, хотя ни перед, ни позади заводского забора никакого Гоголя, конечно же, нет.
Магазин получил такое имя потому, что стоит на улице Нежинской.
В одноэтажном, но высоком кирпичном здании четыре магазинных отдела с отдельными входами с улицы: «Хлеб», «Промтовары», «Гастроном» и «Рыба-Овощи».
«Рыба-Овощи» редко открывался – кроме пыли там, вроде, ничего и не бывало.
«Хлеб» работал пока не распродадут батоны и буханки, а потом стоял запертым до послеобеденного подвоза грузовиком с железной будкой с такой же надписью, как на магазине – «Хлеб».
В самый большой отдел, «Промтовары», с двумя витринами почти никто не заходил и там скучали целых три продавщицы.
А двум продавщицам «Гастронома» – одна на молочном отделе, а вторая на бакалейном, дел хватало, иногда там даже создавалась очередь, если завезено сливочное масло и они огромным ножом разделывали его громадный жёлтый куб рядом с весами, и заворачивали твои двести, или триста грамм в синюю рыхлую бумагу.
Если же в магазин заходил рабочий из завода КПВРЗ, его отпускали без очереди, потому что деньги за водку у него уже наготове, без сдачи, и ему ещё надо поскорее вернуться к рабочему месту, он ведь даже спецовку не переодел.
Выбор водок был большой, тут тебе и «Зубровка», и «Ерофеич», и «Ещё по одной…», но раскупалась только «Московская» с бело-зелёной наклейкой.
За Нежинским магазином шли ещё Слесарная и Колёсная, а в неведомой глубине Посёлка другие улицы и переулки.
В ближайшее после нашего приезда воскресенье, тётя Люда через улицу Кузнечную вывела меня и Наташу с Санькой на Профессийную.
Это единственная заасфальтированная улица на Посёлке. По ней мы пришли в Клуб завода, на детский сеанс в три часа дня.
Клуб – двухэтажный, но ростом во все четыре, часть его тоже окружала заводская бетонная стена. Он был сложен из кирпича прокопчённого цвета, и стены – не гладкие, а со множеством арочных выступов-столбиков – словно кружевные.
Следом за ним стояло здание заводской Проходной, такой же витиевато дореволюционной кладки.
В высоком вестибюле Клуба возле окошечка кассы толпилась разнообразная детвора.
Один, по виду второклассник, начал приставать к тёте Люде, чтоб она дала ему десять копеек, но она прикрикнула и он отстал.
Мне показалось, что и ей в охотку было придти сюда на детский дневной сеанс.
Так я узнал дорогу к Клубу, в котором кроме всего прочего находилась заводская Библиотека – два огромных зала: в первом столы с подшивками газет и высокие шкафы с остеклёнными дверцами, где виднелись знакомые ряды работ Ленина и Маркса и прочие многотомники, а во втором нормальные полки и книги для чтения.
Конечно, я туда сразу же записался, потому что в школьной библиотеке, в том небольшом здании напротив высокого крыльца входа в школу, выбирать было почти нечего.
Первого мая школа пошла на демонстрацию.
Сперва по булыжной Богдана Хмельницкого до Базара, откуда уже асфальт Профессийной доходит до Путепровода, а от Переезда – в Город, по проспекту Мира – под мостом высокой железнодорожной насыпи, мимо пятиэтажек Зеленчака, до площади Мира, где, напротив фонтана и кинотеатра Мир, устанавливалась красная трибуна, перед которой весь город проходил демонстрацией, если не считать жильцов пятиэтажек вокруг площади – они смотрели демонстрацию со своих балконов.
Я им чуть-чуть завидовал, но вскоре перестал.
По пути до площади школьной колонне не раз приходилось останавливаться в долгом ожидании, пропуская предыдущие по нумерации школы; зато нас пропускали колонны Локомотивного Депо, или Дистанции Пути Юго-Западной Железной Дороги, как было написано выпуклыми буквами на обтянутых малиновым бархатом щитах во главе их; а уже перед самой площадью нам приходилось вдруг переходить на рысь, держа наперевес портретные плакаты, потому что мы чересчур отстали от колонн впереди.
Поскольку нами почти замыкалось прохождение школ (в городе их всего четырнадцать), то когда мы проходили мимо красной трибуны, репродукторы над ней уже кричали: «на площадь вступает колонна конотопского железнодорожного техникума! Ура, товарищи!» и приходилось уракать не себе.
За площадью, миновав вход в Центральный парк, дорога круто сворачивает вправо, к заводу «Красный Металлист», но мы туда не спускались, а в ближайшем переулке складывали портреты членов Политбюро ЦК КПСС и красные транспаранты в грузовик, который отвозил их обратно в школу до следующих демонстраций.
Мы тоже шли обратно, в обход площади, потому что проходы между домами выходящими на неё были загорожены автобусами – плотно, лоб в лоб – а позади них по пустой площади прохаживались милиционеры.
Но, всё-таки, это был праздник, потому что на демонстрацию мама давала нам по пятьдесят копеек на мороженое, и ещё оставалась сдача, потому что Сливочное стоило 13, а Пломбир – 18 копеек.
Когда я вернулся домой, то по Нежинской ещё шли школьники в белых рубашках и красных пионерских галстуках, возвращаясь с демонстрации на Посёлок.
И тут я совершил, должно быть, первый подлый поступок в своей жизни – вышел за калитку и выстрелил в спину какому-то мальчику из шпоночного пистолета.
Он погнался за мной, но я отбежал к будке с Жулькой и мальчик не посмел подойти, а только обзывался.
Летом родители купили козу на Базаре, потому что когда папа получил свою первую зарплату на заводе и принёс отдавать маме 74 рубля, она растерянно спросила:
– Как? Это всё?
Белая коза понадобилась, чтоб стало легче жить, но на самом деле она только усложняла жизнь, потому что мне приходилось водить её на верёвке в улицу Кузнечную, или Литейную, чтоб щипала там траву под заборами.
От её молока я отказывался, хоть мама уговаривала, что козье очень полезно.
Вскоре её зарезали и нажарили котлет, но их я и попробовать отказался.
Иногда в обеденный перерыв к нам с завода приходил сын бабы Кати – дядя Вадик в рабочей спецовке.
Он уговаривал бабу Катю дать ему самогонку, потому что хлопцы ждут, а она отнекивалась.
У дяди Вадика были блестящие чёрные волосы и кожа оливкового оттенка, как у юного Артура в романе «Овод», и чёрные усы щёточкой.
На правой руке у него не хватало среднего пальца – отрезало в самом начале трудовой деятельности.
– Смотрю, а палец мой на станке лежит, и у меня слёзы – кап-кап…– рассказывал он.
Врачи хорошо зашили культю, получилась гладкая и без шрамов, так что когда он показывал дулю, то та у него выходила двуствольной.
Очень смешно, и ни у кого так не получится.
Жил он в районе Автовокзала в хате своей жены Любы и тёщи и за это считался «примаком». У примака нелёгкая судьба – приходится быть ниже травы, тише воды, тёщу называть «мамой» и ноги мыть курям, которых тёща держит во дворе.
Мы все любили дядю Вадю – он такой смешной и добрый, всегда улыбается и говорит:
– Ну, как вы, детки золотые?
А у его сына разноцветные глаза – один синий, а другой зелёный.
В возрасте десяти лет, когда за стенкой в хате Пилюты был немецкий штаб, Вадик Вакимов залез на забор и хотел обрезать телефонный кабель их связи.
Немцы на него наорали, но не стали расстреливать на месте.
Когда я спросил зачем он решился на такое, дядя Вадя ответил, что уже не помнит.
Но вряд ли его потянуло совершить подвиг, скорее всего захотелось разноцветных проводков из телефонного кабеля.
По пути в Нежинский Магазин, меня обогнали двое ребят на одном велосипеде.
Тот, что сидел сзади на багажнике соскочил на землю и отвесил мне крепкую пощёчину.
Конечно, это было беспредельное оскорбление чести и он на полголовы ниже меня, но я побоялся драться – мало того, что не умею, так ещё и второй, который тоже слез с велосипеда был явно старше меня.
– Говорил же тебе, что получишь,– сказал коротышка и они уехали.
Я понял кому стрелял в спину…
Взрослые киносеансы в Клубе были на шесть и на восемь часов вечера.
Кино показывали на втором этаже, куда вела широкая лестница из толстенных крашенных досок.
Но верхняя площадка была вымощена квадратной плиточкой и кроме двух высоких окон имела ещё три двери.
За дверью направо находился небольшой зал с телевизором и лестницей в кинобудку и следом громадный зал Балетной Студии.
Первая дверь слева вела на балкон зрительного зала и была вечно заперта, а возле второй стояла бдительная тётя Шура в своём вечном головном платке и обрывала контроль на билетах.
Пол в широком зрительном зале спускался с небольшим уклоном к сцене, на которую вели крылечки по её сторонам.
Но всё это скрывалось широким белым экраном от одной стены зала до другой; для концертов или выступлений кукольного театра экран, как занавеску, сдвигали к стене слева.
По верху боковых стен шёл балкон с гипсовой лепниной, но до сцены он не доходил, у задней стены круто спускался с обеих сторон к своей запертой снаружи двери, чтобы не загораживать бойницы кинобудки откуда протягивался к экрану ширящийся луч света с кинофильмом.
В вестибюле на первом этаже рядом с окошечком кассы висело расписание фильмов на текущий месяц, которые менялись каждый день, кроме понедельника, когда кино вообще не крутили.
Так что можно заранее определиться и попросить у мамы двадцать копеек на билет.
Летом расходы на кино совсем исчезали, потому что возле спуска в Путепровод, позади длинной ветхой двухэтажки, был парк КПВРЗ, где кроме трёх аллей, пустующей танцплощадки и пивного павильона имелся ещё и летний кинотеатр, ограждённый забором с удобными щелями.
Сеанс начинался после девяти вечера, почти засветло.
Но стоять уткнувшись носом в шершавые от непогоды доски не так уж и приятно. Поэтому ребята занимали выгодные места на старых яблонях позади кирпичной кинобудки.
Если попадётся не очень удобная для сидения развилка, в следующий раз придёшь пораньше.
По ходу фильма летняя темень сгущалась вокруг двух-трёх неярких фонарей парка и между яблоневых листьев в небе проступали звёзды.
На экране «Весёлые Ребята» с Леонидом Утёсовым тузили друг друга барабанами и контрабасами, а в менее уморные моменты можно запустить руку в яблоневую листву и нашарить мелкое, кислое-прекислое яблоко, где-нибудь между созвездием Кассиопеи и галактикой Магелланова Облака, а потом мелко покусывать его несъедобно горький твёрдокаменный бок.
После хорошего фильма, как тот с Родионом Нахапетовым – без драк, войны, а просто про жизнь, про смерть, про любовь и красивую езду на мотоцикле по мелководью, зрители выходили из ворот парка на булыжную мостовую улицы Будённого без обычных свистов и гиков, а притихшей негустой толпой людей словно породнённых сеансом и шли сквозь темень тёплой ночи, редея рядами на раздорожьях, к фонарям у перекрёстка улиц Богдана Хмельницкого и Профессийной, рядом с Базаром.
Но главное, из-за чего ребята ждут лето – это купание.
Открытие купального сезона на Кандыбине в конце мая – знак наступившего лета.
Кандыбино – это ряд рыбных озёр по разведению зеркального карпа, из которых вытекает речка Езуч. А по озёрным дамбам иногда проезжает обходчик на велосипеде, чтоб пацаны не очень-то браконьерничали своими удочками.
В крайнем из озёр карпов не охраняют – оно оставлено для купания отдыхающих пляжников.
Но, чтобы начать хождение на Кандыбино, надо знать как туда идти.
Мама сказала, что девчонкой туда ходила, но объяснить не может и об этом лучше спросить дядю Толика, который и на работу, и с работы, и вообще везде, ездит на своей «яве» – уж он-то все дороги знает.
Путь на Кандыбино, по его объяснению, найти легко: идёшь в город по проспекту Мира и сразу же после моста железнодорожной насыпи – поворот направо, пропустить невозможно, это ромненская трасса.
Спускаешься по этой дороге до перекрёстка и там тоже направо, пока не появится железнодорожный шлагбаум, от него свернуть влево и – вот тебе и Кандыбино.
Младшие, конечно же, увязались идти со мной. Мы взяли старое постельное покрывало, чтобы на нём загорать, положили его в плетёную сетку-авоську вместе с бутылкой воды, и пошли на Переезд, где начинается проспект Мира.
До насыпи путь был знаком по первомайской демонстрации.
Мы прошли под мостом и вот она, дорога вправо – прямо под насыпью.
Правда, на трассу мало похожа – никакого асфальта, но дорога же, и широкая, и первая за мостом вправо.
Мы свернули на неё и шли вдоль насыпи, а дорога становилась всё уже, превращаясь в широкую тропу, потом просто в тропку, которая потом тоже пропала.
Пришлось подняться на насыпь, повытряхивать песок из сандалий и идти дальше по шпалам и рельсам.
Наташа первой замечала поезда догонявшие нас сзади, и мы спускались на неровный щебень отсыпки, уступая путь слитному громыханью летящих мимо вагонов.
Когда мы дошли до следующего моста, под которым не было никакого проспекта, а лишь колеи железнодорожных путей, и наша насыпь тоже заворачивала, чтобы спуститься, параллельно ими, к далёкому Вокзалу, стало ясно, что мы идём в обратную сторону, а ни на какой ни на пляж.
И тут мы заметили далеко внизу под нашей насыпью и под насыпью путей проложенных под мостом, небольшое поле, а на нём две группы ребят в летних одёжках с такими же сетками, как у нас, и даже с мячом, которые направлялись к рощице зелёных деревьев. Наверняка купаться!
Мы спустились по крутым насыпям и пошли через поле той же тропой, что и предыдущие ребята, давно скрывшиеся из виду. Потом мы шли через осиновую рощу вдоль одинокой железнодорожной колеи без щебёнки и на деревянных, а не бетонных, шпалах; пока не показалась шоссейная насыпь с поднятыми шлагбаумами по сторонам вот этого тихого пустого пути.
Мы пересекли шоссе и пошли по широкой, местами топкой тропе.
Грудь расправилась осторожным ликованием: ага, Кандыбино! не спрячешься! – потому что по той же тропе шли люди явно пляжного вида. Они шли в обоих направлениях, но туда больше, чем обратно.
Тропа вывела к широкому каналу тёмной воды между берегом и противоположной дамбой рыбных озёр, но на этом не кончалась, а вела дальше вдоль канала.
Мы пошли вперёд между зелёных деревьев, под белыми облаками и солнцем в лазурно-синем летнем небе.
Правильные ряды фруктовых деревьев неухоженного и одичалого сада подымались на плавный склон справа от тропы.
Впереди канал раздвинулся в широкое озеро с песчаным берегом.
Прибрежный песок окружала трава меж редких высоких кустов смородины квадратно-гнездового сада.
Выбрав свободный кусок травы для нашего покрывала, мы быстро-быстро разделись и по нестерпимо горячему для босых ног песку побежали к воде, что плескалась и брызгалась под неумолчный визг, крик и хохот десятков купающихся.
Лето! Ах, лето!
Потом выяснилось, что дядя Толик не знал о существовании той исчезающей дороги под насыпью. Когда его мотоцикл на скорости пролетал под мостом на проспекте Мира, то за пару секунд оказывался у ромненской трассы, до которой пешком топать метров двести.
В клубной списке фильмов на июль стояли «Сыновья Большой Медведицы» и мы с Чепой договорились сходить, потому что знали – это про индейцев и там играет Гойко Митич.
Конечно, в списке таких подробностей не сообщалось, но фильмы-то в Клуб КПВРЗ попадали месяц, а то и два спустя после показа их в кинотеатре Мир, или кинотеатре имени Воронцова, что на Площади Конотопских Дивизий.
Вот только в Мире билет стоит пятьдесят копеек, а у Воронцова тридцать пять, тогда как в Клубе всего двадцать.
В тот воскресный день мы втроём – Куба, Чепа и я – сгоняли на Кандыбино на велосипедах.
Мы плавали, стоя по грудь в воде, попарно сцепляли кисти рук в замóк, чтоб третий, взобравшись на сцепку, подпрыгнул бы как с пружинного трамплина; играли в «пятнашки», хотя в нырянии за Кубой не угнаться.
Потом они затерялись где-то в толпе купающихся.
Я поискал друзей среди визгов и всплесков, но не нашёл. Переплыл на другой край озера у дамбы рыбных озёр.
Там пара пацанов удили рыбу, выжидая удобный момент закинуть удочки в зеркально карповый рай по ту сторону дамбы.
Я поплыл обратно, чтоб не распугивать рыбу, которая водилась и с этой стороны. Ещё раз прочесал толпу в воде – безрезультатно, и решил выходить на берег.
Когда я добрёл до песка пляжа весь в пупырышках гусиной кожи, они прибежали от смородиновых кустов с почти сухими уже волосами.
– Ты где был? Мы уже опять заходим – погнали!
– Да вы шо? Я токо-токо вылажу!
– Ну, так шо? Пошли!
– А! Погнали наши городских!
И мы втроём, взбивая ногами пенные всплески, побежали на глубину – нырять, вопить и брызгаться.
Лето, оно тем и лето, что лето…
Куба в кино не захотел – он уже видел, и Чепа передумал, но меня это не остановило и я решил взять у мамы двадцать копеек и пойти в Клуб на шестичасовой сеанс.
Баба Катя сказала, что родители и брат с сестрой куда-то ушли пару часов назад. Ну, ладно, до кино в Клубе ещё целых три часа – успеют вернутся.
На исходе третьего часа меня охватило непобедимое беспокойство.
Где же они, где?
Я ещё раз спросил об этом, но уже у тёти Люды, на что она с полным безразличием и какой-то даже злостью ответила:
– Я б и тебя не видела.
Когда дядя Толик уезжал на рыбалку она всегда становилась такая.
Прошло ещё два часа, я бы мог отправиться в Парк посмотреть фильм с дерева, но уже не хотел никакого кино.
Меня придавило чувство неотвратимой и даже уже свершившейся катастрофы.
Мерещился вылетевший на тротуар грузовик, сирена скорой.
Ясно одно – у меня больше нет ни родителей, ни брата с сестрой.
Спустились сумерки, приехал дядя Толик с рыбалки и зашёл в хату, а я так и сидел на траве рядом с Жулькой, раздавленный своим горем и одиночеством.
И уже совсем поздно звякнула клямка калитки, раздался весёлый голос мамы, Сашка с Наташкой забежали во двор. Я бросился навстречу, раздираемый радостью и обидой:
– Ну, где же вы были?
– У дяди Вади. А ты что такой?
Взрыднув, я начал сбивчиво бормотать про сыновей медведицы и двадцать копеек, потому что не мог объяснить, что прожил целых полдня после потери всех своих родных и близких, не зная как жить дальше без семьи.
– Ну, взял бы деньги у тёти Люды.
– Да? Я у неё спросил где вы, так она сказала «глаза бы мои на тебя не смотрели».
– Что? А ну, идём в хату.
И дома она скандалила с сестрой, а тётя Люда говорила, что это брехня и она только сказала, что и меня не видела бы, если б не подошёл.
Но я упрямо повторял свою брехню, мама и тётя Люда кричали всё громче, баба Катя пыталась их уговорить, что стыдно так перед людьми – уже и на улицу слышно; Саша, Наташа, Ирочка и Валерик с испуганными глазами толпились в дверях комнаты, а папа и дядя Толик молча сидели перед телевизором.
Так я совершил вторую подлость в своей жизни – солгал, возвёл напраслину на невинную тётку.
Хотя её ответ мне я понял именно так, как передавал потом маме, но ведь после тёткиного истолкования мог бы и признаться, что да, это было сказано именно такими словами, однако, не стал.
После скандала в хате я чувствовал себя виноватым перед тётей Людой с её детьми, и перед мамой, что обманул, и перед всеми за то, что я такой рохля и плаксун – расхныкался: ах, папа-мама не дома! И всё это стало как бы началом постепенного и неприметного процесса отчуждения и превращения в «отрезанный ломоть» по выражению папы.
Я начинал жить своей жизнью, хотя, конечно, ничего такого не осознавал, а просто жил.
Мама с тётей Людой помирились, потому что тётя Люда показала маме как правильно поётся модная песня «Всюди буйно квiтнє черемшина» и приносила с работы продукты, которые нигде не купишь – ими торгуют из-под прилавка только для своих.
Она так смешно рассказывала про обеденные перерывы в их в магазине, когда все продавщицы собираются в бытовке кушать и хвастаются друг перед дружкой кто что вкусненького из дому принёс, а когда в кабинете заведующей зазвонит телефон и попросят позвать какую-то из продавщиц, то к её возвращению от её вкусненького остаётся меньше половины – всем же ж охота попробовать.
Но одна, ух хитрющая! Заведующая ей крикнет «к телефону!», так эта зараза делает «хыррк!» и в свою банку с обедом – тьфу! – и только потом отправляется к заведующей в кабинет, конечно ж, никто не притронется.
Мама тоже пошла работать в торговлю и устроилась кассиром в большой гастроном недалеко от Вокзала, но через два месяца там у неё случилась крупная недостача.
Мама очень переживала и говорила, что не могла так ошибиться, наверное, кто-то из своих выбил чек на большую сумму, когда она вышла в туалет, забыв запереть кассовый аппарат. Пришлось продать папино пальто из чистой кожи, которое он покупал ещё в свою бытность на Объекте.
С тех пор мама трудилась в торговых точках где нет подозрительного коллектива, а только ты сама – в ларьках городского Парка напротив площади Мира, где продают сухое вино, конфеты, печенье и бочковое пиво.
В конце лета в хате снова был скандал, но уже не между сёстрами, а между мужем и женой.
Дядя Толик поехал в лес и привёз оттуда грибы завёрнутые в газету.
Не очень много, но на суп хватит, а чтоб не растерять грибы в дороге, он обвязал пакет и сунул в сумку, которую и повесил на руль мотоцикла. Но дома вместо похвалы ему достался нагоняй от тёти Люды, когда та увидала, что газетный пакет обвязан бретелькой от женского лифчика.
И сколько дядя Толик ни твердил, что подобрал эту «паварозку» в лесу, тётя Люда всё громче и громче кричала, чтоб ей показали такой лес где под кустами лифчики валяются и что не надо дуру из неё делать, потому что она не вчера родилась.
Баба Катя уже не пыталась никого успокоить и лишь молча смотрела на спорящих грустными глазами.
Так я узнал это слово – «бретелька».
Больше дядя Толик за грибами не ездил.
Тётя Люда хотела даже запретить его рыбалки, но тут уже и он начал повышать голос и тогда был найден компромисс – пускай ездит, но и меня берёт с собой.
И следующие два-три года, с весны до осени, по выходным, с парой удочек и спиннингом примотанными к багажнику его «явы», мы отправлялись в путь.
Чаще всего на реку Сейм, иногда на далёкую Десну, но в таком случае выезжать надо затемно, потому что туда ехать километров семьдесят.
Ревя мотором, «ява» пролетала по пустым улицам ночного города, когда даже милиция спит, потом по Батуринскому шоссе на московскую трассу, где дядя Толик иногда выжимал скорость до ста двадцати, а когда мы сворачивал на полевые дороги нас уже догонял рассвет.
Я сидел сзади и обхватывал его за пояс, сунув руки в карманы его мотоциклетной куртки из искусственной кожи, чтобы они не мёрзли под встречным ветром.
А вокруг ночь переходила в светлеющие сумерки и начинали проступать лесополосы вокруг полей, а высоко в небе облака всё сильней розовели в лучах солнца, которое ещё не успело взойти над горизонтом.
От этих картин дух захватывало не меньше, чем от скоростной езды.
Обычно наживкой были черви из огорода, но однажды бывалые рыбаки посоветовали дяде Толику наживлять крючок личинками стрекоз.
Они живут в воде, в комьях глины под обрывистым речным берегом и рыба по ним прямо с ума сходит – друг у дружки крючок отбирают.
В тот раз мы подъехали к реке, когда только ещё рассветало.
От воды подымался тонкий клочковатый туман.
Дядя Толик объяснил, что доставать эти глиняные куски из воды придётся мне.
Даже от мысли, что надо входить в течение тёмной воды, бросало в дрожь, но любишь кататься – люби и личинок доставать.
Я разделся и, по совету старшего, сразу нырнул.
Вот это да! Оказывается в воде теплее даже, чем на берегу!
Я подтаскивал к берегу обломки скользких глыб, а дядя Толик их там разламывал и доставал личинок из насверленных ими канальчиков.
Когда он сказал, что хватит, я даже не хотел вылезать из ласкового тепла речной воды.
Но всё-таки это было явной эксплуатацией детского труда, за которую я наказал его в тот же день.
Он предпочитал спиннинг удочке, резким взмахом забрасывал блесну с грузом чуть не до середины реки, а потом крутил стрекочущую катушку на ручке спиннинга, подтаскивая вертляво мелькающую блесну обратно.
На спиннинг ловится хищная рыба, способная заглотить крюки в хвосте блесны – щука, окунь.
К полудню мы переехали в другое место, где был деревянный мост. Дядя Толик перешёл на другой, крутой берег и пошёл вдоль него забрасывая спиннинг там и сям.
Я следил за поплавками своих удочек, а потом растянулся в прибрежной траве. И когда он возвращался по противоположному берегу, то я, не подымая головы, смотрел на него сквозь траву и ему приходилось идти через джунгли спорыша и других былинок.
Таким трюком в кино делают дублированные съёмки. И до самого моста я продержал его в лилипутиках.
Один раз тётя Люда у меня спросила, не случалось ли мне видеть, что по пути на рыбалку он заходит в какую-нибудь в хату.
Я честно сказал, что такого не видел, потому что в тот раз, когда в селе Поповка он вспомнил, что мы едем без червей, и высадил меня подождать в пустой сельской улочке, пока он сгоняет тут неподалёку, где можно их накопать, то я видел только почернелую солому крыши сарая, мягкий песок дороги да заросли крапивы.
Пару раз нам довелось падать.
Первый раз мы ехали через поле тропинкой, что шла по верху метровой насыпи. В одном месте насыпь оборвалась, но высокая трава скрывала ямину, куда «ява» и нырнула носом, выбросив нас через себя.
А другой раз на выезде из Нежинской мотоцикл зацепился за врытую возле чьей-то хаты железяку, чтобы машины, объезжая лужи, не царапали её фундамент.
Но оба раза обошлось, ведь на головах у нас были белые пластмассовые шлемы, правда, во втором случае рыбалку пришлось отменить, потому что у «явы» из амортизатора начало вытекать машинное масло и потребовался срочный ремонт.
Площадь Конотопских Дивизий представлялась мне поначалу концом света, потому что от Мира до неё ещё целых четыре трамвайных остановки, столько же как от вокзала до Мира.
Она широкая как три дороги и очень длинная с небольшим уклоном вдоль всей своей длины.
На верхнем её краю высилась водонапорная башня из металла, как та, что в Париже, но у этой на ржавом боку огромного бака имелась надпись «Я люблю тебя Оля!»; внизу под башней, за высокой стеной, обтянутой сверху плотными рядами колючей проволоки, находилась городская тюрьма.
А напротив башни, кирпичные ворота Городского Рынка, от которых под уклон площади тянулся ряд магазинов– «Мебель», «Одежда», «Обувь»…
Внизу спуска, где площадь сходится в улицу, стоит здание, у которого окон больше, чем стен – Конотопская Швейная Фабрика, за которой шёл вытрезвитель, в котором, наоборот, стен больше, чем окон; а дальше дорога к мосту, что ведёт в опасный окраинный район – Загребелье.
Опасность в том, что там очень блатные хлопцы и если поймают парня провожающего загребельскую девушку, то заставляют его кричать петухом, или спичкой измерять длину моста, или просто побьют.
Чуть выше места пересечения площади трамвайными путями стоит кинотеатр имени Воронцова, только вход в него с улицы Ленина, а к площади обёрнута его глухая боковая стена с тремя выходами.
Когда в город приезжает передвижной зверинец, то из своих клеток на колёсах они выстраивают квадратный табор между трамвайными путями и Швейной Фабрикой, как чешские гуситы из учебника истории средних веков.
Да ещё и по центру ставят пару рядов и в воскресный день жители города и окрестных сёл кружат толпою вокруг и вдоль клеток с табличками про возраст и имя животного, а над площадью висит гул от людских и звериных криков.
Но так бывает раз в три года.
Гонщики по отвесной стене тоже один раз приезжали, поставили огромный шатёр из брезента, а внутри кольцевую стену из сборных щитов высотой метров пять.
Между верхом стены и брезентом стоячие места, куда два раза в день пускали зрителей заглядывать вниз, где пара мотоциклистов, по очереди, набирали скорость кружа по арене, чтобы по пандусу въехать на стену и с треском моторов гонять по ней в горизонтальной плоскости.
Если от кинотеатра им. Воронцова направиться по улице Ленина вспять – к Миру, то слева будет кубообразный Дом Быта в три этажа.
Рядом с ним тогда стоял стенд из железных труб с названием «Не проходите мимо!», на нём вывешивали чёрно-белые фотографии людей попавших в вытрезвитель с указанием их имён и места работы.
Жуткие снимки, словно у людей ободрана кожа с лиц.
Мне почему-то жалко было тех алкоголиков.
Наверное, из-за того стенда на Объекте, к которому я никак не мог заставить себя подойти.
Вслед за Домом Быта, но чуть отступив от дороги, стоит Дом культуры завода Красный Металлист, на стендах, по краям крохотной площади перед Домом культуры, наклеивали страницы журналов «Перець» и «Крокодил», а ближе к дороге, но опять-таки по бокам, чтобы не закрывать квадратные колонны входа в Дом культуры – два киоска из жести и стекла.
В одном из них, среди прочей всячины, я увидел выставленные на продажу наборы спичечных этикеток и в следующий свой выезд в Город купил набор с картинками животных.
Когда я привёз их домой, чтобы пополнить привезённый с Объекта альбом с коллекцией, то понял – это не то.
На прежних, снятых с коробков, мелкой печатью стоял адрес спичечной фабрики и цена – 1 коп., а эти просто картинки этикеточного размера.
С тех пор мне расхотелось собирать их и я отдал альбом Чепе.
Чепа жил возле Нежинского Магазина со своей матерью и бабкой, и псом Пиратом рыжеватой масти.
Их хата была совсем маленькая – уместилась бы в одной нашей кухне, но зато отдельная. Рядом с хатой стоял глинобитный сарай, где кроме обычных хозяйственных инструментов и загородки для угля на зиму, помещался ещё и возок – продолговатый мелкий ящик на двух железных колёсах, из-под которого торчит длинная труба с перекладинкой на конце, за которую этот возок таскают.
От хаты и до калитки на улицу тянулся длинный огород, не то что наши две-три грядки. Осенью и весной я приходил помогать Чепе со вскопкой.
Работая, мы повторяли модную местную поговорку «никаких пасок! по пирожку и – огороды копать!», а отпущенный Пират ошалело носился по длинной тропинке-стежке от калитки до своей будки возле сарая.
Когда мы переехали в Конотоп, на меня легла обязанность по водоснабжению хаты.
Вода стояла в тёмном закоулке крохотной веранды в двух эмалированных вёдрах на табуретках возле керогаза.
Рядом с вёдрами висел ковшик – попить, или наполнить водой кастрюлю.
И, кроме того, водой наполнялся бачок рукомойника, что стоял на кухне.
Туда тоже влазило почти два ведра.
Внизу бачка торчал кран нажимного действия, как в туалетах пассажирских вагонов, а под ним раковина с тумбочкой, куда ставится ведро для стока мыльной воды.
Когда помойное ведро наполнится, его надо вынести и вылить в глубокую яму на огороде.
А воду я таскал от водоразборной колонки на углу Нежинской и улицы Гоголя – метров за сорок от калитки.
Повесив ведро на чугунный нос колонки, нужно приналечь на железную рукоять позади и толстая струя воды с плеском рванётся в ведро, и, если не уследишь, мигом его переполнит и вода пойдёт хлестать на землю.
Для нашей хаты хватало двух ходок – четыре ведра – в день, если, конечно, это не день стирки.
Когда стирала тётя Люда, то воду приносил дядя Толик.
В дожди дорога за водой немного удлинялась – приходилось огибать широкие лужи на улице, а зимой вокруг колонки намерзал небольшой, но очень скользкий каток из разлитой воды – тут уж надо поосторожней.
Хорошо хоть рядом есть уличный фонарь на деревянном столбе.
А ещё на мне был керосин для керогаза.
Керогаз похож на маленькую газовую плиту с двумя конфорками, только вместо газа в него надо заливать керосин в две чашечки сзади.
Керосин пропитывает азбестный фитиль, который надо поджечь спичкой, чтобы готовить обед, греть чай или воду для стирки на жёлтом пламени с чёрной каёмкой копоти.
За керосином нужно идти на Базар с двадцатилитровой канистрой.
Там, подальше от прилавков, стоит большущий кубический бак из ржавого железа, на котором мелом написано «керосин будет…» а дальше число и месяц, когда его привезут.
Меняя числа, старое стирают и пишут следующее, но их уже столько поменялось, что от несчётных исправлений получилось меловое пятно, в котором никакой даты не разобрать, да и писать перестали.
Зато осталась полная оптимизма надпись «керосин будет …!»
Внизу бака торчит толстая труба в виде крана, с вентилем запертым на висячий замок, а под краном вырыт приямок, куда в назначенный день спускается продавщица в синем сатиновом халате, ставит под кран многолитровую кастрюлю-выварку, до половины наполняет её желтовато пенистой струёй керосина из трубы-крана, садится рядом на табуреточку и литровым черпаком наполняет канистры и бýтыли покупателей через жестяную воронку. Когда черпак начинает стукаться о дно выварки, продавщица добавляет в неё из крана.
О дате продажи керосина ни писать, ни читать не надо – баба Катя каждое утро ходит на Базар и за два дня раньше приносит новость когда будет керосин.
И в объявленный день я после школы беру канистру и иду в многочасовую очередь возле ржавоватого бака.
Иногда керосин продают во дворе Нежинского Магазина, где обустроен точно такой же бак, но там он бывает реже, а очередь такая же.
После летних каникул меня выбрали председателем совета пионерского отряда нашего 7-го «Б» класса, потому что бывший председатель – рыженькая Емец – переехала с родителями в другой город.
На сборе пионерского отряда две предложенные кандидатуры дали себе самоотвод без объяснения причин и пионервожатый школы выдвинул мою, а когда я начал вяло отнекиваться, он разъяснил, что это не надолго – всё равно нас скоро примут в комсомол.
( …структура пионерских организаций Советского Союза является образцом продуманной и чёткой организации любой организации.
В каждой школе каждый класс соответствующего возраста – это пионерский отряд подéленный на пионерские звенья, звеньевые вкупе с председателем – это совет отряда.
Председатели отрядов входят в совет пионерской дружины школы. Затем идут районные, городские, областные, республиканские пионерские организации, из которых уже и складывается всесоюзная.
Такая вот кристально отструктурированная пирамида.
Потому-то героям комсомольского подполья Краснодона во время немецкой оккупации не пришлось изобретать велосипед – они применили знакомую структуру, но только переименовали «звенья» в «ячейки».
Если, конечно, верить автору романа «Молодая гвардия» А. Фадееву, который написал своё произведение со слов родственников Олега Кошевого, за что и сделал его руководителем подполья, а Виктора Третьякевича, который принимал Олега в подпольную организацию, сделал предателем по фамилии Стахевич.
Четырнадцать лет спустя после выхода романа в свет, Третьякевича реабилитировали посмертно, и посмертно же наградили орденом, потому что погиб он не в лагерях НКВД – его казнили оккупанты.
К началу шестидесятых ещё несколько второстепенных предателей, которым писатель не менял фамилии, отбыли по десять-пятнадцать лет в лагерях и тоже были реабилитированы.
Сам же писатель уже успел застрелиться в мае 1956 года, вскоре после своего участия во встрече Никиты Сергеевича Хрущёва, тогдашнего главы СССР, с уцелевшими молодогвардейцами.
На той встрече Фадеев при всех кричал на Хрущёва, обзывал нехорошими в ту эпоху словами, а через два дня покончил с собой.
Или его покончили с собой, хотя, разумеется, такое выражение – «его покончили с собой» – недопустимо, исходя из норм русского языка.
Отсюда – мораль: никакая, даже самая отлаженная структура не застрахует от провала, если пирамида твоя не из камня…)
В конце сентября председатель совета дружины нашей школы заболела и на отчётное собрание председателей советов дружин города пионервожатый нашей школы отправил меня.
Собрание проходило в конотопском Доме пионеров – в тихом сквере позади памятника павшим героям над улицей Ленина.
По регламенту, такому собранию полагается председатель и секретарь: председатель объявляет чья очередь отчитываться, а секретарь протоколирует сколько макулатуры и металлолома было собрано отчитывающейся дружиной за отчётный период, какие в ней проведены культурные мероприятия и в каких общегородских соревнованиях какие места заняли её пионеры.
Школьный пионервожатый снабдил меня листком с отчётом для зачтения, но в Доме пионеров мне добавили нагрузку, назначив председателем собрания.
Дело это нехитрое, всего и делов-то – объявить «слово для отчёта предоставляется председателю совета дружины школы номер такой-то» и такой-то председатель подымется из зала к трибуне на сцене со своим отчётом; прочтёт его и отдаст бумажку с текстом отчёта секретарю собрания – не писать же в самом деле все эти цифры, если уже написаны.
Поначалу всё шло хорошо, я и секретарь – девочка в такой же белой рубашке и алом галстуке, как все присутствующие – сидели позади квадратного стола с кумачовой скатертью на небольшой сцене маленького зала, в котором председатели дружин городских школ ждали своей очереди отчитаться, а в последнем ряду присутствовала представительница горкома комсомола ответственная за работу с пионерами.
Председатели выходили и зачитывали свои листки, которые клали затем на скатерть перед секретарём.
Но после четвёртого объявления на меня вдруг что-то нашло, вернее – нахлынуло.
Мой рот начал переполняться слюной, я едва успевал её проглатывать, а слюнные железы тут же выдавали новую порцию.
Было ужасно стыдно перед сидящей рядом секретарём; чуть полегчало, когда она пошла отчитываться за десятую школу, но потом мýка продолжилась – да что же это со мной такое?!
Вот и моя очередь. Возвращаясь от трибуны, я сглотнул раза три – не помогло.
Отсидеть четырнадцатую и всё…
О, нет! Ещё и ответственная с заключительным словом!
( …в те недостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои невзгоды или радости, исходят от той сволочи в непостижимо далёком будущем, которая сейчас слагает это письмо тебе под неумолчное журчанье струй реки по имени Варанда…)
В октябре семиклассников начали готовить к вступлению в ряды ВЛКСМ – Всесоюзного Ленинского Коммунистического Союза Молодёжи, он же комсомол.
В комсомольцы принимают не огульно – отрядными шеренгами, а индивидуально, на особом заседании горкома или райкома комсомола, где члены городского или районного комитета задают тебе вопросы, как на экзамене, потому что став членом этой молодёжной организации ты уже соратник партии, будущий коммунист.
В ходе подготовки старший пионервожатый нашей школы, Володя Гуревич – симпатичный чернявый юноша с сизыми, от густой, но всегда выбритой щетины, щеками, раздал нам, будущим членам, листки с Уставом ВЛКСМ, напечатанным мелким типографским шрифтом.
Он предупредил, что при приёме особенно гоняют по правам и обязанностям комсомольца.
Володя Гуревич закончил престижную, одиннадцатую городскую школу и музучилище по классу баяна. Жил он далеко – за Миром, в квартале пятиэтажек, который почему-то называли Палестиной.
В школе он носил смешанную атрибутику из очень чистого и наглаженного пионерского галстука и комсомольского значка на груди пиджака – маленькое красное знамя, а на нём профиль лысой головы Владимира Ильича Ленина в бородке клинышком.
Среди своих – пионерского актива – Володя Гуревич, из-за совпадения в отчестве, говорил:
– Называйте меня просто – Ильич.
Смеялся он громко и после смеха губы его не сразу стягивались в нейтральное положение.
Однако Володя Шерудило, плотно сложенный чемпион игры в «биток» с рыжими вихрами и густой россыпью веснушек на круглом лице, который учился в нашем классе, а жил в селе Подлипное, за Рощей, среди своих – одноклассников – называл Володю Гуревича:
– Ханорик созовский!
( …на заре советской власти, ещё до создания колхозов, среди крестьянского населения сёл организовывались коллективы по совместной обработке земли – СОЗы, отсюда «созовский», но что такое «ханорик» не найти даже в словаре Даля, наверное оттого, что его создатель не заезжал в село Подлипное.
Кто нынче вспоминает про СОЗы?
А вот село бережно хранит в своей памяти и передаёт из поколения в поколение.
Хоть смысл забыт, но чувство неизменно…)
Конотопский горком комсомола располагался на втором этаже правого крыла здания горсовета.
Само здание, чем-то напоминающее Смольный Институт из кинофильмов про революцию, находится через дорогу от площади Мира.
К нему подводят три тихие аллеи мощёные брусчаткой, между рядами густых тёмных каштанов.
Все поступавшие со мною успешно прошли экзамен по Уставу ВЛКСМ и были приняты в ленинский комсомол.
Осенью от Переезда на Посёлок начали прокладывать трамвайный путь под шеренгой огромных тополей вдоль кювета булыжной Богдана Хмельницкого,
Между деревьев выросли бетонные столбы для поддержки контактного провода над трамвайными путями.
К октябрьским праздникам рельсы миновали Базар, нашу школу и даже завернули в Первомайскую, что тянется до самого конца Посёлка.
Потом по ним начали ходить три маленьких трамвая, где кондукторши, с пузатенькими сумками под грудью, продавали билеты за три копейки для сбора платы за проезд, отрывая их от рулончика на брезентовом ремешке казённой сумки.
У городских, больших трамваев кабина водителя только одна – впереди, и когда они доезжают до своих конечных, то делают круг по кольцу разворота, а на Посёлке такого круга не сделали, потому что маленькие трамваи они как Тяни-Толкай – кабина спереди и кабина сзади.
На конечной остановке водитель переходит из передней кабины в заднюю и та уже становится передней.
Трамвай отправляется в обратный путь и кондукторша, стоя на ступеньке задней двери, тянет брезентовую вожжу дуги трамвая, чтоб та откинулась под проводом назад и скользила как положено до конечной на том конце маршрута.
В больших трамваях двери захлопываются автоматически из кабины водителя, а в маленьких они как ширмы на шарнирах – потянул, сдвинул – открылась; раздвинул, надавил – закрылась.
Но кому оно надо? Поэтому трамваи на Посёлке ходили с дверями нараспашку, если только не очень сильный мороз.
Чтобы трамваи могли уступать друг другу одноколейный путь, им устроили две развилки: одну возле нашей школы, другую посреди Первомайской. На развилке путь раздвоен на несколько метров, чтобы встречные трамваи могли разминуться.
В Клубе КПВРЗ туалет находился на первом этаже, в самом конце длинного-предлинного, начинавшегося от библиотеки, коридора без единого окошка, с лампочками на потолке.
В тёмно-зелёных крашеных стенах изредка попадались двери с табличками «Детский Сектор», «Эстрадный Ансамбль», «Костюмерная», а не доходя до туалета – «Спортзал».
Все двери были постоянно заперты и тихи, только за спортзальной иногда поцокивал шарик настольного тенниса или грюкало железо штанги.
Но однажды, я услышал как за дверью «Детского Сектора» играет пианино и постучал.
Мне крикнули войти и там я увидел небольшую смуглую женщину со стрижкой чёрных волос и широким разрезом ноздрей, которая сидела за пианино у стены из больших зеркал-квадратов.
В стене напротив двери были три окна высоко от пола, а под ними балетные поручни, поверх ребристой трубы отопления.
В левой половине комнаты стояла ширма кукольного театра, а перед нею неширокий, но очень длинный стол;
Тогда я сказал, что хочу записаться в Детский Сектор.
– Очень хорошо, давай знакомиться: я – Раиса Григорьевна, а ты кто и откуда?
Она рассказала, что бывшие актёры повырастали, или разъехались и для возрождения Детского Сектора мне нужно привести с собой друзей из школы.
Я повёл агитацию в своём классе.
Чепа и Куба посомневались, но согласились, когда я сказал, что на том длинном столе можно запросто играть в теннис, и ещё две девочки пришли посмотреть – Лариса Полосмак и Таня Красножон.
Раиса Григорьевна обрадовалась и мы начали готовить кукольный спектакль «Колобок».
Она научила нас водить одетые на кисть рук мягкие куклы так, чтобы те не опускались ниже ширмы кукольного театра.
Занятия проводились два раза в неделю, но иногда она их пропускала или опаздывала и поэтому показала нам, что оставляет ключ в комнате художников. Мы открывали Детский Сектор и часами играли там в теннис на длинном столе.
Ракеток у нас не было, их нам заменяли зажатые в руке обложки от учебников. И сетку тоже городили из книг – высоковата малость, но пойдёт.
Нелёгок труд актёра-кукловода, мало того, что надо переписать роль и выучить её наизусть, так ещё во время действия постоянно держи куклу на вздёрнутой вверх руке.
Во время долгих репетиций она затекала от усталости и даже поддержка второй рукой мало чем помогала делу.
А ещё начинала ныть шея оттого, что голова постоянно запрокинута кверху – следить за действиями руки.
Зато потом, после спектакля, выходишь перед ширмой, держа на уровне плеча три пальца продетые в куклу и Раиса Григорьевна объявляет, что это именно ты исполнял роль Зайца; ты киваешь головой и Заяц возле твоего плеча кланяется тоже, а в зале раздаётся смех и аплодисменты.
О тернии, о сладость славы!
Позднее многие отсеялись, но костяк Детского Сектора – Чепа, Куба и я – остались.
Раиса Григорьевна делала с нами постановки инсценировок про героических пацанов и взрослых из времён революции или гражданской войны и тогда мы гримировались, приклеивали настоящие театральные усы, одевали гимнастёрки и пускали дым из газетных самокруток с настоящей махоркой, которые она научила нас делать, но не затягивались, чтоб не раскашляться.
Потом мы с этими инсценировками ходили по цехам Завода, не по всем, а где есть Красный уголок со сценой, и в обеденный перерыв показывали для рабочих, пока они ели свой обед из газетных свёртков.
Им очень нравился момент с самокрутками.
Дважды в год в Клубе давали большой концерт самодеятельности.
Директор, Павел Митрофанович, читал проникновенные стихи посвящённые Партии.
Ученики Анатолия Кузько по классу баяна отыгрывали свои достижения.
Гвоздём программы, конечно же, были танцевальные номера Балетной студии, потому что Нина Александровна пользовалась заслуженной славой и к ней ездили ученики со всего города, а к тому же в Клубе очень богатая костюмерная – для молдаванского танца «жок», например, танцоры выходили в жилетках сверкающих блёстками, для украинского гопака в широких шароварах и мягких балетных сапогах красного цвета.
Всем им и малолетним девочкам в балетных пачках, подыгрывала на баяне виртуозная Аида, стоя за кулисами сцены.
Рядом с нею стояли и мы в гимнастёрках и гриме, поражаясь как здорова она играет без всяких нот.
Беспалый красавец Мурашковский пел дуэтом с лысым токарем из Механического цеха «Два кольори мої, два кольори» и читал гуморески.
На правой кисти Мурашковского оставалось только два пальца – большой и мизинец, и он, для маскировки, зажимал в них носовой платок, словно клешней.
Две пожилые женщины пели романсы, но не дуэтом, а по очереди и им аккомпанировал на баяне сам Анатолий Кузько, у которого один глаз не то, чтобы косил, а вообще смотрел в потолок.
В завершение концерта за кулисы через зал приходил белобрысый руководитель эстрадного ансамбля Аксёнов со своими музыкантами.
Их барабаны и контрабас уже ждали тут, в маленькой гримёрной позади сцены, но свой саксофон Аксёнов приносил с собою.
Блондинка Жанна Парасюк, тоже, кстати, выпускница нашей школы, исполняла пару шлягеров в сопровождении ансамбля и концерт заканчивался под аплодисменты и крики «бис!»
На этих концертах зал наполнялся до краёв, как на сеансах индийских двухсерийных фильмов.
Сцена освещалась софитами вдоль её края и сверху, да ещё и лучами прожекторов с двух балконов.
Вдоль тёмного прохода в зале сновали участники балетной студии – переодеться между номерами у костюмерши тёти Тани.
Для наших инсценировок Раиса Григорьевна научила нас правильно держаться на сцене и как надо выходить из-за кулис, и что смотреть надо в зал, но не кому-то в глаза, а так, в общем, примерно, на пятый-шестой ряд.
Хотя, в резком свете прожектора направленного тебе в лицо, в темноте зала никого и не различишь дальше пятого ряда, да и передние видятся довольно смутно.
Так Клуб стал частью моей жизни и если я долго не приходил из школы домой, там не беспокоились – я пропадаю в Клубе.
Зимними вечерами нашим развлечением стало катанье на «колбасе» трамвая.
Это такая трубчатая решётка на пружинах под кабинкой водителя.
Мы поджидали трамвай на остановке, заходили ему в хвост, а когда вагон трогался с места, вспрыгивали на «колбасу», цепляясь руками за выступ под стеклом водительской кабины. Выступ совсем гладкий, вроде небольшого подоконника, поэтому приходится часто перехватываться и напрягать пальцы.
Трамвай громыхает и гонит, «колбаса» пружинно покачивает на стыках рельс – класс!
Самый разгонистый участок пути между Базаром и нашей школой.
Именно там однажды мои закоченелые пальцы начали соскальзывать с выступа, но Чепа крикнул «держись!» и придавил мою ладонь своею, но тут Куба сказал «капец!», потому что его пальцы тоже соскользнули и он спрыгнул на всём ходу, хорошо хоть в ствол тополя не врезался.
Но он нас догнал из темноты, пока трамвай дожидался встречного на развилке, и мы и дальше покатили вместе.
Так развлекались не только мы, а целые группы ребят нашего возраста.
Иногда нас столько понацепливалось, что пружинистая «колбаса» начинала чиркать по рельсам.
На развилковых остановках кондукторши выходили нас прогонять, мы отбегали, но прежде, чем трамвай успевал набрать ход навешивались заново.
Один раз вместо школьных уроков нас повели в завод на экскурсию.
Сперва в пожарную команду, недалеко от проходной, потом в цех по заправке кислородных баллонов, от них в кузнечный, где ничего не слышно за гулом вентиляторов и воем пламени в кирпичных печах.
Рабочие большущими клещами доставали из печей добела раскалённые болванки и переправляли их на наковальни гидравлических молотов.
Экскурсия постояла, наблюдая, как один рабочий клещами покороче переворачивает болванку по наковальне так и эдак, а сверху, проскальзывая между двух промасленных станин, по ней гахкает махина молота, чтоб выковалась нужная форма.
С болванки отслаивается чешуя окалины, а цвет её темнеет до алого, потом до тёмно-вишнёвого.
Но удивительней всего, что молот очень чуткий, умеет бить совсем слегка и даже останавливаться на полпути резкого разгона, а управляет им рабочая в платке, что сидит сбоку от станины и орудует парой рычагов.
На выходе из цеха, возле другого, примолкшего молота я увидел на асфальтном полу россыпь круглых таблеток из металла приятного сиреневого цвета, диаметром с юбилейный рубль, но куда толще.
Увесистый вышел бы биток переворачивать копейки в игре на деньги. К тому же, наверняка ненужные отходы, раз на полу валяются.
Я подобрал одну и тут же бросил – так сильно обожгла пальцы.
Какой-то рабочий, проходя мимо, засмеялся и сказал:
– Что – тяжёлая?
А в механическом цеху меня поразил строгальный станок – низенький такой, неширокий, не спеша снимает стружку с зажатой пластины металла, а на боку барельефная отливка – надпись с названием завода изготовителя этого станка. И эта надпись с твёрдыми знаками в конце слов, как писали до революции. Работает!
Ну, а дальше уже большой советский станок, тоже строгальный, резец бегает длинными прогонами, а рабочий сидит рядом на стуле и просто смотрит – вот работка, а?
Когда я дома поделился впечатлениями от экскурсии, то мама сказала, почему бы мне теперь не ходить в баню какого-нибудь цеха, вместо городской, куда надо ехать аж до площади Дивизий; тем более, что мама Вадика Кубарева работает на заводской градирне.
Я обсудил это предложение с Чепой и он ответил, что давно уже ходит мыться на завод, там есть бани и получше, чем на градирне, правда заводская только до восьми, но те, которые в цехах работают круглосуточно.
Конечно, через проходные на завод могут и не пустить, но с заднего конца, где втягивают вагоны на ремонт и вытаскивают готовые, путь открыт.
Но так далеко мы не ходили, ведь высокая стена вдоль Профессийной оборудована удобными перелазами, чтобы рабочие могли выносить с работы шабашку.
( …и вот опять приходится прерывать связь времён и перескакивать из Конотопа к Варанде; иначе как понять столичной жительнице из третьего тысячелетия обиходную речь середины прошлого века?
Тут без словаря Даля невпротык. Но и у него глубже «шабаша» ничего нет. Хотя там верно изложено, что слово «шабаш» служит сигналом окончания работы.
Языку потребовалось ещё сто лет, чтобы дожить до эпохи развитого социализма и произвести слово «шабашка».
Шабашка – это какое-нибудь нужное для дома изделие, изготовленное на работе, или просто вязанка досок наломанных там же по размеру домашней печки, шабашка – она, как бы, точка завершающая трудовой день.
Заценила мои этимологические старания?
Ну, и раз уж я тут, заползу-ка, пожалуй, в эту свою одноместную китайскую пагоду.
Что мне в ней нравится, так это её складные бамбучинки.
Хитрó вымудрили поднебесники – дюжина полметровых трубочек складываются в два упругих шеста по три метра, для натяжки на них палатки.
И эта входная сеточка на зиперах отлично работает – ни один комар не влетит, снаружи вон гудят кровососы – а, фига вам!
Сейчас скину портки, влезу в германский спальник, угреюсь и – кум королю!
Хорошо, когда на тебя работают древнейшая цивилизация Востока и самая технократическая нация Запада.
Хотя, если вдуматься, они только производители, а идеи – глобальное достояние, накапливаются сообща.
Вот всё тот же зипер: кто изобрёл? Не знаю, но вряд ли династия Цинь…)
Сцена это сложный механизм, помимо блочной системы раздвижки занавеса и электрощита со множеством рубильников и переключателей для управления её разнообразным освещением, высоко над нею ещё и целое хитросплетение металлических балок для подвески задников, светильников и боковых кулис.
Во время концертов мы не только стояли рядом с Аидой и не только болтали с молдаванско-запорожскими танцорами балетной студии, ожидавшими своего выхода на сцену, но и исследовали таинственный мир закулисья.
Обнаружилась вертикальная лестница на балкончик, с которого можно взобраться на балки над сценой и по ним перебраться на другую сторону, где точно такой же балкончик, но без лестницы – вот и заворачивай оглобли, недальновидный чунг.
Но что там – за этой дощатой перегородкой, что тянется над сценой от стены и до стены?
Ага! Чердак над зрительным залом!
Так созрел план создания отдельного входа на киносеансы – через чердак на балкончик, оттуда на сцену, дождаться как выключат свет – нырь под экран! – и ты в зале.
На первом этаже, рядом с комнатой художников, незапираемая дверь выходила на территорию завода и мы давно уж знали, что на крышу Клуба ведёт добротная железная лестница с перилами, а с крыши на чердак свободный вход через слуховой лаз.
Куба почему-то не захотел пойти на дело, предоставив нам с Чепой вдвоём исполнять план; и как-то тёмным зимним вечером, прихватив топор из Чепиного сарая, мы проникли на территорию завода, по одному из многих перелазов поверх его бетонной стены.
Затем мы беспрепятственно приблизились к зданию Клуба, поднялись на чердак и осмотрелись.
Чердак оказался обширным, с кольцеобразной железной загородкой в центре.
Приподняв её крышку, мы увидели прорези в круглом дне из листового металла, и догадались, что именно из неё свисает в зал громадная люстра с висюльками из стекляшек.
Из прорезей раздавались взрывы и автоматные очереди – кино про войну благоприятствовало исполнению наших не вполне законных намерений.
Подсвечивая фонариком по утеплительному покрытию из шлака под ногами, мы достигли место, где чердак пересекала дощатая перегородка и, приблизительно прикинув расположение надсценного балкончика по другую от неё сторону, приступили к осторожному расщеплению досок с целью пробиться сквозь них.
Доски оказались толстыми и неподатливыми, к тому же нам приходилось приостанавливать работу, когда внизу наступало затишье между боями.
Лишь прорубив одну из них, мы поняли, что не будет дела – перегородка оказалась из двух слоёв, а между ними прослойка листового железа.
Так что не удалось нам прорубить лаз в прекрасный мир киноискусства.
Умели в старину добротно строить…
А вскоре оказалось, что весь этот план не имел смысла, потому что Раиса Григорьевна научила нас брать контрамарки у директора Клуба.
Часам к шести Павел Митрофанович, как правило, бывал уже на взводе и когда кто-нибудь из детсекторников приходил к нему в кабинет с челобитьем, он, посапывая носом, отрывал полоску от листа бумаги на своём столе и неразборчиво писал на нём «пропустить 6 (шесть) чел.», или сколько в тот день набиралось желающих, а внизу добавлял витиеватую подпись длинною в полстроки.
Когда начинался сеанс, мы подымались на второй этаж, отдавали драгоценный бумажный клочок тёте Шуре, и она отпирала заветную дверь на балкон, подозрительно сверяя совпадает ли наше количество с иероглифами контрамарки.
Директор росту был небольшого, а сложения плотного, но не пузатый.
Чуть припухшее лицо подходило такому сложению, как и сероватые волнистые волосы, которые он зачёсывал назад.
Когда силами работников клуба и Завода ставили спектакль Островского «На бойком месте», он расчесал волосы прямым пробором посреди головы, напомадил и оказался самым настоящим купцом для пьесы.
Мурашковский исполнял роль помещика и выходил на сцену в белой черкеске, а в изуродованной руке, вместо платка, постоянно держал нагайку.
В постановке участвовала даже Заведующая Детским Сектором – Элеонора Николаевна. Наверное, её должность была выше, чем у Художественного Руководителя – Раисы Григорьевны, потому что она редко когда появлялась. И появлялась она всегда в длинных серёжках с блестящими камушками и в белых блузках с кружевными воротничками, а движения её рук были манерно заторможенные, в отличие от энергической жестикуляции Раисы Григорьевны.
Единственный раз, когда я видел Элеонору без тех длинных серег так это в спектакле, где она играла пойманную белогвардейцами подпольщицу.
Беляки посадили её в одну камеру с уголовницей, в исполнении Раисы, и она успела ту перевоспитать за власть Советов, до того, как её увели на расстрел.
Когда директора не оказывалось на месте, приходилось покупать билет в кассе рядом с запертой дверью его кабинета.
В один из таких разов я сел в ряду перед двумя своими одноклассницами – Таней и Ларисой.
Когда-то Таня мне нравилась больше, но показалась слишком недостижимой и я сосредоточился на Ларисе, после занятий старался догнать её по дороге, потому что она тоже ходила на Посёлок по Нежинской, но всегда вместе с Таней – они ведь соседки.
Когда Лариса была участницей Детского Сектора, я однажды проводил её по Профессийной до улицы Гоголя, потому что до своей – улицы Маруты – она не разрешила.
Таня тогда тоже участвовала в Детском Секторе и в тот вечер всё поторапливала Ларису шагать быстрее, но потом рассердилась и ушла вперёд.
Мы расстались на углу Гоголя и я пошёл по ней до Нежинской, восторженно вспоминая как мило смеялась Лариса на мой тупой трёп, но у выхода на Нежинскую, под фонарём возле обледенелой колонки, мои восторги оборвались.
Меня окликнули две контрастно чёрные на белом снегу фигуры. Обе принадлежали ученикам нашей, тринадцатой школы. Один из параллельного класса, а второй десятиклассник Колесников; они оба жили где-то на Маруте.
Колесников начал мне втолковывать, что если я ещё хоть раз подойду к Ларисе, и если он услышит, или ему скажут, и вообще – я понял чтó он мне сделает?
И эти толкования он повторял по кругу, немного меняя местами, а я вдруг почувствовал, как сзади что-то вдруг схватило меня за икру и треплет; я подумал, что это собака вцепилась и оглянулся, но там был только снежный сугроб и больше ничего.
В тот момент мне полностью дошёл смысл выражения «поджилки трясутся».
Я бормотал, что понял, он переспрашивал всё ли я понял, я говорил, что да, всё, но не смотрел им в лица, а думал, если б из нашей хаты сейчас подошёл за водой дядя Толик, бывший чемпион области по штанге в полусреднем весе.
Нет, не подошёл; в то утро я натаскал достаточно воды.
И вот теперь, при всём зрительном зале, я уселся перед парой своих одноклассниц, сознавая всё неосмотрительность такого поступка, но не в силах повести себя иначе.
Я обернулся к ним и что-то говорил в общем предсеансовом галдеже наполненного зала, но Лариса молчала, а отвечала только Таня, пока Лариса не обратилась ко мне:
– Не ходи за мной, а то ребята меня тобою дразнят.
Я не нашёлся что ответить, молча поднялся и по боковому проходу побрёл вдоль стены на выход, унося в груди осколки разбитого сердца.
А на подходе к последним рядам, моя чёрная печаль и вовсе обернулась мраком – в зале погас свет и начался фильм.
Я сел на свободное место с краю и перестал страдать: ведь это был «Винниту – вождь Аппачей»!
В хате номер девятнадцать по улице Нежинской старика Дузенко уже не было, на его площади проживали две старушки – вдова Дузенко и её сестра, переехавшая к ней из села.
И на половине Игната Пилюты осталась лишь Пилютиха. Она из хаты и носу не показывала и ставни выходящих на улицу окон порой неделями не открывались.
Наверное, она ходила всё же на Базар или в магазин, но мои с ней пути не пересекались.
В феврале бабу Катю вдруг отвезли в больницу.
Наверное, только для меня, с моей жизнью раздéленой между школой, Клубом, книгами и телевизором, это оказалось вдруг.
Когда хочешь везде поспеть, некогда примечать окружающее.
Я прибегал со школы и, звякнув калиткой, проходил на наше крыльцо под окном Пилютихи, в котором виднелся её профиль в распущенном чёрном головном платке и рука, вскинутая в сторону стенки между её и нашей кухнями.
Дома я бросал папку со школьными учебниками и тетрадями в расселину между диваном и этажеркой под телевизором и возвращался на кухню – обедать с братом и сестрой, если они ещё не поели.
Мама и тётя Люда готовили раздельно для своих семей и баба Катя обедала с Ирочкой и Валериком за тем же кухонным столом под стенкой, что отделяла от хаты Дузенко.
В дневное время по телевизору ничего не показывали, кроме заставки с кругом и кубиками: для настройки изображения с помощью мелких ручек на его задней стенке, если круг неровный, то у дикторов лица окажутся сплюснутыми, или наоборот.
Поэтому до пяти часов телевизор не включали и обед проходил под неразборчивый бубнёж за стенкой у Пилютихи, который иногда переходил в крик не понять о чём.
Я уходил в Клуб и, возвращаясь, опять видел в окне Пилютиху, в подсветке от лампочки в какой-то из её дальних комнат. На кухне она свет не включала.
После возвращения с работы всех четырёх родителей, Пилютиха добавляла громкости.
Отец говорил:
– Вот ведь Геббельс, опять завела свою шарманку.
Один раз дядя Толик приставил к стене большую чайную чашку – послушать о чём она там халяву развернула.
Я тоже прижал ухо к донышку – бубнёж приблизился и раздавался уже не за стеной, а внутри белой чашки, но так и остался неразборчивым.
Мама советовала не обращать внимания на полоумную старуху, а тётя Люда пояснила – Пилютиха всех нас проклинает через стену и, обращаясь к той же стене, сказала:
– И это вот всё тебе же за пазуху.
Не знаю, была ли Пилютиха полоумной – как-то ведь справлялась жить в одиночку.
Дочка её в конце войны уехала из Конотопа, от греха подальше – чтоб не придрались за её весёлое поведение с военными немецкого штаба, квартировавшего в их хате.
Сын Григорий получил свои десять лет за какое-то убийство. Пилюта умер. Телевизора нет.
Может затем и проклинала, чтоб не ополоуметь.
Баба Катя насчёт Пилютихи ничего не говорила, а только виновато улыбалась.
В какие-то дни она иногда постанывала, но не громче, чем приглушённые стеной речи Геббельса .
И вот вдруг приехала скорая и её увезли в больницу.
Через три дня бабу Катю привезли обратно и положили на обтянутый дерматином матрас-кушетку – остатки от былого дивана с валиками – на кухне под окном, напротив плиты-печки.
Она никого не узнавала и не разговаривала, а лишь протяжно и громко стонала.
Вечером все собирались перед телевизором и закрывали створки двери на кухню, чтобы не слышать её стонов и тяжёлого запаха.
В комнату же перенесли кровати Архипенков из кухни и ночевали вдесятером.
Ещё раз вызывали скорую, но те её не увезли, а только сделали укол.
Баба Катя ненадолго затихла, но потом снова начала метаться на кушетке, повторяя одни и те же вскрики:
– А божечки! А пробочки!
Через несколько лет я догадался, что «пробочки» это от украинского «пробi» – «прости господи».
Баба Катя умирала трое суток.
Наши семьи ютились по соседям – Архипенки в пятнадцатом номере, а мы в двадцать первом, на половине Ивана Крипака.
Взрослые соседи давали родителям невразумительные советы, что в нашей хате нужно взломать порог, или какую-то там половицу.
Самое практичное предложение внесла тётя Тамара Крипачка, жена Ивана Крипака. Она сказала, что кушетка с бабой Катей стоит под окном с полуоткрытой форточкой и свежий воздух продлевает её страдания.
В тот же вечер, мама и тётя Люда ненадолго заглянули в нашу хату, прихватить ещё одеял, потушили там свет и, когда уже вышли на крыльцо, тётя Люда подкралась к кухонному окну и плотно прикрыла форточку.
Она так же крадучись спустилась ко мне и маме – я держал одеяла – улыбаясь, как напроказившая девочка, или так уж мне показалось в темноте безлунной зимней ночи.
Утром мама разбудила нас на полу в столовой хаты Крипаков известием, что баба Катя умерла.
На следующий день были похороны. Я не хотел идти, но мама сказала, что я должен.
Меня жёг стыд; казалось – всем известно, что бабу Катю удушили её же дочери. Поэтому я отпустил уши своей кроличьей шапки и сдвинул её на глаза. Так и прошёл весь путь от нашей хаты до кладбища, повесив повинную голову и глядя в ноги шагавших впереди.
А может никто и не догадался, что это я от стыда, потому что дул сильный ветер и хлестал по лицу жёстким снегом.
На кладбище, когда рядом с кучей чёрной земли на снегу в последний раз взвыли трубы, все заплакали – и мама, и тётя Люда, и даже дядя Вадя.
( …живя всё дальше и дальше, мы становимся необратимо черствее; когда-нибудь и я обернусь железным сухарём из котомки скиталицы, бродившей в поисках Финиста – ясна сокола…)
Известие о смерти Юрия Гагарина поразило нас, но не так трагично, как гибель Комарова за одиннадцать месяцев до него – чёрствость уже научила нас, что даже космонавты смертны.
Теле-диктор, опустив глаза в листок с текстом, прочитал, что, при выполнении тренировочного полёта на реактивном самолёте, Гагарин и его напарник Серёгин разбились при заходе на посадку.
Потом он поднял взгляд и объявил траур.
Когда человек читает с листа бумаги, это не значит, что он прячет глаза от стыда, просто у него работа такая, иначе откуда ещё мы узнавали бы новости?
Конечно, остаются ещё слухи, но они приходят неизвестно откуда и неизвестно насколько они правдивы, ведь нет ни дат, ни очевидцев.
Незадолго до смерти Гагарина, я слыхал в разговорах взрослых, что он не такой уж и безупречный герой, потому что зазнался и не хранит верность жене. Тот шрам на правой брови заработал выпрыгивая со второго этажа от любовницы.
( …но кому нужны нынче всякие слухи, или, там, факты?
Для моего сына Ашота и, значит, всего его поколения Гагарин – просто имя из учебника истории, как для меня был, скажем, Тухачевский.
Слетал? – молодец. Расстреляли? – жаль.
И пошли жить дальше, черствея над своими проблемами, не задаваясь вопросами: как да почему.
Но для меня Гагарин не учебник, а часть моей собственной жизни и, покуда я жив, мне интересно разобраться что же в ней было, как и почему. И тут уже попробуй не полюбить такого помощника, как интернет.
Владимир Комаров знал, что из полёта живым он не вернётся, потому что его дублёр, Юрий Гагарин, осматривая космический корабль «Восход», обнаружил более двухсот неисправностей, о чём составил письменный доклад на десяти страницах и передал, через своё командование, Брежневу.
Командование доклад не передало, знали – Брежнев не изменит дату запуска, иначе американцы обгонят.
Комаров мог отказаться идти на смерть, но тогда бы полетел его дублёр – Гагарин, и он не отказался.
В день запуска Гагарин явился на стартовую площадку облачённым в скафандр космонавта с требованием, чтобы отправили его, а не Комарова, но его не послушали.
После захоронения праха Комарова в Кремлёвской стене, рядом с прахом маршала Малиновского, поведение Гагарина в отношении вышестоящих стало крайне вызывающим и бесконтрольным, по непроверенным слухам, на одном из правительственных банкетов он плеснул спиртным в лицо Брежневу.
Американцы не верят в правдоподобность подобного инцидента не потому, что они тупые, а просто у них другая грамматика.
В русском языке «мать» и «смерть» одного рода, так что для русского мужика между ними, сознательно или бессознательно, есть нечто общее.
Ну, как перевести на американский язык слово «смертушка», если у них есть только «мистер Смерть»?
Не всё укладывается в голове, пока не прочувствовал.
Вот так, запхав противотанковую мину под ремень, с криком «мама! роди меня обратно!» бросаются под танки, и пусть потом ломают головы об загадочность русской души.
Разгадка в языке.
Гагарина не отчислили из отряда космонавтов – он принадлежал уже всей планете.
Посещал занятия, делал тренировочные вылеты.
Знал ли, что «тик-так» уже запущен?
Думаю – да, в космонавты отбирали не только за физические, но и умственные данные.
Не знал только где и когда.
27 марта 1968 года Юрий Гагарин погиб в авиационной катастрофе вблизи деревни Новосёлово Киржачского района Владимирской области.
Утро было туманное, тренировочный полёт на самолёте МИГ закончен, до аэродрома оставалась пара минут, высота пятьсот метров и тут из низких облаков свалился реактивный СУ, который по лётному плану на это утро должен был летать на высоте четырнадцати километров в совсем другой стороне.
Управляемый опытным лётчиком-испытателем, громадный, по сравнению с тренировочным МИГом, СУ промчался рядом с заходящим на посадку самолётом и тот, захваченный турбулентностью, завертелся, как щепка в буруне, вошёл в штопор и рухнул в лес.
Звук взрыва донёсся до аэродрома.
Имеющий уши да услышит.
Фадеев – Хрущёв; Гагарин – Брежнев.
Понимающий да уразумеет.
И снова меня занесло: взялся рассказывать о себе и вдруг посторонние лица, с которыми я в жизни не встречался и лишь теперь понимаю, что и они – часть меня.
Ладно, хватит умничать; возвращаюсь в шестьдесят восьмой год, когда мне идёт пятнадцатый год и…)
Возмущает, что гады чехи – поддавшись на агитацию ЦРУ, затеяли контрреволюцию в дружном лагере социалистических государств, загородили дорогу детскими колясками и наш танкист, чтоб не наехать, круто завернул свой танк, упал с моста и погиб, как сообщили в программе «Время».
Потом, конечно, коммунистическая партия навела в стране порядок с помощью военного контингента из братских стран и мы стали жить дальше.
Между прочим, Конотоп в те времена превосходил многие более крупные города в развитии телевидения, потому что у нас по телевизору показывали целых два канала. Один – ЦТ, то есть центральное телевидение с программой «Время», новогодними огоньками, КВНом и хоккеем, а второй – городская телестудия, которая вещала только по вечерам, но зато кинофильмы показывала чаще, чем на ЦТ.
Поскольку цветных телевизоров тогда ещё и в помине не было, то на экран нашего отец натянул лист прозрачной слюды, но с оттенками, чтоб та придавала небу голубизны, траве – зеленоватости и так далее.
Говорили, что под этой слюдой лица дикторов получаются более телесного цвета.
Я таких тонкостей не мог различить, хоть, вроде, и не дальтоник.
Такая слюда вошла в моду по всему Конотопу и этот лист дядя Толик привёз с работы, а он был фрезеровщиком в Рембазе, где ремонтируют вертолёты и, значит, должны разбираться в таких делах.
Телеканалы переключались щёлканьем большой ручки пониже экрана, но в дневное время ЦТ и городская студия показывали только беззвучный круг для настройки, а на всех остальных шипел крупнозернистый «снег» и прыгали белые полосы.
Однако, каждый день ровно в три кто-то из технических работников конотопской телестудии включал на полчаса музыку – ноктюрн Таривердиева, песни в исполнении Валерия Ободзинского или Ларисы Мондрус на фоне всё того же настроечного круга.
Мы – Саша, Наташа или я – непременно включали послушать, хотя записи почти не менялись и мы на память уже знали что за чем будет.
Помимо того, в Конотопе расплодилось множество независимых подпольных радиостанций, которые выходили в эфир в диапазоне средних волн; тут тебе и «Король кладбища», и «Каравелла» и кто ещё как вздумает назваться.
Их недостатком была нерегулярность – неизвестно когда включать приёмник, чтоб услышать «привет всем, в эфире радиостанция «Шкет», кто меня слышит подтвердите» и вслед за этим врубается Высоцкий хрипло орущий про опального стрелка или как мы прём на звездолёте, а у дельфина вспорото брюхо винтом…
Потом вмешивалась радиостанция «Нинуля» и начинала доказывать «Шкету», что тот сел не на свою волну и что «Нинуля» уже неделю выходит именно в этом диапазоне.
Они начинали переругиваться:
– Шо ты тут ото возбухаешь? Дывысь, як заловлю ото на Миру – пилюлéй навешаю!
– Шмакодявка! На кого бочку катишь? Давно в чужих руках не усцыкался?
– Поварнякай мне, так допросишься.
– Закрой хлебало!
Но мата не было.
Отец говорил, что даже наш приёмник-радиолу можно в два счёта превратить в такую радиостанцию, только нужен микрофон.
Но на наши с Чепой просьбы превратить, а микрофон мы достанем, он отвечал отказом, потому что это радио-хулиганство и по городу ездят специальные машины, чтоб хулиганов этих запеленговать, а потом штраф и конфискация всей радиоаппаратуры в хате, вплоть до телевизора.
Иногда же эти хулиганы вместо Высоцкого затевали долгие переговоры о том у кого какой есть конденсатор и на какие диоды он согласен поменять, и договаривались встретиться на Миру.
– А как я тебя узнаю?
– Ничего, я тебя знаю – сам подойду.
Поэтому мы возвращались на круг настройки в телевизоре к сто раз слышанному, но более надёжному Ободзинскому.
Мир, как, наверное, уже говорилось – это площадь перед одноимённым кинотеатром, обрамлённая длинными пятиэтажками.
В центре её гранитный обод большого фонтана, что включался раз в два года и бил кверху высокой белой струёй.
От широких ступеней крыльца главного входа кинотеатра к углам площади расходятся лучи асфальтных дорожек обсаженные красивыми каштанами, как и её тротуар вдоль проспекта Мира; под каштанами газоны зелёной травы с парой протоптанных тропинок, а в аллеях и вокруг фонтана – редкие длинные скамейки из крашенных деревянных брусьев.
Тёплыми вечерами на площади начинался «блядоход» – неторопливые, плотные волны прохожих шли вдоль аллей, но площадь не покидали, а всё кружили и кружили, просматривая лица и одежды точно такого же встречного потока или тех счастливчиков, кому досталось место на скамейках.
Асфальт аллей устилал мягкий ковёр шелухи, плотневший вкруг скамеек, потому что и циркулирующие, и усевшиеся непрестанно грызли чёрные семечки, сплёвывая несъедобную их часть.
Иногда и я проходил в том потоке, направляясь к остановке трамвая после закончившегося в кинотеатре сеанса, но редко, потому что от одной серии «Фантомаса» до другой приходилось ждать по полгода.
Днём же скамейки по большей части пустовали, правда один раз с одной из них меня и Кубу окликнули пара взрослых парней с требованием мелочи.
Куба стал заверять, что у нас нет, а я предложил:
– Сколько выпадет – забирай!– и с этими словами выдернул левый карман своих брюк, ещё и прихлопнул по его висящему наизнанку мешочку.
Правый беспокоить я не стал, потому что там было копеек десять на трамвай.
Парень оглянулся по сторонам и пообещать пришибить меня, но со скамейки не поднялся.
Мы пошли дальше и Куба выговаривал мне за наглость, с которой я нарываюсь схлопотать по морде.
Наверно, он был прав, а мне это просто не пришло в голову от увлечённости идеей сделать красивый жест – выдернуть пустой карман.
Что выручило? Возможно, вымогатель решил, что за мной есть кто-то из авторитетных хлопцев, иначе с чего бы я так безоглядно борзел?
– Явился, не запылился, Сергей Огольцов из Конотопа,– сказала Раиса Григорьевна, когда мы с Чепой входили в комнату Детского сектора.
Увидев, что я не понял юмора, она протянула журнал «Пионер», раскрытый на странице с рассказиком, под которым чётким чёрным шрифтом стояло: «Сергей Огольцов, г. Конотоп».
Я уже и думать забыл, как прошлой осенью послал на объявленный журналом конкурс две тетрадные странички про разговор с гномиком, что примерещился задремавшему мне.
И вот вдруг – на тебе!
До чего сладко пахла краска свежего номера журнала!
У меня как-то ослабли ноги и почувствовался мягкий удар в затылок, но почему-то изнутри.
Я опустился на сиденье одного из трёх пошарпанных кинозальных кресел вдоль трубы под окном и прочитал публикацию, в которой почти ничего и не осталось от того, что я им посылал, а гномик рассказывал про какого-то кинорежиссёра Птушко.
Впрочем, ни в Детском секторе, ни дома я ни с кем не поделился, что большая часть рассказа написана не мною – в конце концов, не каждый день тебя печатают в толстом ежемесячном журнале.
К началу лета мама растолстела и отец завёл с нами – своими детьми – разговор: не хотим ли мы, чтоб у нас появился ещё братик? Назовём например, Алёшкой, а?
Наташа сморщила нос, Сашка молчал, а я пожал плечами и сказал:
– Зачем?
Прибавление семейства казалось мне не то, чтобы стыдным, но как-то неловким – слишком велика возрастная разница между родителями и предложенным младенцем.
Больше отец не начинал подобных разговоров, а через пару недель я случайно услышал, как мама говорила тёте Люде:
– Я приняла таблетки, а тут ещё в ларёк бочки с пивом завезли, их тоже покатала и – всё.
Так в нашем поколении конотопских Огольцовых мы остались втроём, без изменений, а мама навсегда осталась толстой.
Её ларёк стоял на центральной аллее городского парка напротив площади Мир.
Он походил на застеклённую круглую беседку под жестяной крышей. Сзади была железная дверь, что запиралась висячим замком, а торговля велась через открытое на дорожку окно, под которым вытарчивал квадратный прилавок.
Кроме пива в тёмных деревянных бочках, в которые вставлялся шланг с креплением, чтоб оно подымалось в кран рядом с окошком, в ларьке было ещё печенье, развесные конфеты, пачки табачных изделий, ситро, проволочные ящики с бутылками плодово-ягодного вина «Билэ Мицнэ», с грузинским «Ркацетели» и ещё непонятно чьим под названием «Рислинг», которое никак не распродавалось.
Белое неплохо раскупалось, потому что поллитровая бутылка стоила один рубль и две копейки.
Папиросы с сигаретами тоже не залёживались, но главным двигателем торговли было пиво. Когда случалась задержка и его несколько дней не подвозили с торговой базы ОРСа – отдела рабочего снабжения – мама начинала вздыхать, что в этот месяц ей не удастся выполнить план и значит получку срежут.
Жизнь моя катилась наезженным путём и его колея, почему-то пролегала в стороне от городского парка, хотя младшие иногда хвастались, что заглянули к маме на работу попить ситро бесплатно.
Впрочем, однажды я провёл в ларьке почти целый день из-за разведчика Александра Белова.
В те бездонно давние времена невозможно было подписаться на ежемесячный журнал «Роман-Газета». Найти его удавалось лишь в библиотеках или у какого-нибудь счастливчика, который взял почитать у предыдущего счастливчика.
Журнал оправдывал своё название – печатался на газетной бумаге, по два столбца на странице, но по толщине не уступал журналу «Пионер» или «Юность».
Если какой-то роман не помещался в одном номере, его продолжение допечатывали в следующем. Правда, иногда, отклоняясь от названия, в нём помещали повести, рассказы и, совсем уж изредка, стихи, но не более двух авторов в номере.
И вот разнёсся слух, что в «Роман-Газете» напечатан «Щит и Меч» Вадима Кожевникова. Я спросил в библиотеке Клуба, но мне сказали, что все три номера на руках и за ними уже целая очередь.
Когда мама сказала, что ей на работе дали «Щит и Меч» на два дня, мои накатанные рельсы враз развернулись в сторону ларька, куда я и пришёл на следующий день чуть ли не до его открытия.
Сначала я читал в ларьке, сидя на ящике с пустыми бутылками, потом догадался выйти на недалёкую скамейку, возвращаясь лишь для обмена номеров журнала да посидеть, пока мама сходит в парковский туалет; тут я даже ещё и продал что-то.
К концу дня я прожил с разведчиком Беловым, он же Иоганн Вайс, карьеру от рядового солдата германской армии до офицера абвера.
Днём торговля шла вяло, потому что пиво кончилось и пустые бочки громоздились возле железной двери ларька, но с наступлением сумерек, когда я перешёл в ларёк дочитывать последний номер под висящей с потолка тусклой лампочкой, уже под конец второй мировой войны, поток покупателей стал нарастать.
Я сложил прочитанные журналы стопкой на коробке у двери.
Поток превратился в очередь, плотно сбившуюся перед выступом квадратного прилавка. Поверх него к окошку тянулись руки с мятыми рублёвками и пригоршнями копеек.
Мама сказала:
– Подожди. Через полчаса закрываюсь. Поедем домой вместе.
Я сидел у самой двери, чтоб не мешать, но и через полчаса на центральной аллее не стихала толкучка перед ларьком.
– Мамань! Две пляшки «биомицина» и печенья грамм сто!
– Тётя! Тётя! Пачку «Примы»!
– Сестрёнка! Бутылку «белого»!
– «Белое» кончилось.
– А вон в ящике что?
– Это «Ркацетели», за рубль тридцать семь.
– Ладно, давай! Чтобы дома не трандели будем пить «Ркацетели»…
Наконец, грузинское тоже кончилось, толпа рассосалась; мама опускает фрамугу окошка, но приходится снова открыть – под фонарями аллеи прибежал опоздавший – и, с горя, что всё кончилось, выпросил продать ему бутылку дорогого непонятного «Рислинга» за рубль семьдесят восемь, хотя торговать спиртным уже полчаса, как нельзя.
Когда мама заперла ларёк и мы шли к трамвайной остановке на Миру, я спросил:
– Мам, это у тебя каждый день такое творится?
– Нет, Серёжа. Просто сегодня – воскресенье.
А летом нас снова ждёт Кандыбино, но теперь кроме плавок и бутерброда с плавленым сырком надо не забыть колоду карт.
– Чей ход?
– Твой.
– Без балды?
– Чепа ж сдавал. Ходи!
– Ходят тут всякие, а потом плавки пропадают…
На каждом пляжном одеяле между смородинных кустов идут баталии в «дурака», он же «подкидной», под музыку из портативных радиоприёмников.
Самым завидным считался, конечно, «Спидола», рижского радиозавода, размером с тетрадку, а толщиною в кирпич.
В его чёрном пластмассовом корпусе таится телескопическая антенна, которую вытаскивают за кнопку на конце самой тонкой её секции, чтоб получилась поблескивающая никелировкой удочка для ловли коротких волн.
Длинные и средние волны приёмник принимал без выдвигания антенны.
Ловить радиостанции на коротких волнах – занятие безнадёжное; половина диапазона тонет в шипении, треске и вое, которыми наши глушат «голоса» на службе у ЦРУ: «Голос Америки», «Радио Свобода», лондонскую Би-Би-Си.
Так что на пляже все слушали радиостанцию «Маяк» всесоюзного радио, которая передавала сигналы точного времени и новости каждые полчаса, а остальной эфир заполняла концертами по заявкам радиослушателей.
Но одному на Кандыбино лучше не ездить, и не только потому, что не с кем будет играть в карты, но и для безопасности.
Однажды, не вняв предупреждению Кубы и Чепы я в одиночку переплыл Кандыбино к невысокой дамбе рыбных озёр.
На том берегу оказалась группа ребят моего возраста. Один спросил меня на украинском:
– Пеку бачыв?
– Какого Пеку?– удивился я и получил от него удар в челюсть.
Они все попрыгали в воду и уплыли.
Больно не было, а только обидно. Наверное, загребельские хлопцы. И что, спрашивается, я им сделал?
( …в те недостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои невзгоды или радости, исходят от той сволочи в непостижимо далёком будущем, которая сейчас слагает это письмо тебе, лёжа в палатке посреди тёмного леса под неумолчное журчанье струй реки по имени Варанда…)
Кроме Кандыбино в Конотопе есть и другие места купания. Например, заполненная водою балка посреди поля за Посёлком.
Там иногда бывало очень людно, даже из Города приезжали ребята.
А мы втроём пару раз на своих велосипедах ездили на речку Езуч – это совсем другой край города.
Течения там почти нет, на берегах зелёная трава и толстые ивы; и глубина не маленькая – в одном месте даже стояла вышка из железных труб для прыжков в воду.
Арматурная лесенка вела на два уровня: высотой в три и в пять метров.
Мы не сразу решились прыгнуть с трёхметрового выступа и то не «головкой», а «бомбочкой», то есть пятками книзу.
Забирались и на пятиметровую секцию, но, посмотрев как далеко внизу вода оттуда, молча спустились.
Даже Куба.
Уже уезжая, мы видели как один взрослый прыгнул с пятиметрового «ласточкой».
Единственный недостаток Езуча – его безлюдье. Кроме нас и одинокого ныряльщика никого там не оказалось.
А самое популярное место летнего отдыха конотопчан это, конечно же, пляжный Залив на реке Сейм – всего две остановки пригородной электричкой от Вокзала.
Но в то лето я туда не ездил.
Не потому, что билет стоит двадцать копеек – в крайнем случае можно и «зайцем». Народу на Сейм набивается столько, что контролёры не успевают протиснуться по всем вагонам за десять минут.
И не потому, что каждое лето Сейм пожинает угрюмую жатву из двух-трёх утопленников – молодые совсем ребята, которых потом хоронят многолюдными похоронами.
Нет, конечно, ведь со мной ничего такого случиться не может.
Просто на Сейм ездят по выходным, как раз в те дни, когда мы с дядей Толиком отправляемся на рыбалку.
Хотя пару раз мы заскакивали и на пляж – так, по пути – с привязанными к багажнику удочками.
Один раз даже с ночёвкой, километра за два от пляжа.
Это когда его брат, дядя Витя приехал из Сум свататься к тёте Наташе из пятнадцатого номера на Нежинской, где Архипенки ночевали во время кончины бабы Кати.
У дяди Вити все волосы на месте – светло-русые, торчком зачёсанные кверху, как у стиляг из начала шестидесятых.
Ему уже за тридцать, но и тётя Наташа из пятнадцатого тоже не девочка. Зато вся хата ихняя – только она да двое родителей.
В ту субботу на место ночёвки мы тоже приехали с удочками, чтобы на следующий день ловить рыбу.
Но отец тёти Наташи ещё не успел привезти на своём «москвиче» всех ночующих в условленное место.
Чтобы скоротать время, мы с дядей Толиком поехали в пионерский лагерь в сосновом лесу, за полкилометра от Залива.
И пока дядя Толик сгонял куда-то ещё «тут недалеко», я посмотрел в лагере кино «Миллион лет до нашей эры», про то, как черноволосый Тумак, изгнанный своим племенем, насадил на толстый кол ящера-динозавра и племя светловолосых блондинов приняло его, потому что этим он спас блондинистого ребёнка.
Когда кино кончилось приехал дядя Толик и мы вернулись к месту ночёвки, где уже все собрались – тётя Люда с Ирочкой и тётя Наташа со своим отцом, и дядя Витя с его и дяди Толикиным третьим братом.
Они уже поставили палатку и позади неё в темноте смутным пятном белел «москвич», а перед ней горел тихий костёрчик.
В ночном небе звёзд было больше, чем тьмы.
Я спустился по крутому берегу к песчаной косе и потрогал воду течения. Она оказалась такой тёплой, что я не удержался и вошёл в реку. Нырять я не стал, а просто побродил по песчаному дну вдоль берега.
Потом сюда же спустились дядя Витя с тётей Наташей.
Он, несмотря на её уговоры, захотел искупаться, а я вышел и поднялся наверх к костру, вокруг которого стало уже совсем темно.
Потом я подполз к краю обрыва и посмотрел вниз.
На фоне отблескивающих в реке звёзд различались два приникшие друг к другу силуэта – так романтично.
Наверное, моя голова тоже различалась снизу на фоне усыпанного звёздами неба, потому что дядя Витя крикнул «падла!» и махнул рукой.
Невидимая в темноте галька ударила меня в лоб. Я крикнул:
– Мимо!– и откатился от края.
Конечно, я соврал – какой там «мимо», если так больно.
Потом они поднялись к костру и дядя Витя спросил у меня:
– Знаешь, что такое «напальчники»?
Я ответил, что не знаю, а он сказал мне встать во весь рост и, когда я послушался, упёр свой кулак мне в подбородок и резким толчком опрокинул на землю.
– Вот это «напальчники»,– сказал он.
Лёжа рядом с костром я сказал:
– Дядя Витя, у моего друга Кубы есть поговорка «врач на больных не обижается».
Но мне всё равно было обидно.
Женщины с Ирочкой ночевали в машине, а остальные в палатке.
Наутро мы с дядей Толиком поехали в другое место ловить рыбу, но улов оказался совсем никудышным – кот наплакал.
Дядю Витю я больше не видел, потому что их свадьба была в Сумах и жить они остались там же.
Посреди лета, посреди недели и даже посреди рабочего дня дядя Толик неожиданно приехал с работы.
– Неси удочки!– крикнул он с порога.
Привязывая их к багажнику «явы», он объявил, что на Кандыбино прорвало дамбу рыбных озёр и вся рыба ушла в Езуч.
Мы промчались через весь город, по загребельскому мосту переехали на другой берег Езуча и, сбавив скорость поехали вдоль реки, выбирая место.
Мест почти не оставалось – вдоль всего берега, как и на той стороне, сплочёнными рядами стояли мужики и пацаны с удочками, забрасывая крючки, выдёргивая их с добычей или без.
Это был стихийный выходной.
Это была демонстрация рыбачьих сил.
( …до сих пор задаюсь вопросом: был ли прорыв рыбных озёр связан с сумасшедшим летом 68-го во Франции, или же тамошняя революционная ситуация сложилась в результате Кандыбинских событий?
Хотя, возможно, и то, и другое связано с иной, но, несомненно, общей причиной…)
Дядя Толик поймал трёх зеркальных карпов, а мне совсем не повезло.
Через несколько дней мы с Чепой пошли на Кандыбино пешком.
Рыбные озёра лежали, как большое поле покрытое грязноватой коркой полусухой тины. Кое-где ещё зеленели полёгшие водоросли.
В одном из таких мест оказалась мелкая, но длинная яма битком набитая ещё живыми рыбами.
Мы доставали их прямо руками. Не очень крупные рыбёшки – сантиметров по двадцать.
У Чепы была с собой мелкосетчатая сумка, а мне пришлось снять майку и завязать её узлом снизу, чтоб было в чём нести улов.
Дома рыбу пожарили – хватило на обе семьи и даже Жульке досталось.
Тётя Люда смеялась над дядей Толиком, мол, ездит-ездит, а ни разу столько не привёз.
Лето – пора ремонта и реконструкции.
Отец прорезал глухую стену на веранде, в отсеке керогаза, и вставил небольшую раму с остеклённой створкой. С дневным светом там стало намного уютнее и не нужно всё время щёлкать выключателем электролампочки.
Потом пришёл черёд кухни – из неё всё вынесли во двор, кроме холодильника возле входной двери, и мама с тётей Людой в тот же день сделали побелку стен, потолка и плиты-печки.
Они работали допоздна, потом вымыли на кухне пол и ночевать всем пришлось в нашей комнате.
Наташа уступила свою раскладушку Ирочке и Валерику, а сама вернулась на своё давнишнее место в ногах дивана, который делили мы с братом.
Середину комнаты занял толстый матрас с кровати старших Архипенков и места совсем не осталось – нужно смотреть где идёшь.
Мы с Сашкой уже улеглись на диване, пока что не поджимая ног, так как тётя Люда решила искупаться на кухне и все остальные ещё смотрели телевизор.
Она принесла со двора зеркало в прямоугольной деревянной раме и повесила на прежний гвоздь над холодильником; налила в жестяное корыто горячей воды и задёрнула полосатые портьерки между кухней и нашей комнатой.
Свет в нашей комнате потушили, чтобы лучше различать экран телевизора и в нём опустили звук, но я всё равно бурчал, что мешает заснуть. На это мне как обычно ответили:
– А ты не слушай; укройся с головой и – спи.
Тётя Люда плескалась на кухне, потом позвала дядю Толика помыть ей спину.
Когда он вернулся и сел на раскладушку со своими детьми, я заметил, что между портьерками остался неширокий просвет, через который видно зеркало над холодильником, где отражались доски пола, край корыта и часть спины сидящей в нём тёти Люды.
И тут я сделал, как мне было сказано – укрылся с головой. Но спать не стал.
Край одеяла я примостил на деревянную боковину дивана, заломил двускатным шалашиком и смотрел на всё, что можно было высмотреть в далёком зеркале.
А высматривать, практически, нечего – мокрые доски пола в ошмётках мыльной пены, рука и плечо под чёрными волосами. Затем остался один лишь пол и край пустого корыта, потому что тётя Люда вылезла из него.
Но потом она снова появилась в зеркале и уже ближе, потому что подошла к нему снизу, с полотенцем на поясе и голой грудью.
Она чуть улыбнулась, облизнула губы и посмотрела прямо мне в глаза через мой одеяльный перископ.
Я зажмурился и больше не открывал глаз, а только слушал, как она вытирает там пол, приходит в нашу комнату; как выключают телевизор, все укладываются и гасят свет.
Только тогда я стянул с головы одеяло.
В комнате была кромешная тьма.
Чуть погодя в темень вплелись разнообразные посапывания со всех сторон, а затем снизу, от матраса Архипенков на полу, донеслось мерное поскрипывание, словно словно там стискивали и попускали тюк соломы.
Я не стал оборачиваться.
Во-первых, всё равно темно – хоть глаз выколи, а во-вторых, при моей начитанности, и не глядя ясно, что они там занимаются любовью.
Через полгода, зимним вечером, когда мы с Чепой ходили в Завод мыться, он позвал меня заглянуть в окна женского отделения общей бани освещённые изнутри.
Я не стал.
Постеснялся его присутствия?
Не знаю.
Но даже когда я ходил мыться один, в те окна не подглядывал.
Посреди лета Раиса Григорьевна попросила нас тряхнуть стариной и выступить со спектаклем кукольного театра в детских садиках города. Всего за неделю мы обслужили штук десять.
Утром приезжали в указанный ею садик, устанавливали в его столовой ширму, привéзенную заводским грузовичком, вешали задник, ставили перед ним штативы с избушкой и ёлочкой, показывали представление почтенной карапузной публике и переезжали в следующий; мы трамваем, а декорации на грузовичке.
В некоторых садиках нас подкармливали стаканом горячего молока с булочкой.
Куба намекал, что мы пашем «за спасибо» и неизвестно сколько огребáет Раиса, уединяясь с директрисами в их кабинетах, но меня это не колыхало.
Она нас каждый день угощала мороженым, к тому же самым дорогим – пломбиром, а один раз сводила всех в кино на Воронцове и не её вина, что «Западный коридор» оказался таким жутким фильмом, но главное вряд ли наш недельный заработок покроет стоимость контрамарок в Клубе, которые, с её подачи, нам беспрекословно год за годом выписывал директор Павел Митрофанович.
Не Клубом единым жив человек и, помимо храма Мельпомены в рамках Детского сектора и контрамарок в кино, меня всегда влекло зодчество, но упражняться в нём можно было лишь во дворе нашей хаты.
Родители позволили построить там шалаш с опорой на забор к Турковым, но чтоб никому из населения нашей хаты не перекрылся доступ к их сараям.
За стройматериалом мы с братом и Чепой отправились в Рощу, где, бродя по топким кочкам Болота, нарезали две вязанки двухметровых хлыстов и привезли домой на велосипеде, а к ним впридачу кучу тонких веток с зелёной листвой.
Из хлыстов мы связали решётчатую крышу, скрепив их кусками проволоки и всякими верёвочками. Одним краем она лежала на верхней слеге забора, а другим на боковых опорах из тех же хлыстов.
Когда мы сбоку навязали хлысты потоньше, получилась симпатичная клетка с широкими просветами меж прутьев, которые мы покрыли ветками с листвой.
В шалаше приятно пахло древесными листьями и он радовал глаз своим наличием в дальнем углу двора.
Через неделю листва завяла, но ещё раньше улеглись восторг и упоенье созиданием.
Встал, хоть и не выраженный словами, вопрос: а дальше что?
Не станешь же создавать тимуровскую команду лишь потому, что у тебя во дворе есть подходящий для штаба шалаш. Да и возраст не тот.
Так что мы с Чепой вернулись к обычному времяпрепровождению – тренировка в метании кухонного ножа в корявую кору американского клёна возле древнего штабеля ветхих кирпичей, потому что в том году до конотопского кинопроката, в конце концов, докатились «Неуловимые мстители», где летящий нож вонзается в белый ствол берёзы.
Листья на шалаше засохли, искрошились и осыпались, но клеткообразный остов простоял ещё пару лет.
Строительный зуд во мне не стихал, но следующее творение я создал в одиночку.
Наш и Дузенкин погребники стояли не вплотную друг к другу, а с промежутком чуть шире полуметра. Промежуток был заколочен досками, но лишь с лицевой стороны, а если зайти сзади – вдоль соседского забора – в него вполне даже получалось втиснуться.
Тут я и соорудил свой личный кабинет; кусок фанеры под лицевой загородкой служил письменным столом, а обрезок доски, прибитый между стенками погребников – табуретом.
Меблировка более, чем спартанская, зато никто не претендует – ни мои брат с сестрой, ни маленькие Архипенки.
Ну, допустим, залезут, когда я не дома – а толку?
Когда закончилось строительство кабинета, вновь встал извечный для творца вопрос: что дальше?
Это хорошо, что есть место для уединённых умосозерцаний, в котором меня никто ниоткуда не видит; за исключением, пожалуй, Жульки – ему явно не нравилось моё соседство и он недовольно уходил в будку, волоча за собой свою железную цепь.
Но чем заняться в этом уединении?
Выручила моя склонность к графомании.
Не знаю в чём она должна, по научному определению, выражаться или проявляться, но я всегда чувствовал тягу к новеньким тетрадям, альбомам, блокнотам и что там ещё бывает из писчебумажных изделий.
Вот так и тянет раскрыть и покрыть строками своего корявого почерка их нетронутую чистоту.
Дело лишь за малым – найти содержание для этих самых строк.
Для начинающего графомана и это не вопрос. Я взял понравившуюся мне повесть про циркачей в бурные годы гражданской войны, нашёл оставшуюся после учебного года толстую тетрадь в клеточку и уединился с ними в своём кабинете.
( …странный научный факт: когда дело касалось выполнения письменных домашних заданий, графомания моя куда-то испарялась…)
Разложив всё на фанерке стола, я принялся переписывать из книги в тетрадь.
Вопросом о цели своей писанины я не задавался – мне нравился сам процесс.
Процесс дошёл до середины второй главы, а потом нежданно наступило ненастье, в кабинете стало сыро и холодно и приключенческая повесть так и осталась недопереписанной.
Для хорошей погоды у меня ещё имелся читальный зал на одну персону, причём зал нерукотворный.
Огороды, начинавшиеся позади сараев и погребников, делились на наделы узкими межами, которые, по совместительству, служили дорожками между кустами смородины всех трёх цветов, оставляя середину грядок под основные садово-огородные культуры.
Причём грядки эти не сливались в цельные земельные наделы, поскольку, в ходе различных исторических процессов, приводивших к обмену между владельцами, они раздробились на лоскутную чересполосицу.
Например, наша помидорная грядка располагалась сразу позади сараев. Затем шла грядка Дузенков, отделённая от нашей следующей, огуречно-подсолнечной грядки, будкой нашего же туалета, типа сортир, возле сливной ямы. А картошку мы сажали в самом конце огорода, под раскидистой старой яблоней, после грядок Пилют.
Дальше начинался, а вернее заканчивался огородный участок хаты, что находилась в ряду домов уже не Нежинской, а параллельного ей переулка улицы Коцюбинского.
Так что огороды позади хат трёх улиц и одного переулка складывались в обширную площадь, покрытую грядками и фруктовыми деревьями разных пород.
Упомянутая яблоня, на чьих крепких, полого расходящихся ветвях, в знойные дни я примащивался с книгой под синим куполом неба с недвижимо зависшими глыбами белейших облаков, называлась антоновкой.
Длина некоторых из ветвей позволяла даже полуприлечь во весь рост и слегка покачиваться, пока из жарких далей не прилетит чуть слышный ветерок.
А когда начнут ныть бока от такого сверхтвёрдого гамака, можно спуститься и крадучись навестить малинник между пятнадцатым и тринадцатым номерами.
Иногда в огородах встречались одиночные заборы, но они служили лишь разделительными вехами владений, а не преградой тихому набегу.
Вот где я зачитывался «Звёздными дневниками Йона Тихого» и «Возвращением со звёзд» Станислава Лема, «Ходжой Насреддином» Владимира Соловьёва, «Одиссеей капитана Блада» Рафаэля Саббатини, среди массы прочего бессистемного чтива для подрастающих поколений.
Но потом, ни с того, ни с сего, я решил вдруг пойти навстречу требованиям школьной программы и начал учить наизусть пушкинского Евгения Онегина – всё равно ведь зададут вызубрить отрывок.
Это оправдание служило всего лишь пустой отговоркой – затвердив первую строфу, я изо дня в день продолжал заучивать следующие одну за другой: и про недремлющий брегет, и про Лондон щепетильный, и про нехватку пары стройных женских ног…
На двадцать какой-то строфе я начал сбиваться в пересказе предыдущих, но тут меня выручила мама.
Вернувшись в субботу с базара, она сказала, что видела там Людмилу Константиновну – учительницу русского языка и литературы из нашей школы – и та спросила, не захочу ли я поехать в Ленинград в составе экскурсии для школьников города по недорогой цене.
Да, ещё как захочу!
Но откуда у меня деньги?
Мама заплатила цену и дала мне на дорогу немыслимую сумму в десять рублей.
Я решил на эти деньги непременно купить небольшой биллиард, типа того, на котором мы играли в Детском секторе.
( …но теперь, не как последовательный повествователь, а в качестве профана от археологии, укутанного в спальник в этой палатке – под аккомпанемент жутковатой симфонии ночной жизни тёмного леса – смогу ли докопаться до причины самоистязательного заучивания поэмы?
Похоже, что только теперь, и именно отсюда, и смогу.
Начать с того, что схема «я решил и приступил» ко мне неприменима.
С ней всё в порядке – она хорошая, полезная, безупречно логичная, но у меня получается наоборот: сперва совершаю действия, а потом подгоняю под них решения, которые оправдали бы мои поступки.
То есть, меня побуждают действовать не обдуманные решения, а некие иные причины.
Но что или кто, чёрт побери, понукает меня к действию? какие такие тайные пружины-побудители?
Моя доверчивая и податливая покорность перед воздействием печатного слова. Вот что программирует мои последующие поступки.
Если Александр Белов, советский чекист-разведчик, заставил гитлеровского разведчика Дитриха пролистать перед собой папку со сверхсекретной документацией, а потом, на явочной квартире по памяти продиктовал десятки адресов, наименований и цифр, так неужто мне слабó запомнить рифмованные строки Александра Пушкина?
В этом вопросе «неужто слабó» всего лишь оправдание, а причина в том, что я доверчиво прочёл в «Роман-Газете» творение Кожевникова, которое и романом-то не назовёшь.
Или взять другой случай, когда, впечатлившись книгой «Барон на дереве», про аристократа, который отказался ходить по земле и перешёл жить на деревья, я взобрался на штабель кирпича под неохватным американским клёном, оттуда вскарабкался на менее неприступную часть ствола и начал взбираться всё выше и выше, под самые тучи.
В тот день они плыли довольно низко, почти цепляясь за крону дерева.
Хаты на далёкой от верхних веток земле уменьшились до размеров спичечных коробков. С такой высоты стал виден Базар, Вокзал и цеха Завода, по ту сторону высокого забора вдоль Профессийной.
Волшебная сила печатного слова Итало Кальвино сделала меня податливым, как воск, стала вить из меня верёвки и вознесла к вершине американского клёна.
Конечно, тайные пружины порою холостят – как мне тягаться с Д’Артаньяном и проскакать двадцать лье, загнав трёх лошадей, которых у меня нет?
По одёжке протягивай ножки.
Вот за что я люблю этот спальный мешок – он такой безразмерный…)
В Ленинград мы поехали через Москву.
Из нашей школы кроме меня и Людмилы Константиновны в экскурсии участвовали две девочки моего класса, а из параллельного Вера Литвинова и Толик Судак; остальные экскурсанты – ученики других школ города и с ними два преподавателя.
В Москву поезд прибыл утром и там мы провели весь день, который принёс мне три открытия.
Сначала мне открылось, что бывают вещие сны.
В это время нашу экскурсию возили по городу – «посмотрите налево; посмотрите направо» – и в одном месте зачем-то всех позвали выйти из автобуса.
Мои спутники шагали, слушая гида, а я приотстал. И тут мне вдруг показался очень таким знакомым и вон тот мост без реки, и далёкое высотное здание МГУ, и даже этот вот запертый ларёк.
Кто-то из наших обернулся и крикнул мне:
– Не отставай – без тебя уедем!
А я ответил:
– Повернёте обратно и – я окажусь первым.
И в этот миг я вдруг вспомнил, что всё это уже видел в мельчайших подробностях, и слова эти уже говорил во сне приснившемся мне неделю назад.
Меня это так поразило, что я даже остановился, но долго задумываться мне не дали – экскурсия и впрямь вернулась к автобусу.
( …в дальнейшей жизни у меня не раз случались такие наплывы попадания в когда-то виденные сны.
Иногда припоминание виденного на долю секунды опережает реальное развитие событий.
Я знаю кто и что сейчас скажет, какой сделает жест, потому что происходящее как бы эхо когда-то уже виденного сна.
Протяжённость таких моментов невелика, а между сном и его эхом иногда проходят годы.
Я ни с кем не делился своим открытием, а через много лет – с облегчением и разочарованием – узнал, что такое случается не только со мной, и что у шотландцев даже есть особый термин этому явлению: «второе увидение»…)
Для второго открытия нам пришлось поехать на Всесоюзную Выставку Достижений Народного Хозяйства – ВДНХ.
Там нас повели в павильон космонавтики, перед которым высилась белая стрела космического корабля типа «Восток», на котором летал Гагарин.
В очень просторном павильоне между стендов и макетов, и манекенов в красных скафандрах и белых шлемах, бродили сразу несколько экскурсий.
Не знаю в какой что рассказывали, но наш экскурсовод повторял то, что всем и без него известно, поэтому я то отставал, то забегал вперёд, а в какой-то момент свернул в широкую боковую дверь.
Каменные ступени вели вверх, а над ними висела надпись «Павильон Оптики».
Я поднялся до площадки, где ступени заворачивали к стеклянным дверям в сам павильон.
Но дальше не пошёл. Меня заворожила феерия цвета и воздушности, развернувшаяся на площадке.
Кубометр пространства словно заполненный семейством мыльных пузырей – от совсем крохотных до громадных, неподвижно застывших, переливающихся радостными цветами всевозможных оттенков радуги.
Восторг, восторг!
Кто-то из конотопских школьников приметил, как я свернул в эту дверь. Меня окликнули снизу «уходим!»
Я посмотрел вверх на стеклянную дверь, куда мне не суждено войти, и вернулся к своим.
( …что было за той дверью я не знаю, а открытие состоит в том, что порой один шаг в сторону от протóренной колеи открывает новые блистающие миры, но шаг в сторону – это попытка к бегству…)
Заключительное – третье – открытие подстерегало в Государственном Универсальном Магазине на Красной площади, куда мы приехали уже без экскурсовода.
Там я узнал, что мечты сбываются, просто надо быть готовым к их исполнению.
На входе в ГУМ нам сказали собраться в этом же месте через полчаса и распустили в свободный поиск.
Изнутри ГУМ смахивает на трюм океанского лайнера-великана – пустой в центре с многоэтажными переходами вдоль бортов.
В одном из отсеков на третьем этаже нашёлся биллиард моей мечты. И ровно за десять рублей.
Как же я проклинал свою несдержанность!
На деньги выданные мне мамой я успел уже съесть два мороженых – одно утром на вокзале, и второе на ВДНХ.
Пришлось сказать мечте «прощай» и, с горя, я съел ещё одно – прямо в ГУМе.
Под вечер, усталые, но довольные (если не вспоминать осечку с биллиардом), мы выехали из Москвы в Ленинград.
В городе на Неве нас поставили на постой в какую-то школу на Васильевском острове, недалеко от Зоосада.
В школе нам отвели половину спортивного зала, так как вторую половину уже занимала экскурсия из Полтавы.
Мы их не стеснили – спортзал был очень просторным – только забрали часть чёрных физкультурных матов, служивших матрасами.
В комплект к матам выдавались суконные одеяла, так что спали мы с бóльшим комфортом, чем королевский двор Франции при бегстве из Парижа в «Двадцать лет спустя» у Александра Дюма.
Для трёхразовой кормёжки мы ходили за пару кварталов к горбатому мосту над Мойкой, в столовую на другом берегу.
Очень тихое место, почти без уличного движения.
Там наши старшие расплачивались бумажными талонами, девочки расставляли еду на квадратных столиках и звали остальных зайти с улицы.
Иногда приходилось ждать, потому что кроме полтавской и нашей тут столовались и другие экскурсионные группы – не из нашего спортзала.
В таких случаях мы стояли на мосту над неширокой рекой, что неприметно текла между отвесных каменных стен своих берегов.
– На берегу Мойки ели мы помойки,– составил эпиграмму кто-то из нашей группы.
( …рифма, конечно, безупречна, но лично у меня к тамошней пище претензий нет – всё как всегда и везде во всех столовых, куда я заворачивал на своём на жизненном пути…)
Для белых ночей мы малость припоздали, но всё остальное оказалось на месте. И Невский проспект и Дворцовый мост и обход залов Эрмитажа с картинами Карла Брюллова и голландских живописцев.
В Исаакиевском соборе для нас запустили маятник Фуко, закреплённый под самым куполом и когда тот, покачавшись, сшиб деревянную стойку, мимо которой сначала пролетал не задевая её, экскурсовод объявил:
– Вот видите – Земля всё же вертится. Маятник Фуко это научно доказывает.
Правда, крейсер «Аврора» нас почему-то не принял, зато мы слушали как стреляет пушка Адмиралтейства, отмечая полдень, и ездили на Пискарёвское кладбище с зелёными газонами поверх братских могил и с бассейном у тёмной стены, куда посетители бросают мелочь.
День посещения Петергофа выдался пасмурным и, когда мы шли на катере по Финскому заливу, моря не было видно, а только туман, да круг желтоватой воды с невысокими волнами, как на озере с песчаным дном.
Было сыро и скучно, а когда я вышел из пассажирского зала и спустился по короткой крутой лесенке на близкую к воде корму, за которой бурунилась взбитая винтом мутно-жёлтая вода, туда пришёл паренёк-юнга и сказал, что посторонним нельзя, повесил железную цепочку поперёк лесенки и начал мыть палубу кормы верёвчатой шваброй.
Зато из петергофских фонтанов вода вырывалась высокими белопенными струями.
Всё в Ленинграде оказалось прекрасным, как и следовало ожидать.
Погода снова наладилась, в Военно-морском музее стоял ботик Петра Великого, размером чуть ли ни с бригантину и висели картины с изображениями морских сражений, начиная с битвы в Синопской бухте.
На первом этаже Зоологического музея высился скелет из костей кита, а на втором этаже застеклённая композиция из жизни в Антарктиде – на заднике нарисованы её белые снега, а ближе к стеклу стоят несколько взрослых пингвинов, вокруг них детский сад из разновозрастных пингвинят, чтобы наглядно показать как они меняются, подрастая.
Сначала они мне очень понравились – такие пушистые, миленькие; но потом пришла мысль, что это ведь всё чучела, для которых пришлось умертвить три десятка живых птиц и мне расхотелось смотреть дальше; я спустился к обглоданному китовому скелету и вышел на улицу.
В стеклянном киоске на тротуаре возле Зоологического, я купил шариковую ручку – в Конотопе таких ещё не было – и две запасные ампулы, по слухам одной должно хватить на целый месяц.
В тот день в столовой я отобедал первым и вышел на мост через Мойку дожидаться остальных.
Между высоких стен её берегов осторожно пробирался белый катерок, раздвигая чёрную воду на две длинные бугристые волны.
Потом ко мне подошёл пожилой человек невысокого роста и сказал, что у меня штаны сзади испачканы.
Я об этом знал; двумя днями раньше сел где-то на скамейку и осталось белое пятно, как от сосновой смолы. Мне это было неприятно, но счистить никак не получалось.
Он спросил откуда я.
– Мы на экскурсию приехали. С Украины.
Приветливость на его лице угасла.
– Украина,– сказал он. – Мне там в войну паяльной лампой бок сожгли.
Я вспомнил гудение синего пламени, что вырывается из сопла паяльной лампы и почернелую шкуру на туше Машки.
Он молчал и я тоже. Мне было неудобно перед ним, что я оттуда, где его пытали.
Хорошо, что наши вышли из столовой.
Полтавская экскурсия уехала за два дня раньше нашей.
В последний вечер в Ленинграде мы поехали в цирк-шапито.
Места оказались на самом верху, под брезентовой крышей.
Выступала сборная труппа цирковых артистов из братских стран.
Монгольские акробаты дружной парой прыгали на конец подкидной доски, чтоб подбросить третьего в воздух противоположным её концом.
Подброшенный делал кувырок в воздухе и приземлялся на плечи артиста стоящего на арене.
Толкачи запускали ещё и ещё одного – получалась пирамида из трёх человек на плечах самого нижнего. Как после битвы при Калке.
Гимнасты из ГДР крутили «солнце» на установленных квадратом турниках и перелетали с одного на другой.
Потом чешские дрессировщики вывели обезьян в блестящих костюмчиках и те крутились на оставшихся после немцев турниках, только ещё смешнее.
На следующий день мы уехали не заходя в столовую, наверное, проели все талоны.
Есть очень удобный поезд, он следует без всяких пересадок через Оршу и Конотоп.
Вот только отправление под вечер, а у меня после всего съеденного за экскурсию мороженого, билета в шапито и приобретения шариковой ручки от десяти рублей осталось копеек двадцать.
Я пообедал пирожком, но часам к пяти, когда мы уже сидели в зале ожидания на вокзале, Людмила Константиновна заметила мою унылость и спросила в чём дело.
Я признался, что голоден, а денег нет и она одолжила мне один рубль.
В гастрономе неподалёку от вокзала я купил хлеб и большую рыбу в коричневой шкурке обвязанной тонкими бечёвками.
С завёрнутой в бумагу добычей я вернулся на вокзал, а тут и наш поезд подали на посадку.
В вагоне я сразу сел за боковой столик под окном и начал есть.
Очень вкусная рыба, легко крошится, но чуть суховата.
Я съел половину, а остальное опять завернул и положил на третью полку, где никто не спит.
Одиночный попутчик, на пару лет старше меня, присел с другой стороны столика, достал колоду карт и предложил сыграть с ним в «дурака».
Я пару раз выиграл и, когда он в очередной раз тасовал карты, блеснул одной из кандыбинских прибауток, которыми подначивают проигравших.
– Не умеешь работать головой – работай руками.
Он покосился на девочек из нашей экскурсии, что сидели под окном напротив нашего столика и сказал:
– Поменьше базарь – целее будешь.
В его глазах я увидел неподдельную злость и, после ещё одного кона, отказался играть дальше.
Похоже, он и сам был рад прекратить.
В Конотоп мы приехали утром, после небывало обильного дождя.
Не знаю что случилось с моими туфлями, но я насилу втиснул в них ноги и то не до конца – пришлось примять задники пятками.
Ковыляя, я спустился из вагона и подождал, пока наша экскурсия скроется в подземном переходе ведущем на Вокзал. Я снял туфли и в одних носках пошёл вдоль мокрого перрона четвёртой платформы, к знакомому пролому в заборе в самом конце её.
Через дорогу от пролома – железнодорожный техникум, а за ним уже и Базар.
Везде стояли громадные лужи, а за Базаром грунтовый тротуар и вовсе скрылся под водной гладью.
Я шлёпал мокрыми носками по выступающей над водой головке трамвайных рельс, а на Нежинской пошёл без разбору вброд – недалеко уж.
Мама потом смеялась, что из экскурсии я привёз только пару туфлей, из которых ноги выросли на целый сантиметр.
Нигде я не слышал и не читал, чтобы всего за одну ночь и на целый сантиметр.
Первого сентября мама дала мне один рубль– вернуть долг Людмиле Константиновне.
Однако, на линейке открытия школы её нигде не оказалось, а в учительской сказали, что она болеет.
Мне объяснили где она живёт – в двухэтажке, не доходя Базара.
Я отнёс деньги, она стала говорить, что ни к чему такая спешка; мне даже показалось, будто ей не хочется, чтобы я вообще возвращал этот долг.
Тут зашёл её отец и я удивился – это же Константин Борисович, киномеханик Клуба!
Как тесен мир.
( …если меня сейчас спросить: какое самое яркое впечатление я вывез из культурной столицы России? – я, не задумываясь, отвечу – вечер на улице с каменным парапетом, где каменные ступени спускаются к неоглядной шири течения Невы перед Дворцовым мостом, волна с плеском ударяет в нижнюю ступень, взметая высокие брызги и резкий взвизг девочек нашей экскурсии, стоящих на второй от воды ступени…)
И всё же Ленин был прав – нет силы сильнее, чем сила привычки.
Взять, к примеру, альбомы светских барышень, куда Евгений небрежным росчерком пера врисовывал бакенбардистый профиль своего автора на странице следующей за автографом какого-нибудь поручика Ржевского.
Любая порядочная барышня имела такой альбом для излияния личных чувств и творческих росчерков своих знакомых и гостей.
Разумеется, мне не довелось держать в руках подобные альбомы, но спустя массу войн, три революции и радикальные перемены уклада жизни, альбомчики для сентиментальных упражнений девичьей души продолжали жить.
Борьба за существование научила их маскировке. Никаких бантиков на обложке, никаких кремово-розовых страниц.
Общая тетрадь в клеточку в дерматиновой обложке за тридцать восемь копеек – так выглядели альбомчики девочек нашего класса.
На смену длинноносым автопортретам светских щёголей пришли картинки вырезанные из цветных фото в журнале «Огонёк» и посаженные на клей.
А стихи сохранились:
Зачем-зачем я не знаю Нужны так рельсы трамваю Зачем кричат попугаи Я не знаю – зачем…Ну, и, конечно, всякие мудрые мысли и крылатые выражения:
«Кто любит – всё простит.»
«Измена убивает любовь.»
Когда такой альбомчик, случайно забытый на парте, попадал в руки кого-то из ребят то, перевернув пару страниц, он шлёпал его обратно на парту – «девчачья чепуха».
Мне, почему-то, эти альбомчики были интересны и я их внимательно изучал, за что среди школьников получил обидную кличку «бабочка».
В глаза меня никто так не называл, несмотря на то, что в строю на уроке физкультуры я стоял всего лишь четвёртым по росту и даже замыкающий – Витя Маленко – мог меня побороть под хихиканье девочек.
Да, этого прозвища я не слышал, но если твои младшие брат с сестрой учатся в одной с тобою школе, в ней нет для тебя тайн.
Директор школы, Пётр Иванович Быковский, в отличие от космонавта Быковского, имел богатырское телосложение.
Когда вся школа строилась в длинном – от учительской и аж до спортзала – коридоре на общешкольную линейку, то доски крашеного пола жалостно поскрипывали под его мерными шагами вдоль строя.
Могучий купол его лысины, с поперечными прядями зачёса, на полголовы высился даже над строем самого высокого – выпускного класса.
Взгляд его крупновеких глаз, сонно скользнув по тебе, заставлял внутренне стиснуться, несмотря на то, что это не на тебя пришла бумага из детской комнаты милиции и не тебя сейчас он вызовет и велит встать перед строем.
Нечему удивляться, что когда Альбина Георгиевна сказала мне остаться после уроков и зайти в кабинет директора, потому что он вызывает – сердце моё упало.
Вот так – с упавшим сердцем и поджавшейся селезёнкой – я робко постучал в высокую дверь его кабинета под непонимающими, но прощальными взглядами Кубы и Чепы.
В длинном и узком кабинете с одним окном напротив двери, Пётр Иванович сидел за столом, что едва доставал ему до пояса, в профиль к входящим.
Он сказал мне сесть на один из стульев с прямыми спинками, построенных рядочком вдоль стенки напротив его стола.
Я выжидающе сел, а он раскрыл тонкую тетрадь и долго молчал, глядя в неё и недовольно двигая толстыми, чётко очерченными губами.
– Тут вот твоё сочинение по русской литературе,– объявил он наконец.– Вот ты тут пишешь, что летом небо не такое голубое, как осенью.
Он заглянул в тетрадку и вычитал:
– «Летом оно как будто пропылённое по краям…». Где это ты видел такое небо?
Я узнал неполную цитату – этим предложением открывалось моё сочинение на вольную тему «Я сижу у окна и думаю…», которое нам задавали на дом на прошлой неделе.
– На Нежинской,– ответил я.
Он начал мне втолковывать, что неважно – на Нежинской, или Профессийной или вообще на Деповской, но небо везде одинаково голубого цвета, хоть в центре, хоть по краям. А голубой – он всегда голубой; и летом он голубой, и осенью голубой, потому что голубой есть голубой.
На мою робкую попытку защитить своё предложение, он снова повторил свои увесистые доводы и я сдался.
– Да, одинаковое,– сказал я.
– Вот и хорошо, значит это предложение у тебя неправильное.
Так мы и продолжали; он разбивал в пух и прах каждое из предложений моего сочинения, не пропуская ни единого, а я, после непродолжительного сопротивления, соглашался.
Из нижнего угла в окне расходились тонкие прутья решётки, стены стискивали высокий потолок коридорообразного кабинета, надо мной нависал тумбовый стол подпиравший тушу директора с выпуклолобой сферой его черепа под паутиною зачёса на лысине, как на неподвижном глобусе, запертом в комнате завхоза…
И я отрёкся, построчно, от начала и до конца, отрёкся от всех и каждого предложения в своём сочинении.
Да, Пётр Иванович, вы правы, она совершенно не вертится…
Нет, неправильно, будто я не хочу писать по шаблону подсказанному учительницей: «идя по улице, я услыхал, как школьники спорят о Татьяне Лариной и, придя домой, снова задумался о ней и начал анализировать её социальное происхождение и любовь к русской природе…»
Да, это совсем неправильно, что школьники могут спорить про мотоциклы, каратэ и рыбалку, но только не про Татьяну Ларину; это совершенно необдуманно и ошибочно.
Когда я согласился с ним по всем пунктам, он отдал мне тетрадь, сказал, что я могу идти, но чтобы ещё раз подумал.
Я вышел в давно опустевшую школу.
От входной двери слышалось погромыхивание вёдер о железо раковин и шум воды из кранов – уборщицы уже приступили к мытью полов.
Оглушённо прошёл я мимо этих пяти кранов, не глядя на своё отражение над пятью раковинами.
С высокого кирпичного крыльца я спускался с неясным чувством, что я это не я, и не знаю теперь что и как вообще.
Наверно, то же самое чувствовал Галилей, предав своё открытие.
У ворот я остановился и открыл свою тетрадку.
В конце сочинения стояла дробная оценка: в знаменателе – за содержание – пусто, в делителе – за грамматические ошибки – четыре.
А потом, теми же красными чернилами, заокругленно красивым почерком, Зоя Ильинична на четырёх страницах написала своё сочинение – что я неправ и советская молодёжь не такая, как представлена мною. Что мне надо вспомнить крылатые слова Островского из романа «Как закалялась сталь», и вспомнить героев-краснодонцев…
( …в дальнейшем я писал по шаблонам – не вышел из меня неистовый Виссарион…)
Кабинет физики нашей школы отличался хорошим оборудованием.
На окнах висели шторы из плотной синей материи на железных колечках. Их задёргивали для показа учебных фильмов по разным предметам.
Причём экрана не было – фильмы проецировались на большой квадрат матового стекла над классной доской. Прямо тебе двухметровый телевизор.
Кинопроектор же размещался в глухой комнате позади этой доски и самогó стекла.
Помимо проектора и жестяных коробок с фильмами, в ней громоздилось множество полок с разными линзами, штативами, реостатами, разновесами и прочими несметными сокровищами в коробочках, шкатулочках, футлярах – для демонстрации различных опытов из учебника по физике.
И серая бандура двухдорожечного магнитофона «Сатурн» с плёнкой на белых бобинах.
Киномеханик и хранитель всех этих богатств – учитель физики Эмиль Григорьевич Бинкин.
Спокойный красавец лет тридцати с чуть удивлённо приподнятыми на прямой лоб бровями, навстречу пряди вьющихся чёрных, как смоль, волос, что хорошо сочетались со смугловатой кожей его лица.
На переменах он что-то складывал-раскладывал в заветной комнате, высвистывая – утончённо и чётко, без малейшей фальши – всевозможные мелодии .
У меня к нему было насторóженное отношение.
Во-первых, за то, что на его физике не почитаешь.
Обычно, я приносил в школу какую-нибудь библиотечную книгу, а во время занятий откидывал крышку парты, клал книгу на полочку для портфеля и – вперёд, капитан Блад, на абордаж!
Учителям в радость – совсем тихий, никому не мешаю.
Некоторых, правда, заедало – видно же, что не уроком занят.
– Огольцов! Что я только что сказала?
Но при погружении в мир иной – антарктико-тропически-марсианский, я не полностью отключался от окружающей школьной действительности. Какой-то поплавок на краю сознания принимал, как негромкий фон, текущие звуки класса.
– Огольцов!
Ага, пора вынырнуть. Память отматывает запись фона на полминуты обратно.
– Вы, Алла Иосифовна, сказали, что read это неправильный глагол.
– Садись!
А потом на родительском собрании пожалуется маме:
– Вот вижу, что не тем занят, а поймать не могу.
У Бинкина проблем с ловлей нет. Он не просит повторить, он просто задаёт вопрос:
– Ну, и что из этого следует? Огольцов?
И тут уже механическая перемотка фона не спасает, ведь надо делать выводы из того, чего не знаешь. К тому же под прицелом ироничного взгляда тёмных глаз поверх тонкой оправы очков.
Он убивал своей невозмутимостью и, казалось, знает даже на какой странице раскрыта книга для контрабандного чтения.
Пришлось хоть иногда готовиться к урокам физики, а чтение во время занятий перенести на химию и остальные.
Так что с Бинкиным я не связывался. Только один раз вступил в пререкания. Насчёт разности температуры тел.
Он спросил одинакова ли температура картошки и окружающего её супа в кастрюле. Я сказал, что нет.
– Увы, физика говорит, что да.
– Вчера я ел суп в обед и ничего – нормально, а раскусил картошку и язык обжёг. Куда эта физика смотрела?
Смех учеников смешался со звонком на перемену.
Вот почему для меня явилось полной неожиданностью, когда наша классная, Альбина Георгиевна, объявила, что в воскресенье, в одиннадцать часов я должен придти в одиннадцатую школу на общегородскую олимпиаду по физике.
Солнечным воскресным утром я вышел из Нежинской на трамвайную остановку возле школы.
Престижная одиннадцатая находится за Переездом, недалеко от Вокзала.
Подошёл наш поселковый красный трамвайчик с круглым, как нос клоуна, фонарём под кабинкой водителя.
Пониже носа-фонаря написан инвентарный номер вагона – 33.
Я, конечно, понимал, что всё это чепуха и суеверие, но жаль было упускать подвернувшийся случай.
Если в номере автомашины, или в номере отпечатанном на билете в кино, или на том, что тебе оторвала кондукторша, идут две повторяющиеся цифры, скажем, 22, или, там, 77, то это счастливый номер. Сожми руку в кулак и произнеси про себя колдовочку:
– Моя удача – точка!
Что я и сделал.
На олимпиаде, в числе четырнадцати восьмиклассников от четырнадцати школ, я решал какие-то задачки про ускорение и удельный вес с выталкивающей силой. К последнему вопросу: «почему мы сперва видим молнию и только потом слышим гром?» я даже сделал карандашный набросок молнии и звуковых волн.
На следующей неделе Бинкин с удивлением объявил на уроке, что я занял первое место среди восьмиклассников на городской олимпиаде по физике.
Не знаю принёс ли удачу трамвайный номер, или проверяющих впечатлила корявая молния, но приятно сознавать, что ты обошёл представителя престижной одиннадцатой и даже двенадцатой – школы с математическим уклоном.
Вот такие у нас хлопцы на посёлке КПВРЗ!
В Клубе показывали фильм «Мёртвый сезон». Мы втроём зашли на сеанс по контрамарке, но зрителей и без нас хватало.
Не так много, как на индийском «Зита и Гита», но с ползала наберётся.
Фильм про нашего разведчика в Соединённых Штатах. В главной роли Донатас Банионис из «Никто не хотел умирать», где его в конце застрелили и он упал на стол, поверх записки, которую не успел дописать.
А в Америке за ним долго следили, потом поймали, посадили на двадцать лет, но наши его выменяли на ихнего ЦРУшника, пойманного в Советском Союзе.
Чёрно-белый фильм, но широкоэкранный, на Банионисе роскошная белая рубаха – сразу видно, что не нейлоновая, а он в ней на кухне ужин готовит, только рукава подвернул.
Вобщем, забойный фильм. Когда кончился, мы тихо так подались на выход – живут же люди интересной жизнью.
И тут Куба хлопнул своей ондатровой шапкой об кулак и говорит:
– Всё! Завтра иду к Соловью записываться в школу разведчиков.
Мы с Чепой захохотали и надолго, ведь Соловей – это участковый милиционер на Посёлке.
Правда, участковым его никто не называл, говорили просто «Соловей» и всем всё сразу ясно.
Когда он заходил на Базар, вдоль прилавков прокатывалось приглушённое «сол-сол-сол…». Бабки из Подлипного, или Поповки, понадёжней заныкивают в своих кошёлках бутыли и грелки с самогоном, чтоб не выглядывали и – стоят себе дальше. На прилавках перед ними всё чин-чинарём: стакан чёрных семечек, или луковицы в косу сплетённые – вот, мол, товар налицо.
Но у Соловья нюх ещё тот! И не раз, под бабкины проклятья, он выливал на землю упрятанный в кошёлку «самограй».
Однажды, какой-то ханыга не выдержал, упал на четыре кости перед самогонной лужей и – давай хлебать с земли!
Соловей поорал над ним, пару раз сапогом въехал, а тому уже усё ништяк.
Ну, приехала машина увезли в вытрезвитель.
Но и над Соловьём расправы учиняли.
Заловят где-нибудь по тёмному и отметéлят. Случалось, керосином обливши зажигали. Или ломом руки перебьют.
Хлопцев тех, конечно, попересажáют. Он в гипсе отлежится и снова в милицейской фуражке на Базар, а там опять: «сол-сол-сол…»
Так что Куба неплохо пошутил про запись через Соловья в школу разведки.
На зимних каникулах победителей городской олимпиады по физике возили в город Сумы, на областную олимпиаду.
В конотопской группе кроме четырёх ребят оказалась одна девочка девятиклассница. Правда, выглядела она вполне даже взрослой девушкой.
В Сумах нас разместили на одну ночь в гостинице.
Число ребят совпало с количеством коек в номере. Наш наставник – учитель из двенадцатой школы с физико-математическим уклоном, остановился где-то дальше по коридору, а девочка-девушка в каком-то женском номере.
Вскоре все собрались у нас. Руководитель группы принёс с собой пару сборников задач и упражнений по физике для поступающих в вузы.
Я таких книжек отродясь не видел и до этого момента считал, будто школьные учебники это всё, что есть по физике. Ан нет.
Для остальных городских победителей, включая шестиклассника, сборники оказались очень даже давними знакомыми, друзьями не разлей вода.
Они принялись оживлённо обсуждать в каких там темах сложные задачи, а в каких не очень.
Учитель предложил для тренировки порешать немного.
Все тут же начали строчить формулы и пояснять их друг другу, но я там явно был «шестой лишний».
Задачки далеко выходили за пределы школьной программы, не из тех, которые Бинкин решал с нами на классной доске.
Потом мы вышли в город пообедать в столовой. На обратном пути я приотстал от группы и украдкой любовался походкой девочки-девушки.
Зелёное пальто плотно сидело на её широковатой фигуре и на её каждый шаг на материале спины получались косые складки. То к левому её бедру, то к правому.
Туда-сюда. Мельк-мельк.
Фактически, я видел лишь длинное пальто, сапоги да вязаную шапочку. Не на что смотреть, не будь тех ритмичных складок на спине. Выражаясь языком времён Онегина – они меня с ума сводили.
Казалось бы – такая мелочь, но я давно уже стал ценителем и собирателем мелочей.
Некоторые книги перечитывались мною лишь только потому, что я знал – там есть пара строк про это.
Пара скупых строк, но в них содержится конкретная мелочь-деталь, которую я отложу в свой ларец с подобными же деталями для последующего использования.
Например, в фантастическом рассказе Гарри Гаррисона про машину времени, съёмочная группа перескочила в тысяча первый год для съёмок фильма.
Режиссёр объясняет тогдашнему викингу его роль:
– Ты врываешься в спальню в захваченном тобою замке. Видишь полусонную красотку и отбрасываешь своё оружие. Садишься рядом и медленно сдвигаешь бретельку, чтоб та упала с её плеча. Всё. Сцена закончена. Остальное зрители сами додумают. Воображение у них – будь-будь!
Вот она – долгожданная деталь! Бретелька плавно соскальзывает с округлого плеча…
Это вам не расплывчатый «поцелуй в уста сахарные».
И в тот же вечер, накрывшись одеялом с головой, да ещё и крепко зажмурившись, я врываюсь к полусонной красотке.
Но, конечно, без всяких дурацких кинокамер и подсветок.
Я не киношный викинг, а взаправдашный и у меня тут реальное средневековье.
Я отбрасываю свой щит и меч, сдвигаю её бретельку. Она сначала противится, но вглядевшись в правильные черты моего лица, покорно опрокидывается на ложе.
Я ложусь сверху…
По низу живота прокатывается горячая волна… Член напряжённо дрожит… Глаза зажмурены… И я…
Что?!!!
Я не знаю что дальше.
Значит надо передохнуть и нырнуть в заветный ларец за какой-нибудь другой сокровенной деталью, чтоб уже вокруг той выстраивать ситуацию доводящую до мучительно-сладостного состояния.
( …Лев Толстой горячо ратовал против рукоблудия.
Всякий святой начинает с прегрешений.
Никак не решу: можно ли мои эрекционные оргии приравнивать к обычной мастурбации?
С одной стороны, никакого механического трения ладонями не производилось и до оргазма я никогда не доходил.
Но с другой, что если это только прелюдия? Начальная фаза. И если бы рядом на диване не спал мой брат, как знать, может и у меня всё вошло бы в нормальное русло и я влился бы в ряды 95% мужского пола во главе с Львом Толстым и классиками итальянского киноискусства?..)
Когда во дворе школы Куба спросил:
– Знаете, что у тех, кто дрочит, на ладонях волосы вырастают?
Мы с Чепой дружно глянули на свои руки под довольный хохот Кубы.
Я знал, что ладони мои невинны, но глянул. Чисто инстинктивно.
Вот и получается, что мелькающие туда-сюда складки впереди не такая уж и мелочь.
Возможно, в какой-то следующей из моих бесконтактных мастурбаций, зелёное пальто распахнётся и нежный голос промолвит:
– Тебе тоже холодно? Иди поближе – теплее будет…
И я…
Что?!!
Вечером учитель снова пришёл с задачниками и настойчиво предлагал обратить внимание на такие-то номера.
Победители их быстро расщёлкали, а я хранил молчание и заглядывал им через плечо с учёным видом знатока.
Утром, на областной олимпиаде, мне, как и остальным соревнующимся восьмиклассникам, выдали целую тонкую тетрадь с чернильным штампом на каждом двойном листе.
На первом надо написать кто ты и откуда.
На втором – а не поместится, то и на третьем – переписать задание с доски.
Всего шесть задач.
Ничего себе! Три оказались из тех, что вечером наш старший решал с нами в гостинице.
Но для меня утро не стало мудреней вечера – как был, так и остался полный ноль.
Сидеть без дела скучно, а сразу подняться и уйти казалось невежливым.
Вокруг царила напряжённая тишина сосредоточенной работы мыслей. Вдруг отвлеку кого-то?
Я открыл последнюю страницу тетрадки и начал карандашом рисовать разбойника.
Мне хорошо представлялось его лицо – широкие усы, глаза-сливы, на голове тюрбан. И чуть оглядывается через плечо.
Но на бумаге выходило всё не то. И даже пистолет с широким раструбом, как у разбойников в «Снежной королеве», не помог делу.
М-да, не потянул я на Ньютона; и Репин из меня тоже никакой.
Я вспомнил папиного ослика, который вывез его из партшколы.
Похоже, мне придётся пешком…
Я отнёс тетрадку на стол проверяющих и вышел за дверь.
Конечно же, фиаско в столь важных областях – физика и живопись – меня морально сплющило.
Чтоб заглушить чувство неполноценности, а короче – с горя, я приобрёл пачку сигарет с фильтром; «Орбита» за тридцать копеек.
Однако, орбитальное испытание было отложено до возвращения в Конотоп, да и там минуло дня два, пока я улучил момент уединиться с этой пачкой в огородном туалете.
Затяжка. Две. Кашель. Зеленовато-прозрачные бублики плывут перед глазами. Тошнота.
Всё как описывал Марк Твен.
Надо верить классикам – не пришлось бы выбрасывать в сортирную дыру почти непочатую пачку «Орбиты» за тридцать копеек.
Напротив привокзальной площади, по ту сторону трамвайных путей и асфальта дороги, раскинулся парк имени Луначарского – аллеи высоких деревьев, куртины стриженных кустов.
У входа, лицом к Вокзалу, высокий серый пьедестал с белым памятником Ленина.
Стоит в полный рост, схватив себя за лацкан пиджака, правая рука опущена во всю длину и чуть отведена назад. Поэтичная статуя.
Позади памятника, опять-таки в окружении деревьев, трёхэтажная махина ДК Луначарского. В просторечии – Лунатик.
Не комиссар просвещения, конечно, а дом культуры.
Никаких архитектурных излишеств – ровные стены, квадратные окна, прямоугольный вход.
Лунатик имеет и четвёртый этаж, уходящий вглубь земли – кинозал.
Но поскольку показ фильмов в ДК опережал показ тех же самых фильмов в клубе КПВРЗ всего лишь на одну неделю, да ещё и платить надо – он не входил в сферу наших интересов.
Ажиотаж вокруг ДК вспыхивал во втором полугодии учебного года, когда там проводился сезон игр КВН между школами.
Тогда уж всем хотелось попасть в зал на втором этаже с гладким паркетным полом и тесными рядами кресел.
Билеты на КВН не продавались. Их приходилось выпрашивать у пионервожатого школы, а Володя Гуревич отвечал, что билеты распределяет горком комсомола, сколько ему дали для комсомольского актива школы, столько и привёз.
Места на билетах не значились, так что приходить надо заранее, чтобы занять кресло и не стоять всё игру в проходах и не насеститься на длинных мраморных подоконниках окон в конце зала, за которыми уже темным-темно и холодно – зима всё-таки.
Зимой уроки физкультуры проводились на улице.
Учительница Любовь Ивановна отпирала «кандейку» в одноэтажном здании мастерской, рядом с дверью в пионерскую комнату и библиотеку.
Ученики хватали каждый себе по паре лыж и палок, опёртых на глухие стены «кандейки» и шли на Богдана Хмельницкого – бегать «на время» под тополями вдоль трамвайной линии.
Любовь Ивановна смотрела на свой большой круглый секундомер и объявляла кто на какую прибежал оценку.
Рядом с ней стояли пара девочек, которые в этот день, почему-то, бегать не могли и держали классный журнал.
Интересное получается равноправие: девочки могут не бегать и – ничего; а ребята, хочешь ты, или нет – беги!
Крепления из ремешков на школьных лыжах слишком жёсткие и неудобные. То ли дело те, что когда-то отец сделал на мои – из толстой круглой резины.
Но свои лыжи я на уроки не приносил – они для внешкольного пользования.
В тот день после обеда мы втроём пошли кататься с горки на краю Подлипного, по ту сторону Рощи.
Довольно крутая горка, но мы скатились всего пару раз, а потом из села пришли двое здоровых хлопцев и стали требовать, чтоб мы дали им свои лыжи.
Один даже хотел ударить Кубу, но тот увернулся и погнал вниз. Мы с Чепой тоже, но не в самом крутом месте, а наискосок.
Те двое побежали за нами и на въезде в Рощу передний наступил на конец моей лыжи. Я упал.
Поднявшись я увидел, что Чепа уже снял свои лыжи, вскинул на плечо рабочей фуфайки и улепётывает, петляя между тёмных стволов зимней Рощи.
Эту картинку заслонила голова в чёрной кроличьей шапке с отпущенными ушами. Мех козырька сползал ему на самые глаза и видна была лишь ухмылка толстой нижней губы.
Но и этот портрет тоже исчез от удара в лицо. Я упал под дерево.
– Шо не понял? Снимай лыжи.
Тут подбежал второй, то ли менее выпивший, то ли более впечатлительный – снег вокруг был здорово забрызган крупными каплями крови, что продолжала течь у меня из носу.
Они сказали мне уматывать и сами ушли.
Я побрёл на лыжах через Рощу, затыкая нос комьями снега; один промокнет – скатываю другой.
В улочке возле школы меня встретил Куба. Он заглянул мне в лицо и сказал, что надо умыться под краном, и что Володя Гуревич ждёт нас в десятом классе, хочет о чём-то поговорить.
Я снял лыжи во дворе и поднялся на крыльцо пустой школы. Кровь уже не шла.
К пяти часам уборщицы уходили, оставался лишь сторож; ну, иногда пионеры какого-нибудь класса готовили монтаж под баян пионервожатого.
В зеркале над раковиной я увидел, что это не моё лицо – нос стал в два раза толще, а под ним усы нарисованные бурым гримом. Подбородок тоже испачкан.
Я умылся и, когда Куба сказал, что лучше всё равно не будет, вытерся платком. В носу тупо гýпало.
В десятом классе, оказался один лишь Володя Гуревич.
Деликатно отводя взгляд, чтоб не задеть мой нос, он произнёс речь, что это позор – наша школа который год проигрывает КВН на первой же игре.
Всё потому, что слишком полагаемся на выпускные классы. Надо ломать эту порочную практику. Нужны новые силы. Так сказать, новая кровь.
Я оглянулся на Кубу. Тот пожал плечами и Володя Гуревич объявил, что капитаном команды КВН нашей школы буду я.
У меня загýпало сильнее, но не в носу, а в затылке, как от той публикации в журнале «Пионер».
Спустя месяц команда тринадцатой школы неожиданно для всех выиграла свою первую игру в КВН.
На конкурсе приветствия мы с Кубой вышли в настоящих фраках и треуголках из костюмерной Клуба КПВРЗ.
Наполеон (в моём исполнении) принял свою коронную позу – правую руку на грудь, под борт фрака, кулак левой на поясницу. С проникновенной лиричностью, я задумчиво продекламировал крылатую стоку:
– Москва – как много в этом звуке для сердца…
Затем, стряхнув поэтическую зачарованность, отрывисто приказал маршалу Мюрату:
– Москву спалить!
Куба шмыгнул носом и ответил:
– Бу зделана!
Зал покатился со смеху, остальная наша команды вышла в обычной одежде и треуголках из ватмана под звуки закулисного баяна.
Мы ещё немножко пошутили и выиграли приветствие, а там и всю игру.
Вот так, шутя и запросто, дошли мы до финальной игры в мае, потому что все уже знали – мы сильная команда и если уж нашим шуткам не смеяться, тогда каким же?
На конкурсах капитанов команд мне достаточно было по-бонапартовски поставить руки и жестом дуче Муссолини задрать подбородок вправо и вверх, чтоб зал с готовностью заржал.
Мне только не нравилось, что сценарий нашего первого победного выхода был списан с телевизора. Мы просто повторили приветствие, с которым пару лет до нас выходила команда КВН на Центральном телевидении.
Володя Гуревич громко смеялся в ответ и говорил, что победителей не судят.
И вот финал, и обе команды на сцене, председатель жюри зачитывает в свой микрофон окончательные результаты игры:
– …победителем становится команда КВН средней школы номер тринадцать!
Ещё не веря услышанному, я вместе со всем залом ору «а-а-а!», оборачиваюсь к своим и вижу, что они бегут на меня – и Куба, и Чепа, и Саша Униат из девятого класса, и Саша Родионенко из нашего, и все остальные, и они тоже кричат «а-а-а!» и несутся ко мне.
А потом вместо них на меня полетел белый свет и синие занавеси. Я не сразу догадался, что это ко мне подлетают и отлетают неоновые лампы дневного света на потолке сцены.
Это меня качали.
На следующий год мы опять победили, но обошлось без подбрасываний капитана в воздух.
В десятом классе мы дошли до финала, но уступили престижной одиннадцатой школе.
В тот раз мы содрали сценарий у команды в теле-КВН за текущий год.
Виденное по телеку было ещё слишком свежо в памяти многих и нас обвинили в наглом плагиате.
Но это всё ещё в будущем, а пока что я слушал пламенную речь про смену школьных поколений, новую кровь и гýпанье из моего носа перемещалось в затылок.
Я с удивлением думал о мгновенных переменах судьбы: за один и тот же день из растоптанного лыжника – в капитаны, чёрт побери!
Так что на судьбу мне обижаться не за что.
Просто с того дня мой безупречно римский нос так и остался малость свёрнутым вправо.
Судьба, она же фортуна, прямо не ходит, а движется по синусоиде, как алкаш на поддаче, да плюс к тому ещё и волнообразно: гребень – впадина, вверх – вниз.
Вчера, например, Володя Гуревич с громким смехом вручил мне почтовую открытку, что пришла в школу на моё имя. Послана той девятиклассницей, которая участвовала в областной олимпиаде по физике.
Поздравляет с победой в КВН, а в конце ещё и строку из Маяковского ввернула:
«желаю тебе светить везде, светить всегда…»
Не стал я отвечать, то ли смех Володи меня остановил, или стыдно стало, что я без её ведома зелёное пальто на ней расстёгивал.
А сегодня я поехал на Мир, потому что Наташа сказала, что возле дома, где летом квас продают из жёлтой бочки на двух колёсах, поставили будочку по заправке ампул для шариковых ручек, одна заправка – десять копеек.
В книжных магазинах продают отдельные ампулы – короткие и подлиннее, но там дороже, 22 копейки за штуку.
На обратном пути стою себе в трамвае возле кабины водителя, там где изнутри за стеклом большой лист, размером с газету, а на нём «Правила пользования трамваем в г. Конотопе Сумской области».
Неужто в других городах другие правила? И кто-нибудь, кроме меня, читал эти столбцы с подзаголовками?
Правила как правильно ездить. Сколько стоит билет. Кому уступать место. А под конец про меры административного наказания и штраф в три рубля за безбилетный проезд.
Бумага у правил хорошая, хоть и за стеклом, а видно, что толще газетной.
Кондукторш с сумочками в трамваях больше нет. Вместо билетов теперь талоны, их продаёт водитель через маленькое окошечко в своей двери. Только неудобно оно расположено – слишком низко, хотя сидящей внутри вагоновожатой в самый раз.
На стенах трамвая, между окнами, привинчены коробочки с рычажками. Вставишь купленный талон в прорезь коробочки, дёрнешь рычажок и в талоне твоём куча дырочек, а присмотришься – это цифра.
Иногда на остановке в трамвай подымаются пара контролёров. Просят предъявить закомпостированный талон. Проверяют правильность цифры – совпадает ли с той, что у них пробилась?
А то ведь можно по одному талону целый месяц ездить.
Хотя некоторые держат в карманах штук десять пробитых и ездят бесплатно. При проверке достают их целую горсть:
– А откуда я знаю какой там тот? Шукайте сами.
Контролёр может и залупиться, если очень уж потёртые – второй месяц в кармане ездят, но чаще махнёт рукой и переходит к следующему пассажиру.
Под этими правилами я и стоял, хотя места были, но зимой кажется, что стоя ехать теплее.
На Зеленчаке подсел один парень. Я его знаю, хоть и не по имени. Он из выпускного класса нашей школы. И в Клубе я его пару раз видел.
Подходит ко мне. Привет. Привет. Ну, шо? Да, ничё. Помолчали.
И смотрю – он меня зажимать начинает. Справа окно с поручнем, за спиной кабина с Правилами. Он за поручень схватился и зажал меня в углу.
Я ему: «Харэ! Ты шо?»
А он только хихикает да глаза жмурит, но не выпускает.
Я на пассажиров смотрю – их хоть немного, но есть; а они, как один, уныло так и задумчиво в окна уставились. Как будто что-то видно через замёрзшее стекло.
Вобщем, я еле выкрутился из его захвата и встал на ступеньках и выхода. Пришлось заправляться, а то и куртка и свитер, ну, всё до самого тела задралось.
Вот же придурок. Да запишись ты в Клубе на секцию классической борьбы и трись там в партере об партнёра.
Но до чего ж унизительно – прославленный капитан КВН в таком синусоидном провале.
А следующий гребень подкатил в конце апреля на всесоюзной игре «Зарница».
Номинально, это игра пионерская, но в ней участвуют все старшие классы.
Меня назначили командиром сводного отряда школы!
Никаких погонов, никакого раздела на «синих» и зелёных».
Но всем быть с рюкзаками, или ранцами, и с походной амуницией – миска, ложка, нитки и иголка.
После линейки во дворе школы, где учитель физкультуры, Иван Иванович, проверил содержимое пары рюкзаков, все мы – с шестого по десятый классы – вышли на Богдана Хмельницкого и, миновав Базар, свернули в улицу Будённого. Там мы прошли вдоль парка КПВРЗ и спустились к Болоту с Рощей.
Над ними стоял туман.
Учителя физкультуры, Иван Иванович и Любовь Ивановна, вскрыли конверт с бумагой-схемой дальнейшего продвижения.
Мы проследовали до железнодорожного моста в высокой насыпи. Кроме магистральных путей под ним проходит и ветка тянущаяся к Мясокомбинату, по которой мы обогнули Рощу слева.
Туман редел и меж его клубами виднелось кочковатое поле.
Раздалась команда «В атаку!» и мы побежали по полю крича «ура!»
Я бежал вперёд, но не чувствовал своего тела, оно словно растворилось в общей атаке и только космы тумана да неровности поля прыгали перед глазами.
Потом мы остановились, не доходя до Подлипного, на поле с редкими толстыми вязами.
Туман рассеялся и день стал солнечным.
От села приехала настоящая полевая кухня цвета хаки. Нас накормили горячим супом.
Мы вернулись через Рощу в школу и снова построились на линейку.
Я, как командир, стоял лицом к строю – с шестого по десятый – и какой-то оператор снимал нас стрекочущей кинокамерой.
На следующей неделе Володя Шерудило обидно, но очень смешно показывал в классе, как я стою перед строем, сутуля плечи, а когда камера поворачивается на меня враз выпячиваю грудь колесом и тянусь чуть ли не на цыпочки.
( …вот иногда думаю, если б не ежедневное таскание воды из колонки в хату – я так и оставался бы в строю четвёртым от начала, или росту добавилось бы?..)
В ту весну у меня появилась мечта о дальнем странствии и непременно на плоту.
Скорее всего меня впечатлил «Кон-Тики» Тура Хейердала.
Я поделился мечтой с Чепой и Кубой и они её одобрили, сказали, что хорошо бы.
Мы даже начали обсуждать детали её исполнения.
Если плот построить на Сейму и поплыть до впадения его в Десну; и дальше по течению до Днепра, то оттуда можно спуститься и до Чёрного моря!
И непременно совершить это путешествие до августа, потому что потом Куба уедет поступать в мореходку, а Чепа в горный техникум в Донецке.
Мечта длилась недели две, а затем начала увядать.
Всё более неодолимые сложности вставали на пути её осуществления.
Из чего строить плот?
Ну, допустим, как-то договоримся со сторожем в том сосновом лесу на Сейму. Но как потом доставить брёвна из лесу к реке? Полкилометра волоком? Так нужно ж не одно, не два.
Потом мне пришла в голову мысль, которая окончательно разнесла мечту вдребезги.
Я вспомнил, что на Днепре по плану ГОЭРЛО понастроили гидроэлектростанций. А это уже неодолимая преграда.
Разбирать плот и перетаскивать на ту сторону плотины по брёвнышку?
Я не стал говорить друзьям, что осуществление ленинской мечты об электрификации перечеркнуло нашу мечту; просто перестал обсуждать её с ними.
Тем более, что у нас появилась более неотложная задача.
Володя Гуревич, он же Ильич, объявил, что мы должны сломить гегемонию одиннадцатой школы на городских конкурсах бальных танцев.
Из двух параллельных восьмых классов на первое занятие кружка собралось пять пар.
Володя показывал нам движения бального вальса, а потом играл нам его же на баяне, чтоб мы танцевали.
На второе занятие Чепа не пришёл, сказал, что не хочет.
Мы с Кубой продержались подольше, но скоро кружок распался.
Какой смысл, если, например, моя партнёрша, Наташа Григоренко, после окончания восьмого уходит в двенадцатую школу с математическим уклоном, откуда легче поступить в институт?
В двадцатых числах мая мы с Кубой погнали на великах на сеймовской пляж открывать сезон купания.
Оказывается, проехать двенадцать километров на велосипеде по ровной тропинке вдоль железнодорожного полотна не такое уж и трудное дело.
Правда, на пляже не оказалось ни души, только мы да наши велики на песке.
И вода ещё совсем холодная, но мы всё равно искупались.
Тут из кустов слетелись комариные полчища, пищат-гудят со всех сторон и до того же больно жалят; наверно, с отвычки.
Мы попробовали зарыться в песок, но он тоже холодный, а от комаров не спасает.
Мы орали как бешеные на пустом пляже, а потом разок ещё искупнулись и погнали обратно в Конотоп.
Мы ещё не знали, что жизнь, вобщем-то, складывается из утрат; но чувствовали, что с этого пляжа пути наши расходятся…
Да, в тот год тринадцатая школа стала гегемоном во всём, кроме бальных танцев.
Мы победили даже на соревновании между школами в заключительном этапе всесоюзной игры «Зарница».
В одно из воскресений команды городских школ, по шесть человек от каждой под присмотром учителей физкультуры, выехали в однодневный поход в лес у реки Сейм.
Конкурсы были всякие: эстафета с переносом «пострадавшего», кто скорее установит двухместную палатку, кто лучше наложит повязку из бинтов…
Мне достался конкурс на точность глазомера. Судья спрашивал сколько метров во-о-он до того дерева и молча записывал предположенные расстояния.
Я следил за мимикой его лица.
Кто-то сказал 20 метров. Судья задрал правую бровь – наверняка перебор. На предположение в 14 метров, рот судьи опустил левый уголок – маловато.
Я назвал среднее арифметическое – 17 метров и, опросив всех, судья сверился со своими записями и сказал, что у меня глаз – алмаз.
Но всё решал последний конкурс – у кого скорее вскипит на костре вода в десятилитровом жестяном ведре. Тут уж никто никому не подсудит и чтение мимики не спасёт.
Дан старт и зачиркали спички у кучек хвороста сложенных для костров. Плотный белый дым сменяется трескотливым пламенем – пора подвесить ведро над огнём и подбрасывать ветки в костёр; главное – чтобы были посуше.
Красные языки пламени мотаются туда-сюда под ветром, лижут жесть ведра, что чернеет от копоти.
Ветер – сволочь! Вон сколько сколько пламени относит в сторону от ведра.
Двенадцатая школа пытается управлять огнём – держат в руках одеяло, загораживают свой костёр от ветра.
А мы?
Наш учитель физкультуры Иван Иванович, бывший фронтовик и опытный рыбак машет рукой – фигня всё это! Хвороста помельче да посуше! Отсюда подкладывай!
Ни один учебник не дал мне более чёткого понятия об этапах закипания воды.
Нагрев, лёгкий парок над водой, образование мелких пузырьков на стенках; они всплывают, образуя пену и, наконец, вода в ведре начинает бугриться и подпрыгивать, от неё валит белый пар.
Судья останавливает секундомер. Ура! Мы – первые!
А двенадцатая школа всё ещё стоит вокруг своего ведра, заглядывая на пузырьки на стенках.
Участники соревнования грузятся в автобусы. Кто хочет – могут остаться на ночёвку в двух больших шатровых палатках; за ними приедут утром.
В начинающихся сумерках я отошёл от поляны с палатками вглубь леса. Он, вобщем-то, такой же как на Объекте, только больше лиственный, чем хвойный.
Я начал мочиться, оглядываясь по сторонам. И вдруг какая-то часть леса шевельнулась и отделилась от остального. Что происходит?
Непривычные глазу формы начали складываться во что-то общее…
О! Так это же лось! Какая громадина! И как близко стоял…
Я смотрю вслед уходящему меж деревьев великану и думаю – не зря я остался на ночёвку.
Ночью я пожалел, что остался.
По неопытности и излишней склонности к разнузданному индивидуализму, я лёг с краю, под брезентовой стенкой палатки.
Ночной холод пробудил меня через час и заставил прижиматься спиной к предпоследнему в группе спящих, в поисках хоть капли тепла.
Промаявшись на грани замерзания несколько тёмных часов, я вылез из палатки, когда вокруг только-только начинало сереть.
Костёр угасший ещё вчера подёрнут седым пеплом, но всё равно перед ним сидят двое из соседней палатки. Должно быть сдуру, как и я, ложились спать крайними.
Автобус за нами не пришёл. Вместо него на поляну въехал «козёл» с брезентовым верхом и нам объяснили, что случилась накладка.
Свёрнутые палатки и девочки поместились в машине, а нам сказали идти в город пешком и отнести в Дом пионеров опорные столбы палаток, что не помещаются в «козла».
Оказывается двенадцать километров пешком – это очень далеко, тем более, когда ты на пару с кем-то тащишь не слишком-то тяжёлый, но столб покрашенный зелёной краской.
Двенадцатая школа скоро скрылась из виду со своим столбом, а мы, отстали и редели рядами, потому что кое-кто уходили вперёд и больше ни догнать их, ни увидеть не удалось.
На окраинную трамвайную остановку мы добрели втроём – я, мой одноклассник Саша Скосарь и гладкий, выточенный из сосны, зелёный столб.
( …я помню, что мы устали как собаки, и даже на разговоры не оставалось сил, но это воспоминание не вызывает во мне никаких эмоций, наверное они притуплены неоднократными повторениями такого же состояния по ходу жизни, а вот картина уходящего в сумерки лося, которую я до сих пор могу живо представить, заставляет меня и сейчас умилиться – это же надо как вымахал Бэмби!.. )
Весной отец поменял место работы.
Он перешёл из слесарей вагоно-ремонтного цеха КПВРЗ в девятнадцатый цех Конотопского электро-механического завода – КЭМЗ, он же завод «Красный Металлист», тоже слесарем.
Зарплата кэмзовского слесаря чуть выше. Насколько выше я не знаю, никогда не вникал.
В конце концов, зарабатывать – это забота родителей, а у меня своих дел по горло – КВН, Клуб, кружки, библиотека. Ну, и вода-керосин, конечно, а если надо сходить в Нежинский магазин, скажите Наташке, или Сашку пошлите.
Помимо зарплаты, отец ещё подрабатывал ремонтом телевизоров, от которых даже мастера из телеателье отказывались.
Раза два в месяц соберёт после работы свою пузатую дамскую сумку из зелёного кожзаменителя с тестером мультиметром, паяльником, запасом деталей и прочей оснасткой и уйдёт до поздней ночи.
Потом приходит – подвеселелый, с троячкой заработка. На выговоры мамы – резонный ответ: «а ты меня поила?»
Иногда процедура затягивалась на два вечера.
В первый отец возвращался домой трезвым, без трёхрублёвки и без своей сумки – она оставлена у клиента до окончания ремонта.
Особо сложные случаи привозили нам на хату.
Отец ставил сдохший телевизор на столе, под единственным окном комнаты, снимал с него коробку, что отправлялась на шифоньер, оставляя лишь нутро из электронной трубки и скелета панелей с электролампами.
Он переворачивал его и так, и эдак, приговаривая:
– Ну, чего ж ты хочешь-то? А? Родной?
Среди ночи я просыпался от резкого шипенья – отец, при свете настольной лампы, добился, чтоб по экрану забегали полосы развёртки:
– Так вот чего ты не стреляла? Не заряжена была!
Потом мы пару дней смотрели отремонтированный телевизор – у того экран пошире, чем у нашего – пока не заберёт владелец, уже было поставивший крест на своём телике.
Всё-таки, не зря отец мой делал подшивки из журнала «Радио».
Мама тоже хотела поменять работу, но никак не получалось найти другую.
Отец и ей помог устроиться в КЭМЗ. Отремонтировал безнадёжный телевизор начальнику отдела кадров, а когда тот заговорил о плате, отец сказал, что денег не хочет, а пусть примут на завод его жену.
Отдел кадров ответил:
– Приводи.
Мама сперва не поверила – за полгода до этого тот же самый начальник наотрез говорил, что рабочих мест нет.
Когда родители пришли вдвоём, начальник предложил маме пойти в прессовщицы: работа сдельная, зарплата от выработки – ниже ста рублей они не получают.
Когда мама вышла в другую комнату писать заявление, начальник засмеялся и сказал отцу, что он её помнит, но тогда подумал, будто она беременная.
Беременных на работу брать ему не позволяется – месяц поработает, а потом плати ей целый год декретные. Его за это по головке не погладят.
А это оказывается у неё просто комплекция такая.
Так мама стала прессовщицей – засыпала спецпорошки в формы деталей и включала нагревательный пресс.
Она работала в две смены; неделю в первую: с восьми до пяти; неделю во вторую: с пяти до полпервого ночи – перерыв укорóчен.
Летом от пресса адская жара, да и формы тяжёлые – пойди поворочай.
После полуночи трамваи ходят очень редко – пока дождёшься, чтоб доехать от КЭМЗа до Переезда.
Но самое страшное, когда приходится прессовать детали из стекловаты. Она пробивается сквозь рабочий халат, а потом – зуд по всему телу. Даже душ после работы не спасает.
Зато в нашей хате и во дворе появилась масса всяческих коробочек и финтифлюшек из пластмассы разного цвета.
Мама приносила с работы бракованные детали, которые не доварились в форме под прессом, или повреждены при вытаскивании.
Вот тут уголок откололся – но какая модерновая получилась пепельница!
И у Жульки симпатичная ребристая ванночка для питьевой воды.
Всё потому, что продукция «Красного Металлиста» – это шахтное электрооборудование и всякие агрегаты и системы безопасности для горнодобывающей промышленности.
– Мама,– спросил я, должно быть под впечатлением от какого-то автора-нигилиста,– В чём у тебя смысл жизни? Ты зачем вообще живёшь?
– Зачем?– ответила мама. – Чтобы увидеть как вы повырастаете, как счастливыми станете.
Я заткнулся, потому что иногда у меня всё-таки хватает ума не умничать.
Перемены происходили не только у нас, но и во всей хате.
Одна из сестёр-бабулек с Дузенкиной половины вернулась в своё село, а вторая переехала к своей дочке, где-то в пятиэтажках на Зеленчаке, чтобы сдавать свою часть хаты квартирантам.
Туда въехала мать-одиночка Анна Саенко с дочерью Валентиной.
Валентина на год старше меня, но с виду – наоборот – такая маленькая, рыжая, правда, с длинным носом.
Вечерами она выходила поиграть с нами – моими младшими и мной – в карты на широкой скамейке под своим окном у крыльца.
Очень даже удобная скамейка – можно опереться спиной на мазанную стену хаты в такой давней побелке, что не оставляет следов.
Во время игры, пользуясь сумерками, я иногда прикасался плечом к плечу Валентины.
Такое мягонькое.
И всё начинало плыть…
Она отстранялась, но иногда и не сразу, отчего пульс во мне учащался и жарчел.
Но потом она перестала выходить. Наверно, я слишком плотно вжимался в её плечо.
Родители выкупили у Дузенкинового зятя один из их двух сараев – самый крайний, с односкатной крышей. Когда-то там был хлев обмазанный для тепла глиной в смеси с навозом.
Отец поменял на нём крышу; вместо руберойда покрыл жестью, не новой, конечно, но всё же.
Глядя как ловко он стучит киянкой, сшивая в замок листы жести, загибая на них гребешки, я удивлялся откуда он всё это умеет, и откуда у него инструменты на все случаи жизни.
Хотя бы ножницы для резки жести, например. Ведь в магазинах ничего такого не продают.
Вон и Чепа, если что-то нужно сразу сюда:
– Дядь Коля, дайте дрель.
– Дядь Коля, натфель надо.
В стене напротив двери отец вставил остеклённую раму с петлями, как на веранде.
Проводку проложил из нашего сарая, они ведь через стенку.
Дядя Толик у себя на работе выписал списанные ящики от запчастей, что привозят в Рембазу для ремонта вертолётов. Получились щиты для пола.
Теперь в маленьком сарае отцова мастерская с тисками и всем, что нужно.
А под той стеной, где скат крыши не позволяет распрямиться во весь рост, стоит дяди Толикина «ява».
Большой сарай попросторнел и под его двускатной крышей сложили остатки длинных досок от разобранных ящиков.
На доски положены дверные створки, что были в хате между кухней и комнатой, а теперь сняты на лето. Закрывать их не получается – в хате и так дышать нечем, зря только место занимают.
На створки постелен матрас и теперь это моя летняя дача.
Постель получилась на высоте второй полки вагонного купе, но пошире.
Рядом на стене отец закрепил раздвижную лампу в жестяном абажурчике – ночью читай сколько влезет.
Ещё я забрал сюда маленький приёмник «Меридиан». Его отдал отцу кто-то из клиентов в благодарность за ремонт телевизора.
Приёмник, конечно, совсем не работал, но за пару недель отец достал нужные детали и теперь у меня дача – лучше не бывает.
Хочешь – читай, хочешь – радио слушай. И главное никто не скажет «свет туши», или «да выключи ты уже эту шарманку!»
Лежу тут один, конус света на раскрытой книге.
Только собаки на огородах лают. Одна начнёт, другая продолжает. Наш Жулька в их перекличке почти не участвует – старый уже.
Вот интересно что получится, если сложить вместе весь собачий лай, пусть даже который не слышишь?
Например, у нас на Посёлке затихли, а в Подлипном завелись лаять, и так далее – в соседних областях и странах. Наверно получится, что на Земле никогда не смолкает собачий лай.
Тоже мне, планета людей называется.
А приёмник лучше включать ночью.
Во-первых, ежедневно передают «Концерт после полуночи», а там не только Георг Отс, но и Дин Рид бывает.
Потом, с часу до двух, «Для тех, кто в море» – морякам торгового флота и рыболовецких траулеров. Там вообще такие рокэнролы врубают – закачаешься. Ну, понятно, они же в загранку ходят, им одной Людмилы Зыкиной уже мало.
А где-то с четырёх и почти до шести джаз играет – рояль, контрабас и ударник, но какую музыку делают!
«Прослушайте этюд «Весеннее настроение», пожалуйста…», и такое сбацают – улёт!
Ну, а в шесть передают гимн Советского Союза и дальше уже пошёл обычный «Маяк».
Один раз я так и не заснул всю ночь.
Потому что, когда начало светать, съездил на велике на Болото. Привёз охапку сена из чьих-то тамошних стогов для наших двух кроликов.
Кроликов Чепа дал, он их много держит – пять клеток, так отец велел заготовить кормá для наших.
А потом я подумал – день уже начался, интересно: сколько смогу продержаться без сна?
Где-то к полудню, когда играл в шахматы с Серёгой Чаном у них на крыльце, на Гоголя, рядом с колонкой, чувствую, что звуки разговора как-то очень издалека доходят и толком уже не врубаюсь что конкретно мне говорят.
Вобщем, вернулся к себе на дачную полку и – заснул.
А когда встал – светло, пошёл в хату – на ходиках пять часов, но в календаре уже другой день.
Я проспал больше суток?
Все смеются, говорят:
– Да! Здоров ты спать!
Потом оказалось, что дядя Толик придумал оторвать сегодняшний листок календаря.
Вобщем, кролики у нас тоже совсем недолго продержались.
В то воскресенье я опять поехал на Сейм велосипедом, но уже один.
Знакомая дорога промёлькивает под спицами быстрей, тем более, что ехал я совсем налегке – Сашка с Наташкой тоже собирались приехать на сеймовской пляж двухчасовой электричкой. Вот и привезут мне чего-нибудь пожевать.
Откуда мне было знать, что от велопробега и купаний так сильно есть захочется. Аж живот подвело. И я уже видеть не мог, как пляжники созывают друг друга, усаживаются в кружок на разостланных по песку одеялах-покрывалах и начинают уминать свои вкуснятины.
Долго ещё?
И я навострял уши, когда в разных концах пляжа разные приёмники, настроенные на один и тот же «Маяк», начинали объявлять одно и то же точное время после шестого сигнала «пиии!»
Наконец, по мосту через Сейм прогрохотала двухчасовая электричка на Хутор Михайловский.
От сосновой рощи за полем показались группки пешеходов. Но ни в первой волне вновь прибывших, ни в последующих сестра с братом не появились.
Что за дела? Договаривались же – буду ждать их на пляже. Жрать охота.
Тут ко мне подошёл Саша Плаксин, он тоже жил на углу Гоголя, напротив колонки.
Наташа сказала ему передать мне, что они не приедут, потому что мы идём на день рожденья к дяде Ваде и мне надо приехать прямиком к нему.
– Всё? Больше ничего не передавала?
– Нет.
Ну, правильно – зачем набивать желудок, когда идёшь на день рожденья.
И я поехал обратно с желудком прилипшим к хребту.
Знакомая дорога уже не казалась такой короткой. Педали отяжелели и я уже не спринтовал, а крутил их с заметной натугой, под крутившуюся в уме заунывную песню разбойников из кинофильма «Морозко»:
– Ох, и голодно нам… Ох, и холодно нам…Лес кончился, пошла тропа вдоль железнодорожной насыпи, а впереди ещё больше половины пути.
До чего, всё-таки жрать хочется…
Когда показался большой щит на въезде в город с надписью «Ласкаво просимо!», я почувствовал, что дальше не могу и свернул в заросшую травой канаву, что тянулась к лесополосе.
И по всей канаве ни одной былинки из тех, что мы когда-то показывали друг другу на Объекте.
Всё только лишь спарыш да такие же несъедобные одуванчики.
Ещё эти вот, с метёлочками наверху.
Я вытаскиваю их верхушки и жую мягкую часть стебелька. Нет, это не еда…
И ещё малость полежав в канаве, я еду к дяде Ваде домой.
Там я оказался самым первым из гостей.
До этого летнего дня я нос воротил от сала, и мама мне говорила:
– Может тебе марципанов на блюдечке?
Но после него знаю – нет ничего вкуснее ломтя сала на краюхе чёрного хлеба.
( …кому-то не кошерно? Ну, и ладненько! Мне больше достанется!..)
В июле мы – брат с сестрой и я – поехали в военно-патриотический лагерь в городе Щорс. Путёвки предложили в школе, совсем недорого.
Пришлось мне опять одевать пионерский галстук.
Щорс стоит в стороне от магистралей, поэтому туда надо ехать на дизельном поезде часа четыре.
Там нас ждала обычная пионерлагерная рутина: мёртвый час после обеда, редкие выходы через город к речке– купаться возле железнодорожного моста.
Хорошо, хоть библиотека есть.
Правда, случился один необычный день.
После подъёма в столовой собрались одни только ребята. Старшая пионервожатая объявила, что наших девочек похитили, после завтрака идём их искать.
Ну, прямо как в детстве; казаки-разбойники. Отыщем полонянок по стрелам на песке лесных тропинок.
Там, где лес кончился и пошли ровные ряды сосновых лесопосадок, дорога вывела на перекрёсток. Куда теперь?
Мы разделились на поисковые группы.
Я и двое ребят пошли направо.
Дорога вернулась к опушке и привела к одинокой хате за низким штакетником. Наверное, лесник тут живёт.
Во дворе ни души, даже собаки нет. Поближе к хате, под деревом, пустой гроб – и крышка рядом.
А что остаётся делать, если тебе в детстве баба Марфа читала «Русские былины»?
Конечно, я лёг в этот гроб и попросил ребят накрыть меня крышкой – как Святогор просил Илью Муромца.
Они исполнили мою просьбу. Я полежал в тесной темноте, совсем не страшно, приятно пахнет стружкой из рубанка; потом я попробовал сдвинуть крышку, но она не поддалась – наверное, они уселись сверху.
Кричать я не стал – начитанный, знаю, что от каждого вопля, как от удара мечом Ильи Муромца, гроб будет окольцовываться дополнительным железным обручем.
Я ещё подождал, а потом легко сдвинул крышку в сторону.
Вокруг было тихо и пусто. Тем ребятам, наверное, жутко стало сидеть в безлюдном дворе на молчаливом гробу.
Когда я вернулся к перекрёстку, все уже были в сборе, и похищенные девочки тоже – пора возвращаться в лагерь на обед.
До конца смены в том лагере я не пробыл; старшей пионервожатой позвонили из конотопского горкома комсомола и сказали, что мне нужно ехать в лагерь подготовки комсомольского актива в областной центр, город Сумы.
В последний вечер перед отъездом, в лагерь пришли местные щорсовцы и хотели устроить мне разборку.
Они даже всовывались в окно спальни и жестами показывали, что мне – кранты.
То ли я неудачно им как-то возразил во время купания под мостом, или какая-то из местных девочек, отдыхающих в лагере, пожаловалась им, что я слишком много о себе воображаю и выделываюсь.
Не влезли они потому, что в спальне была вожатая.
Она ещё потом сопровождала меня через тёмный лагерь в отряд моих сестры и брата – попрощаться перед отъездом.
В сумском лагере подготовки комсомольского актива ребят из Конотопа было четверо и мы жили в палатке с четырьмя койками, а обе наши девушки в одной из спален длинного одноэтажного корпуса.
Ещё в лагере было отдельное здание столовой и сцена-раковина перед рядами скамеек из брусьев, в окружении полузасохших сосен.
На этих скамейках до обеда мы записывали лекции в выданные нам блокноты – убей не помню о чём.
Когда-то, в пионерлагере за Зоной, палатка старшего отряда казалась мне частью волшебно-былинного мира, я испытывал чувство благоговения в зачарованном пространстве меж её стен с трепетными тенями листвы на тёплом от солнца брезенте.
Теперь же, в лагере комсомольского актива, палатка, где мы валялись поверх заправки своих коек, была просто палаткой без всякого театра теней по сторонам.
( …как много мы теряем вырастая…)
Я был самым младшим в конотопском отряде. Ребята постарше вели солидные беседы про преимущества «волги» над «победой», и про обкатку мотоциклов, и что какой-то сосед женился в возрасте восемнадцати лет от роду; идиот – ему ещё надо во дворе с пацанами в футбол гонять.
Один из наших умел играть на гитаре. Он одалживал её у кого-то в длинном корпусе.
В его репертуаре насчитывалось всего две песни – про город, куда не найти дороги, где у жителей мысли и слова поперёк, а руки любимых вместо квартир; и ещё одна – «…идёт скелет, за ним другой…»
Но и на эти две всегда сходилась аудитория из соседних палаток и девушки из корпуса.
Я попросил его научить меня. Он показал мне два аккорда, чтоб я тренировался выбивать ритм «восьмёрку».
На кончиках пальцев левой руки пробороздились глубокие вмятины от гитарных струн. Было больно, но очень уж хотелось научиться.
В КВН против команды сумчан мы проиграли, но не в приветствии, которое я ниоткуда не сдирал.
В нём мы вышли как заблудившиеся инопланетяне:
– Мы на Марс собирались, Йе! Йе! А попали мы к вам! Йе! Йе! Йе! Йе!~ ~ ~
~~~юность
После восьмого класса мы многих не досчитались – они ушли или уехали в разные техникумы и ПТУ.
Куба поступил в Одесское мореходное училище, Володя Шерудило в ГПТУ-4, которое в Конотопе почему-то называют «бурсой», а учащихся, соответственно, «бурсакáми».
Чепа в Конотопский железнодорожный техникум…
В параллельном классе потери оказались не меньше и всех нас объединили в один девятый класс.
В первый день занятий после линейки и звонка в наш сводный класс зашёл Валера Парасюк, по кличке «Квэк».
Он был блондин и уже десятиклассник, но бегал за какой-то девочкой из нашего объединённого класса и зашёл, типа, просто сказать ребятам «привет-привет».
За ним последовала учительница украинского языка Федосья Яковлевна, по кличке «Феська», с гладко причёсанными на прямой пробор волосами и венчиком тощей косы вокруг головы.
Она велела ему выйти за дверь, но он пошёл своим путём – влез на подоконник и выпрыгнул во двор, блеснув напоследок начищенными чёрной ваксой туфлями.
Учительница по химии, Татьяна Фёдоровна, всегда нам ставила в пример его туфли:
– Если у парня туфли блестят, значит он следит за собой. Берите пример с Парасюка!
Федосья Яковлевна, она же Феська, закрыла распахнутое окно за Валерой, он же Квэк, и сказала не обращать внимания – всё равно он уже переведён в четырнадцатую школу за то, что она ближе к его дому и у педколлектива теперь меньше забот будет.
Лучше всего люди познаются и притираются друг к другу в ходе совместной трудовой деятельности.
В первую же субботу учебного года старшеклассникам назначили явиться в школу с вёдрами – идём в село Подлипное помогать с уборкой урожая.
Денёк выдался на славу – тёплый, сентябрьский, с ярким солнцем в синем небе.
Нас привели на край поля, где зелёной стеной стояли посевы неубранной кукурузы.
Дело нехитрое – обрываешь початок со стебля, отдираешь с него длинные продольные листья, бросаешь в ведро, а когда оно наполнится, относишь на общую кучу.
Это называется шефская помощь колхозу.
Каждого шефа поставили перед рядком кукурузных стеблей – иди вдоль своего и собирай початки, пока не достигнешь другого конца поля.
И работа закипела – мы дружно двинулись вперёд под звяк жестяных вёдер, оживлённые возгласы школьников, наставительные окрики педагогов, вспышки и бахканье взрывпакетов в небесной сини.
Я заметил, что начинаю почему-то отставать от общего продвижения.
По пути с очередным ведром початков к общей куче, я обратил внимание, что не на всяком из рядков початки сняты полностью.
Так что же толком-то не объяснили, что собирать надо не всё подряд, а лишь самые-самые?!
Подкорректировав приоритеты, я вскоре догнал основную массу шефов-помощников, а затем настиг и авангардную группу ребят.
Со мной авангардистов стало четверо.
У идущих впереди есть ряд преимуществ.
Тебе не нужно возвращаться к общим кучам собранной кукурузы.
Как только ведро наполнится початками, ты высыпаешь их на землю и становишься основоположником новых куч, куда будут сносить свою лепту идущие позади.
Двое из ребят и вовсе избрали путь наименьшего сопротивления – сорвав початок кукурузы, отбрасывали его на несколько метров в сторону, даже без очистки от листьев.
Я не стал перенимать их передовой опыт – конец поля и так уже виднелся.
Мы вышли к нераспаханному полю, где заканчивались посадки кукурузы и ещё полчаса валялись в траве, пока к нам подошли остальные.
В сентябре Архипенки переехали на улицу Рябошапки, рядом с Рембазой, где дядя Толик получил квартиру в пятиэтажке.
Жить стало просторнее – родители перешли спать на кухню.
А во дворе хаты появился новый жилец – Григорий Пилюта. Он отбыл свои десять лет за убийство и вернулся в родительский дом.
Тёмные волосы скрывали его лоб до бровей, а глаза смотрели вниз или в сторону.
Сумрачно и молча проходил он от калитки до своего крыльца.
Застенные концерты Пилютихи с его появлением не прекратились. Хотя, однажды, проходя под окном их кухни, я слышал, как он грубым окриком пытался заткнуть поток её проклятий кухонной стене.
Вскоре меня среди ночи разбудил отец при свете настольной лампы. Мама стояла рядом с ним, а Сашка и Наташа выглядывали из-под своих одеял.
Отец сказал, что Пилюта ломится в нашу дверь с ножом и мне надо через окно комнаты спуститься в палисадник и тем же путём принести два топора из сарая-мастерской.
Одеваться было некогда – через тёмную кухню доносились удары в дверь веранды и пьяные вопли в адрес мамы:
– Открой! Я тебе кишки выпущу!
Я быстренько принёс что требовалось и мы с отцом встали возле двери, что ходуном ходила под ударами орущего Григория Пилюты.
Долго ли продержится щеколда навесного английского замка?
Мы с отцом стояли в одних трусах и майках с топорами в руках.
– Серёжа,– сказал отец взволнованным голосом, – как вломится, остряком не бей. Обухом его глуши. Обухом!
Мне было страшно, но я хотел, чтобы Пилюта поскорей бы уже ворвался.
Он не ворвался.
В темноте двора раздались причитания Пилютихи и уговаривающий мужской голос – Юра Плаксин из хаты на углу Гоголя, друг детства Гриши Пилюты. Он увёл его с собой.
Мы оставили топоры на веранде и легли спать дальше.
Наутро я увидел, что серая краска снаружи входной двери исцарапана, а кое-где поклёвана ножом.
Хорошо, что это не зимой случилось, когда уже вставлены вторые рамы. Как бы я выбирался в мастерскую?
Потом приходил Юра Плаксин, уговаривал родителей не сообщать участковому о происшествии.
Один топор ещё долго оставался на веранде, пока Григорий не переехал куда-то из материнской хаты, от греха подальше – сама же натравит, накрутит, а потом бежит к Плаксину, чтобы сынка снова не посадили.
Возможно у него имелись и другие причины к переселению, как знать – чужая жизнь потёмки.
Впоследствии я иногда встречал Григория в городе, но во дворе нашей хаты – ни разу.
Со смертью Пилютихи народонаселение хаты по Нежинской 19 скачкообразно возросло, потому что Григорий продал родительский дом приезжим из Сибири.
Это совсем не означает, будто они сибиряки, ведь туда можно попасть из любой республики, завербуешься на работу и – поезжай.
Так называемая «езда за длинным рублём», потому что во всяких необжитых таёжных местах зарплаты очень высокие, люди оттуда деньги пачками привозят.
Если, конечно, получится. Не зря же сложили поговорку: рубль длиннее, жизнь короче.
Вон один парень с Посёлка завербовался в какую-то шахту за Уралом, а через полгода его привезли обратно.
В той шахте он слесарил по ремонту механизмов и оборудования. Что-то там перестало работать, рубильник отключили и он полез ремонтировать, а сзади: то ли напарник отошёл, или ещё чего, только врубили снова. Его тот механизм так пошинковал, что обратно к родителям пришлось отправлять в цинковом гробу, в виде фарша.
В балетной студии Нины Александровны он был ведущим танцором. Высокий такой брюнет.
При исполнении молдавского танца «Жок» он выше всех подпрыгивал и делал в воздухе полушпагат, чтоб ладонями прихлопнуть по красным голенищам балетных сапогов. А его чёрные волосы хорошо сочетались с коротким шёлковым жилетом для молдаванских танцев, с узором из нашитых блёсточек.
Приезжие, что купили Пилютину половину, в Сибирь вербовались не из Конотопа и даже не с Украины. Говорили они на русском и многих местных слов не понимали.
Их было четверо – две бездетные супружеские пары; каждой паре по половине половины хаты.
Которые чуть постарше жили через стену от нас, а те что помоложе заняли часть с двумя дополнительными окнами на улицу. Может оттого они оказались приветливее и веселее старшей пары. Хотя, по контрасту с усопшей Пилютихой, старшие тоже держались вполне дружелюбно.
Наш непосредственный сосед, муж в старшей паре, затеял ремонт плиты-печки и нашёл в дымоходе клад.
Саше с Наташей и детям из хаты Турковых он раздал купюры невиданных денежных знаков.
Они изумили меня своим номиналом; я-то думал что в деньгах сизая 25-рублёвка с гипсовым профилем Ленина – самый потолок, а тут банковские билеты и по сто, и по пятьсот рублёй – размером с носовой платок, с белыми скульптурами и царскими портретами в овальных рамах и с подписью министра финансов Российской империи.
Деньги Украинской Центральной Рады, хоть и не настолько красочные, но по завитушкам подписи Лебiдь-Юрчика не уступали выпущенным при самодержавии.
В моём классе тоже есть Юрчик и тоже Сергей, только ростом он повыше меня и в строю на физкультуре стоит вторым. Вряд ли он родственник тому Юрчику, потому что живёт в Подлипном. Скорее всего они просто однофамильцы.
Мне денег не досталось, после школы я как всегда пропадал в Детском секторе.
Когда мой отец пришёл с работы, то сосед позвал его к себе на кухню – показать коробочку, в которой лежал клад и место в печной трубе, откуда он его вынул.
Потом отец вернулся на нашу кухню, встал посредине и задумчиво произнёс:
– А ведь там не только бумажки лежали.
Он снова посмотрел на стопку банкнот на столе и принялся вспоминать своего деревенского родственника по материнской линии.
При царском режиме тот освоил выпуск таких же вот бумажек. У него и машинка специальная имелась.
Богато жил, а погорел из-за нетерпения.
К нему из города брат приехал и они купили водки в «монопольке», так при царе называли деревенские магазины. Когда они пошли ту водку пить, продавец увидел на своих пальцах синюю краску от пятирублёвки. Она свежепечатная была, братья так торопились отметить встречу, что не дали даже краске высохнуть как следует.
Вобщем сослали печатника в Сибирь с конфискацией имущества. Так жена его потом тоже к нему уехала, как те жёны декабристов.
– Что значит – любовь!– сказала мама.
– Какая любовь?!– взвился отец.– Просто прикинула, что за таким умельцем и в Сибири не пропадёт.
Он хихикнул и мне тоже стало приятно, что у меня в роду имелся ушлый фальшивомонетчик. Правда, давным-давно, а мне всё, что до революции, казалось не менее далёким, чем суровая старина былинных богатырей.
Впрочем, при Змее-Горыныче бумажных денег, конечно, ещё не печатали.
Через неделю предположение отца косвенно сбылось.
Муж из молодой пары, теперь уже несколько приунывший, поделился с моим отцом новостью, что его друг без предупреждения уехал в неизвестном направлении. Вместе с женой втихаря рассчитались с работы и – ищи свищи. Дружба дружбой, а табачок врозь.
Вскоре уехала и молодая погрустневшая пара. Пилютина часть хаты вновь и надолго опустела.
Благодаря подготовке в областном лагере комсомольского актива, меня избрали комсоргом тринадцатой школы. А ещё через неделю я несколько дней не ходил на занятия по уважительной причине.
В составе комиссии из пяти таких же как комсоргов, я посещал отчётные заседания комсомольских комитетов школ города, куда нас водила второй секретарь горкома комсомола.
Помимо меня в комиссии оказались ещё двое знакомых по сумскому лагерю – гитарист и одна из девушек.
На отчётных заседаниях скука царила смертная, потому что везде всё одно и то же и одними и теми же словами.
Но второй секретарь от нас требовала, чтоб мы непременно высказывались с критическими замечаниями; у гитариста это получалось.
Комсомольцы тринадцатой школы не расставались со своими славными пионерскими традициями, продолжая участвовать в общешкольном сборе металлолома.
Каждую осень длинный школьный двор делили на сéкторы – от мастерской до двухэтажного здания возле ворот.
Эти секторá распределялись между классами, чтоб все знали кому где складывать собранный ими металлолом.
Классы соревновались, кучи из всякой ржавой всячины росли и взвешивались, пока, в конце концов, их не увозили куда-то, а классам победителям выдавались грамоты.
Конечно, грамоты мало кого интересовали, а интересно было собраться всем классом после школы и… ну, ладно, не всем классом, а кто придёт и…
И с парой возков, дробно грохочущих на булыжной мостовой Богдана Хмельницкого и устало скрипящих на пыльно-грунтовом покрытии остальных улиц Посёлка, отправиться на поиски металлолома.
А где искать-то?
Ну, у кое-кого есть соседи, которые рады избавиться от кучи многолетних металло-наслоений в углу двора. Заводите свой возок под погрузку!
Однако, проржавелые тазы, диванные пружины и гнутые гвозди слишком легковесны для роста авторитета твоей металлоломной кучи.
Да и чистоплотных соседей не густо – а кому мешает тот хлам за сараем? Вдруг пригодится?
Иногда в нём кусок проволоки найдёшь – привязать в заборе доску, в которой гвоздь уже не держится, до того струхла.
Поэтому новосозданный коллектив нашего девятого класса со своими возками отправился в свободный поиск вдоль заводской стены на Профессийной.
Как стервятники в поисках добычи.
Там, где кончается завод и начинаются пути сортировочной станции, мы покружили вокруг явно ничейной колёсной пары от вагона. Но многотонную махину на возки не взвалишь и не увезёшь, а то б мы враз всех победили.
Поискали вдоль путей – тоже ничего. Но в одном широком бетонном кольце ребята обнаружили арбуз и ящик винограда.
Наверное, станционные грузчики умыкнули где-то из вагона и припрятали, предположил Володя Сакун из бывшего параллельного.
Мы огляделись – вокруг только неподвижные составы грузовых поездов. У кого-то нашёлся нож взрезать арбуз.
Но он оказался таким большим, что не располовинился от кругового надреза. Пришлось ударить им о стенку бетонного кольца.
Арбуз распался надвое, но сердцевина – так называемая «душа» арбуза – осталась в одной половине.
Красная, сахаристая, в окаёмке тёмно-коричневых семечек.
Никогда не ожидал бы от себя такой прыти, но именно я нанёс «удар сокола», обеими руками выхватив из арбуза его душу.
Чуть придя в себя от изумления самим собою, я великодушно отказался от участия в дележе оставшихся частей.
Ребята разрезали их на дольки, а я так и ел из собственных ладоней истекающую сладчайшим соком арбузную мякоть.
Виноград мы оставили грузчикам. Больше половины ящика. Чтоб не обижались.
Час спустя, по наводкам от знакомых, мы вышли-таки на залежи металлолома, однако, совсем в другом месте.
В заборе из труб между Базаром и «бурсой» оказалась дыра, через которую мы натаскали довольно длинные обрезки труб и так много, что хватило на оба возка.
На следующий день в нашу школу пришёл завхоз «бурсы», опознал свои трубы в нашей куче, поговорил с директором и увёз их.
Оказывается, это нужный материал для обучения работам на токарном станке.
Но Пётр Иванович нас даже не пожурил. Да и за что?
Кто мог предположить, что в зарослях крапивы валяется нужный материал? Впрочем, всему могут найтись веские причины.
Вот только моя прыть с изъятием души арбуза так и осталась для меня чем-то необъяснимым.
( … в те непостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои невзгоды или радости, взлёты и падения, все мои тупости и озарения, исходят от той сволочи в недостижимо далёком будущем, которая сейчас слагает это письмо тебе, лёжа в палатке посреди тёмного леса под неумолчное журчанье струй реки по имени Варанда …)
Непредсказуемо начало дружб.
Идёшь после школы домой, а тут Витя Черевко, твой новый одноклассник из бывшего параллельного, тоже идёт по Нежинской.
– О. А ты шо тут?
– А так. Иду к Владе, он на Литейной живёт.
– И я с тобой.
С того дня у меня два друга-одноклассника: Чуба, он же Витя Черевко, и Владя, он же Володя Сакун.
Лоб Влади прикрывает длинный чуб жирновато-каштановых волос от длинного пробора над правым ухом, два-три недозрелых прыща на щеках искупает красота больших выразительных глаз – любая девушка позавидует.
У Чубы волосы чёрные, чуть курчавые, а глаза голубые, румянец на щёках и брызги веснушек на аккуратном носу.
Место наших встреч – крыльцо Владиной хаты.
Он живёт с матерью, Галиной Петровной, в комнатке с кухонькой, что вместе едва ли сложатся в одну кухню у нас на Нежинской.
На узкой кухне: стол-ящик, кровать и плита-печка – больше ничего не поместилось, кроме крючков вешалки рядом с дверью.
В комнате: шкаф, кровать, стол с задвинутыми под него стульями – иначе не протиснуться – и этажерка с телевизором.
Глухая стена кухни и комнаты отделяет от половины соседей.
Галина Петровна работает нянечкой в детском саду, что между парком КПВРЗ и спуском в тоннель Путепровода.
Иногда к ней в гости приходит двоюродный брат, которого она называет Карандаш, или Каранделя, смотря по настроению. С собой он приносит бутылку вина. Может, и вправду родственник – у него с Владей глаза похожи.
Два старших брата Влади разъехались по Союзу в поисках длинного рубля. Они не похожи ни на мать, ни на Владю, ни друг на друга.
Владя очень популярен среди ребят не только Литейной, но и Кузнечной улиц. Он умеет классно «гонять дуру». Например, про то, как в Шотландии мужики на соревновании кидают брёвна, рассказывая от лица одного из тех мужиков.
– Ну, не врубился он, шо я уже киданýл, ну, его и накрыло – откинул копытá…
И он уморно закатывает один глаз под веко.
Или про то, как Колян Певрый по пьяни фонарный столб принял за прохожего – сперва зашугивал, потом вымогал закурить, а под конец начал вырубать, за то, шо тот его не уважает… но так и не завалил…
А в один из вечеров на крыльце появилась гитара – Вася Марков принёс – и Владя запел про графа и его дочь Валентину.
Так я попал к нему в зависимость и начал раболепно упрашивать, чтоб он и меня научил.
Он отвечал, что и сам обучается у Квэка – лучше мне напрямую к тому обратится. Только у меня всё равно гитары-то нет, а эта Васина, он никому не разрешает давать.
Если что-то очень хочешь, мечта исполняется секундально, плюс-минус два дня.
Нашлась гитара!
Вадик Глущенко, он же Глуща, с той же Литейной, продал мне свою; и по магазинной цене – внутри короба можно прочитать на наклейке «7 рублей 50 копеек. Ленинградская фабрика музыкальных инструментов».
Мама почти сразу выделила просимую сумму.
Правда, на колышке третьей струны не хватало пластмассового кружка и при настройке его приходилось крутить плоскогубцами, но впоследствии отец снял колышек, отнёс на работу и приварил аккуратную железную нашлёпку.
Квэк дал мне помятый листок из тетрадки в клеточку с бесценной разметкой всех существующих гитарных аккордов: «маленькая звёздочка», «большая звёздочка», «кочерга» и «барэ».
Ещё немного и я догоню Владю и тоже начну петь про любимицу графа и графских гостей.
Но не успел. У Влади появилась новенькая шестиструнная гитара от его брата Юры, и я опять безнадёжно отстал, потому что на шестиструнных нет никаких «кочерёг» и «звёздочек».
Пришлось делать запилы на порожке грифа своей гитары для раскладки шести струн вместо семи и учиться заново.
В октябре ещё было тепло и Галина Петровна устроила день рождения Влади для него и его одноклассников на открытом воздухе.
Стол из комнаты вынесли в палисадник и он оказался раздвижным.
Его установили между хатой и крашеной дощатой будкой с верандовым оконным переплётом; которая служила летней кухней и летней спальней.
За этим столом я впервые выпил вина. Какое великолепное ощущение!
Окружающий мир подёрнулся лёгким занавесом из полупрозрачных, как крылья стрекозы, цветочных лепестков с тонюсенькими прожилками. Вокруг сидели прекрасные друзья – лучшие люди на свете – мы вели такие остроумные беседы и Владина мать так весело смеялась, а тени под кустами парички расплывчато углублялись.
С наступлением зимы у нашей одноклассницы Любы Сердюк тоже был день рожденья и те, кто сдал старосте класса, Тане Красножон, по два рубля, пришли на хату к имениннице.
До сих пор классом мы устраивали только вечера отдыха в школе, где, под присмотром классной руководительницы Альбины Георгиевны, мы пили лимонад, а потом сдвигали парты в угол класса и играли в «ручеёк», а в дверь заглядывали ребята классом старше, но Альбина их не пускала.
( … приятно держать за руку, тянуть избранницу через туннель вскинутых рук, если только рука не потная, а то жди пока тебя освободит Вера Литвинова, но в неё влюблён Саша Униат из десятого класса, он хороший парень, но кто его знает, вдруг начнёт ревновать …)
А в хате Любы на крашеном полу большой гостиной красовался стол под белой скатертью, заставленный салатами, холодцом и лимонадом.
Когда подошли все участники дня рождения и Любе вручили подарок от класса, её родители оделись и ушли к соседям, чтоб дальше мы веселились самостоятельно.
Ребята втихаря отделялись от коллектива и уходили на широкую остеклённую веранду пить принесённый кем-то самогон.
В небольшой спаленке напротив двери гостиной устроили дискотеку.
Там стоял проигрыватель с долгоиграющей пластинкой инструментальной музыки «Поющих гитар» и панель проигрывателя служила единственным освещением в комнате, если не считать того света, что пробивался из коридора в просвет между сдвинутыми дверными шторами.
Время от времени брат Любы, оболтус семиклассник, всовывал под шторой свою руку из коридора и щёлкал выключателем у двери. Под потолком спальни вспыхивала слепящая лампочка, танцоры отпрядывали друг от друга, жмурились, рыкали на тупого придурка, он гыгыкал и убегал на веранду. Партнёр из ближайшей к дверям пары снова тушил свет.
Я не ходил на веранду, а задержался за столом, налегая на свой любимый оливье. Когда я запил его уже не таким любимым, но по-прежнему вкусным лимонадом, за столом почти никого уже не оставалось.
За пару стульев от меня с недовольным лицом сидела Таня Крутась из бывшего параллельного. Я набрался решимости, подошёл к ней и сказал «разрешите».
Она даже не взглянула на меня, а ещё недовольнее поджала губы, поднялась и гибко пошла впереди в танцевальную спальню.
Там не меняли партнёров и не расходились, а переждав пока пластинка отшуршит промежуток между песнями, опять обхватывали руками свою пару, прижимаясь друг к другу верхней частью туловищ.
Лёгкое покачивание Таниной тонкой талии между ладоней моих рук, возложенных поверх её бёдер, хмелило меня сильнее вина.
Пульсирующий гул в ушах, насторожённость каждого мускула – не упустить, встретить наималейшее движение её рук у меня на плечах…
И я не злился на дебила игравшего выключателем, но, отпрянув под яркой лампочкой, я всматривался в её профиль с бледной чистой кожей и недовольно опущенным взглядом, любовался прядью волнистых волос в небольшом хвостике пониже затылка.
Груди её были скорее окружностями, чем полусферами, но и то, что было, вводило меня в экстатический транс корибантов.
( … хотя в то время я ещё не знал таких терминов и мой отец на это снова бы сказал:
– Понахватался заумных слов, как собака блох. Верхушечник!..)
Да, я был на верху блаженства, я был бесповоротно и навечно влюблён…
Я подстерегал, когда она пойдёт из школы, чтоб сопровождать до калитки нашей хаты, потому что большинство учащихся тринадцатой школы расходились по Посёлку через Нежинскую.
Я даже ходил в пятую школу болеть за девушек нашей, когда они проиграли в городском чемпионате по волейболу.
Она тоже была в команде, но меня почти не огорчил их проигрыш.
Я ещё сильнее влюбился в её высокие скулы и простил ей небольшую кривоватость ног.
В конце концов, это признак амазонок, бесстрашных воинственных наездниц. Зато как ей идёт белая футболка!
Мне так и не удалось растопить её постоянное и необъяснимое неудовольствие.
Стоило мне оказаться рядом, как она подзывала кого-то из своих подруг и даже сменила маршрут возвращения из школы домой – вместо Нежинской стала ходить по Первомайской.
Мне пришлось отвянуть.
Холодные вьюги засыпали снегом остылый пепел угасшей любви.
Обильными снегопадами встречала столица нашей Родины – Москва – участников зимнего этапа Всесоюзной игры «Зарница».
От Конотопа поехали шестеро участников с одним сопровождающим и со своими лыжами.
За лыжи я был спокоен – папины резинки держались как надо. Я забросил их на третью полку, а сам разделся и улёгся на второй в купе плацкартного вагона.
Свет в вагоне уже выключили, но за окном горели фонари над заснеженным перроном четвёртой платформы.
Наконец, со стороны локомотива в голове поезда донёсся перестук дёргающих друг друга вагонов. Нас тоже дерганýло, а потом, плавно ускоряясь, понесло вперёд.
В Москву! В Москву!
Там, под вечер следующего дня, мы оставили лыжи в раздевалке громадной, закрытой на каникулы, школы и нас развели по своим квартирам жильцы окружающего микрорайона. Один зарничник на одну гостеприимную семью.
Утром меня напоили чаем и отвели обратно в школу, чтобы хорошенько запомнил дорогу и вечером уже бы сам нашёл квартиру, куда меня определили на постой.
Ели мы три раза в день в громадной столовой недалеко от громадной школы.
Кроме того дня, когда нас, вместе с лыжами, отвезли в Таманскую дивизию, расквартированную под Москвой, и мы бежали по пушистому снегу в атаку между чёрных кустов, а рядом, тоже на лыжах, бежал солдат в шинели и строчил из автомата Калашникова холостыми патронами.
В тот день мы увидели, что на «Зарницу» съехались сотни две школьников и нас кормили обедом в солдатской столовой.
На следующий день, после затяжной экскурсии по городу, наша конотопская группа приехала на Красную Площадь для посещения Мавзолея Ленина.
Мы встали в конце длинной очереди и в густеющих сумерках долго продвигались по чёрной присыпанной снегом брусчатке. У меня сильно замёрзли ноги – эта брусчатка пронизывала ледяным холодом даже сквозь подошвы зимних ботинок.
Нам оставалось всего петров пятьдесят, когда в Мавзолее закончился рабочий день и его заперли на ночь.
Нас завели в ГУМ на полчаса, погреться. Я боялся, что ноги не успеют отойти, но оказалось, что полчаса достаточно.
Старший группы сказал, что «Зарница» закончена, но у нас ещё один день в Москве и завтра с утра мы точно попадём в Мавзолей, а потом – по магазинам.
Но на следующее утро, выйдя от своих гостеприимцев, я задержался в громадной столовой и, когда пришёл в громадную школу, наша группа, оказывается, уже уехала в Мавзолей.
Сторож уходил до пяти часов и запер меня внутри – не мёрзнуть же на улице – и я целый день провёл в здании громадной пустой школы.
Почти все двери там были заперты. В комнате сторожа оказался телефон. Я никогда раньше им не пользовался, а тут начал.
Накручивал диск, набирая номер, пока не пойдут гудки.
– Алло?
– Алло! Это зоопарк?
– Нет.
– А почему у телефона осёл?
( … тьфу, даже вспомнить противно …)
Когда сторож вечером меня открыл, вернулись наши и было назначено время утреннего сбора, чтобы ехать домой.
В квартире гостеприимцев, я увидел книгу Дюма «Двадцать лет спустя» и спросил где можно купить такую же.
Они объяснили как пройти через два микрорайонных перекрёстка до стеклянного книжного. Только там уж, наверно, закрыто.
Но я всё равно пошёл.
Было очень тихо и сверху спускались редкие снежинки.
Я постоял возле стеклянных стен запертого магазина, чуть светящегося изнутри.
До чего пусто и какая необъятная тишина.
Потом по заснеженному тротуару прошёл запоздалый прохожий и я вернулся на постой.
По телевизору шёл фильм «Вертикаль» с Владимиром Высоцким.
Мы точно знали чего хотим: стать вокально-инструментальным ансамблем.
Песни про прокурора, поднявшего окровавленную руку на счастье и покой служили всего лишь началом нашего большого пути.
Эти выскочки – «Поющие гитары» и «Весёлые ребята» – фактически, украли наши песни. Это мы должны были исполнить про кольцо Сатурна для суженой и заделать «Цыганочку» со знобящим электрогитарным вибрато. Просто, пока мы ещё тренировались на том, что голубей он не покупал, а у прохожих шарил по карманам, они выскочили раньше нас.
Но мы не сдались.
На переменах в двухэтажном здании Черевкиной школы, куда опять был переведён наш, девятый, класс, мы собирались у окна на лестничной площадке и музыцыровали.
Инструментом служил металлический чертёжный треугольник, брошенный на подоконник Сашей Родионенко, он же Радя, для выбивания ритм-сопровождения при исполнении песни.
На моих вокальных данных Чуба сразу поставил крест. Однако, проблема была не в голосовых связках, а в ушах. Я просто-напросто не слышал в какую степь пою.
Спорить с Чубой я не стал – он эксперт, заканчивающий музшколу по классу баяна: ему слышнее.
Про Владю Чуба сказал, что тот поёт правильно и даже есть голос, но непонятно где он в нём сидит.
Так и остались всего два вокалиста: Чуба и Радя.
Вполне возможно, что мы так и не продвинулись бы дальше подоконника, но после зимних каникул в школу пришла учительница пения Валентина.
С виду девушка, но с женской причёской, когда на голове делают как бы круглую подушечку из волос.
Она играла на аккордеоне, широко разводя и вновь стискивая его меха и, помимо нашей школы вела ещё пение в двенадцатой.
Она сказала, что мы можем поехать на областной смотр молодых талантов, но придётся хорошенько поработать, потому что смотр будет в феврале – сколько тут осталось? Петь будут девушки двенадцатой школы, а нам нужно отрепетировать инструментальное сопровождение. Так мы станем молодёжным ансамблем от Клуба КПВРЗ, потому что это не школьный смотр.
До чего просто всё решается, если знаешь как за это всё взяться.
Репетиции проводились по вечерам, за синими шторками кабинета физики.
В гитарную группу вошёл также один десятиклассник из двенадцатой, но с виду повзрослее.
У него с Валентиной были нескрываемо особые отношения – уж до того по-хозяйски укутывал он ей шею шарфом после репетиций и она так доверительно опускала свою голову ему на плечо, шагая по тёмному коридору школы на выход.
Девушки из двенадцатой появились на репетициях всего пару раз и не в полном составе, но Валентина заверила, что они свою партию знают.
На предварительном просмотре на сцене Клуба, за день до отъезда в Сумы, появился ещё один, крепко упитанный, парень неизвестно из какой школы. Он пел:
«…здравствуй русское поле, я твой тонкий колосок…»Восемь вокалисток из двенадцатой исполняли патриотическую молодёжную о том, что комсомольцы раньше думают о Родине, а потом о себе…
А Саша Родионенко, он же Радя, полуречитативом выдавал песню Высоцкого о братских могилах.
Должно быть неплохо мы смотрелись – строй из восьми девушек перед двумя микрофонами, Валентина с аккордеоном, Чепа позади одиночного барабана на стойке, три гитариста с акустическими гитарами на верёвочках через плечо и Володя Лиман за контрабасом.
Откуда взялся Лиман и почему без клички?
Он десятиклассник нашей школы, а хата его в конце Кузнечной, рядом с вековой берёзой, из которой по весне натекает с десяток трёхлитровых банок берёзового сока. Но сок, конечно, не весь ему, потому что это длинная кирпичная хата на четырёх хозяев.
Отсутствие клички легко объяснимо, сама уж фамилия звучит, как кликуха – «Лиман».
Контрабас ему выдал Аксёнов из комнаты Эстрадного Ансамбля.
Вряд ли у Лимана имелись какие-либо способности к игре на контрабасе. Скорее всего, ему, как и мне, очень хотелось в музыкальную индустрию.
Он присоединился к нам без всяких репетиций, сразу на предварительном прослушивании в Клубе.
Валентина просила его играть потише и пореже, чтоб не очень выделялся. Но Лиман не сумел сдержать своего рвения и к концу прогона два пальца правой руки оказались стёртыми в кровь, чтоб было чем дёргать контрабасные струны в Сумах, он обмотал их изолентой.
Официальным руководителем нашего молодёжного ансамбля поехала Элеонора Николаевна, номинальная глава Детского сектора Клуба, в одной из своих блузок с рюшечками крахмальной белизны и с брошью-камеей под воротником.
Длинные серьги, разумеется, висели на месте.
В Сумы мы выехали утренним дизельпоездом. Пока его дожидались, меня странно поразило зрелище трёх облокотившихся друг на друга гитар на заснеженном перроне.
Какая-то пронзительная обнажённость.
Областной Дворец Культуры гудел как улей, переполненный съехавшимися на смотр молодыми талантами.
Нас прослушали в отдельном зале и записали участниками в гала-концерт на пять часов того же дня.
В других залах тоже шли прослушивания и репетиции; там я впервые в жизни услыхал и был заворожён мяучащими звуками живой электрогитары. Вау! Вау! Она своим вибрато заполняла весь тот зал.
Мы вышли перекусить и в столовой я попал под чары Светы Василенко из группы хористок двенадцатой школы.
На обратном пути я шёл как привязанный рядом с ней и её долговязой подружкой, несмотря на оклики и хаханьки моих друзей, шагавших позади.
Во время последней предконцертной репетиции она окончательно меня покорила.
Выразительно посмотрев на меня, её чёрные, чуть подведённые тушью глаза устремлялись к потолку, или скромно опускались долу.
В книгах я читал, что красотки умеют стрелять глазами, но и предположить не мог, что их стрельба сражает наповал.
Репетиция закончилась, а до концерта ещё два часа. Я подошёл к ней и позвал сходить в кино.
Она замялась и начала нерешительно отнекиваться, несмотря на вспомогательные уговоры её подружки, не такой уж, вобщем-то, и долговязой, чтобы она пошла со мной. А что такого?
Я всё же добился от Светы окончательного «нет» и ушёл с простреленным сердцем.
До самого кинотеатра я был при смерти, пока не погрузился в волшебный мир Франции семнадцатого века с Жераром Филипом и Джиной Лолобриджиной в «Фанфан-тюльпане».
Они меня воскресили.
Как мы выступили?
Мне трудно дать оценку с моим неахтишным музыкальным слухом.
Когда три гитары зудят в унисон одинаковыми аккордами, не очень-то и разберёшь которая из них не строит.
Изолента смягчала думканье контрабаса.
Чепа стучал не палочками, а щёточками для джаза.
Аккордеон Валентины, растягиваясь поверх её энергичной фигуры, покрывал эр-гармонические неточности заодно с огрехами входа в тональность.
Полагаю, всё это звучало свежо, задорно, молодо, талантливо и – главное! – патриотично.
Обратно мы поехали не поездом, а на автобусе завода КПВРЗ, что загодя приехал в Сумы.
Не зря мы брали с собой Элеонору Николаевну.
В автобусе все поглядывали на меня и Свету со значением, хоть мы и не рядом сидели. Девушки затягивали всякие песни с намёками про очи, что сводят с ума и «светит Светик, Светик ясный…»
Света сердилась, а мне было хоть и неловко, но пофигу.
На следующий день в школе Володя Гуревич с громким смехом неоднократно повторял, что меня перевербовали в стан противника по КВН.
Толик Судак, из нашего класса, ни с того ни с сего начал на перемене рассказывать, что Света Василенко дочка начальника отделения милиции и живёт на Деповской, а один раз пришла в свою школу в затруханной юбке.
За подобные выпады в адрес возлюбленной нужно вызывать на дуэль. Но Толик на физкультуре стоял по росту первым, был крепким подлипенским хлопцем и всегда всё точно знал, наверно, потому, что его мать вела математику в нашей школе.
Вот я просто и стоял себе, будто вовсе тут не при чём и меня это не касается, и молча ненавидел блондинистые кудри и полусонный взгляд мутновато-голубых глаз Толика Судака.
Вскоре молодёжный ансамбль участвовал в Клубном концерте, но когда он кончился я не пошёл провожать Свету Василенко.
Что убило мою любовь?
Монотонная шутка и громкий смех Володи Гуревича?
Или, может, донос Судака о затруханной юбке?
Нет, скорее всего – факт её проживания на Деповской.
Это тоже неблагоприятный район для влюблённых.
Вадик Глущенко один раз провожал девушку с Деповской и его там перехватило кодло человек из десяти.
Вобщем, сбили с ног и всем кодляком понесли на носаках ботинков.
– Главное, голову закрыть руками, а что они тебя месят уже и не доходит,– делился он позднее приобретённым опытом.
Под конец зимы выпал такой обильный снег, что после снегопада по Нежинской пришлось проехать бульдозеру, раздвигая метровые сугробы.
По пути из школы, мне интереснее было скакать по навороченным вдоль заборов торосам, чем идти по расчищенному.
Перепрыгнув с одной снеговой глыбы на другую, я вдруг почувствовал резкую боль в паху. Остальную часть пути до хаты я добрёл по следам от бульдозерных гусениц.
Вечером мама, обеспокоившись моими стонами, велела показать что там у меня такое. Я отказался. Тогда отец сказал:
– Ну, мне-то можно, я тоже мужик.
Мошонка распухла до размеров стакана и была твёрдой на ощупь. Отец нахмурился и когда мама спросила из кухни:
– Что?
Он сказал, что меня надо показать врачу.
Это был жуткий вечер – агония отчаяния и паники.
Утром, укорóченными шагами, я пришёл с мамой в железнодорожную поликлинику рядом с Вокзалом.
В регистратуре нам дали квадратик бумаги с номером моей очереди на приём.
Мы сели дожидаться на стульях в гулком коридоре возле двери в кабинет.
Когда пришёл мой черёд зайти в белую дверь, я, пряча глаза от мамы, сказал ей, что, если надо, я согласен на операцию, лишь бы всё было нормально.
Врачом оказалась женщина, но видно белый халат уравнял её с мужиками, или мой страх утратить то, сам не знаю что, заглушил мой стыд.
Врач сказала, что это растяжение и нужно делать спиртовой компресс.
Через два дня мошонка приняла привычные очертания и я забыл свои мучительные страхи.
Седьмого марта Владя принёс в школу миниатюрную бутылочку коньяка.
Мы выпили его втроём – каждому по глотку. Во рту стало тепло и нас тянуло смеяться, но ничего похожего на кайф от того вина на Владином дне рожденья.
Нас распустили пораньше, ведь это предпраздничный день, и пока я дошёл домой всё совсем выветрилось, кроме тяжести в голове.
Я полез на крышу хаты, потому что отец уже несколько дней говорил мне, что надо сбросить оттуда снег.
Четыре кирпичные трубы торчащие из снега помогли определить границы нашей части крыши.
Скат крыши довольно крут и под конец работы мои валенки заскользили и я свалился в палисадник.
Приземление оказалось удачным – на обе ноги в глубокий сугроб, но когда я увидел рядом с собой заострённо запиленные доски штакетника между палисадником и двором Турковых, то запоздало похолодел от ужаса.
( … в те непостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои невзгоды и падения исходят от той сволочи в недостижимо далёком будущем, которая сейчас слагает это письмо …)
Вскоре в нашем классе проводился медосмотр, на ребят заполняли карточки допризывников. Девушек вывели в другой класс для какой-то особой лекции, а нам сказали раздеться, осматривали, стукали молоточком под коленкой и измеряли рост.
В графе «половое развитие» мне как и всем написали N.
Толик Судак объяснил, что это значит «нормальное», и что только Саше Шведову написали что-то другое, а девушки как-то вызнали и поэтому, вон, шушукаются и хихикают.
Потом мы сдавали экзамены за девятый класс. Самым страшным был экзамен по химии – кто в ней что поймёт?
Как многие другие, я вызубрил ответы на один билет, но он мне не попался.
Не знаю почему, Татьяна Фёдоровна начала меня вытягивать дополнительными вопросами и поставила четвёрку.
( … в те непостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои удачи и т.д., и т.п….)
Ассистентом на экзамене был Бинкин. Он развлекался тем, что показывал Владе номера билетов разложенных на столе перед экзаменаторами.
Подымет, покажет, покивает головой и – кладёт обратно на то же самое место.
Владя сидел за последней партой, чтоб списывать из шпаргалок заготовленных усердными девушками, которые уже сдали экзамен и отдали ему свои заготовки.
Но что разберёшь из сложенной в гармошку бумажной ленты с непонятными формулами и почерком в три раза мельче нормального?
Конечно, Владя рад бы поменять попавшийся ему билет на тот, который выучил.
Бинкин играл по честному – показанные билеты клал туда, откуда взяты.
Просто Владя сидел слишком далеко, чтоб различить написанные на билетах номера.
Он сделал ещё две попытки вытащить нужный билет, но обе мимо.
Всё же тройку ему поставили и Бинкин сказал:
– Это тебе исключительно за твоё пролетарское происхождение.
К своей одежде я никогда не придирался – носил, что дадут, лишь бы не грязная и не драная, но и за этим больше следила мама, чем я.
Так что та моя обновка – куртка из коричневого дерматина по выкройкам «Работницы» – появилась по инициативе мамы и пошита была её руками.
Деньги на дерматин нашлись, потому что отец перешёл слесарем в Рембазу и его зарплата стала на десять рублей больше.
Хорошая получилась куртка – приятного коричневого цвета с манжетами и поясом из более тёмной ткани. Если посмотреть издалека, она даже отблёскивала на солнце.
Через две недели дерматин на сгибах локтей полысел до самой его основы, но свою награду я получал когда куртка имела ещё парадный вид.
Да, профсоюзный комитет завода КПВРЗ наградил меня, как активного участника самодеятельности.
На профсоюзной конференции в Клубе председатель заводского профкома лично вручил мне не какую-то там грамоту, а увесистый бумажный свёрток.
В нём оказались ласты из тёмной резины и маска для подводного плавания.
Раза два я брал это снаряжение на Сейм, но плавать в ластах оказалось тяжелее, чем кажется глядя на Человека-амфибию. В маску же проникала вода и затекала в нос.
Хотя, возможно, по другому и не бывает.
Однако, в планах на лето у меня стояло не изучение придонной жизни водоёмов, а трудоустройство.
Мне нужны были деньги. Много денег. Потому что я – «безлошадный».
У Влади – мопед «Рига-4»; Чуба на «Десне-3». У Чепы мопеда нет, но он поставил на свой велосипед бензиновый моторчик и, когда стая мопедистов с Посёлка, треща моторами, несётся по проспекту Мира, он не слишком-то и отстаёт.
Но «Рига-4» всех сильнее.
Владя, конечно, раза два дал мне прокатиться – звук мотора, ветер в лицо, скорость – восторг!
У Чубы его мопед не выпросишь. Оседлал его, как куркуль, упёрся ногами в землю и стоит посмеивается.
– Ну, дай, шо тебе жалко?
– Жалко у пчёлки в попке. Понял? А это – мопед.
– Ну, шо ты жлобишься? Я только по Профессийной и обратно.
Смеётся, но не даёт.
– У, жлобяра!
Опять смеётся.
Чепин велосипед с моторчиком я и сам не хочу.
Но где заработать на мопед? Вот в чём вопрос.
Мама сказала, что после девятого класса принимают на Овощную базу. Надо пойти в контору ОРСа на Переезде и написать заявление в Отделе кадров.
Овощная база это – класс, там, небось, клубника – ящиками. И арбузы в магазин через неё, наверно, попадают.
Только примут ли? Мне ведь ещё шестнадцать не исполнилось.
В конторе ОРСа я волновался сильнее, чем на всех летних экзаменах.
Приняли!
Так началась моя трудовая карьера.
Овощная база расположена аж за Деповской. Туда я езжу на велосипеде.
Кроме меня там ещё человек десять школьников. В основном из четырнадцатой школы.
Одного я опознал – низкорослый с длинными патлами, кликуха Люк.
Это он когда-то отвесил мне оплеуху за то, что я стрелял ему в спину.
Он старого не поминает, ну, а я – тем более.
Первую пару дней мы сортировали ящики – пустые, конечно, без клубники; которые целые, те в сарай, которым нужен ремонт – рядом с сараем, а те, что вдрызг во-о-он к тем плитам посреди двора.
Когда грузовик с овощами въезжает на платформу весов, его взвешивают; после разгрузки он въезжает на неё же пустым: разность веса покажет сколько привезено овощей. При условии, что весы не врут.
Вот тут-то и нужна их проверка с отладкой, нужен мастер, который знает что где требуется подкрутить, нужна пробная тонна груза из чугунных гирь-параллелепипедов весом по 20 кГ, нужны мы – рабочая сила, чтобы перетаскивать эту тонну с одного угла платформы на другой во время подкруток.
Отладка весов для грузовиков показала кто среди нас есть кто.
Поначалу это вроде спортивного соревнования, мы таскаем гири наперегонки, к третьему углу начинаем подмечать кто из нас сачкует, а кто идёт до конца…
Затем мы пару дней чистили картофелехранилище, где сгнила прошлогодняя картошка.
Я в жизни не представлял, что на свете есть такая нестерпимая вонища.
Мы грузим этот смрад лопатами в плетёные двуручные корзины и выносим далеко в бурьян на задворках Овощной базы.
Число работающих школьников сократилось до пяти.
Основная рабочая сила Базы это бабы в чёрных халатах и разноцветных косынках на волосах.
Они сортируют морковь, или бурак в других хранилищах, а мы уносим наполненные ими ящики.
Сидя кружком вокруг кучи пыльных овощей, они не умолкают и на минуту. Рассказывают друг другу про «него» и про «неё».
«Она» у них то толстеет, то худеет, то ложится в больницу, то говорит матери, что без него жить не может, то умирает, то уходит к другому; а «он» то пьёт, то алименты не платит, то просит выйти за него, то лечится от алкоголизма, то сдирает на кухне линолеум с пола, чтоб пропить, то уходит в примаки к любовнице.
Вот так и мелют не смолкая, пока белобрысый хлопец из четырнадцатой, по кличке Длинный, не скажет самой разбитной бабёнке в кругу разбрасывающих овощи по ящикам:
– Ну, шо, дашь?
А та в ответ:
– Дам, только так потяну, шо надвое перерву.
Подруги начинают на неё тюкать и шикать – с дитём же ж говоришь, разве ж так можно.
Обедать я ездил домой на велосипеде – двадцать минут туда, двадцать минут обратно, десять на суп и чай, или компот. Так что четыре раза в день я набирал сумасшедшую скорость, во всю крутя педали на бетонированном спуске в тоннель Путепровода.
Какой же работник Овощной базы не любит быстрой езды?!
Эгей!
По утрам начальник Базы распределял кому где работать.
Пару раз я попал в помощники к бондарям.
На площадке перед их приземистой мастерской толпилась масса бочек нуждающихся в ремонте. Я закатывал их в мастерскую, или волочил волоком – в зависимости от степени разбитости.
Два мужика в кепках и фартуках сбивали железные обручи бочки к её более узким торцам, и та рассыпалась на составляющие её гнутые досочки, которые они называли «клёпками».
Бондари сортировали клёпки, выбрасывали негодные, восполняя недостачу из запаса старых клёпок; подтёсывали и подгоняли их друг к дружке, набирали два круглых дна из досочек пошире, вставляли по торцам и снова набивали обручи.
Конечно, я и раньше знал, что когда говорят «не хватает клёпки в голове» это значит то же самое что и « не все дома», но именно в той мастерской мне стало ясно откуда взялся этот смысл – бочку без клёпки ничем не наполнишь, как и чокнутый, с трещиной, стакан.
Отходы после ремонта я относил к кирпичным печкам во дворе с вмурованными в них железными котлами.
Работали бондари не спеша, за день чинили три-четыре бочки и время рядом с ними тянулось долго, зато в мастерской приятно пахло древесными стружками.
Рядом с каменщиками пахло сырой землёй. Они работали в длинном подвальном бункере, заменяя бревенчатую стену широкой кирпичной кладкой. На них тоже были кепки и фартуки, только потолще, чем у бондарей.
Меня очень тянуло ложить кладку, хотя бы немного.
Каменщик постарше позволил мне сделать один ряд, стоял в стороне и чему-то улыбался, хотя его напарник ворчал, что я не так кладу как надо.
Мой напарник, из четырнадцатой школы, тоже всё время ворчал, но не про кладку, а в адрес начальника Базы и отлынивал от работы. Через день он взял расчёт в конторе ОРСа.
А потом пошли огурцы. Вагонами.
Их втаскивали по проложенным на территории Базы рельсам дизельные маневровые локомотивы.
Огурцы были в ящиках и их надо было носить к кирпичным печкам во дворе, в чьих котлах варился рассол с укропом, а вокруг рядами стояли бочки со снятыми крышками в ожидании своей порции огурцов на засолку.
Здесь работала уже знакомая бабская бригада, но им некогда было точить лясы про «него» и про «неё», они куховарили «узвар» в печных котлах с железными крышками и разливали его по бочкам с огурцами.
В кулинары я не стремился, меня устраивала должность истопника – подбрасывать в топки печек дровяные отходы от разбитых ящиков и треснутых клёпок, которые надо доламывать топором.
Вобщем, работа не конвейерная; скажут – сделаешь, и опять сиди.
Вот я и сидел подальше от печей, возле которых слишком жарко.
Ухватив гладкую клёпку от бочки, я левой рукой брал на ней аккорды шестиструнной гитары: ля-минор, ми-мажор.
Бабы смеялись издали:
– Нашёл клёпку, шо тебе не хватала?
Но я не обращал на них внимания, брал си-септаккорд и думал о Натали́.
Когда по тротуару тебе навстречу идёт девушка с косыночкой на шее, но та завязана не как пионерский галстук, а узелком на плече, то враз поймёшь – а она разбирается в шикарном стиле.
И сразу охота так заговорить, познакомиться, пойти рядом.
Но как заговорить? Вдруг отошьёт? И будешь чувствовать себя разжмаканым помидором.
Другое дело, если знаешь, что стильную девушку зовут Наташа Григоренко и ты с ней даже пытался научиться вальсировать под баян Гуревича.
– Привет, Наташа, как дела?
– О, Серёжа! Тебя не узнать. Вообще-то, в двенадцатой школе меня все зовут Натали́.
Нам случайно оказалось по пути и я проводил её до угла улицы где она жила.
Улица Суворова, через дорогу от срединного въезда на Базар.
( … или, всё-таки, она меня первой окликнула на том тротуаре?
Ведь чтобы так повязать косынку нужно быть не только шикарной, но и решительной …)
Как бы там ни было, но следующий шаг сделал я. Может не очень сразу, а через неделю-другую. Или даже через месяц? Но я сделал этот шаг. Вернее – очень даже решительный прыжок.
Мы с Радей ехали от Переезда на задней ступеньке трамвая, чтоб обдувало ветерком.
Когда трамвай разгонисто тадахал вдоль Базара, я вдруг зачем-то повернул голову и заглянул через дорогу в улицу Суворова.
В ней, недалеко от угла, две девушки играли в бадминтон.
Конечно, я сразу узнал длинные прямые волосы Натали́.
– Пока, Радя!
И я спрыгнул, не отвечая на его:
– Ты куда?
Да, я не ошибся – это была она.
Вторая девушка тоже оказалась знакомой – бывшая одноклассница, Наташа Подрагун, которая вместе с Натали́ перешла в двенадцатую школу с физико-математическим уклоном.
Конечно, я что-то начал тараторить, мол, случайно мимо, решил поделиться опытом как правильно дрессировать воланчик.
И тут – на тебе! – ещё один случайный прохожий – Радя.
Он явно тоже соскочил не доезжая до школы, хоть и собирался навестить своего дедушку.
Скоро Наташа Подрагун ушла, потому что ни Радя, ни я, не очень-то с ней общались; из-за того, что она такая толстая.
Натали́ пригласила нас во двор своей хаты, где на врытом в землю столе лежала стопка номеров чешского журнала Film a divadlo.
Я увлёкся картинками, а Радя перехватил разговорную инициативу.
Но тут из соседнего огорода просвистали пара грудок сухой земли – с недолётом.
Натали́ крикнула тому пацану, что пожалуется его родителям, но Радя побежал к забору – шугануть наглеца. Или повыделываться своей спортивной выправкой – как никак он два года ходил в ДЮСШ на волейбол.
То ли Натали́ как-то сочувствовала ревнивому соседу-малолетке, или Радя, несмотря на подготовку, примял какой-то из картофельных кустов своей пробежкой, но пока он грозил мальцу за забором, она позвала меня приходить в четверг – у неё ещё много таких журналов.
Так мы начали встречаться. Я и Натали́ .
Пожалуй, вернее будет сказать, что это она со мной встречалась, потому что я не знал как это делается.
Я просто приходил на Суворова № 8 в назначенный ею день, здоровался с её мамой, сидел на диване и разглядывал Film a divadlo.
Живут же люди! Откуда можно доставать такие журналы?
Потом её отец приезжал с работы на мотоцикле с коляской. У него был такой же круглый подбородок, как у Натали́, и он давал разрешение выйти погулять до десяти, но не позже половины одиннадцатого.
И мы выходили гулять дотемна.
Она много говорила, но не затем, чтоб попусту болтать, как некоторые.
Натали́ стала моим просветителем.
Несмотря на долгие годы запойного чтения, я многого не знал.
Что самые классные конфеты – это «Грильяж», только у нас они не продаются; надо ехать в Москву, или Ленинград, да и там не сразу найдёшь.
А самый вкусный бутерброд – на хлеб с маслом положить нарезанные кружками помидор и варёное яйцо. Хлеб, конечно же, чёрный.
А Луи Армстронг – певец с самым хриплым голосом в мире.
И это по её наводке я взял в библиотеке Клуба книжку стихов Вознесенского. Я там и раньше её видел, но проходил мимо за то, что стихи.
Так вот что значит – настоящие стихи!
Но больше, чем для восполнения образовательных пробелов, она нужна была мне ради тех мгновений, когда я умлевал.
Например, мы шли в кино на Мир и она позволила взять её руку.
О! Этого не передать!
Я ощутил нежную кожу её предплечья, потому что на ней было летнее платье, а руку её я ухватил вокруг бицепса.
Хотя какие у девушек бицепсы?
Я пребывал в полном улёте, начиная от железнодорожного моста над проспектом и почти до самой площади.
Потом она мне объяснила, что правильнее когда девушка сама берёт тебя под руку.
И дальше мы шли как она показала. Тоже приятно, хотя перед этим …
И тут я получил удар шаровой молнии – на ходу, в разговоре, она полуобернулась ко мне и – О! – её большая тугая правая грудь прильнула к моему предплечью.
Блаженство до потери пульса.
Так что мне было о чём думать возле печей Овощной базы, меняя аккорды на недостававшей, но найденной клёпке.
Узревшему свет истины трудно не скатиться в просветительство.
Я попытался поделиться приобретённым знанием с сестрой.
Мы шли по Литейной в сторону Клуба и она сказала:
– А давай-ка я возьму брата под кренделя!– и взяла меня под руку.
– Слушай, малá, – сказал я, потому что мы с братом, а за нами и наши друзья редко звали её по имени, а только «малá», или «рыжая».
– Я могу научить тебя приёмчику, что любой парень враз будет твой.
– Да, ну?– сказала мне сестра.– Это так, что ли?
И она полуобернулась ко мне на ходу, прикоснувшись грудью к моему предплечью.
Какая беспросветная наивность! Вообразил, будто я хоть что-то могу узнать раньше своей проныры сестры!
Мне пришлось извиняться и мы хохотали чуть не до самого Клуба: какой я самонадеянный лопух.
Но счастье не бывает бесконечным; в один из вечеров между Базаром и Путепроводом к нам с Натали́ подошёл парень и мы остановились для разговора.
Вернее, разговаривали они, потому что из одной школы, а я только стоял рядом.
На нём была классная рубаха, я таких ещё не видел – красные и зелёные полосы шириной как на пижамах.
Пижам у меня тоже никогда не было, но в кино-то показывают.
Он рассказывал в какой из московских вузов его примут, ведь у него дядя – дипломат и всех знает, а после вступительных дядя зовёт поехать с ним на Чёрное море на дядиной «волге», чтоб молодой племянник служил наживкой для съёма девочек.
Потом они сказали друг другу «пока» и мы разошлись, но у Натали́ явно испортилось настроение.
Возле своей хаты она мне рассказала, что уже встречалась с одним парнем. Однажды вечером они ехали в пустом автобусе. Он оглянулся на кондукторшу и сказал:
– Кондуктор – не человек,– и поцеловал Натали́.
И тогда у меня тоже испортилось настроение, ведь понятно же, что они целовались и без кондукторши тоже.
Я подумал, что это, наверно, как раз тот самый красно-зелёный хлюст, но спрашивать не стал.
В тот вечер я шагал от Суворова на Нежинскую навеки придавленный горем.
Насколько житель Конотопа преуспевает в жизни определить несложно – достаточно узнать: имеет ли он домик на Сейму?
Вверх по течению от пляжного Залива, метров на пятьсот ближе к железнодорожному мосту, длинная затока вдаётся в чащу ивняка.
В конце неё, на белом песке между гибких ив, стоят домики товарищества «Присеймовье». Десятка три, а может и все пять.
Правда, «домики» это громко сказано – просто сбитые из доски-вагонки будки с жестяными крышами.
Размером они невелики – на две-три железные койки на песчаном полу. Окна вовсе ни к чему – приехав отдохнуть, хозяин день-деньской держит дверь нараспашку.
Но если он рыбак, то дверь запрёт и спустится к затоке, где стоят неширокие длинные лодки-плоскодонки, прикованные к берегу железными цепями на висячих замках.
Уложив снасти на дно своей лодки, он отопрёт увесистый замок, сядет на доску-сиденье в узкой корме и, загребая одним веслом, выйдет из затоки на простор Сейма, а там в своё излюбленное место, где прикармливает рыбу макухой, она же жмых.
Иметь домик большое удобство – купаться ходишь на Залив; через ивняк напрямую метров двести; а потом, вернувшись, готовишь обед на примусе, что гудит пламенем на столе врытом в песок возле домика.
Многие выезжают в свой домик вечерней электричкой в пятницу, а возвращаются последней в воскресенье.
А без домика на Сейм ездишь лишь по субботам и воскресеньям; утром – туда, а в пять, или семичасóвой – обратно.
Когда Куба приехал летом после первого курса мореходки и какой-то там ещё практики, мы, конечно же, решили рвануть на Сейм.
Только надо дождаться выходных, ведь я работаю; да и к тому же по будням на Залив не приезжают ОРСовские машины-будки продавать мороженое.
– Чепа говорил, ты с Григоренчихой крутишь?
– Передай Чепе, что её зовут Натали́.
– Так ты и её позови.
Натали́ запросто согласилась и мы поехали вчетвером: Куба, Чепа, я и она.
Когда сошли с электрички и решали – куда: на Залив, или на озеро возле опушки соснового леса? – Натали́ предложила переплыть на ту сторону Сейма; там не такой дурдом, как на Заливе.
На другом берегу тоже есть домики и приехавшие в пятницу встречают своих с утренней субботней электрички, чтоб перевезти их туда. Если попросить – так и нас переправят.
И вышло именно так.
Отличный выдался денёк.
Мы нашли песчаную поляну среди ивняка; совсем рядом с рекой, метров за сто от домиков. На мелком мягком песке мы расстелили единственное покрывало, потому что только Натали́ догадалась привезти.
Когда она переоделась в купальник, то затмила весь Film a divadlo, потому что при такой пышной груди и округлых бёдрах у неё оказалась на удивление тонкая талия.
Купаться мы ходили в заводь с привязанными плоскодонками; там отлогое песчаное дно. Чепа, Куба и я бесились как в старые добрые времена на Кандёбе.
А после обеда из бутербродов и лимонада мы легли загорать.
На покрывале места было только для двоих: для Натали́ – это ж её покрывало, и для меня – ведь это я с ней встречаюсь.
Она лежала на спине, в чёрных очках от солнца, а я на животе, потому что стеснялся, что у меня плавки торчат от эрекции.
Наши плечи чуть-чуть соприкасались.
Мои кореша лежали вытянувшись на горячем песке – тоже на животах – примостив свои недальновидные головы у нас в ногах на углы расстеленного покрывала.
И – знойная тишь…
Разумеется, на следующий выходной мы поехали на это место только вдвоём.
И снова мы лежим на покрывале посреди жаркой тишины. Длинные листья ивовых кустов вокруг овальной поляны молчат, не шелохнутся.
Нас только двое на этом открытом лишь небу песке.
Мои веки зажмурены, но солнце всё равно вливается сквозь их кровяно-красный туман и оборачивается чёрной болью.
– Голова болит,– чуть слышно выговариваю я.
Красный туман темнеет и мне становится невыразимо хорошо – она положила свою ладонь на мои веки.
Не открывая глаз, я нахожу рукой её запястье и неслышно тяну книзу, чтобы её ладонь соскользнула мне на губы.
Я благодарно целую нежную мягкую ладонь, что унесла мою боль, и растворяюсь в неизъяснимой неге; лучше этого на свете ничего нет.
Но когда она, привстав на локте, склонила своё лицо над моим и слила свои губы с моими, я узнал, что есть кое-что и получше, но просто этому нет названия.
Поцелуй?
Когда ты расплавлено таешь в купели встречных губ, тонешь в их необъятности и, вместе с тем, пари́шь…
Всё это и ещё целый океан совсем неописуемых чувств…
Всё это выразимо в трёх слогах: по-це-луй?
Ну, что ж, немало мы их сложили в тот летний день.
А когда мы шли уже к заводи для переправы на берег электрички, я остановил её в тесном ивняке и ещё раз поцеловал. Прощально. Дальше уж нельзя будет.
Она ответила на поцелуй усталыми губами, а потом, не глядя мне в лицо, как-то грустно сказала:
– Глупенький. Тебе это ещё надоест.
Я не поверил ей…
( … один немецкий умник, по фамилии Бисмарк, однажды съумничал:
– На личном опыте учатся только дураки, я же предпочитаю учиться на опыте других.
«Я не поверил ей…»
А ведь даже сестра моя, Наташа, будучи младше меня на два года, не раз доказывала, что ей известно больше моего.
Да, далеко мне до Бисмарка с моим неверием опыту других.
Немного утешает то, что я всё ж не дурак – раз не умею учиться даже и на собственном опыте.
Интересно, к какой категории мне нужно отнести себя?
Ладно, не будем отвлекаться; сейчас этот вопрос не в тему …)
Огурцы вконец обрыдили.
Уже нехотя, просто от нечего делать, возьмёшь один из ящика, откусишь пару раз да и запустишь в ближайшую чащу бурьяна на территории Овощной базы.
Вобщем, я тоже сошёл с дистанции и отправился в контору ОРСа за расчётом.
Мне заплатили пятьдесят рублей за месяц и полторы недели. В жизни не держал в руках подобной суммы. Интересно, хватит ли на мопед? У кого бы спросить?
Разговор с мамой снял эти вопросы:
– Серёжа, скоро в школу. Тебе нужна одежда. Обувь нужна и тебе и младшим. Сам знаешь как нам приходится выкручиваться.
– Да, есть у меня одежда! Я ж говорил тебе зачем иду на Базу.
– Те брюки, что я уже два раза перекрашивала? Это твоя одежда? В твоём возрасте стыдно в таком ходить.
…Прощай, мустанг моей мечты! Не мчать нам с тобой по проспекту Мира, обгоняя всякие «риги» и «десны»…
Брюки мне не покупали. Я пошёл в швейное ателье рядом с Автовокзалом. Портниха с длинным острым носом обмеряла меня и пошила брюки из тёмно-серого лавсана.
Широкий, на две пуговицы, пояс. От колена клёш.
Пятнадцать рублей.
Брюки скоро пригодились.
Владя принёс новость, что в парке на Миру будет конкурс на исполнение молодёжной песни. Запись участников в горкоме комсомола. Артур тоже участвует.
Артур – это армянин, который служит в стройбате рядом с Рембазой. Он – кумир Влади.
На гитаре он – бог, причём играет правой. И при этом он не перетягивает струны, а берёт обычную гитару, переворачивает в обратную сторону; басы внизу, а тонкие вверху; и – играет!
Кроме того, Артур ещё и поёт. Можно не сомневаться – первое место за ним.
Но всё равно мы решили участвовать. Вдвоём.
Как комсоргу школы, знакомому с расположением кабинетов в горкоме, честь делать заявку и уточнять время проведения конкурса была предоставлена мне.
Оказалось, что времени в обрез – конкурс через два дня на танцплощадке Центрального парка.
Мы приступили к репетициям.
Киномеханик Клуба, Константин Борисович, включил в пустующем в дневное время зале свет и два микрофона на сцене.
Один из них мы засунули внутрь Владиной гитары и из мощных динамиков в колонках киноаппаратуры по бокам сцены взревел настолько кайфовый звук, что Константин Борисович не выдержал и ушёл.
На его место прибежал радостно взвинченный Глуща, который проходил по Профессийной и услыхал рёв и вой этой катавасии.
Мы решили сделать два номера; сначала инструменталка – партия бас-гитары из песни «Шоколадóвый Крем» польской группы «Червони гитары», а потом песня из кинофильма «Неуловимые мстители».
На репетициях всё шло довольно гладко – рокэнрольно гудел бас из гитары с микрофоном, потом она превращалась в акустическую и Владя пел, что много в поле тропинок, только правда одна.
Плюс к тому, я сбоку подтрынькивал на своей.
Сюрпризы начались на самом конкурсе.
В раковине сцены на танцплощадке установлен всего только один микрофон. Это – раз.
Нашему дуэту нужно как-то называться. Это – два.
Второй секретарь горкома предложила на выбор: «Солнце» или «Трубадуры».
Из двух зол выбирай которое покороче.
Засунуть микрофон в акустическую гитару не так-то просто. Нужно отпустить две тонкие струны снизу и под ними впихнуть его в дыру деки. Затем снова настроить отпущенные струны. Но как теперь докричаться со своим объявлением до микрофона под декой?
После инструменталки та же тягомотина, но в обратном порядке, с доставанием микрофона из гитары.
Владя запаниковал: «да пошли они!», а я начал его убеждать, что обратной дороги нет, раз мы припёрлись сюда со своими гитарами; или мы, типа, их просто выгуливаем?
И тут нас позвали на сцену.
Владя заиграл басовую партию, стараясь приподымать гитару поближе к микрофону, в который я объявлял, что мы вокально-инструментальный дуэт «Солнце».
Потом я опустил микрофон к его гитаре, чтоб на танцплощадке услыхали и убедились, что это всё-таки «Шоколадóвый Крем»; но, удерживая микрофон, я уже не мог сопровождать его бас-партию как ритм-гитара.
На втором номере всё вроде вошло в нормальное русло.
Мы оба звенели гитарами, Владя пел, я смотрел поверх голов толпы, как учила Раиса Григорьевна…
Но после куплета с припевом Владя вдруг обернулся ко мне и, округлив глаза, выстонал:
– Я слов не помню! Забыл!
Ну, что ты тут будешь делать?
Да простит меня Чуба, да простят меня слушатели конкурса, набившиеся в тот вечер на танцплощадку, но я сделал шаг вперёд и заорал в микрофон, что:
Над степью широкой, ворон пусть не кружит мы ведь целую вечность собираемся жить…К следующему куплету Владя пришёл в себя и мы добили эту песню вдвоём – дуэтом, как и обещали.
На Сейм мы с Натали́ больше не ездили. Между нами случилась размолвка; я так толком и не понял из-за чего.
Вобщем, она мне сказала больше не приходить.
Конечно, я страдал, и я, конечно, ещё как обрадовался, когда через полмесяца моя сестра, она же «рыжая», сказала:
– Сегодня видела Григоренчиху, так она спрашивает: «Огольцов куда-то уехал, что ли?». Я говорю: «Нет». Она говорит: «Так чего ж он не приходит?» Вы что поссорились, что ли?
– Ничего мы не ссорились. Малá! Ты – солнце!!
Купальный сезон уже был позади и мы стали гулять в парке КПВРЗ.
Она привела меня туда и показала укромную скамейку позади нестриженых кустов вдоль аллеи.
Я не раз проходил той аллеей, но не догадывался, что за кустами есть скамейка.
Она стояла как бы в гроте из листвы.
Мы приходили туда с началом сумерек.
В аллеях зажигались редкие жёлтые фонари на столбах, а у кассы летнего кинотеатра вспыхивала яркая лампочка. Киномеханик Гриша Зайченко, напарник Константина Борисовича, запускал магнитофон с одними и теми же песнями:
«…словно сумерки наплыла тень, то ли ночь, то ли день…»Потом лампочка кассы гасла и начинался сеанс.
Скамейка погружалась в темноту в своей пещере из листьев.
К этой минуте наш разговор иссякал.
Она откидывала голову на мою руку вытянутую по верхнему брусу скамеечной спинки и – мир переставал существовать.
Особенно если она приходила без лифчика и в платье с длинной молнией замка спереди.
Но у всего есть свои пределы и когда, погружаясь в иное измерение, моя ладонь скользила ниже впадинки её пупка и пальцы касались резинки трусиков, её голова на моём плече недовольно двигалась и она издавала звук словно собирается пробудиться.
Я беспрекословно передвигался к сокровищам повыше.
Потом сеанс кончался.
Снова вспыхивала лампа над кассой кинотеатра.
Мы пережидали пока по аллее пройдут малочисленные киноманы и подымались со скамьи. Опустошённо охмелённые.
Ей пора домой. Папа говорил. Не позже.
Мир погряз в глубочайшей осени. Холодно, голо, сыро.
Листья опали, а мокрые чёрные ветки кустов уже не прятали скамейку. Да и кто сядет на мокрую?
Мы, по инерции, ещё приходили в парк, но и он стал враждебным.
Однажды, среди бела дня на меня начал наезжать мужик лет под тридцать.
Против него у меня не было шансов. Хорошо, что знакомые ребята из нашей школы позвали его выпить за танцплощадкой, а мы тем временем ушли.
Потом выпал первый снег. Растаял. Слякоть комкасто замёрзла, на неё снова выпал снег и началась зима.
В один из прогулочных вечеров, когда я расстегнул её пальто, чтобы пробраться к любимым грудям, она, отстранившись, сказала, что не может позволять всё человеку, который ей, фактически, никто.
Это я-то никто? После всего, что между нами было?!
Выяснение отношений – это просто пальба из кормовых орудий вслед паруснику, что удаляется своим курсом.
Мы расстались.
Прощай, сладчайшая Натали́.
Ах, кабы на цветы, да не морозы…В конце февраля, год спустя после того, как я сказал маме, что согласен на операцию, мне пришлось лечь под нож.
Давши слово – держись.
С вечера и всё ночь у меня резко болел живот, а вызванная утром «скорая» определила у меня аппендикс, который нужно удалить пока не поздно.
До машины я дошёл сам, но там пришлось лечь в низкие брезентовые носилки, что стояли на полу.
Мама тоже хотела поехать, но по Нежинской шла её знакомая, которая опаздывала на работу и мама уступила ей своё место в тесной «скорой».
Она всегда говорила, что Юлия Семёновна очень хороший юридический консультант.
В городской больнице меня тоже поленились выносить носилками, пришлось подыматься на второй этаж самому и, переодевшись в больничный халат, самому же идти в операционную.
Там мне помогли лечь на стол и широкими ремнями привязали к нему мои руки и ноги.
На высокую рамку поверх лица набросили белую простынь, чтоб я не видел, что они там вытворяют.
Позади моей головы стояла санитарка, которую я тоже не мог видеть и задавала всякие отвлекающие вопросы. Они служили вместо наркоза, потому что мне сделали только местную анестезию шприцем в живот.
Обезболивание сработало. Я чувствовал и понимал, что это они там меня режут, но воспринималось всё это так, словно режут неснятые брюки.
Только под конец несколько раз было больно. Я даже застонал сквозь зубы, но санитарка над головой начала говорить какой я молодец, и что она ещё не видела таких терпеливых.
Пришлось заткнуться и дотерпливать молча.
Но до койки в длинном коридоре у меня всё-таки отвезли на каталке.
Через пару дней мне принесли записку от Влади.
Он писал, что его не пропускают, что наш класс придёт меня проведать, когда мне разрешат вставать и чтоб я поскорей выписывался, а то Чуба оборзел и прыгает на него как мазандаранский тигр.
Мне тогда ещё не позволяли напрягаться и рекомендовали сдерживать кашель, чтоб швы не разошлись. Но разве тут удержишься?
«Чуба маза…» – и я втыкался лицом в подушку – сдержать подкатывающийся хохот – «..ндаранский тигр»! Хха! Хха! Ой, больно. Сука ты, Владя!
«тигр Чуба мазанда…» Хха! Хха! Аж до слёз… Хха!
Через десять дней меня выписали, а ещё через неделю я пришёл в больницу, чтоб мне выдернули нитки швов из живота и дали справку об освобождении от физкультуры на один месяц.
Кстати, почерк у Влади – чемпион по неразборчивости.
Когда он сдавал на проверку письменные сочинения, учительница литературы размашисто перечёркивала их крест-накрест красными чернилами.
Порой он сам не знал что понаписывал и звал меня на помощь.
Я был экспертом и третейским судьёй в его криптографических диспутах с Зоей Ильиничной:
– Вот посмотрите, это у него «е» такая, а вот тут это уже «а».
– Какая «е», какая «а»? Это же всё просто «галочки»!
– Да, точно, но у этой вот «галочки» хвостик длиннее. Видите?
У меня с отцом состоялся трудный разговор.
Он сказал, чтоб я постригся – хожу патлатый, как непонятно что. На работе его вызывал к себе замполит.
Рембаза ремонтирует не простые вертолёты, а военные и потому там есть замполит в высоком офицерском чине, как и остальные начальники.
Замполит приказал отцу, чтоб его сын в таком виде больше не ходил по городу.
Конечно, я мечтал о длинных, как у битлов, волосах.
До них мне было далеко, но и мои уже начинали доставать до верха лопаток на спине. Если хорошенько запрокинуть голову назад.
На недавнем КВН я с выключенным микрофоном в руках, типа, пел под запись Дина Рида «Иерихон», охлёстывая волосами своё лицо.
Вот и дохлестался.
Откуда бы тот замполит узнал, что я сын рабочего Рембазы, если б ему не доложили? Мало что ли битлаков по городу шастает?
Я недолго перечил отцу, ведь я сидел на его шее, а замполит грозился увольнением.
Весной в школе распространилась инфекция.
Она особенно свирепствовала в нашем классе. Тут сосредоточились наиболее острые формы проявления и основные её разносчики.
Мы с Владей сидели за последним столом – в кабинете химии вместо парт стояли столы и табуреты. В центре квадратного сиденья каждого табурета имелась прорезь, чтобы, просунув туда кисть руки, мог отнести его в нужном направлении.
Когда нам надоело заниматься резьбой по дереву, а в чёрных сиденьях наших табуретов белели глубокие шрамы: Beatles и Rolling Stones, мы огляделись вокруг – чем бы ещё заняться?
Наивность, конечно, беспредельная – чем ты можешь заняться на уроке в десятом классе?
Практически, нечем.
И вот тут на нас нашло и поехало – так мы начали писать стихи.
Преобильнейшее стихоизвержение. В различных формах и жанрах.
На переменах мы показывали друзьям свои творения.
Смеялись сами, и они хохотали не подозревая, что вирус стихоплётства разрушает оболочку и их иммунной системы…
Многие начали пробовать свои рифмовальные данные.
Даже Чуба чего-то там наэпиграммил.
Но неоспоримые корифеи этого дела восседали, разумеется, за последним столом.
Остаётся лишь радоваться, что эпидемия миновала без летальных исходов.
( … если бы те разрозненные, выдранные из тетрадок листки собрать воедино, получился бы сборник начинающих пиитов.
Пылился бы на полках, мечтая: что придёт черёд…
Вряд ли кто-то из моих одноклассников помнит о той повальной рифмо-эпидемии.
Вряд ли кто-нибудь узнал бы даже собственные строки. Да и зачем?
Конечная цель – ничто. Главный кайф в делании.
Хотя мне и теперь не стыдно за ту пространную элегию, что начиналась:
И я уйду когда-нибудь в разбойники - Трудом свой хлеб насущный добывать. Я днём всё буду спать, Холодный борщ дожёвывать, А в третью смену стану я прохожих обирать…Потом, конечно, меня застрелят, потому что элегия это грустный жанр, и, валяясь в придорожном бурьяне:
я не смогу понять главой хладеющей - Зачем понадобилось убивать? Ведь пистолет носил я деревянный И людям всегда «здрасьте!» говорил, А брал лишь три копейки для трамвая И, извинившись, тихо уходил…Много воды утекло в Варандé с тех пор и, как сказал классик с брегов Невы, по кличке Обезьян:
Иных уж нет, а я – далече…Это я, типа, покрасовался тут тебе своей причастностью к эрудиции, но надо признать, что мне не чужд также и сволочизм.
Есть вещи, о которых и вспоминать не хочется, не то что рассказывать.
Однако, выставлять себя всесторонне хорошим глупо и нечестно.
Я – не хороший, я – разный …)
Стало быть, финал КВН мы в том году проиграли команде из престижной одиннадцатой школы.
В приветствии мы вытащили на сцену макет корабля; точно такой же, как пару месяцев до нас вытаскивали в КВН на Центральном телевидении. И шутки наши пошутили там же за два месяца до нас.
Одиннадцатая школа вышла в чёрных цилиндрах из плотной бумаги, которые в конце приветствия они подарили нашей команде. Шуток у них вовсе не было, но зато и в краже не обвинишь.
Мне цилиндра не досталось. Их капитан подарил свой жюри и сказал, что теперь дело в шляпе.
После поражения, когда наша команда редеющей группой шла по ночному Посёлку, расходясь по домам без щитов, но при цилиндрах, мне стало обидно, что у меня такого нет.
До нашей школы дошли только Валя Писанко и я. И тут я коварно попросил у Вали её цилиндр, якобы просто примерить.
Она доверчиво дала, а я, нахлобучив его себе на голову, убежал вдоль по Нежинской, зная, что ей в другую сторону.
Она не гналась за мной, а лишь кричала вслед:
– Сергей! Отдай! Так нечестно!
Я знал, что нечестно, но не вернулся и не отдал.
Зачем?
На следующее утро в сарае, где я спал, мне на него и смотреть было тошно. Кусок ватмана извозюканный чёрной гуашью. Награбленное добро.
( … так что, я – разный, и подлости мне не занимать …)
Вот и минули десять лет. Долго ль, коротко ль они тянулись не могу судить, так как десять лет спустя это был уже другой я.
Десять лет назад из меня сделали ниву просвещения и начали возделывать для обращения в полезный обществу член.
Полагаю, пахари и сеятели от образования, в основном, достигли поставленной цели.
Я вырос от октябрёнка до комсорга школы.
Я понял, что плевать в небо, при наличии всемирного тяготения – бессмысленно.
И хотя мне не хватало комсомольского задора, чтобы на общешкольном комсомольском собрании подпевать граммофонной записи «Интернационала» в исполнении Академического Большого хора, я твёрдо верил, что СССР – оплот мира во всём мире.
Достаточно вспомнить красные флажки с жёлтым голубем.
И вообще мы самые сильные во всём, а отстаём только в музыке.
В паре песен «Beatles» больше интересных аккордов, чем во всей советской песенной продукции.
У нас все песни в ля-миноре.
Вот только зря «битлы» в политику полезли, когда Джон Леннон сказал, будто в Советском Союзе фашизм.
Это не в Англии, а у нас во время войны двадцать миллионов полегло из-за фашистов.
А «битлы» занимались бы лучше только музыкой.
Но всё равно, Фурцева – сука, что не пустила их с гастролями в Союз.
Сама-то за закрытыми дверями их послушала, а потом: «извините, наш слушатель вашу музыку не поймёт».
А они готовились, даже написали «Back To The USSR».
Что касается школьной программы, то химию я совсем не постиг, так же как и алгебру с тригонометрией и ряд прочих предметов, до которых всё никак руки не доходили, но зато был обучен отличать Фамусова от Грибоедова.
Чем плохой запас знаний для вступления в светлую жизнь?
А что-то менять, дополнять уже поздно. Срок истёк.
Близились выпускные экзамены и выпускной вечер, и последующая романтическая встреча выпускников с рассветом нового дня.
Но всё это отходило на второй план и заслонялось более важным делом.
Мы готовились к конкурсу.
На этот раз горком комсомола организовывал конкурс на лучший вокально-инструментальный ансамбль.
Хотите ВИА? Вы полýчите ВИА!
Всю зиму мы делали электрогитары по чертежам из журналов «Радио» и «Юный техник». Задолго до объявленного конкурса.
Мы экспериментировали с установкой пьезо-элементов на обычные акустические гитары.
Звук усиливался, как от засунутого микрофона, но не становился электрогитарным. К тому же, гитары за семь рублей пятьдесят копеек не смотрятся как те – на чёрно-белых фотках девять на тринадцать разных забойных групп с волосами ниже плеч.
Хочешь гитару с рогатым корпусом? Вырезай из трёхсантиметровой фанеры.
Больше всего возни с грифами. Те, что мы изготовили по чертежам не строили.
Как понять «не строили»?
Если дёрнешь гитарную струну прижав её на двенадцатом ладу, а потом её же, но отпущенную, должна звучать одна и та же нота, просто через октаву.
А у нас звучали неодинаковые ноты. Гитары не строили.
Вот что это значит.
Пришлось ставить грифы от обычных гитар.
Головки таких грифов с прорезями для натяжки струн никак не вяжутся с электрогитарным видом.
Чтоб заменить такие головки, их предварительно приходится выпиливать, вынимать и на их место подгонять самодельные, сплошные, с шестью колышками в один ряд.
Схемы электрической оснастки гитары паял отец и он же достал экранированный провод в металлической оплётке для подключения гитары в усилитель.
Без такого провода электрогитары жутко «фонят», то есть издают далёкий от музыки шум.
Испытания проводились у нас на хате с подключением изделия в древний радиоприёмник. Отец сказал, что без разницы – если заиграет тут, то через усилитель вообще как миленькая будет.
Больше всего мороки задал звукосниматель.
Это такая коробочка с электрокатушками определённого сопротивления; по катушке под каждую струну, по шестьсот витков тонкой как волос медной проволоки на каждую катушку.
Но вот всё собрано и из радиоприёмника рвутся электрогитарные взвывы нот и оглушительно сталистые аккорды. Мы довольны. Отец тоже.
Теперь можно всё разбирать, заравнивать фанеру наждаком, шпаклевать и снова полировать мелкой шкуркой. Красить пульверизатором.
И вот они – две красные и одна чёрная (бас-гитара); не такие лощёные как в журнальных картинках, но тоже рогатенькие.
В результате на участие в конкурсе были поданы две заявки: одна от ВИА «Кристалл» при Доме Культуры им. Луначарского, он же Лунатик, и вторая от ВИА «Орфеи» при Клубе завода КПВРЗ.
Ребята из Лунатика занимались этим делом не первый год, у них имелся электроорган, на котором играл Саша Баша закончивший музшколу по классу фортепиано.
Он являлся руководителем их ансамбля, а по совместительству капитаном команды КВН из престижной одиннадцатой школы.
Помимо концертов в ДК они ещё играли «халтуры» – то есть музыкальное сопровождение на свадьбах, днях рожденья, вечерах. Две гитары, орган, ударные.
Нас тоже было четверо, мы ни хрена не рубили в музграмоте, за исключением Чубы, но за нами стоял Клуб.
Если техническую мощь мы наращивали на хате, то местом повышения уровня музобразования нам служил Клуб.
Чубу, опять-таки это не касалось, он имел достаточную образованность по классу баяна.
Оттого-то ему легко освоить бас-гитару – её партия совпадает с той, что баянист играет на кнопочках басов под левой рукой.
Так что на концерт классической гитары, объявленный в Клубе скромной афишкой об исполнителе Звереве из Киевской филармонии, пошли только мы с Владей.
Чепе оно тоже незачем – ведь он барабанщик.
В вестибюле Клуба и на площадке у входа в кинозал оказалось необыкновенно людно. И всё молодёжь.
Кто бы мог подумать, что на Посёлке так любят гитарную классику!
Мы толпились у входа в зал, когда снизу вдоль лестницы и среди парней вокруг нас поднялся шумок, словно порыв ветра налетающий перед грозой:
– Вафлистки! Вафлистки идут!
По широкой лестнице с первого этажа подымались две девушки.
Когда они достигли площадки тут царила полная тишина, но все взгляды были прикованы к ним.
Меня поразила молочная чистота кожи на их лицах.
Окружённые стеной вылупившегося на них молчания, они свернули вправо – в зеркальный зал балетной секции Клуба, где проводился вечер отдыха «бурсаков», они же «ГПТУ номер четыре».
А нам с Владей налево, в горстку зрителей-слушателей черноволосого гитариста-лауреата в классическом чёрном костюме и в толстых очках с чёрной оправой.
Он сидел над нами на сцене с акустической гитарой, объявлял автора музыки и – играл.
Но как играл!
Непостижимо. Недостижимо.
После концерта мы с Владей постучали в дверь комнаты, где он укладывал свой классический чёрный костюм в твёрдый чёрный футляр своей гитары.
Мы представились как желающие научиться. Что делать? С чего начать?
И он дал нам бесплатную консультацию. Он достал из под костюма в футляре свой инструмент и показал как и на каких ладах берутся флажколеты.
Потом он сложил всё обратно и ушёл на вокзал ехать ещё куда-то на ночь глядя.
Напоследок он посоветовал нам найти польские музыкальные журналы. Они сейчас печатают много поп-музыки с указанием аккордов над словами песен.
Но в Конотопе таких журналов не сыскать.
Представив заявку на участие в конкурсе, мы обратились к директору Клуба, Павлу Митрофановичу.
Нам бы усилитель с двумя чёрными колонками от переносного кинопроектора, а то ведь у нас даже ударной установки нет, не говоря уже о месте для репетиций.
Пылая жарко раскраснелым лицом под мелкими завитками натурально купеческих кудряшек, Павел Митрофанович сказал, что для ребят с Посёлка Клуб сделает всё и ещё раз всё.
Вот что значит обращаться с просьбой в правильно выбранное время.
Директор распорядился предоставить нам для репетиций комнату Эстрадного ансамбля. Эстрадники во главе со своим руководителем Аксёновым переправили оттуда все инструменты, включая контрабас и саксофон с тромбоном в неизвестном направлении.
Сам Аксёнов тоже на какое-то время исчез неизвестно куда.
В комнате остался лишь тумбовый стол, фортепиано и «кухня» – ударная установка из большого барабана с педалью, хэта, малого барабана и том-тома.
Чепа часами отрабатывал выбивание бита на «кухне» всеми руками и ногами.
Как бить бит ему показал Анатолий Мелай, который по весне пришёл из армии, а до призыва на службу играл в Эстрадном ансамбле на трубе.
Ещё он показал аккорды песни «Жёлтая река» группы «Christie». Она в то время держалась в верхних строчках хит-парадов Европы.
Мы знали об этом из передач радиостанции «Радио-Швеция».
Она вещала на русском языке один час в неделю, по воскресеньям, и наши её не глушили – потому что там говорили лишь о рок-музыке и не велась пропаганда.
Анатолий даже знал слова этой песни на русском:
У жёлтой речки гуляли мы, Вокруг прекрасно цвели цветы, У жёлтой речки моей мечты, Áловерида!Дальше шёл неперевéденный припев:
Áловерида! Áловерида! Юзы мамá! Юзы мамá!Мы стали готовить её к конкурсу.
В одну из репетиций мне вдруг дошло, что раз песня про жёлтую реку, то припев должен быть «Йелоу рива!», а не какой-то там «Áловерида!»
Не зря всё же Алла Иосифовна мне вдалбливала, что «London is the capital of Great Britain.»
Анатолий крутил носом, но крыть ему было нечем.
За мой подвиг Чуба позволил мне подпевать ему в припеве терцией:
Yellow river! Yellow river! is in my mind and in my eyesЭто меня окрылило, поскольку в нашей группе мне досталась нужная, но такая неприметная роль ритм-гитариста.
Вторым номером мы взяли «Перекрась в чёрное» группы Rolling Stones.
Мы знали аккорды к ней, знали название, но вместо слов только пабакали:
Па-бá-ба пá-ба-ба Па-бá-ба па-ба-бá Па-ба-бáОднако, зная название, можешь представить о чём песня, а когда известен размер строк, то «что нам стоит дом построить? Нарисуем – будем жить! »
И тучи чёрные на город проливают, капли дождя чернее даже, чем смола, а лужи чёрные и звёзд не отражают, ведь даже звёзды все украла с неба мгла…( … в фильме «Адвокат дьявола», где Аль Пачино играет сатану, она звучит на заключительных титрах. В оригинале, разумеется.
Но тогда в Голливуде ещё не успели снять этот фильм.
И, кстати, с «Жёлтой рекой» наша гаражная группа опередила «Весёлых ребят» Буйнова. Они её исполнили аж года через два и у них это стало песней про Карлсона с крыши:
Вот мы слышим, Вот мы слышим Мотора стук — Весёлый звук. Это с крыши, Прямо с крыши Летит к нам друг, Наш весёлый друг…Так из песни про любовь сделали гимн Рембазы…)
Накануне конкурса мы репетировали днями напролёт. Выходили из Клуба только пообедать в павильоне «Встреча» на привокзальной площади.
Ели мы там пельмени, запивали бутылкой «Жигулёвского пива» на четверых и мнили себя забойными чуваками, которым по плечу лабать рок.
Буквально за день до конкурса группа «Кристалл» из Лунатика нанесли нам превентивный удар.
Они играли «халтуру» на выпускном вечере нашего класса.
Мы предлагали руководству школы отыграть за бесплатно, а пригласили их.
В своём отечестве тебя и за музыканта не считают!
Конечно, у них устоявшаяся репутация. Саша Баша со своим музшкольным образованием по классу фортепиано очень грамотно играет на электрооргане – и «семь-сорок», и вальс, и рокэнрол; но всё равно обидно.
Реванш состоялся на конкурсе.
У нас имелись скрытые резервы.
Во-первых, Павел Митрофанович разрешил взять у киномехаников усилитель мощностью в пятьдесят ватт.
Во-вторых, мы и внешне смотрелись победителями.
Ну, допустим у тебя электроорган плюс музшкольные навыки, плюс натасканный на «халтурах» коллектив, но кто этим впечатлится, если в летнем кинотеатре Центрального парка…
– А сейчас на сцену приглашаются участники вокально-инструментального ансамбля «Орфеи»!
И выходят четверо парней, у которых все три гитары – с рогами,
а сами они, все как один —
В БЕЛЫХ БРЮКАХ!
Что такое белые брюки в городе Конотопе в 1971 году объяснить невозможно, ведь это было ещё даже до начала джинсовой цивилизации…
Откуда белые брюки?
В Универмаг напротив Главной почты завезли так называемую «парусину» для хозяйственных нужд по рубль двадцать за метр.
После первой же стирки она превращается в обвисшую серую мешковину, но мы-то вышли нестираными!
Моя мама сострочила эти брюки, всем четверым, на своей швейной машинке за два дня до выступления.
Тогда в брючную моду, на смену широкому поясу на талии, вошло отсутствие всякого пояса и приспущенность на бёдра.
На одни брюки достаточно метр и десять сантиметров парусины.
Правда, на «Жёлтой речке» я лажанулся.
Чуба и на репетициях морщился на мою терцию в припеве, а на последней распевке перед выходом на сцену вообще за голову схватился.
Так что в момент, когда нам следовало на пару орать в один микрофон
«Yellow river! Yellow river!»,я только лишь разевал рот, но не издавал ни звука.
Как при исполнении «Интернационала» на общешкольном комсомольском собрании, или изображая песню «Иерихон» в КВН.
Чуба делал круглые глаза, что я его оставил без терции, но это не помогло.
«Орфеи» одержали убедительную победу, но на моём вокализе был поставлен окончательный крест.
Да, мы смогли.
Мы сделали это!
Однако, нужно жить дальше…
«Куда ж нам плыть?» поэтически вопрошал ещё Пушкин, а Чернышевский перефразировал этот вопрос в прозу: «Что делать?»
Вот и всё — Конец мечтам. И теперь Ты в жизни сам Ответы все найди К счастью Своему приди.(муз. В. Сакуна, сл. С. Огольцова)
Я попробовал поискать счастья в Киевском государственном университете им. Т. Шевченко и отвёз туда документы на отделение английского языка.
Неимоверная, конечно, наглость при моём запасе знаний – пара вызубренных таблиц в конце учебников английского языка для средней школы.
Но смелость вознаграждается и весь долгий путь от Конотопа до Киева – четыре часа электричкой – я проделал на одной скамье с Ириной Кондратенко, самой красивой девушкой нашего класса.
С её длинными чёрными волосами и чёрными глазами она была настолько красива, что я в жизни б не осмелился к ней подойти – ясно ведь, что бесполезно.
А тут четыре часа совместной езды и бесконечного разговора.
Она тоже ехала в Киев куда-то поступать и жить у родственников. Она же и подсказала на каком трамвае ехать от вокзала до Университета.
Там оказались очень высокие потолки, сразу видно – тут дают высшее образование.
В деканате у меня приняли аттестат о среднем образовании и справку, что я здоров, и направили в студенческое общежитие, куда пришлось очень долго ехать троллейбусом.
У заведующей, или дежурной по общежитию, что выдавала мне постельное бельё в обмен на мой паспорт, оказались расистские замашки.
При мне в её кабинет, или склад, зашли пара молодых северных вьетнамцев с просьбой о клеёнке для стола в их комнате.
А она в ответ:
– Какую тебе ещё «килиёнку»? Сам ты «килиёнка»! Иди отсюда!
И они ушли, такие щуплые на фоне этой дебелой украинской расистки.
Интересно, сама бы она смогла выговорить «клеёнку» на вьетнамском?
Хотя не стоит спешить с умозаключениями без достаточного знания всех обстоятельств.
Может это и не расизм был вовсе.
Может они зашли к ней за пятой по счёту клеёнкой в один и тот же день.
В одной комнате со мною оказался абитуриент, который поступал куда и я, но после службы в армии.
На следующий день мы с ним поехали в университет на ознакомительно-подготовительную лекцию. Он там так бойко переговаривался с преподавателем, что я почувствовал себя как на областной олимпиаде по физике в Сумах – все всё знают и друг друга понимают, один только я пень пнём.
Вот почему после лекции я пошёл в деканат и забрал сданные документы.
Не помню что я им там врал. Трудно ведь сказать правду: я – струсил. Поднял лапки вверх даже не попытавшись.
Пока я ехал в общежитие за паспортом, полил такой ливень, что местами троллейбусу приходилось от остановки до остановки переправляться вплавь.
Дождь смоет все следы…
Четыре часа в электричке до Конотопа я провёл молча – трусам не полагаются Ирины Кондратенки.
В Конотопе глубокие вопросы решаются с ходу.
Куда?
Да, туда ж, куда и все.
Чепа уже два года как проучился в железнодорожном техникуме над Путепроводом. Владя и Чуба сдали свои документы для поступления туда же.
Вопрос «куда?» решился до меня – мне оставалось только стать абитуриентом Конотопского техникума железнодорожного транспорта.
Даже Анатолий Мелай оказался там же.
Он туда пристроился на непонятную должность лаборанта, но до начала учебного года ходил по коридорам в синей спецовке и занимался электропроводкой в промежутках между пением.
Анатолий оказался фанатом «Песняров», которые недавно на концерте в Кремлёвском зале сделали песню «Тёмная ночь».
Прикинь! В первом ряду верхушка Политбюро: Брежнев, Суслов, там, Подгорный, а они со сцены врубают электрогитарный проигрыш на всю, с ревером…
Ну, и вокал, конечно, у них охренéнный – на четыре голоса:
Тёмная ночь разделяет, любимая, нас…И Анатолий, запрокинув своё лицо в оспинках от давно исчезнувших прыщей, поёт на весь коридор один из тех четырёх голосов.
А почему не петь? Лето, занятий нет, экзамены ещё не начинались, а на нём спецовка:
Скрыпять мое лапти, Як иду до тэбэ!Он обещал замолвить слово экзаменаторам, но в техникум поступила лишь треть Орфеев-абитуриентов – Чуба и Владя отсеялись и поступили на завод КПВРЗ.
В начале августа мы сделали директору Клуба, Павлу Митрофановичу, предложение, от которого он не смог отказаться.
Мы будем играть на танцах в Парке КПВРЗ.
Бесплатно.
В каждом из трёх парков города Конотопа – Центральном, привокзальном, заводском – есть танцплощадка.
Все три устроены совершенно одинаково: метровой высоты сцена внутри оркестровой раковины, а перед нею круглая бетонированная площадь, окольцованная двухметровым забором из вертикально стоячих труб; диаметрально напротив сцены – входная калитка опять же из вертикально-трубчатой решётки.
Даже и покрашены все три ограды были одной и той же серой серебрянкой.
Отличие лишь в том, что на ограде в Центральном парке краска не так сильно облупилась.
Моя мама вспоминала, что в её молодости летом на сцене танцплощадки играл духовой оркестр.
Потом всё как-то заглохло и вместо вальсирования молодые конотопчане в тёплое время года стали ходить кругами по аллеям площади Мира заплёванным шелухой от семечек.
И вот настало августовское воскресенье, когда танцплощадка в заводском Парке вышла, наконец, из комы.
Оковы ржавой цепи с висячим замком на входе – рухнули, и мы потянули к сцене возок на резиновом ходу.
Обычно этим возком киномеханики перевозили из Клуба в Парк цилиндрические жестяные коробки с катушками кинолент для сеанса в летнем кинотеатре.
На этот раз он был загружен усилителями и колонками динамиков.
Мы начали устанавливать и собирать аппаратуру. Подключать и пробовать гитары взбряком аккорда, пробежкой по струнам баса.
Короткое эхо приносило эти бздыни обратно от многоквартирной двухэтажки за забором Парка. Оттуда же сбежалась околопарковая пацанва и, не решаясь войти в круг танцплощадки, стала скапливаться за трубным ограждением.
Вот напыщенно важный Чепа устанавливает «кухню» ударника, бухает педальной колотушкой, бряцает по хэту.
Пробуется микрофон:
– Ряссь! Ряссь-два!..
Чепа задаёт темп сухим стуком палочки о палочку.
Раз-два. Раз-два-три-четыре!
Погнааали!
Так вершилась смена эпох в одном, отдельно взятом Парке.
Пацаны, видя, что калитка без охраны, потихоньку втягиваются внутрь, но всё равно держатся поближе к трубам, лишь пара безнадзорных дошколят бегают туда-сюда.
Зашли три девушки и сели под оградой на лавочку без спинки.
Зашла какая-то парочка. Наверное, ту укромную скамейку заняли уже до них.
Вот ещё одна парочка. Тут есть где посидеть.
Танцев в первый вечер не было. Мы играли для себя.
Потом перевезли аппаратуру и инструменты в кассу кинотеатра на первом этаже кинобудки.
То же самое повторилось и в среду.
Да! В среду! Мы играем трижды в неделю – среда, суббота, воскресенье.
В субботу, за полчаса до начала в аллеях Парка уже необычно людно.
На простор танцплощадки заходит Витя Батрак, он же Раб, со свитой своих парней с площади Мира.
Широкие кудри каштановых волос рассыпаны по плечам шёлковой рубахи цвета пиратского флага. Манжеты длинных рукавов – нараспашку. Воротник – тоже, аж до солнечного сплетения.
Он затевает картинный спор с кем-то из парней по поводу противоударности своих часов на широком ремешке.
Ремешок расстёгивается, часы подбрасываются высоко в воздух и хряпаются на бетон площадки.
Парни собираются вокруг удостовериться – вдрызг или ещё идут?
Тем временем, через калитку начинает вливаться поток молодых людей обоего пола.
Всё. Город поверил, что в Парке КПВРЗ играют танцы.
В воскресенье танцуют – все.
Кружкáми.
Кружок из десяти-пятнадцати танцоров вокруг двух-трёх сумочек положенных на бетон. Каждый кружок танцует по-своему.
Сверху хорошо видно.
Те вон твистуют. Эти, типа, изображают конькобежцев на длинную дистанцию – плывут, сцепив руки за спину. А там до сих пор ещё лишь «семь-сорок» ногами выписывают.
Иногда в отдельных кружках визжат или вскрикивают.
В следующую субботу у входа на танцплощадку возникла тётя Шура-контролёр, в своём вечном шлёме-платке, и заворачивает всех в сторону кассы летнего кинотеатра.
Вход пятьдесят копеек.
Мы с Владей подходим к тёте Шуре. Мы возмущены. Что за дела? Мы ж за бесплатно!
Тётя Шура невозмутима. Приказ директора.
Владя, белея в сумерках своей водолазкой с коротким рукавом, кричит всем подходящим от лестницы Путепровода, чтоб заходили так – танцы бесплатно!
На него не обращают внимания и послушно бредут покупать билеты.
Так же как все…
Если людей столько лет продержать без даже духового оркестра, они готовы заплатить пятьдесят копеек за пустой кинобилет, на котором напечатано «35 коп.»
Когда мы убирали аппаратуру, кассирша нам сказала, что продала пятьсот билетов.
На следующий день Павел Митрофанович распорядился убрать с танцплощадки все лавочки – так больше народу влезет.
Наверно, у него и впрямь купеческие гены.
Что мы играли?
В основном инструменталки, как на той пластинке «Поющих гитар».
Пели пару тех конкурсных песен, уже без моей терции.
Иногда, по просьбе публики, Квэк выходил к микрофону заделать «Шыз-гары!»
Он классно смотрелся со своими длинными блондинными патлами и усиками альбиносового цвета. Вот только долго заставлял себя уламывать, но зато потом…
– Шыз-гары!
И слитный вопль из нескольких сот глоток:
– Вааааааааааааа!..
( … ты не слыхала эту песню?
Конечно же, слышала и не раз, просто без слов. Её любят вставлять в телерекламу всякой женской атрибутики.
А тогда голландская группа «Shocking Blue», практически, с одной этой своей песней «Venus» объездила весь мир и стала группой года, чего никто не ожидал, а они и того меньше.
Я согласен, что они пели:
– She’s goddess!
Но «килиёночное» произношение Квэка никому не мешало балдеть по полной и вопить:
– Вааааааааааааа!..
То есть, я хочу сказать, что настоящее высокое искусство находит путь к массам и отклик в их сердцах несмотря на любой акцент.
– Шыз-гары!!!..)
А массы всё уплотнялись.
Когда посреди танцевального вечера мы объявляли небольшой перерыв, мне приходилось долго проталкиваться к выходу, чтобы по боковой аллее сходить в длинную дощатую будку белёную известью, с буквами «М» и «Ж».
И – снова на сцену, где уже начинает побухивать бас в полутораметровой колонке из летнего кинотеатра, за которой Чепины подружки и подружки Чепиных подружек складывали свои сумочки.
Да, из нашей «богемы» именно он имел наиболее бешеный успех.
И что только девушки находят в этих барабанщиках?
Я, например, всего один раз проводил блондинку Ирину.
Не знаю кто из нас быстрее охладел – она ли, что столько приходится меня ждать пока уберём аппаратуру, или я – из-за того, что она жила на Загребелье.
Потом её подхватил Анатолий Мелай, так он вообще на такси провожался.
Довезёт до калитки, выйдет с ней и просит шофёра:
– Шеф, когда на рубль настучит, ты посигналь.
Потому что Загребелье – суровый край для влюблённых.
Ну, ещё там один раз ко мне подходил Коля Певрый, который меня в школе зашугивал, когда я был семиклассником.
Довёл до того, что я вычислять начал сколько мне ещё терпеть покуда он уйдёт в ГПТУ после восьмого.
А теперь с полным уважением попросил выйти к его однокласснице Вале, которая тоже была на год старше меня.
Она куда-то там уезжает на операцию от врождённого порока сердца, хочет со мной поговорить.
Вышел я в перерыве, постоял с ней рядом, помолчали, она повздыхала – тут и перерыв кончился.
Романтическое свидание.
( … как мы играли?
Могу ответить одним словом:
ГРОМКО!
О, бедные жильцы многоквартирной им многострадальной двухэтажки за забором Парка!..
В начале третьего тысячелетия король Испании попросил у евреев прощения, что пятьсот лет назад их прародителей депортировали с земли испанской.
Лучше позже, чем никогда.
Простите нас, глушимые жильцы!
Мы больше не будем …)
Но жизнь Клуба не зациклилась на одних лишь танцах.
Снова вынырнул руководитель Эстрадного ансамбля белобрысый саксофонист Аксёнов и интегрировал нас в свой коллектив для сопровождения певицы Жанны Парасюк в концертах художественной самодеятельности.
Одна из репетиций проходила в летнем кинотеатре Парка.
Мы работали на сцене с отдёрнутым экраном – сезон кинопоказа под открытым небом был на исходе.
Зал пуст. Песня в ля-минорчике:
Потолок ледяной, дверь скрипучая…Сумерки густеют.
И тут от тоннельного входа под кинобудкой заходят две девушки и пацан с ними.
Зашли, так зашли. Кому мешают? Сели где-то в пятом ряду от сцены.
Одна темноволосая, но толстая.
Вторая – то, что надо, в мини-юбке, жилетка клетчатая. Волосы волнистые, в короткой стрижке; жёлтые – видно, что крашенные.
И так спокойно, не таясь, достаёт из жилетки пачку сигарет и – закуривает.
Чепины подружки всегда как-то прячутся, оглядываются, а тут…
Они сидят. Мы репетируем. Она что-то своей толстушке-подружке говорит.
Уже потом я узнал, что это она ей про меня сказала:
– Этого я забила. Спорим – мой будет?
Отыграли, вобщем, и тот малолетка ко мне на сцену подходит:
– Вон та девушка хочет с тобой поговорить.
Через минуту я уже рядом с ними – Оля, Света, очень приятно! – а через полчаса провожаю.
Недалеко, метров двести от Парка, третий переулок улицы Будённого, не доходя до Болота.
А Чепа с Квэком тоже увязались.
Непонятно как-то; подружка одна, а их – двое.
Кто кого провожает?
Как свернули в переулок, Света «пока-пока» и – в калитку своей хаты.
Я провожаю Ольгу до следующей; она сказала, что там живёт; а Чепа с Квэком не отстают, ещё и в наш с ней разговор реплики вставляют.
И только когда мы с ней начали целоваться, им дошло, что тут не светит.
Перешли к противоположному забору, помочились на него под фонарём – богема, блин! – и ушли не солоно хлебавши. Как будто не могли до Будённого дотерпеть.
Откуда Квэк на репетиции взялся?
Так ведь солистка Жанна Парасюк его сестра родная.
Концерты художественной самодеятельности проходили не только в Клубе. Иногда их вывозили в разные сёла конотопского района, на заводском автобусе марки ПАЗ.
Именно для одного из таких концертов и репетировался ледяной потолок со скрипучей дверью.
Поскольку автобус не резиновый, везти с собой аппаратуру не получается, также некуда грузить маловозрастных снежинок из балетной студии.
Один «гопак», один молдаванский «жок» в дуэтном варианте под баян Аиды.
Потом она передаёт инструмент Чубе для использования в составе эстрадного ансамбля.
У меня в ансамбле роль ритм-гитариста, но на простой, акустической.
Владю Аксёнов не задействовал – вместо соло-гитары у него свой саксофон.
Ну, а Чепа как был ударником, так и остался; просто «кухня» у него в скелетном составе – из трёх предметов для битья палочками.
Мурашковский – общепризнанный гвоздь программы; то песни поёт, то «гуморески» рассказывает.
Автор «гуморесок» Павло Глазовой на тему «про меня и про моего кума».
То как мы штангу футбольных ворот головой сносим, то на мотоцикле в быка врезаемся, а он нас через дуб перебрасывает.
Публике нравится – смеются и хлопают.
Потом на сцену опять выходит солистка Жанна и мы – музыкальное сопровождение.
Чепа задаёт темп, мы вступаем и я чувствую, что гитарные струны у меня под пальцами совсем ослаблены. Это Аксёнов во время «гуморески», а может «гопака», гитару раскрутил для смеху.
Хохмач толстощёкий.
Ну, ладно; Чуба с Чепой гармонию и ритм восполняют, а я, типа, живая декорация – медиатором по струнам бью, но струны не прижимаю, чтоб звука не было.
В заключение концерта – «под занавес» – Мурашковский, как всегда, выдаёт свою главную «бомбу» – гумореска про примака и тёщу.
( … в те времена слово «тёща» было самым магическим заклинанием артистов-юмористов. Стоило человеку со сцены произнести – «тёща!» – и зал от хохота покатом ложился.
Нынче-то население поизощрённей стало, избаловано юмором; теперь актёру комедийного жанра надо поднапрячься и громко крикнуть в микрофон – «жопа!» – а то ведь им и не дойдёт, что пора смеяться.
Ладно, идём обратно на концерт в сельском клубе начала семидесятых …)
Значит, Мурашковский от задней двери с воплями несётся через весь небольшой зал к сцене. В руках у него футляр от баяна, типа, как чемодан с личными пожитками.
Взбирается на сцену и начинает рассказывать гумореску о горькой доле примака.
Как его жена и тёща сдали в милицию на пятнадцать суток, чтоб спасти от запоя.
За это время он приготовил план мести.
Вернувшись после отсидки к месту жительства, он – так, между прочим – извещает, что в погребе развалилась бочка с огурцами.
(Зал оживляется и начинает гыкать.)
Жена с тёщей всполошились и наперегонки спускаются в погреб по приставной лестнице. Примак сверху зачитывает доктрину ветхого завета «око за око» – вы меня посадили, теперь я вас приговариваю к пятнадцати суткам – с разгону хряскает крышкой погреба.
(В зале ликующий гогот.)
Примак спускает в погреб передачу на верёвочке, с интервалом в один день.
(Децибелы хохота докатываются до соседнего села.
Зрители с особенно ярким воображением уже не могут смеяться – просто дёргают головой с судорожно раскрытым ртом, глаза зажмурены и истекают слезами, которые нечем утирать – руки, стиснутые в кулаки стучат по спинке сиденья в предыдущем ряду.)
Через четыре дня вызванная кем-то из сельчан милиция освобождает узниц, а примак получает ещё пятнадцать суток.
(«Бу-га-га!» зала начинает смахивать на коллективный припадок.)
Мурашковский выдаёт заключительную строку, как тореадор добивающий быка:
– Всё – ухожу! Но вашу хату не сожгу, хотя и мог бы!
Обычно на эту фразу зал реагирует прощальным взрывом хохота, способным вынести окна и двери вместе с рамами.
Мурашковский изготавливается делать поклон на общую овацию и…
Тишина.
Абсолютная тишина.
Ни звука.
Все замерли как экспонаты в театре восковых фигур мадам Тюссо.
Лишь где-то в семнадцатом ряду негромко шлёпается в пол запоздавшая слезинка, выхохотанная всего пару секунд назад.
Потом начинают поскрипывать спинки сидений.
Председатель сельсовета подымается на сцену со скомканным словом благодарности за шефский концерт.
Зрители уныло расходятся.
За кулисами Мурашковский бьётся в истерике. Его не знают как унять.
Инструменты и костюмы в рекордный срок загружены в автобус.
Все садятся в комнате завклуба за обычное благодарственное угощенье – хлеб, сало, огурцы, самогон.
После первого стакана председатель сельсовета приносит неловкое извинение Мурашковскому:
– Ну, тут… теє… у нас на селе за месяц три хаты сгорели… никак не найдут кто…
Директор Клуба, Павел Митрофанович, всё более краснея лицом, прослеживает, чтоб водитель автобуса не пил более двух стаканов и после третьего мы выезжаем в ночь.
Меня в ту пору ещё передёргивало от вкуса самогонки, поэтому те пара глотков, заеденные хлебом с салом, быстро выветриваются.
Я смотрю в непроглядную ночь за оконным стеклом. Водитель всю душу вкладывает в скорость и давит педаль газа до самого пола.
Мы несёмся. Несёмся по мягким грунтовым дорогам района.
Свет фар выхватывает из темноты мелькающие мимо ветки придорожных деревьев. Порой промелькивают хаты сёл.
Вон у одной из хат хлопец и девушка. Провожаются. Смотрят на пролетающий автобус. Думают: живут же люди! В городе живут.
Завидуют мне.
Странно, но я завидую им. Провожаются. Мне тоже хочется вот так же. В тёмной украинской ночи.
Но у меня ведь есть Ольга. В её переулке такая же ночь.
А всё равно завидую тому хлопцу.
Странно.
Целоваться Ольга умела и любила, не зря же у неё такие чувственные губы.
Горьковатый привкус горелого табака в её дыхании меня не слишком отвлекал. Да и потом, на следующем провожании до калитки она поделилась со мной сигаретой.
Я опасливо попробовал, но прошло без эксцессов, а дальше и сам втянулся.
В хате, до которой я её провожал, жила её тётка. Ольга приехала к ней на лето, погостить.
Сама она из Феодосии, там у неё мама и старшая сестра.
Отец погиб, когда ей было двенадцать лет. Несчастный случай на тракторе.
Она его так любила, что иногда ходила ночью на кладбище – плакать возле арматурного памятника с табличкой «Абрам Косьменко».
Блатное имя – да? Но он не еврей, просто имя такое.
Мать привела отчима, правда, они не расписаны. Музыкант, на ударнике стучит.
Один раз Ольга лежала на диване с температурой, телевизор смотрела. Он сел в ногах и краем её одеяла укрыл свои колени. Мать как увидела, так орала!
Потом она занялась лёгкой атлетикой. Бег на сто метров. Тренер говорил, что у неё хорошие данные.
Их возили в Симферополь на соревнования. Перед забегом тренер заставлял всех съесть по целому лимону. Без сахара. Говорил: «Прямо – в кровь!»
Так, между поцелуями, мы всё ближе узнавали друг друга.
После того концерта Чепа, Владя и я поехали на Сейм с ночёвкой.
Мы с Чепой вечерней электричкой привезли с собой большой виниловый мешок. Его отец достал в Рембазе. Там это упаковка от каких-то вертолётных частей.
Большой такой мешок – целая палатка на троих.
Ещё мы привезли гитару, а потом приехал Владя на своём мопеде «Рига-4» и привёз ужин.
Мешок-палатку мы поставили на заросшей ивняком песчаной косе, недалеко от железнодорожного моста.
Стемнело. Мы развели костёр. Поужинали.
Правда, Владя привёз слишком много зáкуси – больше разбросали, чем съели.
Ничего, утром опять сгоняет в город, подвезёт жратвы.
Владя начал играть на гитаре проигрыши из разных рокэнролов. Над водой гитара звучит улётно. Ништяк, чётко звучит.
Одному рыбаку, что заякорил свою плоскодонку посреди Сейма для ночного лова, понравилось, попросил ещё чего-нибудь сбацать.
Но когда мы завели «Шыз-гары!» другой ночной ловец издалека – аж от того берега – начал материться, что рыбу распугаем.
Чепа посоветовал не связываться, а то пойдёт позовёт ещё мужиков из домиков.
Костёр догорел и мы залезли под виниловую крышу.
На рассвете я проснулся от воды капавшей мне на лицо.
Винил совершенно водо– и воздухонепроницаемый материал. Наше тёплое дыхание оседало на охлаждённом августовской ночью виниле и превращалось в водяные капли – конденсат. О нём не учат в школе.
Так что утро мы встретили холодными и голодными.
Я еле-еле уговорил Владю, чтоб он доверил мне «Ригу-4», сгонять за едой в город вместо него.
Всё же моторы – это вещь. Ничего крутить не надо, кроме рукоятки газа.
Я въехал в город прокладывая в уме маршруты – сперва к себе на хату, потом на хату к Чепе, потом к Владе.
Собрать что будет съестного и – обратно на Сейм.
Рассчитали на бумаге, Да забыли про овраги…Войдя в левый вираж между Вокзалом и парком Лунатика, я услышал своё имя.
Через привокзальную площадь неслась Ольга в своей красной мини-юбке.
Прав был её тренер – данные что надо.
Я сбросил газ и дал мопеду остановиться.
Она подбежала почти не запыхавшись и начала делать мне вливание – уже три дня, как я пропал неизвестно где, не хочу с нею встречаться, так и не надо, она не напрашивается, вчера мать вызвала её телеграммой на телефонный разговор с Феодосией, говорит, хватит уже сколько погостила, может послезавтра она уже уедет от тётки, а мне всё равно, умотал себе на Сейм, друзья мне дороже, таких друзей за хуй да в музей, а она такая дура, нашла с кем связаться, а если она мне дорогá, я должен остаться с нею…
После холодного конденсатного душа столь пылкое бушевание и угроза замаячившей разлуки, и надежда – а вдруг даст напоследок? – сделали своё дело.
Я выпросил только пару часов – отвести мопед к Владе на хату и сходить переодеться перед нашей встречей в Парке…
Вот так становятся тряпками. Так предают друзей.
Конечно, они приехали с Сейма пятичасовой электричкой, после того, как прочесали всю заросшую ивняком косу в поисках объедков, которые так бездумно расшвыривали куда попало накануне вечером.
И я их понимаю – однажды и сам чуть не сдох на Сейму с голодухи.
Три дня они со мной не разговаривали – бойкот.
И я их понимаю – дольше не продержаться, когда делаешь одно дело, а общаться вынужден только через Чубу.
( … подло предавать друзей. Согласен.
Но из всех подлостей совершённых мною за свою жизнь об этой, почему-то, я сожалею менее всего.
Хотя, конечно, сожалею.
– Бабник, тряпка, предал своих корешей за кусок вонючей дырки, за бабу предал,– скажут 95% реальных пацанов.
Ну, ладно – переборщил – 93%.
И я их пойму.
И соглашусь с ними.
И я их пожалею – не повезло беднягам. Не попадалась им такая баба, ради которой стоило предать …)
Итак, Ольга.
Конечно, размер её груди намного уступал размерам Натали́ .
И они у неё не отличались упругостью, как предписывается грудям девственниц в литературных традициях.
Но когда я впервые, стоя у тёткиной калитки, расстегнул на себе рубаху, а на ней кофточку и стиснул её наготу, то поразился необъятности ощущения от прижавшейся женской плоти.
Лифчика на ней не было, она перед этим заходила в тёмный двор хаты.
А то, что грудь такая небольшая и соски не твёрдые объяснила нырянием со скалы за рапанами.
Глубина оказалась большой и потом в больнице пришлось прокалывать ей груди.
( … лапша на уши? Понятия не имею.
При моей лопоухости я верю всему, что мне говорят.
Серьёзно, пока слушаю – верю всем и вся. А из-за своего, не менее фундаментального, тугодумия логическое осмысление услышанного начинаю на вторые или третьи сутки.
Но в тот момент мне было вовсе не до логики – рапаны, так рапаны.
Это лишь теперь немного интересно – что оно за хрень? Да, и то не очень …)
Но что в ней безоговорочно пленяло, так это – ноги.
( … тогда во всём мире бурлила сексуальная революция, а законы революционного времени – беспощадны. И уж тем более законы революционной моды.
Это в нынешние демократические времена хочешь – макси одевай, хочешь – миди, а можешь и всю жизнь в трениках проходить, если, конечно, на них есть адидасовские полоски.
Сексуальная революция установила диктатуру мини.
Так что, коль ты считаешь себя женщиной – изволь обнажить колени.
Закон – есть закон.
Если ты не махнула на себя рукой, как на женщину, твоя юбка или платье должны кончаться, как минимум, на три сантиметра выше колен.
Закон суров, но справедлив, или записывайся в пенсионерки…)
У Ольги мини было на двадцать сантиметров выше колен. Поэтому, когда она садилась, то кисть руки её целомудренно спускалась между спортивно спелых ляжек, чтоб не выглядывали трусики.
И когда я сверкающим солнечным днём стоял у тоннеля Путепровода, а она в жёлтоволосой стрижке и красной мини-юбке сбегала с лёгкой атлетической припрыжкой вниз по лестнице от Парка, мне стало ясно, что я родился в очень даже правильную эпоху.
Порыв ветра взметнул на ней юбку и она, на бегу, оправила её классическим жестом Мэрилин Монро из другой эпохи.
( … в такие мгновения все рапаны мира и голодные братаны, жующие горбушки с сухим сеймовским песком, пусть катятся в тартарары!
…две ножки… грустный, охладелый,
я всё их помню…
Или, как сказал иной, более прагматичный избранник муз:
– Ольга, за твои ножки я б отдал всё, кроме получки и выходного дня!..)
Он был её сотрудником на Тряпках, куда она устроилась работать, потому что не уехала к маме в Феодосию, а осталась жить у тётки.
Тряпками в Конотопе называют Фабрику Вторсырья.
Она на самом краю города – первая остановка электрички по пути на Сейм.
Зачем так далеко?
Просто на Тряпках не слишком-то оглядываются на трудовое законодательство, а Ольге тогда едва исполнилось пятнадцать лет.
Первого сентября я пришёл в Конотопский техникум железнодорожного транспорта вместе с моими братом и сестрой, которые поступили туда же после восьмого класса.
Студентов погруппно построили во дворе на линейку и директор техникума начал толкать речь.
Я почувствовал себя как зэк, которому по истечении десятилетнего срока накинули ещё три года. Так, ни за что.
Когда линейка кончилась, я зашёл в отдел кадров техникума, забрал свои документы и отправился трудоустраиваться на завод КПВРЗ.
Меня приняли туда же, где уже был Владя – учеником слесаря по монтажу металлоконструкций в экспериментальном участке Ремонтного цеха.
Как и большинство цехов в КПВРЗ, Механический построен из кирпича огнеупорного цвета. Прямые гладкие стены без дореволюционных загогулин.
Просторный корпус длиной метров сто тридцать, высотой – восемь; внутри под крышей громыхает поперечная кран-балка по рельсам вдоль стен.
Кабинка крановщицы снизу, в самом краю тридцатиметровой балки, по которой бегает тельфер с мощным крюком на толстом тросе. В кабинку крановщица подымается по лесенке вмурованной в стену цеха.
К зданию Механического цеха пристроены три крыла, но меньшей высоты.
В одном Инструментальный цех, а в другом тоже станки Механического, но более мелкие; не такие махины как по обе стороны центрального прохода в основном здании.
Центральный проход достаточно широк, чтобы смогли разъехаться два встречных автокара.
Автокар – это самодвижущаяся телега, только колёса чуть поменьше, зато покрепче. Впереди телеги небольшая площадка, где стоит водительница.
Между нею и кузовом – узкий металлический ящик, тоже стоймя, из боков которого торчат два параллельных рычага, чтобы она могла за них держаться.
Но это только так кажется, на самом деле через эти рычаги водительница управляет каром, они вместо руля – тянет вверх, или вниз и кар делает нужный поворот.
Автокар, как Тяни-Толкай. Куда-то заехал, его загрузили, или наоборот разгрузили и, не разворачивая транспорт, водительница сама поворачивается на своей площадочке лицом к кузову и гонит кар обратно. Удобно придумано.
Пол в цеху бетонный, но до того завозюкался машинным маслом, что стал чёрнющим, как асфальт.
Центральный проход, не доходя метров тридцать до торцевой стены, пересекается дорогой из крыла в крыло, а также придорожной оградой из труб.
Это – граница; за трубами начинается отсек Ремонтного цеха.
Граница, конечно, прозрачная и с двумя бестаможенными въездами вдоль стен корпуса.
За левым въездом – деревянная дверь в стене, ведущая в бытовку со шкафчиками для одежды рабочих.
Вслед за дверью деревянный стол – метр на полтора – с двумя лавками по бокам; это гнездовье мастеров.
Далее – просторный стол-верстак вдоль высоких окон в стене.
В него ввинчены здоровенные слесарные тиски – восемь штук, на солидном расстоянии друг от друга – сперва Яшины, потом Мыколы-старого, потом Петра, потом Мыколы-молодого и так далее, аж до высоких ворот в этой же стене, под которыми проложены рельсы железнодорожного пути.
Спереди стол с тисками тоже обшит листовым железом, а в нём железные дверцы отсеков-ящиков с аккуратными висячими замками, где рабочие держат свои инструменты; сперва ящик Яши, потом Мыколы-старого, ну, и так далее.
Над бытовкой, на втором этаже, кабинет начальства.
Туда ведёт железная лестница с поручнями из двух пролётов, и площадка перед кабинетом тоже с поручнями, как в трюмах морских кораблей.
На площадке, помимо двери к начальству, начинается узкая лесенка из перекладин, по ней крановщица кран-балки по утрам и после обеда подымается в свою кабинку и уезжает в Механический цех.
Рельсы в конце Ремонтного цеха – тупик, сюда загоняют платформы с махинами, которым требуется ремонт, а те, что помельче и автокаром можно привезти.
Параллельно рельсам, метра за два от них, торцевая стена корпуса.
В ней тоже высокие окна, подéленные железным переплётом на квадраты пыльного стекла, а над ними, под самым потолком, большие круглые часы, как на вокзалах.
Они электрические, спят-спят, а потом – цок! – и полметровая стрелка перескочила минуты на две, и снова спит до следующего «цока».
Третья стена с такими же высокими окнами. Справа под окнами сверлильный станок для общего пользования, затем громадный стол разметчика и в левом углу токарный станок со своим токарем.
Параллельно стене, но ближе к середине цеха, опять многометровый слесарный стол, вернее даже два, плотно поставленные лицом к лицу и разделённые сеткой.
Всё по технике безопасности: если молоток вылетит из рук, то сетка не позволит, чтоб он зашиб рабочего за столом напротив.
Пересекая цех, нужно смотреть в оба – на полу громоздятся гигантские червячные передачи, промасленные кожухи и уйма прочей всячины, которую привезли и свалили тут уже который месяц назад, но никак руки не доходят – всегда найдётся что-то более неотложно требующее срочного ремонта.
Но это не по моей части.
Наш – экспериментальный – участок это тот верстачный стол рядом с бытовкой.
Мы не ремонтируем, мы воплощаем в металле проекты наэкспериментированные в чертежах работников конструкторского бюро из заводоуправления.
Четырёхколёсный возок, например, или стенд трудовой славы перед главной проходной завода.
Или делаем всякие несущие конструкции из швеллеров – консоли, фермы крыш.
Но для такой продукции в цеху места мало, их мы собираем за воротами, на стеллажах под окнами конторы цеха и бытовки.
Кстати, детали городской телевышки тоже здесь готовили; и монтировала её тоже бригада нашего участка. Но это было до меня.
Меня прикрепили учеником к слесарю Петру Хоменко. На три месяца.
Он и рад, отчасти – за ученика наставнику полагается прибавка к зарплате – но и не знал что ему со мной делать, после того как дал запасной ключ от ящика под тисками, чтоб и я там складывал свой молоток, зубило и напильник, выданные мне под расписку в инструментальном цеху.
Ну, показал как делать из тонкой сталистой проволоки чертилку, а дальше?
В нашем ряду тисков редко когда увидишь работающего рабочего. Разве что в конце дня, когда клепает какую-нибудь «шабашку» для хозяйственных нужд себе домой.
Но все всегда при деле.
Двое-трое работают со сварщиком на стеллажах.
Кто-то ушёл на демонтаж рольганга в Литейном цеху.
Кого-то старший мастер увёл устанавливать анкерные болты под стационарный тельферный кран в Котельном.
Вобщем, работа кипит…
Где-то…
Начальство работает в кабинете над бытовкой.
Правда, начальник цеха Лебедев туда редко приходит, раза два за день. Где он работает покинув цех я не знаю.
Ему идёт чёрная форменная шинель железнодорожника. Хотя летом, конечно, пиджак, но всё равно с серебристыми пуговицами.
При ходьбе он настолько прямо держит спину, что нетрудно догадаться – человек идёт хорошо поддавши. Но, сколько бы ни принято на грудь, Лебедев ни капли не шатается.
Ни-ни.
Рабочие его уважают. Может потому, что он не засиживается в кабинете.
Дальше идут начальники участков.
Начальник ремонтного участка – Мозговой.
Его тонкий голосок как-то не вяжется с его плотной комплекцией, но его тоже уважают за безвредность.
Один раз в цеху восстанавливали вогнутость профиля какой-то крупной детали от непонятно чего. У кого не спросишь что оно за хрень – ответ один:
– А х….. его знает!
Причём звук «у» протяжно так выговаривают, почти с подвывом:
– …у-у-у-й его знает!
Вобщем, недели две эту вогнутость по очереди шабровали. Кому делать не … – то есть нечего – берут шабер в руки и шабруют.
Довели до зеркального блеска и уже другая хренотень – выпуклая такая – стала свободно входить и проворачиваться, туда-сюда…
Мозговой обрадовался – это ж на его участке трудовое достижение.
Ну, а тут Лёха из Подлипного, который недавно дембельнулся, в конце рабочего дня приставил к нашабренной поверхности зубило и говорит:
– Ну, что, Мозговой – долбануть?– и над зубилом молоток занёс.
А Мозговой в ответ усталым тонким голосом:
– Если ума нет, так – долбани.
Лёха пошутил, конечно, но Мозговой его не заложил, хотя и мог бы.
Начальник экспериментального участка Лёня – не помню фамилии. Широкую родинку на верхней губе помню, а фамилию – нет.
Про него ещё не знали – уважать его, или нет. Молодой ещё.
Он до недавних пор сидел за столом мастеров, на первом этаже перед дверью в бытовку, а потом закончил что-то там заочное и поднялся в кабинет начальства.
Потом шёл инженер-технолог, за столом спиной к окну. Но я его даже имени не помню.
И старший мастер Мелай, отец Анатолия.
У него был широкий, горизонтально прорезанный рот и он всегда молчал, в отличие от певучего сына.
Два раза в месяц в кабинет приходила кассирша с брезентовой сумкой – выдавать аванс и зарплату.
В самый первый раз она выдала мне аванс одними рублёвками – штук двадцать.
Когда я принёс свой первый заработок домой, то к приходу мамы разложил деньги на кушетке в кухне. Именно разложил. По одной.
Чтоб больше казалось.
Сказал:
– Мама, это тебе – распоряжайся.
А потом попросил два рубля на сигареты, но не сказал зачем.
Рабочий день начинался в восемь утра.
Мы проходили через тихий ещё Механический в свою бытовку, где вдоль трёх стен стояли фанерные шкафчики и ещё два ряда – спиной к спине – делившие бытовку пополам по продольной оси.
В каждом шкафчике два вертикальных отделения – для чистой одежды, и для полученной на год спецовки.
Поверх перегородки отделений шкафчика – полочка для шапки и свёртка с обедом.
Но мы обедать ходили домой – через забор перемахнул и за пять минут дома.
Пока мы переодевались в рабочее и перекуривали, в Механическом один за другим начинали включаться станки. Вой, перестук и громыханье их моторов сливались с визгом обдираемой резцами стали.
Дверь слегка приглушала какофонию трудовых будней, но потом она распахивалась и мастер Боря Сакун выгонял нас на работу; то есть к тискам, или к стеллажам во дворе, где мы, вроде бы, как бы при деле.
Оставшуюся часть дня Боря Сакун проводил сидя перед дверью в бытовку на лавке за столом мастеров, в который он упирался то одним, то другим локтем, непрерывно покуривая сигареты «Прима».
Невысокого роста, с поределыми волосами и какой-то обесцвеченостью в лице, он был всего лишь однофамильцем Влади, потому что оба отрицали какое-либо родство.
На него часто нападал приступ кашля и он стаскивал кепку на лицо и кашлял через неё в ладони.
Если приступ затягивался, он бросал кепку на стол и, воткнувшись в неё лицом доставал очередную сигарету, закуривал и кашель утихал до следующего приступа.
Иногда он подымался из-за стола, чтоб потянуться всем телом – такой мелкий на фоне громыханья Механического цеха, закуривал и снова садился.
Один раз он поманил меня пальцем и, перекрикивая рокочущий вой станков, начал рассказывать как после войны ходил на танцы в клуб Подлипного, а хлопцы стали присикуваться и он убежал, но они погнались и пришлось отстреливаться из кювета пистолетом «вальтер», а ещё на его глазах кончали всесоюзного вора в законе по кличке Кущ, который заехал в Конотоп, но за ним следили и на улице Будённого просто подошли и шмальнули в затылок, тут же и «воронок» подъехал, а ему, тогда ещё молодому пареньку Боре, сказали взять Куща за ноги и помочь закинуть в машину.
– Такого материала, как у Куща на том костюме и сейчас нигде не купишь,– докричал он, снимая пальцами с губ волоконце табака от сигареты «Прима».
Но Боря Сакун не всегда смотрелся таким несчастным и затурканным.
Однажды Владя зазвал меня в Лунатик, посмотреть как наш мастер занимается с балетным кружком.
В зале на втором этаже десяток девушек держались за поручень вдоль зеркальной стены и Боря наш вышагивал вдоль их строя как петушок карра, в коротком ромбовидном галстуке, а как показывал движенье, то закинул ногу чуть не выше головы.
Самое трудное время рабочего дня это последние полчаса.
В эти полчаса времени вообще нет – оно останавливается.
Лучше даже и не смотреть на эти круглые электрические часы над оконными переплётами в торцевой стене. Одно расстройство.
Так и хочется подтолкнуть застывшую стрелку соломинкой.
( … почему соломинкой – не знаю, но именно так мне тогда хотелось, хоть и понимал, что соломинка сама сломается, но не сдвинет эту железяку хренову …)
В Механическом мало-помалу затихают станки.
Слесари экспериментального участка поопирались спинами на свои тиски. Двухметроворостый Мыкола-старый высмаркивает свой лошадиный нос в комочек тряпочки землисто-пепельного цвета. В жизни б не подумал, что у него есть-таки носовой платок.
Мыкола-молóдый задумчиво колупает гнойнички прыщей на своих щеках.
Цок!
Без двадцати семи.
Смуглолицый Яша начинает рассказывать, как, освободив Конотоп, Красная армия забрала его в свои ряды.
Одиночный «шабашник» на точильном кругу не мешает течению спокойного рассказа.
Они бежали в атаку, а сзади для поддержки били наши «сорокопятки» и одному из наших яйца отстрелили.
Яша ладонью показывает траекторию полёта 45-миллиметрового снаряда.
Так он ещё с полкилометра пробежал, пока кончился.
Я вспоминаю как тоже ничего не чувствовал, а только прыгала земля перед глазами, когда мы в Зарнице атаковали косматый туман над полем и – верю Яше.
Он сдвигает кепку на затылок, открывая острый, как наконечник стрелы, уголок на лбу, откуда чёрные прямые волосы уходят назад под кепку.
Ни единой сединки. На вид вдвое моложе Бори Сакуна.
Боря Сакун говорил, что когда устанавливали телевышку, на самой верхней секции что-то не заладилось, а зима, мороз, так Яша скинул кожух, влез туда и оправил как надо.
Мыкола-старый на две головы выше него. Они, типа, приятели – после работы едут домой одним и тем же дизель-поездом, только до разных остановок.
Цок!
Без семи. Можно идти переодеваться.
Чепа тоже бросил техникум и поступил к нам на участок. И правильно, стипендию он не получает, а за диплом потом придётся ехать и где-то отрабатывать. Кому надо?
Так что три Орфея вместе, а Чуба в Вагоно-ремонтном. Иногда встречаемся.
Мы продолжаем играть на танцах.
Даже когда Владя пришиб молотком палец.
Клуб платит нам по тридцать шесть рублей в месяц. Вроде мало, а что делать?
Заикнулись Павлу Митрофановичу, так говорит, вон электрогитару купили за сто пятьдесят рублей – откуда теперь вам деньги возьму?
Гитара – класс, такая маленькая, аккуратная, а звучит – потолок! «Йоланта» называется, не то что из журнала «Радио».
Потом директор послал меня вместе с киномехаником Борисом Константиновичем в город Чернигов, привезти ещё две электрогитары с тамошней музыкальной фабрики – бас и ритм.
Павел Митрофанович договорился в заводоуправлении и меня освободили с работы на два дня, потому что в Чернигов долго ехать.
Мы там переночевали в гостинице, как командировочные, а утром – на фабрику.
Очень долго пришлось ждать, но потом принесли гитары. Даже без чехлов. Чёрные, лакированные. Намного тяжелее «Йоланты».
Видно фабрика ещё не освоила электрогитарное производство.
Но про бас-гитару Чуба сказал, что пойдёт.
А в следующий понедельник Владя с утра начал агитировать, чтоб мы освободились от работы по состоянию здоровья.
Пойдём в заводской медпункт и скажем, что вчера играли на свадьбе и у нас теперь отравление желудка. Колбаса оказалась несвежая.
Только надо всем вместе идти и говорить одно и то же.
Нашли мы Чубу в Вагоно-ремонтном и вчетвером пришли в медпункт с дружной жалобой на свадебную колбасу.
Нас там посадили на стулья и медсестра принесла банные тазики-«шайки», а потом ведро подогретой воды подкрашенной марганцовкой.
Доктор сказал нам пить её литрами, а потом совать два пальца в рот, поглубже, до самого корня языка – и это нас спасёт от отравления.
У Чубы с Чепой кризис миновал ещё до начала промывания желудка и они разошлись по рабочим местам.
Но мы с Владей стойко продержались до конца процедуры и выбросили в тазики всё, чем завтракали в то утро.
За наши старания доктор выписал нам освобождение до конца рабочего дня.
Пока мы переоделись и дошли до проходной, начался обеденный перерыв.
Выходит мы себе вырвали всего четыре часа свободы, а завтра с утра опять на работу.
Павел Митрофанович сказал, что Клуб покупает электроорган «Йоника» и с нами теперь будет играть Лёха Кузько.
Лёха – сын Анатолия Ефимовича Кузько и тоже баянист.
У него рыжеватые редеющие волосы и песняровские усы скобочкой, чтоб не так бросался в глаза его чересчур горбатый нос, свёрнутый в давней драке. Из-за этого носа кличка у него – Рог.
Он на семь лет старше нас, но свой парень. Приглашал к себе домой послушать магнитофонную запись «Белого Альбома» Beatles.
Его отец, Анатолий Ефимович, во дворе своей хаты построил ему двухэтажный дом из красного кирпича.
На первом этаже гараж, а на втором кухня и две комнаты. Живут же люди.
Но машину он ему не купил, потому что Лёха бухáет по чёрному, оттого и жена Татьяна ушла от него вместе с ребёнком.
Пока слушали «Beatles», Лёха дал посмотреть толстую книгу «Учебник Судебно-медицинской экспертизы».
На пожелтелой бумаге страниц много чёрно-белых фотографий с пояснениями, в основном одни трупы.
Но он раскрыл в одном месте десятка два мелких снимков – как для паспорта – в несколько рядов, они показывают разницу между нетронутой девственной плевой и повреждённой.
( … наверное, именно тот учебник отбил во мне интерес к порнографическим изданиям. Страшно мне: сейчас вот переверну страницу в журнале «Playboy», а там – убийство с помощью ножниц, или удавленник на перекладине табурета …)
Домой на обед мы ходили в спецовках – зачем обтрёпывать чистое об бетонную стену вокруг завода?
Согрев на керогазе суп, или вермишель, я приносил обед на кухню и тут уже снимал спецовочную куртку и штаны, оставаясь в трусах и рубашке.
Дома всё равно никого, родители на работе, младшие в техникуме.
Спецовку я снимал потому, что после обеда оставалось минут десять до выхода обратно. Не садиться же в грязном на диван или в кресло.
В эти десять минут я наяривал на гитаре и орал разные песни для развития вокальных данных, которых у меня не было и нет.
Но я всё равно пел, да простит меня Беата Тышкевич, польская красотка из цветного журнала, приколотая вместе с чёрно-белой фотографией группы «Who» над диваном.
Однажды доголосился до того, что началась эрекция и, ухватив линейку забытую младшими на столе под окном, я замерил длину своего члена.
Слесарное дело прививает уважительность к точному знанию.
После одного из обеденных перерывов, когда мы с Владей вернулись в цех, Чепа сидел за столом перед дверью бытовки вместе с мастером и незнакомым мужчиной в чистом.
– Вот они,– сказал Боря Сакун и незнакомец пригласил Чепу и нас пройти вместе с ним.
Мы последовали за его атлетической фигурой в клетчатой рубашке.
Был жаркий октябрьский день, поэтому мы тоже шли без курток, а в футболках и спецовочных штанах.
По прощальным ужимкам Бори Сакуна мы догадывались, что нас ведёт представитель власти, но понятия не имели почему.
Навстречу от центральной проходной шли припоздавшие из заводской столовой на площади за воротами.
Всё как обычно, только мы выдернуты из заведённого течения жизни завода и отделены от неё.
– Куда это вы намылились?– спросил с улыбочкой Пётр Хоменко из встречного потока рабочих, но, уловив резкий разворот идущего впереди нас мужчины в чистом, резко утратил весёлость и, не дожидаясь ответа, зашагал прочь по направлению к цеху.
– Это кто?– цепко спросил сопровождающий.
Я ответил, что это мой наставник и мы вышли через проходную.
Он сказал нам садиться в «волгу», где сквозь стёкла уже виднелся Чуба и отвёз нас в Горотдел милиции рядом с Паспортным столом.
За воротами Горотдела оказался широкий двор в окружении одноэтажных зданий барачного типа.
Нас развели по разным кабинетам разных зданий и начали задавать вопросы и записывать наши ответы.
Конечно, писалось не всё подряд. Например, у Чепы допрос начинался так:
– Знаешь этого долбоёба?
– Какого долбоёба?
– Того, что вас сюда привёз.
– Нет.
– Это начальник уголовного розыска.
– Не. Не знаю.
А мне попался именно этот начальник.
Он сидел за большим столом, мускулистый, с прилегающей к черепу причёской русых волос и спрашивал кто вчера был на репетиции в комнате Эстрадного ансамбля.
Кто уходил последним.
Кто подходил к шкафу, где хранился такой дорогой немецкий баян с четырьмя регистрами.
Он всё время записывал, а когда отвечал на телефонные звонки, то прижимал трубку к уху плечом, как Марлон Брандо в роли шерифа.
Допросив всех, нам сказали, что мы свободны и можем возвращаться на работу.
Мы потопали вверх к Универмагу, потом налево через площадь Мира.
Четыре Орфея в измазанных спецовочных штанах и старых линялых футболках.
По проспекту Мира мы шли не торопясь – рабочий день кончается в пять.
На Зеленчаке мы малость побесились. Начали прыгать друг на друга как мазандаранские тигры и драть футболки на теле.
Не унимались покуда на каждом не подрали в клочья, от ворота до пупа.
Ну, и что? День солнечный, тёплый. Завязали их на животах узлами и пошли, как хиппари, дальше.
А первым Чепа начинал.
Наверное, потому что у него такая грудь волосатая.
На следующей неделе, по пути с обеда на завод, я, как всегда, зашёл к Владе.
У соседа в их дворе только что сдохла курица и Владя предложил оттащить её в цех и повесить в бытовке.
Для хохмы.
Этот план не слишком-то меня воодушевил, но я всё равно помог Владе переправить её в завод.
Для стенолазания нужна свобода рук, а когда несёшь газетный свёрток с курицей нечем хвататься за дырки в бетоне.
Посреди потолка бытовки свисал электропровод для лампочки, которой там не было, да и патрона тоже.
Владя взял чью-то незавершённую «шабашку» под окном, опёр её на срединный ряд шкафчиков, взобрался сверху и обмотал безработным проводом курицу за шею.
Там она и застыла, развесив грязно-белые крылья поверх костлявых дохлых ног.
Перерыв кончился, в Механическом начали заводиться станки и в бытовку зашёл чернявый плотный слесарь с ремонтного участка.
Увидав бездыханное пернатое, он почему-то не засмеялся, а тут же вышел.
На смену ему в дверь влетел мастер Боря Сакун.
Сдвинув брови и раскрыв рот в виде маленькой буквы «о», он две секунды снизу вверх смотрел на птицу, а потом развернулся к нам:
– Волосатики! Суки! Ваша работа!
Он почему-то называл нас «волосатиками».
Мы поотнекивались, но потом Владя снял и унёс курицу – зашвырнуть куда-нибудь.
Вобщем-то, по большому счёту, Боря был прав – всего даже при двух свидетелях к концу рабочего дня весь Ремонтный цех знал, что волосатики повесили в бытовке курицу. А повиси она там хотя бы час, через неделю по Конотопу ходили бы глухие слухи, что на заводе КПВРЗ кого-то повесили в бытовке.
Мы с Ольгой перестали провожаться до хаты её тётки.
Нашлось более подходящее место, вернее она его показала.
Чуть дальше по Будённого тупик налево, что заканчивался железными воротами нефтяной базы.
Вблизи ворот, вдоль забора на обочине, стояла парковская скамейка. Кто и когда приволок её – неизвестно, но место выбрали удачно, чтобы не падал свет от фонаря возле ворот.
Вобщем, есть где без помех выкурить сигарету в задушевном разговоре.
Там я заочно познакомился с конотопскими родственниками Ольги.
Мать её сестры сразу после войны служила связисткой при штабе расквартированном в Польше. Когда её демобилизовали, она не вернулась на родину, потому что вышла замуж за поляка, родила ребёнка и осталась жить среди поляков.
Спустя четыре года она приехала в Конотоп на похороны кого-то из родителей.
Обратно её уже не выпустили, несмотря на то, что её малолетняя дочь оставалась в Польше, а сама страна входит в содружество социалистического лагеря.
Так что, теперь она не знает что там с её дочкой и мужем, потому что ни на одно из своих писем не получила ответа.
Потом тётя Нина расписалась с дядей Колей; он не пьёт и на хорошей работе – в лесхозе, только ему часто надо уезжать на своём мотоцикле с коляской.
Зато вон какую хату отгрохал – три комнаты и кухня.
Детей у них нет и они взяли приёмную дочь. Её назвали Олей и очень любят, недавно пианино купили, хотя в одиннадцать лет уже, наверно, поздно.
Тётя Нина работает на мясокомбинате в три смены.
До него идти два километра вдоль железнодорожных путей.
Зато им не надо покупать мясо на Базаре.
На проходной мясокомбината сумки, конечно, проверяют, но в трусы не заглядывают.
Ещё на той скамейке мы говорили об искусстве.
Например, обсуждали фильм «Ромео и Джульетта», после совместного просмотра в подвальном кинозале Лунатика.
– Что они там говорят – ничего не понятно, а слёзы так и бегут – реву, как дура какая-то…
( … и очень даже чёткая оценка – ведь непривычным слухом воспринимать стихи неимоверно трудно, и пусть знакомы все слова, они, смешавшись, словно кости домино для партии в «козла», верлибром заслоняют смысл, что многие из знатных дам Вероны, тебя моложе, уж детей имеют …)
И именно там (это я всё ещё про скамейку) Ольга загарпунила меня всерьёз и надолго.
Всего одна лишь фраза, но если ты родился недотёпой-графоманом, тебе – капут:
– Вчера я записала в своём дневнике: «когда он целовал меня на прощанье, я была безмерно счастлива».
Опаньки! И ты влип безвозвратно.
Во-первых, за многие тонны перечитанной литературы мне ни разу не попались слова про «безмерное счастье».
Во-вторых, она ведёт дневник!
В-третьих, в дневнике пишется про меня!..
После танцев мы иногда провожались на крыльцо хаты, в которой жила её подружка Света.
В такое позднее время в Конотопе жильцы хат во двор уже не выходят и, когда Света, похихикав, уходила спать, крыльцо с узкой лавкой вдоль бортиков из доски-вагонки оставалось в нашем распоряжении…
В один из таких вечеров Ольга сказала мне подождать, пока она уйдёт к себе, потому что тёте Нине сегодня в третью смену, а дядя Коля в отъезде по району.
Я долго ждал, пока услышал как звякнула клямка калитки за уходящей на работу тётей Ниной.
Ещё через пару минут пришла Ольга и без слов поманила идти за ней.
Мы с оглядкой прошли по переулку и беззвучно вошли во двор её хаты.
Дверь из веранды вела в большую кухню, отделённую портьерами от ещё бóльшей гостиной, за которой, и тоже за портьерами, была спальня Оли и Ольги.
Туда мы не пошли, а свернули в спальню хозяев, налево от входной двери.
Ольга включила неяркий ночник и ушла в спальню за гостиной.
Я остался наедине с отблескивающей никелем спинок широкой двуспальной кроватью парадного вида и с более будничной, полуторной, рядом со шторами дверного проёма на кухню.
Я изнывал от напряжения.
Ольга вернулась в халате не застёгнутом на пуговицы.
Не сговариваясь мы посмотрели на полуторную и она погасила ночник.
Под халатом из одежды на ней были только трусики.
Я поспешил привести количество своей одежды в соответствие с её.
Потом последовала долгая молчаливая борьба за каждый из рукавов её халата.
Наконец, я отшвырнул эту преграду на стул у стены и свёл одёжный счёт к ничейному «один : один».
Когда я обернулся к ней, она лежала тесно скрестив руки на груди. Холодно!
Пришлось перебраться под покрывало.
Возни с трусиками оказалось не меньше, чем с халатом.
И вот мы оба голые.
Жарко!
А потом…
Потом она бешено извивалась подо мной, отталкивала мои руки.
Мне оставалось только тереться между её ляжек и об кустик волос не зная что к чему, но чувствуя – ещё немного и…
О!
Опять вывернулась…
( … я бы смог, честное слово, просто не успел.
В ту ночь кукушка в ходиках на кухне сошла с ума и выскакивала со своим «ку-ку» каждые две минуты, и вот уже кукует шесть и сейчас Оля встанет собираться в школу, и мне пора по-быстрому одеваться и уходить, пока не вернулась тётя Нина …)
Конечно, мы позволили себе хоть и не всё, но чересчур много.
Мы зашли слишком далеко и нам не осталось пути обратно.
Просто провожаниями уже не отделаться. Объятий с поцелуями слишком мало.
Но где?
И когда?
Седьмого ноября, сказала Ольга, после демонстрации, которую Оля пройдёт со своей школой и дядя Коля отвезёт её и тётю Нину в своё село.
Это значит, что ей – не отвертеться; кукушке – не спугнуть меня.
Вся ночь – наша.
Седьмого утром я зашёл за ней – мы тоже выйдем в город.
Она наводила марафет – карандашом по бровям, тушью по векам.
Мы были одни, но когда я полез с объятиями, она отклонилась и сказала – зачем?
Хата и так будет наша, вот только…
Я обмер – неужто скажет, что у неё менструация?
Короче, если я хочу чтоб было, ну, сам знаю что, то я должен выполнить одно условие.
– Что? Говори!
Сейчас, перед выходом в город, она накрасит мне глаза.
Ни хрена себе!..
Хотя хорошо, что не менструация…
Геракл бы меня понял. Его – победителя немейского льва, лернейской гидры, критского быка и прочих чудищ, одна бабёнка, Омфала, заставила обрядиться в женское платье и прясть куделю в гинекее, поправ всякое мужское достоинство.
Хоть в чём-то и я сравняюсь с этим нечеловечески сильным полубогом.
Я – согласен!
Синие тени положила она мне на веки, чёрной полоской туши провела стрелки поверх ресниц.
И мы вышли в город.
( … это теперь, после «голубых» и «розовых» революций, после возведения Элтона Джона в рыцарский чин, после душки пирата Джека Воробья люди стали понятливее.
В те времена им требовалось два, а то и три взгляда, чтоб догадаться что во мне что-то не так.
Потом кто пожимал плечами, а кто-то смеялся …)
Боря Сакун, вышедший из своей пятиэтажки на Зеленчаке, бодро приветствовал меня, но, приглядевшись, вдруг поменялся в лице.
Неподдельный испуг исказил поношенные черты лица мастера, недопроизнесённое «волосатик!» застряло в глотке и он убежал обратно в здание своего места жительства.
( … а ведь это человек переживший разгул бандитизма со всякими там «чёрными кошками» в послевоенном Конотопе!
Или именно поэтому?..)
– Ты больной и не лечишься,– без обиняков заявила встреченная нами моя младшая сестра Наташа.
…а мне плевать – мне очень хочется…В Центральном парке на Миру Ольга достала свою косметичку и смыла с меня раскраску.
Хватит Гераклом прикидываться.
Потом подошла Чепина подружка Нина со своей подружкой Ирой и они втроём ушли поискать место для курения.
Ко мне подвалили знакомые хлопцы с Посёлка.
Они уже полным ходом праздновали. Им было хорошо.
Они хотели, чтобы и Орфею с Посёлка тоже было хорошо.
Они содрали крышку с непочатой винной бутылки и протянули её мне.
За всё в этой жизни приходится платить, даже за популярность.
Я прощально посмотрел на солнце, запрокинул бутылку и начал пить с горлá.
Потом бутылка пошла по кругу.
Потом мы пошли к гастроному ещё за вином.
Потом мне стало плохо и я ушёл домой.
Проснулся я в маленьком сарае на железной кровати, что перекочевала на место «явы», когда Архипенки съехали в свою квартиру.
Мой «дачный» сезон уже миновал, но кровать оставалась в сарае. И, кстати, оказалась очень кстати.
Проснулся я в плаще и обуви, но это не важно – кровать без белья.
Важно, что я не проспал. Сегодня мы играем прощальные танцы в Парке.
Только туда ещё надо дойти, а меня так корёжит, во рту пакостно сургучный привкус и ломит в затылке.
Я всё-таки дошёл, когда все уже таскали аппаратуру.
Лёха начал возбухать, что я опаздываю и Ольга тоже прицепилась: «Куда ты там делся?»
Я объяснил, что мне очень плохо и Лёха сказал, что мне надо выпить и – пройдёт.
Меня передёрнуло от одной лишь мысли, но Ольга с Лёхой стали смеяться, а Юркó – тот с виду пацан, который у Ольги в адьютантах, сгонял в гастроном и принёс вино.
Я заставил себя сделать несколько глотков и – о, чудо! —я ожил.
Всё как рукой сняло.
Ольга, Лёха и Юркó допили бальзам и мы начали играть танцы.
Танцы закончены, аппаратура перевезена в кассу.
Мы с Ольгой вышли из Парка и, свернув налево, прошли до её переулка.
Вот и третья хата от угла.
Я по-хозяйски подвожу Ольгу к калитке и она вдруг – отшатывается…
По возрасту я на два года старше Ольги, но мне всегда казалось, что наоборот.
Она знала больше всего того, что я вычитал в книгах. И у неё был авторитет.
Если кого-то из подружек нашего окружения задевали посторонние чувихи, то она обращалась к Ольге за помощью. Ольга шла и ставила тупых на место.
Редкий вечер на танцах обходился без драк.
Играем и вдруг с площадки многоголосый долгий визг, но совершенно не в такт тому, что мы играем.
В плотной массе отдыхающей молодёжи образуется круг свободного пространства, где мельтешат кулаки.
Взвихренный круг быстро перемещается по танцплощадке, сопровождаясь визгом девушек, уступающих ему место.
Мы прекращаем играть и призываем дорогих друзей к соблюдению порядка.
Побеждённый в одиночку или в кольце друзей проталкивается на выход.
Чепа задаёт темп палочкой о палочку и мы начинаем играть следующий номер.
Девушки на площадке не дрались, они приглашали друг дружку выйти.
Ольга вышла всего пару раз и стала авторитетом, потому что в Феодосии она с тринадцати лет ходила на танцы и время на пустые разговоры не тратила.
Теперь если какая-то отмороженная задевала подружек нашего круга, упоминание имени Ольги заставляло её осознать свою промашку и она затыкалась.
А ещё Ольга казалась старше из-за внимательного к ней отношения со стороны мужиков.
Одни раз после танцев, когда мы сматывали шнуры и кабели на сцене, на площадку забежал перепуганный хлопец, пересёк её и перемахнул через ограду в Парк.
В последний момент преследовавший его здоровяк лет под тридцать успел нанести удар вдогонку и беглец неловко свалился в кусты, но сразу же вскочил и убежал.
– Ещё поймаю, сука!– сказал триумфатор и, обращаясь к стоявшей возле сцены Ольге, добавил:
– Правильно, рыжая?
– Сам ты это слово,– дипломатично ответила Ольга и тот кичливо покинул танцплощадку.
Вот из-за всего такого я и чувствовал себя младше неё.
Но в тот миг, когда она вздрогнула у калитки тёмной хаты, это ощущение исчезло и всё стало на свои места.
Рядом с её испугом я почувствовал себя старше и сильнее неё. Мне стало её жалко. Ведь младших надо оберегать и защищать.
Даже от самих себя.
Я покровительственно обнял напуганную девчонку и, не заходя во двор, ушёл.
По пути на Нежинскую я знал, что поступил правильно и был доволен собой, но, в то же время, не мог не согласиться с диагнозом от моей сестры Наташи «ты больной – и не лечишься».
Седьмого ноября кончилось необычно затянувшееся бабье лето и мы перешли в Клуб, играть там танцы.
На втором этаже, в крыле напротив кинозала, тянулся зал Балетной секции.
Протяжённость его составляла метров сорок; от двери до небольшой эстрады у дальней торцевой стены.
Эстрада предназначалась не для концертов, а для вечеров отдыха, поэтому над полом Зала она возвышалась всего на пару продольных ступеней, для подъёма отдыхающих на зов массовика-затейника принять участие в каком-то конкурсе и окультурить мероприятие. Вертикальные решётки из тонких труб под чёрной краской отграничивали эстраду с двух сторон.
Позади труб висели чуть присобранные занавеси-кулисы.
В центре Зала, вверху, среди окрашенных чёрным кузбасс-лаком швеллеров несущих конструкций крыши, был закреплён большой белый шар, оклеенный осколочками зеркала.
Когда, подсвеченный прожектором, он вращался своим электромотором, то по стенам и полу Зала плыли многоугольные световые зайчики.
Продольные стены состояли, в основном, из окон, под которыми тянулся поручень для учеников балетному искусству, и, как положено в балетных школах, стена напротив эстрады состояла из плотно подогнанных зеркал.
Идеальное место для чего угодно, начиная с новогодних утренников для садиков и школ Посёлка и до школьных выпускных вечеров, заводских вечеров отдыха и, конечно, танцев.
Правда, танцы же и обнаружили слабое место идеала – его пол.
Он был покрашен красной краской и под подошвами пары сот танцоров та превратилась в мелкую пыль и облезла меньше, чем за месяц.
Но директор Павел Митрофанович сказал, что это ничего.
За занавесями по сторонам эстрады разместились здоровенные колонки из парковского летнего кинотеатра и звук они давали – закачаешься.
Наши фигуры с гитарами виднелись в далёкой зеркальной стене поверх ритмичного колыхания голов; в неярком свете плавали зайчики от шара и всё шло ништяк.
Вот только Чуба пыхтел и недовольствовал – звук его бас-гитары из двух небольших чёрных колонок на эстраде терялся за мощью парковских ящиков с динамиками по полметра.
Лёха сказал, что у него есть знакомый, у которого есть низкочастотные динамики для баса, но нужен материал – сделать для них ящик.
И он же подсказал место, где запросто найдётся нужный материал – завод. Ведь всего-то и надо – лист толстой фанеры два на полтора метра.
Мы, заводская часть Орфеев, приступили к осмыслению и обсуждению стоящей перед нами задачи.
В Ремонтной цеху фанеры не найти – всё, с чем мы имеем дело это – железо.
Фанеру надо искать в Вагоноремонтном, где работает Чуба. И он сказал: да, фанера есть в вагонах пригнанных на ремонт и он может сорвать там подходящий лист, но как вынесешь из завода?
Предложение раскроить по размерам ящика и перебросить через забор на Профессийную он отклонил. У его мастера сразу возникнут ненужные вопросы – откуда взят столь дефицитный материал в таком количестве?
Оставался единственный путь – вынести лист целиком через здание Клуба, где боковая дверь в завод, рядом с комнатой художников, всегда нараспах.
Но и на этом пути имелись заковыки – Вагоноремонтный расположен в противоположном от Клуба конце завода.
Тащить через весь завод?
Пойти на подобный риск Чуба отказывался. Опять всё целиком ложилось на наши с Владей плечи.
Ну, не так чтобы совсем целиком. Лист-то Чуба всё же сорвал и, уходя, забыл запереть дверь вагона, как полагается по инструкции.
Через полуоткрытую дверь я и Владя проникли внутрь, где, в указанном Чубой места, обнаружили искомое сокровище – стандартный лист фанеры толщиной в тридцать миллиметров.
Немного загрязнился в двух местах, но это неважно.
Мы вытащили его из вагона и, ухватив за края, понесли по гравийной отсыпке вдоль путей, а затем и по асфальтным дорогам между цехами.
По пути мы уговаривали друг друга, что лист не так уж и тяжёл и что ничего тут такого особенного, если двое рабочих несут его по заводской территории.
Хотя лично нам ни разу не приходилось наблюдать подобную картину. Обычно, грузы между цехами перевозились на автокарах.
Когда до Клуба оставалось всего ничего – Кузнечный цех, общезаводская баня, здание пожарной команды, станция заправки кислородных баллонов и здание медпункта – к нам по дороге от Механического подбежал Чепа, сказать, что Боря Сакун послал за нами и, если мы тут же не явимся, нас уволят.
Это было что-то новое – Боря никогда не бросался подобными угрозами. Может опять приехал начальник уголовного розыска?
Мы опёрли лист на закопчённую стену Кузнечного цеха; недалеко от привинченной мраморной дощечки о том, что в 1967 г., в год пятидесятилетия Советской власти сюда было спрятано послание рабочим КПВРЗ, которые будут трудиться тут в год столетнего юбилея Октябрьской революции.
Убедившись, что наш лист не мешает движению автотранспорта, мы пошли в Ремонтный.
Боря разбушевался сильнее Фантомаса – где мы шастаем, когда он весь участок отправил на «заготовку»?
Да, заготовка это не шутки.
Заготовка, это, типа смотра рядов. Это когда уже точно все при деле.
Слесаря Экспериментального участка в полном сборе, с бумажкой заявки на нужный материал, отправляются к Центральному складу, где, позади заводской бани, свалены вдоль путей вороха арматуры различного диаметра, кипы металлического уголка мощного профиля, кучи труб сечением не менее десяти сантиметров.
Потом туда приезжает по рельсам коренастый железнодорожный кран и свешивает свою стрелу с чёрными тросами строп над всеми теми грудами металла.
Двое из наиболее опытных рабочих, вооружившись ломом, захлёстывают стропами нужные трубы, уголки и арматуры.
Остальные подают советы с безопасного расстояния.
Кран со скрежетом вытаскивает обвязанное железо из куч железа перепутанного предыдущими заготовками и опускает на кузов автокара.
Работник склада сверяет примерное количество груза с указанной в заявке цифрой и даёт «добро».
Водительница возвращается к автокару с безопасного расстояния и гонит его в цех, скребя асфальт свисающими концами арматуры, труб или что уж там было в той заявке.
Заготовщики дружной гурьбой возвращаются в цех.
Вот и сейчас они показались в центральном проходе Механического, но нас нет среди них. Мы кругом виноваты, мы прогуляли «заготовку».
Хорошо, что Владя, как однофамилец, имеет подход к Боре и мы опять исчезаем из цеха.
Мы возвращаемся к своему листу рядом с мемориальной доской.
Тут уже стоит Мозговой и, глядя на фанеру, глотает слюнки.
Конечно, такой материал кому хочешь понадобиться.
Мы хватаем свою добычу.
– Куда это?– жалобным фальцетом вопрошает Мозговой.
– В заводоуправление,– небрежно отвечает Владя и мы тащим лист к центральной проходной, в двадцати метрах правее которой начинается здание Клуба.
Боковая дверь его, конечно, не заперта.
Мы вносим лист и прислоняем его к кипе афишных щитов напротив комнаты художников.
Когда после работы мы пришли в Клуб, чтобы переставить лист в свою комнату, кучерявый верзила завхоз Степан уже ходил вокруг него кругами.
Дефицитный материал надобен всем, даже бездельнику, кто за всю свою жизнь в руках не держал ничего тяжелее связки ключей.
Впрочем, это я не про Степана, он, говорят, раньше хорошим плотником был.
Это я про директора Клуба, что стоял рядом и позвякивал своей персональной связкой, науськивая Степана на нашу добычу.
Не мылься, Павел Митрофанович, бриться не будешь!
Зима навалилась как-то сразу. Сугробы легли, будто всегда тут и были.
Я зашёл за Ольгой перед танцами. Она представила меня всем в её хате, мне предложили раздеться и сесть, но нет, спасибо, нам уже пора выходить.
Ольга оделась и мы вышли.
Однако в Клуб ещё успеется – аппаратура с эстрады не уносилась, мы просто запирали Зал.
Так что имелся запас времени нам с Ольгой навестить скамейку возле Нефтебазы.
У неё в сумке оказалось вино. Мы выпили, но не много, а для сугрева и настроения, и по плотно укатанному снегу отправились в Клуб.
Уже ночью, тёмной и безлунной, но с утыканным звёздами небом, мы вернулись к недопитой бутылке красного вина в неприметном сугробе.
Оно оказалось до того холодным, что вовсе не грело и на вкус – тоже как лёд.
Мы немного выпили, но допивать не стали. Покурили.
Я расстегнул на себе пальто, она – своё и села ко мне на колени.
Друг с другом мы уже обращались как с личной собственностью.
Я мог запустить руку ей в колготки до самой выпуклой вогнутости, которую не нашёл в ту слишком короткую ночь.
Она запросто расстёгивала ремень моих брюк и все пуговицы, чтоб охватить ладонью мой напряжённый уд.
Всё как обычно, вперемешку с долгими, как затяжные погружения в иное измерение, поцелуями.
И вдруг что-то случилось и меня не стало.
Вышел из себя. Слился. С каждым толчком слиянье всё плотней. Меня тут нет, есть мы… Мы и больше ничего… не распознать… а и не надо… и всё плывёт… туман… как же это…Что?.. О!.. Ещё!
Связь оборвалась. Начали всплывать ночь, снег, скамейка…
Пара рывков вдогонку ускользающему новому миру показали – нечем вернуть, удержать, продолжать…
Мы распались. Снова она и я.
Я оглушённо поднялся.
Тот же фонарь. Искринки в сугробе. Чёрное небо. Уколы звёзд…
Когда не думает никто…
А шапка где? Ладно, потом…
17 ноября… 17 лет… ученик слесаря… потерял девственность…
А она?
( … не знаю до сих пор.
Какая разница?..)
Прощаясь с ней, такой вдруг притихшей, возле хаты тёти Нины, я осознал, что мой долг быть сильней неё, а всё остальное – отныне и во веки веков – я вовсе не обязан понимать.
( … вот, всё-таки, умею я красиво формулировать свои мысли.
Впоследствии.
Десятилетия спустя …)
На следующий вечер я пошёл в вечернюю школу рабочей молодёжи.
Она иногда посещала занятия, потому что тётя Нина требовала получить бумажку об окончании восьми классов.
Выйдя с урока, Ольга стала рассказывать до чего обильным оказалось кровотечение.
( … как будто это хоть что-то меняет.
Что толку во всех целках, обрезаниях, адюльтерах и верностях навек?
Что было – того нет.
Что есть – утратишь.
Чему бывать – того не миновать …)
Конечно, наша любовная связь не в силах была растопить снега и льды зимы, но пылала неугасимо.
Мы связывались при первом же удобном случае.
Заснеженная скамейка возле Нефтебазы нас скоро перестала устраивать – мешала её спинка.
Железный вагончик у крохотного катка в Парке просторнее, но приходится долго ждать, пока хлопцы разопьют вино, поумничают, смажут друг друга по морде – но без ножей – и разойдутся.
Нож доставать – себе в убыток; если Колян у кого нож увидит – забирает с концами и уже не вернёт.
Колян с Посёлка представитель всё более редкой породы богатырей.
Не слишком крупный экземпляр – всего метр восемьдесят, и совсем немногословный.
Хотя ему это не очень-то надо; глянь на эти кулаки по пуду весом – охота к лишним разговорам отпадает сама собой.
Тут даже из-за угла мешком пришибленный враз усекёт, что Колян его за шесть сéкунд уснéдает.
Среди своих, конечно, он что-то говорит, просто надо дождаться, пока закончит слово.
Меня он зауважал ещё с времён нашего с Ольгой «обручения».
Мы с ней тогда только ещё начинали встречаться.
Перед выходом в Парк я выпросил у своей сестры колечко.
Обычная бижутерная фигня с мелкой стекляшкой.
Она не хотела давать, еле выпросил всего на один вечер.
В Парке мы с Ольгой поднялись в кинобудку летнего кинотеатра – второй киномеханик, Гриша Зайченко, мне ключ давал.
Ольга, как увидала то колечко у меня на мизинце, сразу – кто дал?
Сестра, говорю, моя – малá.
Не верит. Дай посмотрю, говорит.
Я дал, а она его враз на палец – оп! Только не на мизинец.
Ладно, говорю, покрасовалась, а теперь снимай – я Наташке обещал вернуть, это от её парня.
Ольга пробует снять – а ни в какую!
Крутит его, тянет – не слазит кольцо и всё тут.
Намучилась она с ним, по микрону через сустав протаскивала.
Когда, наконец, я то кольцо в карман положил, нам уже не до свидания было – ей больно, а мне её жалко.
Запер я кинобудку и мы ушли.
А Колян в это время в кассе летнего со сторожем бухáл и увидел кто это сверху спускается…
А что ему оставалось подумать, если из окошечка кинобудки полчаса на весь летний кинотеатр женские стоны шли:
– О! У! М-м! Ай! Мама!
Вот он и подумал: откуда в такой мелкоте как я… этта.. типа… столько берётся?
Вобщем, он меня зауважал.
Так что в железном вагончике, когда блатва наговорится, что пора бы подловить и выбить бубну городским хиппарям, чтоб сильно так не хипповали, и разойдутся довольные тем, какие они крутые; надо ещё дождаться пока Колян договорит свои объяснения куда, ну, этта, ключ от вагончика, вобщем, типа, прятать.
Самые тёплые чувства оставил длиннополый кожух тёти Нины, в котором Ольга как-то вечером вышла из хаты.
Мы спустились в Рощу, на ровный лёд замёрзшего Болота и это было хорошо, но, как всегда, мало.
На заводе истёк срок нашего ученичества и мы стали получать по семьдесят рублей в месяц – почти как все.
При рубке железа зубилом мы уже не расшибали пальцы в кровь и нам – волосатикам – даже доверили изготовление изделия с нуля.
Это интересно.
Неосязаемая, умозрительная мысль переходит в наглядные линии чертежей с бессчётными цифирьками размеров.
Согласно этим цифрам, мы упрашиваем газосварщика нарезать нужные куски из 20-миллиметрового листового железа, упрашиваем разметчика прокернить контуры, упрашиваем строгальщика обстрогать по разметке, упрашиваем сварщика приварить эту к этой, а ту – сюда…
Зачем столько просьб?
Да, потому что все же ж при деле, некогда…
Иногда от просьбы до исполнения приходится недели ждать, или просить заново.
И вот остов изделия на стеллажах начинает обрастать деталями и в нём уже что-то вырисовывается.
Мастер перестаёт нас на каждом шагу называть волосатиками, а слесаря меньше подначивают насчёт запуск нашего «лунохода».
Начальник участка забирает у нас уже порядком загрязнившуюся папку с чертежами и передаёт её Яше и Мыколе-старóму, чтобы более умудрённые умельцы довели бестелесную мысль до окончательной осязаемости.
Это обидно.
А следующее изделие мы запороли.
Потратили уйму материала, собрали, поприваривали, а Боря Сакун посмотрел в чертежи и говорит – что-то не то.
Инженер-технолог из кабинета над бытовкой с ним согласился – точно, не то.
А что именно «не то» понять не могут – размеры, вроде, все соблюдены.
Позвали автора чертежей из конструкторского бюро. Тот смотрел-смотрел и – догадался!
Мы сделали всё точно, но в зеркальном отражении.
Пришлось разбирать.
После Нового года с нашего участка послали командировочную бригаду в село Семяновку на сооружение кормоцеха.
Шефская помощь в составе мастера Бориса Сакуна, Мыколы-молóдого, Васи и меня.
В первое утро, когда мы выехали в Семяновку на заводском грузовике с брезентовым верхом, был жуткий гололёд.
Водитель ехал медленно, чтоб не заскользить, а из густого тумана на обочине проглядывали брюха перевёрнутых на бок машин, чьи водители не справились с управлением.
Но людей – ни души. И – тишина.
Прям тебе панорама Сталинградской битвы.
Кормоцех – это серый корпус из двух секций за селом на отшибе. Вокруг зябкое поле с обветренным снегом.
Котельная не работает, надо ещё шлямбуром долбить в стене проём для труб.
В соседнем полутёмном зале стылое железо бункеров и оцепенелых ленточных транспортёров.
Две недели мы туда ездили стучать железом о железо, бить дырки в стенах, подтягивать транспортёры и дремать над раскалённой электроспиралью в котельной.
В одну из таких дрём я почувствовал вдруг как мне в мозг вонзилось острое шило.
Вскинувшись, я увидал довольное хохочущее рыло Васи и кусочек тлеющей ваты на полу.
Это её дым зашёл мне через ноздри до мозга.
Мастер с Мыколой тоже посмеивались, но без того восторга, как у Васи.
Тридцать лет придурку, а хернёй мается.
Один раз Мыкола принёс сырых картошек из заброшенного бурта на поле. Решили испечь от нечего делать.
Боря послал меня пособирать в здании какие остались обломки досок после строителей.
Вася с Мыколой развели костёр из собранного мной топлива, ещё и какую-то солому нашли для растопки.
Снятые с петель ворота весовой не мешали ветру врываться и вертеть туда-сюда дымом.
Мы постояли вокруг костра на сквозном ветру из белого поля под серым небом и мастер, обращаясь к Мыколе, изрёк:
– Через четыре года я уйду на пенсию, но эта латата ещё не сготовится.
Он бросил в огонь окурок «Примы» и отошёл трещать и слепить округу электродом электросварки.
Красивое слово «латата», я никогда не слыхал, чтоб так называли картошку.
Теперь мастер электросваркой балуется. Вася обрезки труб поддерживает, чтоб тот прихватил. Мыкола дым у коста глотает. А мне что делать?
Взял я кусок мела, что мы специально привезли – на трубах отметки делать, и начал рисовать на снятой с петель половинке ворот.
Старался, как мог.
Пожалуй, получился самый удачный рисунок за всю мою жизнь. Почти в натуральную величину.
Ню, разумеется.
Бёдра, груди, волосы за спину. Треугольник такой аппетитный. И взгляд зазывно приспущен.
Хороша! Ни убавить, ни прибавить.
А мел ещё не кончился.
Вот я и приписал сбоку печатными буквами «БОРЯ, Я ЖДУ ТЕБЯ!»
Потом я отошёл к костру – ветер ноги-таки пробирает.
Мыкола рядом стоит и хихикает, на ворота глядя.
В этот момент Борис Сакун вынул своё лицо из чёрного короба маски сварного и проследил взгляд Мыколы на ворота.
То, что выразило лицо Бориса миг спустя, не в силах передать никакая система Станиславского.
– Кто-о-о?!!
Мы с Мыколой стоим, непонимающих из себя строим.
Вася, что рядом с мастером на корточках сидел и обеими руками трубу придерживал, опустил глаза в пол, но при этом его нос, похожий на пятачок Нуф-Нуфа, вдруг превратился в широкий указательный палец и навёлся на меня, как стрелка компаса.
– Сука!!!
Во мне сработал инстинкт самосохранения и я метнулся в зал транспортёров, а следом по цементному полу со звоном прокатился обрезок трубы.
Всё у него «сука» да «сука», тоже мне, вор в законе нашёлся.
Мастер по городошному спорту.
Я вернулся минут через десять.
Слово «БОРЯ» на воротах было затёрто услужливой Васиной рукавицей.
Остальное осталось как было.
Не поднялась рука вандалов на шедевр.
Мы играли в Зеркальном зале. Лёха сидел впереди – за «Йоникой»; Чепа позади него за своей «кухней», Чуба подёргивал струны баса, недвижно уставясь в зал.
Медленный «белый» танец – приглашают девушки.
Владина девушка Рая пригласила его и увела танцевать под плывучими зайчиками от осколочно зеркального шара.
Я, в полуприседе на захлопнутое пианино, играю партию ритм-гитары.
Позади пианино стоит Ольга сложив руки поверх крышки над струнами. Ей скучно.
– Поцелуй меня,– говорит она.
Я поворачиваю голову влево и через плечо, и через пианино сливаюсь в долгом поцелуе с её тёплыми мягкими губами.
Мои пальцы и без меня знают когда и на какой аккорд переходить.
Публичный поцелуй окончен, можно перевести дух.
– Ой! Мама!– вскрикивает Ольга.
Это стало началом конца.
Среди танцующих пар действительно стояла её мать, неожиданно приехавшая забрать её в Феодосию.
А с другого конца нашей необъятной родины, из другого портового города – Мурманска, в Конотоп прибыла группа «Шпицберген», чтобы начать играть танцы в Лунатике по договорённости с директором ДК Бомштейном.
«Шпицы» сделали нас в две недели, через две недели Зеркальный зал Клуба КПВРЗ был пуст, потому что толпа ломанулась на танцы в Лунатик.
Там из концертного зала на втором этаже, где когда-то шли КВНы, вынесли кресла и получился паркетный танцзал. Но дело даже не в этом.
У ресторанной группы из Мурманска, в составе из четырёх музыкантов от двадцати до двадцати пяти лет, была фирменная аппаратура, орган «Роланд» и самое главное – они пели. И пели они в профессиональные микрофоны с эхом.
– Раз! …ас-ас-ас… Два!…ва-ва-ва…
«Орфеям» с их домодельной экипировкой пришёл «гаплык».
Да, оставались ещё концерты, «халтуры», но танцы увяли на корню.
Мать Ольги вместе с нерасписанным отчимом уехали обратно в Феодосию – взяв с Ольги клятву приехать через две недели, а «шпицы» бросили якорь в Конотопе.
В конце февраля я провожал Ольгу с четвёртой платформы Вокзала.
Она села в последний вагон и, когда поезд дёрнулся, помахала мне через стекло двери.
Я уцепился за поручни и вспрыгнул на ступеньки под запертой вагонной дверью.
Поезд быстро набирал скорость, она испуганно кричала за стеклом не слышно что, но я знал что делаю и спрыгнул в самом конце платформы, потому что дальше начинались рельсы и шпалы других путей, где точно ногу сломишь.
В марте я написал ей письмо. Очень романтичное. Что над слесарными тисками моего рабочего места мне видятся её небесные черты.
Нет, у Пушкина я не списывал, но суть и дух были теми же – с поправкой лексикона и орфографии на полтора века.
По понятиям экспериментального участка Ремонтного цеха такое письмо мог написать лишь полный пиздострадатель.
Хотя, они его не читали, как, впрочем и она – письмо не застало её в Феодосии.
Ольга вернулась в Конотоп сообщить мне, что беременна.
В те времена – плановой экономики и заботы о нуждах населения – презервативы продавались даже в газетных киосках по три копейки за штуку.
Но для меня они являлись лишь словом из анекдотного фольклора и я понятия не имел что значит «предохраняться».
Потом она приняла какие-то таблетки и всё обошлось.
Весна пришла ранняя, дружная, тёплая.
В середине апреля я открыл «дачный» сезон ночёвки в сарае. Подмёл его и перенёс постель на зимовавшую там кровать.
В тот же вечер в Парке я позвал её «к себе».
Она неожиданно легко согласилась.
Я был счастлив всё дорогу от Парка до Нежинской.
Мы шли в темноте, плотно поймав друг друга за талии.
Через двор Турковых и палисадник под окном нашей хаты прокрались мы в сарай и я запер дверь на крючок.
В промежутках между нашими связями я, по завету Вилье-Инклана, восстанавливал равноправие между «руками, которые уже знали всё и глазами, которые всё ещё ничего не увидали».
Для этого я зажигал спички, одну за одной, и не позволял ей натянуть на себя одеяло.
Мы проснулись на рассвете и я проводил её через оглушительную тишину совершенно пустых улиц до хаты её подружки Светы, чтоб у неё имелось алиби для тёти Нины.
Первый утренний пешеход попался мне на обратном пути аж за Базаром.
Он шёл навстречу по другой стороне Богдана Хмельницкого.
Мне с ней было хорошо, но я хотел от неё избавиться.
Во-первых, хорошо было не всегда.
В тот раз, когда мы ездили на Сейм и я завалил её в ивняке, всё получилось как-то плоско и то что было, было не то.
Правда, мы реабилитировались, когда она зазвала меня в душ у себя на работе.
Да, она устроилась работать в городе. Разносила телеграммы с Главпочтамта.
( … трудно поверить, но даже тогда, в отсутствие сотовых телефонов, люди как-то ухитрялись выживать.
Им помогали в этом телеграммы.
Прямо домой приносят бланк в половину тетрадного листка, а на нём наклеены бумажные ленточки из телеграфного аппарата с напечатанными словами:
буду шестого в два вагон четырнадцать
Телеграммы сообщали самую суть, потому что платить надо за каждое слово и за каждый знак препинания, включая адрес того, кому её посылаешь.
Копейки приучают к лаконизму.
Конечно, если денег девать некуда, в конце можешь добавить:
целую зпт навеки твой тчк
А доставляют телеграмму работники Главпочтамта в маленьких чёрных сумочках:
– Вот тут распишитесь в получении …)
В пять часов у неё закончилась смена и мы встретились у обложенной крупножёлтыми плитками пятиэтажной Гостиницы напротив Универмага.
На первом этаже, кроме входа в Гостиницу, есть ещё пара стеклянных витрин с входами в Междугороднюю Телефонную Связь и в Главпочтамт.
Ольга отвела меня к служебной двери с обратной стороны здания.
В длинном коридоре она прошла вперёд и махнула мне из дальнего конца.
Некоторые двери были открыты и там сидели женщины, спиной ко мне, перед своими окошечками в стеклянных стенках-перегородках.
Мы спустились в широкий зал с длинными окнами над головой и рядком душевых кабин вдоль стены.
Зайдя в одну из них, мы разделись и Ольга пустила горячую воду.
( … в каком-то из 90-х годов, в одном мафиозном боевике, сцена в душе между Сильвестре Сталлоне и Шэрон Стоун была признана самой горячей эротикой года.
Так они же её у нас сплагиатили!
С опозданием на двадцать лет.
А теперь мне твердят, будто в СССР не было секса.
Всё было!
Просто начиналось оно на другую букву …)
В конце нашей е… то есть… сцены, мелькнул ещё такой кадр, которого Голливуд не показал.
Это когда по упругим белым ляжкам Ольги, между крупных капель и дорожек бегущей душевой воды, поползли два-три белесо-мутноватых выбрызга…
Я где-то уже видел этот кадр, но не мог припомнить где…
Да, я начал предохраняться.
( … незавершённое книжное образование порой сбивает с толку.
У меня, например, сложилось такое мнение, что «онанизм» это когда исключительно руками – дрочить и кончить.
Но, оказывается, ещё в Ветхом Завете был мужик по имени Онан, который в конце полового акта своим семенем поливал земляной пол шатра.
Заключительный аккорд, так сказать.
Аккорд, конечно, полная лáжа – совсем не в тональности, но зато предохраняет от нежелательных зачатий …)
Вобщем, во-вторых, меня напугала первая беременность Ольги – а вдруг она опять залетит, что тогда?
Я не хотел себя связывать и, чтобы развязаться, в один из вечеров на крыльце Светкиной хаты сказал ей, что нам пора расстаться.
Она заплакала.
Я закурил.
– Почему?
– Так надо. Я встретил другую.
– Кто? Имя!
– Ты всё равно не знаешь.
– Нет, скажи!
– Вобщем, одна Светка.
– Где живёт?
– Возле цыганского посёлка.
– Ты врёшь!
– Я не вру.
Я прикуриваю вторую сигарету от первой. Как в итальянских чёрно-белых фильмах.
Мне совсем не хочется курить. Сигарета горька и противна. Даже подташнивает.
Докурив до половины, я сдался.
Я сдался обеим – я не смог докурить сигарету, я не смог порвать с Ольгой.
На следующей неделе она мне объявила, что снова беременна и у неё уже нет тех таблеток.
Я позвал родителей в сарай, потому что нам надо поговорить.
Они зашли туда притихшие – такого ещё никогда не бывало.
Я сел на стул под окном в изголовьи кровати.
Мама осталась стоять, только опёрлась о кроватную спинку.
Отец тоже стоял положив руку на длинный ящик-верстак вдоль второй стены.
И я объявил, что женюсь на Ольге.
– Как женишься?– спросила мама.
– Как благородный человек, я должен жениться,– ответил я.
Родители переглянулись. Отец молча дёрнул головой. Мама так же молча повздыхала.
Они сели на кровать и стали обсуждать в деталях, как будет жениться благородный человек.
Когда мы с Ольгой подали заявление в ЗАГС, о том, что желаем вступить в брак, нам там выдали бумажку для покупки обручальных колец со скидкой, в салоне для новобрачных.
В Конотопе был такой салон, но в нём ничего не было кроме двух пыльных манекенов – жениха и невесты.
Пришлось ехать в Киев.
Лёха Кузько поехал с нами. Он уже прошёл через всё это, когда женился на Татьяне, и знал места.
Кольцо Ольги было пожелтее, а у меня пошире и гранённое, словно мелкая чешуйка.
Ещё купили мне туфли, а ей белое шёлковое мини-платье с пупырышками, и фату.
В августе мы расписались в Лунатике.
Зал торжеств там тоже на втором этаже, но в противоположном крыле от танцзала.
В ДК мы приехали на такси.
На входе в зал нас встретили электромузыкой ребята «халтурщики».
Гитарист с давним глубоким шрамом на щеке был мне знаком. Он сделал круглые глаза и пожал плечами.
А, плевать; всё равно с футболом у меня никогда не получалось…
Женщина в тёмном платье, очках и перманентной завивке зачитала нам с Ольгой права и обязанности молодой семьи – ячейки общества.
Мы подписали бланк. Лёха со Светой тоже.
Вот и всё – конец мечтам…Лабухи заиграли марш Мендельсона и мастер, из фотоателье через дорогу, сфотографировал нас аппаратом на треножнике.
На снимке потом оказался не слишком радостно улыбающийся волосатик с виновато вздёрнутым воротником у пиджака от прошлогоднего выпускного костюма.
Ольга получилась хорошо, только лицо недовольно грустное.
Наверное, она не хотела связывать себя всего в шестнадцать лет.
На свадьбе у нас играли «Орфеи».
Бесплатно, разумеется.
Жульку заперли в будке, а в кругу, что он вытоптал за всю свою собачью жизнь на цепи, поставили инструменты и аппаратуру.
Вдоль сараев, параллельно штабелю искрошенного кирпича, стоял длинный стол под сенью вековых американских клёнов.
Мы с Ольгой сидели спиной ко двору Турковых, на длинном меху чёрного овчинного полушубка отца, которым застелили наши с ней два стула.
Вокруг стола сидели Архипенки, дядя Вадя с женой, Ольгина мать со старшей дочерью, тётя Нина с дядей Колей, ещё какие-то родственники Солодовниковы, соседи по Нежинской и из ближайших улиц – Крипаки, Плаксины, Кожевниковы; Владина мать; сменяющие друг друга хлопцы с Посёлка, всегда готовые выпить на дурняк…
Гуляли допоздна при свете пары электролампочек на клёнах.
Кричали «горько!», моего отца и Ольгину мать усадили в один возок и катали по улице (ей не очень понравился этот старинный красивый народный обычай), Квэк обнажился до пояса и танцевал, держа перед собой большой топор, что взял в сарае, но дядя Коля начал ему подхлопывать – типа, он тоже рокнрольщик и, улучив момент, забрал топор и хлопцы поволокли Квэка к нему домой – сам бы не дошёл, а Чепа и сестра Глущи совокуплялись в палисаднике в позе раком.
Короче, нормальная поселковая свадьба получилась.
Уже заполночь мы с Ольгой удалились в супружескую опочивальню в своём сарае.
Правда, перед первой брачной ночью пришлось лопатой выбросить то, что Квэк наблевал у входа и вымести окурки сигарет, с которыми тут прятались Ольгины подружки.
Знал бы – замок на двери повесил.
Бабина в магнитофоне оказалась перекрученной, а у меня ж там стояло на песне с французской эротикой. Попробуй теперь найди.
Пришлось поставить с самого начала бабины.
Но когда мы кончили, оказалось, что и бабина кончилась – так и не заметил я, когда там ахала Брижит Бардо.
Потом по жести крыши и по длинным листьям кукурузы на грядке за окном сарая хлынул ливень, а мы просто лежали крепко обнявшись и было хорошо.
Медовый месяц совпал с моим отпуском на заводе.
Наша первая супружеская размолвка случилась на третий день.
Я сидел во дворе, разбирал ноты какого-то испанского гитарного этюда. Она прошла из хаты в сарай и позвала меня.
Я ещё минуты две подёргал струны и пришёл.
Она заплакала, что она мне не нужна и я не обращаю на неё внимания. Так разве с жёнами обращаются?
Пришлось заглаживать вину самым действенным, по-моему, способом.
Хоть и не понял – в чём вина?
( … это уже теперь мне понятно, что в ней сработал инстинкт женского самосохранения: «если я у тебя уже есть, то для кого ты тренируешься на этой грёбанной гитаре?»
Впрочем, возможно я и теперь чего-то не так понял …)
Моего отца она покорила рыбой фаршированной луком и рисом, по рецепту приморского города.
Мне тоже очень понравилось. Жаль редко она её готовила.
Лёха Кузько принёс благую весть – мы будем играть в ДК завода КЭМЗ, он договорился.
Я обрадовался; если не играешь на танцах – это не жизнь.
И к тому же, когда мы с Ольгой ходили на танцы к «шпицам» и там на площадке вспыхивала драка, я боялся за её живот, хоть его и не было ещё видно.
На танцы в КЭМЗ приходила толпа из далёких от Лунатика районов.
Хоть «шпицы» и лучше нас, но после их танцев трамвая не дождёшься.
Но некоторые хлопцы с Посёлка приезжают к нам в ДК КЭМЗ.
Люди любят вливаться в толпу.
Владю и Чубу забрали в армию, на бас-гитаре теперь Сур, сосед Чубы; он ещё десятиклассник.
С нами стал петь загребельский хлопец Фофик, его коронный номер песня Макаревича:
Я пью до дна за тех, кто в море…и ещё про американского лётчика сбитого в небе над Вьетнамом:
Мой «фантом», как пуля быстрый…( … только недавно я узнал, что это переделка «Секретного агента» Мэла Тормé. Ещё аж из 50-х.
Всё-таки в музыке они всегда нас обгоняли …)
Однажды ночью Ольга полезла с поцелуями к моему члену, но я крикнул:
– Мне не нужна жена-вафлистка!
Она отдёрнулась, а я тут же пожалел о своей дурости. Идиот!! Зачем? Ведь так же хорошо было!
Влился в толпу тупых «бурсаков».
Когда в сарае стало слишком холодно, мы перешли на кушетку в кухне.
На ночь я плотно закрывал двустворчатую дверь между кухней и комнатой, где спали родители и мои брат с сестрой.
Не потому, что мы каждую ночь занимались любовью, а чтобы они там не знали в какую ночь мы это делаем.
На танцах в КЭМЗе Ольга редко танцевала – слишком большой живот, а вокруг прыгают не глядя куда.
Её светло-коричневая мини-дублёнка тоже стала застёгиваться с трудом.
Однажды ночью она начала плакать, что я её совсем разлюбил такую.
Но это неправда, мне её было жалко и хотелось защитить от всего.
Она плакала, пока не заставила меня заняться с ней любовью.
И было хорошо, только приходилось очень осторожничать, чтоб никак животу не повредить.
Через четыре дня Ольга родила мою первую дочь – Елену.
Дети цветы жизни, пока не распищатся…
Нашу Ленку-мордочку Выброшу я в форточку, Чтоб она не плакала…Маленькие груди Ольги оказались весьма млекообильными. После кормления приходилось даже сдаивать в стакан излишки.
Ну, конечно же, она добилась, чтобы и я попробовал.
О вкусах не спорят, но что эти младенцы в нём нашли? Пастеризованное и то лучше.
Тётя Нина сказала, что ребёнка надо обязательно окрестить.
Мы понесли Ленку в какую-то хату в районе двенадцатой школы. Во дворе было много народу.
Вобщем, церковь, но без креста – типа, подпольная.
Внутри тоже – хата хатой, только мебели нет.
Ребёнка вынули из конверта, наскоро смочили, чтоб заревела и выдали крестик.
Я и думать об этом забыл, но в январе Лёня, начальник нашего участка и он же комсорг цеха, созвал после работы комсомольское собрание в кабинете начальства, чтобы объявить, что из горкома сообщили, что я был в церкви, окрестил ребёнка и мне надо объявить выговор, как несознательному комсомольцу.
Все сразу проголосовали «за», но посочувствовали, что я не исключён и у меня ещё десять лет будут вычитать из зарплаты комсомольские взносы.
Позже я узнал, что поп-креститель каждый месяц должен сдавать списки посетителей его хаты. Вот те и подпольщик.
А в феврале я проштрафился ещё больше.
Лёха ехал в город Коростень, привезти электрогитары для КЭМЗа.
Я тоже хотел с ним поехать, но когда начал отпрашиваться в цеху, мне сказали подождать начальника.
Когда в проходе Механического показалась чёрная шинель Лебедева, я вышел ему навстречу, но у него, как видно, спина ещё недостаточно распрямилась, или накануне слишком прямой была, и он сказал мне «нет».
Тут меня зло взяло и я ушёл, всё равно ещё не переодевался. А Лёха, оказывается, уже уехал.
Вобщем, мне за этот день прогул поставили и вышел приказ начальника цеха за нарушение трудовой дисциплины на три месяца перевести меня на нижеоплачиваемую должность – подсобником в Кузнечном цеху завода КПВРЗ.
Вы лучше лес рубите на гробы — в прорыв идут штрафные батальоны…В кузнечном цеху станки не гудят, там гахкают гидравлические молоты и сотрясают бетонный пол, в жерлах печей ревёт пламя форсунок, раскаляя железные болванки внутри печей до алой белизны.
Ещё вентиляторы воют в круглых коробах с намордниками из сетки. У тех вентиляторов размах лопастей метровый – раз рубанёт и… Вот для того и сетки.
Короче, лучше Кузнечного места не найти, если занимаешься вокалом. Ори – сколько влезет, никто тебя не слышит. Вот и я – сам себя не слышу, но ору:
О, мами, О, мами-мами блу, О мами блу…Но это я ору, пока мой напарник Боря узнаёт сколько чего на сегодня грузить.
Борю тоже перевели в подсобники за нарушение трудовой дисциплины, но он в этом цеху местный – кузнец из Кузнечного.
Ему лет за тридцать, светловолосый, невысокий. И не скажешь, что кузнец.
Залетел за пребывание в нетрезвом виде.
Наша работа – загружать болванки в печи.
Болванки мы берём в крайнем крыле Кузнечного. Это куски осей от колёсных пар вагонов и локомотивов нарезанные газосварщиками в первую смену.
Болванки, конечно, неподъёмные, поэтому тут есть тельферный кран.
Я их цепляю захватом-клещами, а Боря орудует кнопками пульта, что висит с крана, и переправляет их на вагонетку.
Там я их направляю и придерживаю, пока расстегнётся захват.
Так загружаем несколько рядов. В зависимости от длины, а значит и веса болванок, потому что вагонетку по узко проложенным рельсам нам самим же и толкать.
Мы выталкиваем её в основной корпус на поворотный круг. Он похож на крышку канализационного люка, но он подвижный.
Мы проворачиваем на нём нашу вагонетку на 90 градусов и катим дальше по рельсам узкоколейки до нужной печи.
Самое трудное – сдвинуть вагонетку с места; тут приходится упираться рогом, а когда начнёт потихоньку двигаться, то всё – ты наша!
Перед жерлом печи – полка.
Прикрывая лицо от огненного жара в печи, Боря ставит на полку трубу-ролик, шириной в полметра.
На ролик мы взваливаем продолговатую лопату с приподнятыми бортиками, чтобы болванки не скатывались по сторонам.
Рукоять лопаты длиной метров пять. Она не из железа, а стальная, сечением шесть на четыре сантиметра.
Заканчивается рукоять поперечиной, за которую могут ухватить двое рабочих – по одному с каждой стороны от рукояти.
Но пока что лопату за поперечину удерживаю только я один, потому что Боря, уже здешним тельфером, перекладывает болванку из вагонетки в лопату, заслоняясь плечом от огня.
Он отгоняет тельфер обратно к вагонетке, подходит ко мне и мы ухватываем каждый свою половину поперечины.
– И!..
Мы толкаем лопату по ролику на три-четыре широких шага.
Потом надо синхронно подпрыгнуть и налечь на поперечину, чтобы упругая рукоять свибрировала и подбросила болванку с лопаты. И надо успеть отвернуть лицо от опаляющего жара раскалённой печи, где бушует огонь из форсунок.
Вот почему Боря работает в брезентовом фартуке кузнеца, а я дожигаю свой когда-то любимый красный свитер.
Защитно вскинув плечи, мы вытаскиваем лопату обратно на ролик и Боря идёт за следующей болванкой.
Туда-сюда… обратно… А как оно приятно!..Потом мы гоним порожнюю вагонетку за новой партией болванок.
В печи их тоже надо укладывать слоями и рядами, а начинать их поглубже, иначе не поместятся.
Чем больше загружено, тем короче пробежки с лопатой.
Я не сразу освоил синхронный прыжок и Боря крыл меня неслышным в грохоте и гуле матом.
Недолетевшая до нужного места болванка будет делать мозги при загрузке остальных.
Но навык гитариста помог мне уловить ритм.
Боря немногословен. У меня с вентилятором больше общения. Дуэтом.
Но однажды Боря прокричал мне в самое ухо:
– Сегодня сорок тонн загрузили!
Он улыбался.
Трудовая победа!
Фигня – пустые слова. Просто мы сделали это.
Работаем мы в две смены – во вторую и в третью, а в первую наши болванки достают из печей на наковальни.
А в день получки я глазам своим не поверил – у меня за месяц сто двадцать рублей!
«…на нижеоплачиваемую должность…»
– Ha-ha, Mr. Lebedev! – Ha-ha, Mr. Heath!..А кузнецам кассирка вообще по три нераспечатанные пачки выдавала! Три сотни, плюс там ещё рублями.
Да, Боря! Пить надо меньше.
Туда-сюда… обратно… А как оно приятно!..( … всегда проклинал, проклинаю и буду проклинать ту ночь, когда я испустил тот вопль тупого бурсака.
Слово – не воробей… Сказанного не воротишь …)
А Ольге хотелось чего-то ещё…
Один раз, когда я бросал болванки в её печь, она начала требовать:
– Скажи!.. что!.. ты сейчас!.. делаешь?..
– Я с тобой!.. занимаюсь!.. любовью!..
– Не так скажи!..
– Я!.. люблю!.. тебя!..
– Не!.. так!…
– А!.. как?..
– Сам!.. знаешь!..
И я начал выстанывать:
– Я!.. е!.. бу!.. те!.. бя!..
– А!..
– Я!.. те!.. бя!.. е!.. бу!..
– О!..
Тёмная кухня. Ребёнок спит. Что она ещё понимает…
В другой раз из темноты:
– Ударь меня!
– Ты что?
– Нет, ударь меня!
Заставила-таки, шлёпнул слегка по щеке.
– Не так! Ударь сильно!
Всё равно не отстанет. Ударил звучнее. Лежит, плачет.
– Ты что?
Плачет.
Пришлось утешать самым надёжным, по-моему, способом. И было хорошо.
Потом лежу думаю. Зачем ей это?
Пощёчина, как наказание за проступок?
Ничего такого за ней не знаю.
До меня? Без меня? Вместо?..
( … есть мысли, которые лучше не начинать думать, а если начал, то лучше уж не додумывать до конца …)
В конце мая истёк срок моего наказания и в тот же день я получил повестку явиться двадцать седьмого числа для призыва в армию.
И снова было застолье во дворе, потому что на Посёлке проводы в армию почти что свадьба.
Все пили, пели, только без «Орфеев» и моя мама носила вокруг стола Леночку в распашонке и простынке, и та хваталась крохотными пальчиками за ворот бабушкиного халата и удивлённо озиралась развесив розовые губки.
Наутро меня проводили до двухэтажного Дома глухонемых рядом с мостом в железнодорожной насыпи на проспекте Мира.
Там собралось много призывников в кепках и ещё больше провожающих.
Толик Архипенко всех заверял, что у меня всё будет хорошо. Ольга плакала.
Призывников посадили в два большие автобуса, те было тронулись, но выйдя на проспект снова остановились – кого-то не хватало.
Мы вышли на обочину.
Провожающие ломанулись через дорогу.
Ольга добежала первой.
Она целовала меня мягкими мокрыми губами и прижималась мягкой грудью без лифчика, под кофточкой в полоску с коротким рукавом, промокшей от её слёз.
Тут подвезли нехватку.
Нам опять сказали садиться в автобус.
Завёлся мотор.
Дверь захлопнулась и автобус уже окончательно, безостановочно и безвозвратно повёз туда, где армия сделает из меня настоящего мужчину и защитника родины.
~ ~ ~
~~~мои университеты (часть первая)
Отшлифуем плац ногами, Он как новый заблестит У солдат в груди широкой Сердце бравое стучит…(на муз. «Розпрягайте, хлопцi коней…»)
На сборно-распределительном пункте в Сумах я сделал последнюю попытку отвертеться от армии. На медосмотре сказал окулисту, что левым глазом вижу только две строки его таблицы, хотя на самом деле видел пять.
За это меня признали годным к нестроевой службе в строительных войсках.
Спустя двое суток кантования на голых нарах сборно-распределительных пунктов и столь же жёстких полках в вагонах для призывников, я стоял на перроне вокзала города Ставрополь в одной туфле.
В отличие от Персея, на второй ноге у меня был носок.
А что поделаешь? Рано утром, при команде покинуть вагон я обыскал не только то плацкартное купе, в котором спал на голой полке, но и соседние.
Второй туфли нигде не оказалось.
У меня постепенно зарождалось подозрение, что пропажа – дело рук Валика Назаренко из Кролевца.
Он вёз с собой пачку почтовых открыток и на каждом вокзале, просил прохожих по перрону, чтоб опустили в почтовый ящик надписанные им в пути открытки.
Кто откажет молодому пареньку, которого везут хоть не в тюремном, но запертом вагоне?
Когда мы отъезжали от очередного вокзала, Валик делал умный вид и сам себе задавал вопрос:
– Кому бы ещё написать?
И сам же отвечал:
– А! Знаю!
И он писал ещё открытку или две, что едет служить в армию и уже проехал Ростов.
Потом он зачитывал свои произведения в нашем плацкартном купе.
Все они были одинаковы и одинаково кончались «с приветом, Валик».
В какой-то момент, я предложил ему хотя бы в некоторых менять слова местами, для разнообразия, чтоб получилось «Валик с приветом».
Все дружно рассмеялись, но хорошо смеётся тот, кто смеётся последним, а мне, в одном носке, было не до смеха.
Похоже, мой каламбурчик прибумеранжился обратно, и моя туфля не доехала до Ставрополя.
Сволочь рыжая ответила шуткой за шутку. Однако, не пойман – не шутник.
Нам сказали залезать в бортовые грузовики и повезли через незнакомый утренний город, потом за город и через три километра справа вдоль шоссе потянулся забор из белого силикатного кирпича, а в нём, метров через двести, трубчатые ворота и домик проходной, с табличкой, что это военно-строительный отряд номер одиннадцать, он же войсковая часть сорок один семьсот шестьдесят девять.
Грузовики свернули в ворота, а шоссе потянулось дальше между леском и забором, который кончался метров за сто дальше от проходной.
Перед баней у нас спросили: будут ли желающие отослать свою гражданскую одежду домой.
Таких не оказалось. Все шли в армию в бросовых одеждах, которые и сбросили на траву у крыльца бани.
Только в столовой ростовского сборно-распределительного пункта я видел призывника в костюме и галстуке.
Ещё он бросался в глаза своим возрастом – лет на десять старше шумящей вокруг бритоголовой шпаны, но двадцати семи, наверное, нет, раз загребли в армию.
Он не был острижен, и ничего не ел; просто сидел глядя перед собой. Вернее, обратив взор внутрь себя.
( … ведь мы только со стороны такие одинаковые, а внутри есть что посмотреть – такие эпопеи разворачиваются, покруче Илиады с Одиссеей …)
Вот он и сидел в расслабленном на толстой шее галстуке, не замечая сочувственных взглядов, не зная что будет там, куда отвезут.
В одиннадцатом ВСО имелся необходимый минимум для жизни множества людей в одном месте.
Пять длинных бараков обитых изнутри крашеной фанерой и обложенных снаружи белым кирпичом «на ребро».
Бараки связывала общая система труб парового отопления проложенная по воздуху, на стояках. Для теплоизоляции трубы, как водится, обмотаны были стекловатой, поверх неё белым стеклополотном и завершающим слоем чёрного рубероида, скреплённого скрутками из тонкой вязальной проволоки.
Три барака протянулись вдоль забора параллельно шоссе, окружённые внутренней асфальтной дорожкой; позади ближнего к воротам более широкое, но тоже одноэтажное здание – столовая и клуб части.
В третьем от забора ряду – баня, кочегарка и швейно-сапожная мастерская, тоже в одном здании.
От ворот до входа в столовую пролёг плац из корявого бетона, отделяя собой ещё два параллельные друг другу и забору барака-казармы.
В дальнем левом углу плаца – кирпичный сортир с одним входом к десяти пробитым вдоль стены в бетоне дыркам, типа «очко»; у стены напротив – бетонированный сток-писсуар.
Слева от сортира длинное железное корыто умывальника, приподнятое ножками из арматуры на метр с чем-то от земли; над корытом закреплена водопроводная труба с десятком вентилей.
Глубже за плацем – три высокие бокса для автомобилей без лицевой стены, а левее них – два ряда крепких сараев, это вещевые и пищевые склады.
Позади складов, немного на отшибе, в углу прямоугольной территории части, приземистое строение свинарника.
Ах, да, ещё у ворот, напротив домика проходной, тесная кирпичная коробка военного магазинчика.
Белый забор с кирпичными же столбиками, тянется только вдоль шоссе, а остальную часть периметра окружает с детства знакомая колючая проволока.
Позади боксов и колючей проволоки подымается широкое поле, за которым прячутся в ложбине заброшенный песчаный карьер и село Татарка, куда солдаты ходят в «самоволку» – самовольную отлучку из расположения части.
А шоссе, по которому нас привезли, через шесть километров приводит в село Дёмино, куда солдаты тоже ходят в самоволку, как разумеется, и в сам город Ставрополь.
Но всего этого я ещё не знал, выходя из бани в новоодетом х/б обмундировании и в кирзовых сапогах поверх плохо наверченных портянок.
Как не знал и того, что хэбэ (х/б) означает «хлопчатобумажное» и что портянки – две полосы светлой бязевой, или байковой ткани, 30 на 60 сантиметров, для обмотки ступней ног – намного практичнее носков.
Летом, сняв носки, на ступнях видишь въевшиеся грязные разводы от пыли, пробившейся сквозь них; тогда как портянки грязнеют сами, а ноги сохраняют чистым.
Но портянки нужно правильно наматывать – плотно и без складок, иначе сотрёшь ноги в кровь.
Опять-таки, зимой портянки без носков теплее, чем портянки поверх носков, хотя оба способа не уберегают от обморожения пальцев в сапогах.
Двое солдат из предыдущих призывов перебирали сброшенные на траву у бани гражданские одежды – «гражданку» – проверяя нет ли чего подходящего для самоволок.
Нас завели в клуб части со сценой без занавеса и рядами деревянно-фанерных сидений и мы начали службу с освобождения его от них, мытья широких досок его пола, внесения и установки железных двухъярусных коек, на которых будет спать четвёртая рота, поскольку нам, новобранцам, отведена их казарма.
У входа в казарму нас разделили на три взвода и каждым стал командовать отдельный сержант.
Сержанты составили списки личного состава своих подразделений, для сверки с общим списком у лейтенанта, и приступили к обучению новобранцев.
Во всех трёх взводах упорно отрабатывались одни и те же команды:
– Взвод построиться!
– Р-разойдись!
– Взвод построиться!
– Разойдись!
– Взво-од! Построиться!
– Разойдись!
Хотелось есть, но утешала мысль, что нескольких из нас уже послали в столовую – готовить столы к обеду.
И, наконец-то:
– Строиться на обед!
– Шагом… арш!
В отличие от клуба, в который подымаешься по крыльцу из трёх ступеней, в столовую нужно спускаться на столько же.
В просторном зале стоят два карé длинных белых столов, разделённые центральным проходом, по обе стороны от каждого стола – коричневые лавки из цельной доски для размещения десяти седоков на каждой.
Гладко шлифованный бетонный пол придаёт помещению невнятную гулкость, словно в зале ожидания пассажирского вокзала.
Вдоль всей левой стены тянутся две ступени под тремя окнам из других помещений, каждое с широким, обитым крашеной жестью, подоконником.
Слева, самое маленькое, с закрытой дверцей-ставенкой – хлеборезка; затем длинный проём-окно кухни, где исходят паром широченные цилиндры никелированных котлов для варки обеда, а рядом с ними пара поваров в солдатских штанах, тапочках на босу ногу и в белых куртках с жирными пятнами. У одного на голове белый матерчатый берет.
В последнем, тоже длинном и без ставен, окне посудомойки слышится шум горячей воды бьющей в длинные жестяные корыта с грязной посудой.
Дальняя стена напротив входа – глухая; она отделяет столовую от клуба.
В правой стене, высоко над полом, вставлены деревянные рамы больших окон.
Расставленные на столах миски пошарпанной белой эмали отмечают места посадки на лавках.
Двадцать алюминиевых ложек свалены аккуратной грудой в центре стола – каждый выхватит для себя. Там же порционный черпак и двадцать эмалированных кружек не первой молодости и, на мятом алюминиевом подносе, без малого три буханки серого хлеба формы «кирпичик» порезанные поперёк – каждому по краюхе.
Повара начали швырять на подоконник окна раздатки пятилитровые белые кастрюли, они же бачки, и что-то неразборчиво орать.
Начался первый обед в армейской жизни.
Борщ был красный и горячий. Его разливали по мискам черпаком, из кастрюли принесённой от окна раздатки.
Поскольку миски не меняют то, для получения второго, борщ надо доесть или же сразу отказаться и ждать, когда дежурные принесут бачки с перловой кашей, по кличке «кирзуха».
Если внимательно присмотреться к мелкому узору голенища кирзовых сапог, начинаешь понимать насколько меткое прозвание у армейской каши.
Каша была жидкая и тоже горячая.
Компот разлитый по кружкам из алюминиевых чайников был не таким горячим, но тоже жидким.
Вокруг стоял вокзально-колодезный шум и гам.
Поев, орудия насыщения нужно самому отнести к окну посудомойки и разложить их в соответствующие стопки или кучи. По мере их накопления посудомойщик сам всё сбросит в какое-то из корыт, куда бьёт струя горячей воды из крана.
Теперь можно покинуть столовую и идти к казарме «учебки», чтоб не пропустить следующую команду на построение.
Дальнейший опыт показал, что на завтрак и ужин борща не бывает – они начинаются с «кирзухи», но утром на столах помимо хлеба лежат кубики жёлтого сливочного масла, которое намазываешь на хлеб черенком всё той же алюминиевой ложки.
Если же масло принесено одним куском, его делит на порции наиболее авторитетный военнослужащий из оказавшихся за твоим столом.
Кусок масла может быть уменьшен подошедшим к столу солдатом-старослужащим. Так же как и количество кускового сахара для чая.
Рацион неприхотливый, но выжить можно.
Под осень он ещё более упрощается: на первое – вода с капустой, на второе – капуста без воды, на третье – вода без капусты.
Однако, в кирзухе иногда плавают кусочки сала (ведь при части есть свинарник); но ничего кроме сала.
А по праздникам к чаю прилагаются даже белые булочки-пышки.
Первое время я не мог есть солдатской пищи.
Не то, чтобы брезговал, а просто, как ни старался, не получалось запихивать в себя всё это. Застревало в горле.
В один из обедов, сидевший за столом солдат более старшего призыва, глядя на мои старательные муки, засмеялся и сказал:
– Ничего! Втянешься – будешь хáвать всё подряд.
Он оказался прав. Всё дело в том, что в стройбате не едят, а «хáвают».
– Рота пошла хáвать – догоняй!
– А что сегодня хáвать дают?
Как только я перестал есть и начал хáвать – всё встало на свои места. Иногда даже брал добавку.
Но это уже потом, потому что «молодому», он же «салага», он же «салабон», который подойдёт к окну раздатки с миской, повар поленится уделить черпак «хáвки», а скорее всего, гаркнет:
– Пошёл на хуй, салабон!
Не потому, что он генетический мизантроп, а просто его тоже шугали и шпыняли, когда он был салагой.
Хотя, может и не послать – исключения везде бывают…
( … за два года срочной службы солдат подымается по иерархической лестнице.
Первые шесть месяцев он – «салага», он же «молодой», он же «салабон».
Последующие полгода – после призыва новых «молодых» – он становится «черпаком».
Год службы позади, после тебя уже привезены ещё два призыва и ты – «фазан».
Последние полгода над тобою нет старослужащих, ты сам – «дед».
И, наконец, министр обороны подписал приказ об увольнении в запас военнослужащих срочной службы призванных, как и ты, два года назад, начинается демобилизация, ты – «дембель»!
Терминология иерархии не столь уж и иероглифична.
«Молодой» стало быть младший; «черпаку» доверяется делёжка хáвки за столом – «молодому» рано, а старшим «за падлó»; «фазан» ушивает хэбэ штаны, чтоб в обтяжку были и вообще пижонит; «дед», как противоположность «молодому»; «дембель» – удобопроизносимая аббревиатура «демобилизованного».
Чтобы пройти эту лестницу, надо прожить два года.
В восемнадцать-двадцать лет такое количество времени кажется вечностью. К тому же, качество времени в армии непредсказуемо: какие-то дни пролетают чуть начавшись, и наоборот – порой, по твоим ощущениям прошла, как минимум, неделя – ан нет! – это всё ещё сегодня.
Второй разновидности времени в армии больше, чем первой.
Всех тяжелее дембелям, допёршим до финиша эту глыбищу в два года – у них каждый час становится вечностью наполненной томлением души, неотвязной тревогой, неверием, что такое возможно.
Солдаты на нижних ступенях лестницы пробуют пришпорить время с помощью карточек-календариков, где на одной стороне все двенадцать месяцев года, а с другой призыв хранить деньги в сберегательных кассах, или летать самолётами аэрофлота.
Они безжалостно прокалывают каждый прожитый день иголкой насквозь.
Календарик теряет свой лоск и глянец, зато, если посмотреть его на свет, видны аккуратные группки дырочек.
Для календарного иглопрокалывания необходим дисциплинированный ум и недюжинная сила воли.
Ни у одного фазана такого календарика я не видел.
Вечность, она кого угодно образумит и смирит любую гордыню …)
Первый день службы закончился заполночь – нас тренировали укладываться в сорок пять секунд при отходе ко сну, или подъёме.
За указанное время нужно снять с себя всё обмундирование, аккуратно сложить на табурет в центральном проходе, освещённом длинными лампами дневного света, нырнуть на свою койку в кубрике и укрыться простынёй и одеялом.
Кубрик – это составленные плотной группой четыре двухъярусные койки, отделённые от соседних кубриков тесными проходами, где ты толкаешься с теми, кому спать в соседних кубриках.
А как не толкаться? Ширина межкубричного прохода определяется шириной стоящей в конце него тумбочки.
Светлая такая тумбочка с выдвижным ящиком наверху, а под ним дверца, за которой ещё две полочки. Всё это на восемь человек – по четыре от каждого кубрика, чьи койки обступают проход шириной в полметра.
Если в проходе есть койка «деда», тумбочка – его, безраздельно, это не обсуждается.
А если проход без «деда», а с «фазаном», то он может и поделиться самой нижней полкой, но не всякий.
Стройбат приучает жить налегке, не обременять себя лишними вещами.
Ну, а лезвия «Нева» и станок безопасной бритвы держишь на полке сослуживцев одного с тобой призыва, у которых в проходе между кубриками не оказалось «дедов» с «фазанами».
Решать проблемы через офицеров – вредно для здоровья.
«Фазано-дедовская» система залог воинской дисциплины, посягнув на неё офицер пилит сук под самим собою. Поэтому, если ты ему пожалуешься, он пожалуется на тебя «дедам», уедет домой после службы, а тебе повредят здоровье.
Но всё это узнаётся позже, а сейчас по центральному проходу «учебки» ходят сержанты и выискивают сапог с недообёрнутой вкруг голенища портянкой, или ремень, слишком небрежно брошенный в спешке поверх табурета, или отсутствие какой-либо части обмундирования – одетым укрылся падла!
Найдя к чему придраться, они командуют общий «подъём!» и тренировка начинается заново.
Вряд ли мы начали лучше справляться, скорей всего сержантам тоже захотелось спать.
После очередного «отбоя» они не объявили «подъём» и лампы дневного света над центральным проходом потушены, осталась лишь над тумбочкой дневального у входа в казарму. Её далёкий свет не помеха, можно закрыть глаза и…
– Учебка, подъём!!!
Что? За что? О, чёрт, это – утро! А ночь когда?
( … я же говорил, время в армии – это сука паскудная!..)
Проводится пара тренировочных подъёмов, но без пристрастия, а для острастки.
Впереди завтрак и, если опоздаем, повар-«дед» устроит сержантам фели́ атендрэ́ из окна раздатки.
( … у королей Франции имелся особый придворный по должности трахавший палкой в пол при вхождении короля в какой-нибудь зал какого-нибудь из королевских дворцов.
При это трахнувший кричал:
– Его величество – король!
И вот однажды, в Лувре, приближается очередной по номеру Людовик к двери ведущей в общий зал, а глашатая не видно.
Может, какой-то беспорядок в своём обмундировании поправлял…
И ведь не к лицу входить без траханья, если ты король…
Но в последний момент, откуда ни возьмись, придворный с палкой ввернулся в дверной проём и, как положено по уставу – бац!
– Его величество – король!
Вобщем, королю даже маршировать на месте не пришлось, но он, входя, служителя по-королевски, эдак, с укоризной, пожурил:
– Жеи́ фели́ атендрэ́.
В переводе с французского это значит «мне чуть было не пришлось ждать»… )
Но дед-повар по другому переведёт:
– Ты, сука ёбаный! В конец оборзел на хуй? Сержанта тебе кинули, так нюх потерял? Ебал я твои лычки и тебя вместе с ними. Ещё раз опоздаешь – сам на раздатку пойдёшь, петушара!
И сержанту нечем крыть такой фели́ атендрэ́, потому что он хоть и не «петух», но пока ещё всего лишь «фазан».
( … какое отношение имеют короли к стройбату?
Самое что ни на есть прямое.
Неофициально, военно-строительные отряды Советского Союза именовались «королевскими войсками».
Смекаешь?
Идём дальше.
Обмундирование военного строителя состояло из пилотки цвета хаки, в которую ввинчивалась небольшая красно-вишнёвая звёздочка с жёлтеньким серп-и-молотом посередине.
Звёздочка – очень важная деталь. Именно она определяет где у пилотки зад, а где пéред.
Исходя из своей формы, пилотка не в состоянии покрыть уши солдата.
При сильном ветре или дожде можно отвернуть пилоткины лацканы и натянуть на череп, но это придаёт военнослужащему вид гопника в колпаке типа «гандон».
При определённых обстоятельствах стройбатовец мог одеть пилотку даже поперёк, то есть, когда звёздочка со лба переводится в положение над ухом.
Таким выкрутасом предполагалось придать пилотке мотив «а-ля треуголка Бонапарта», однако, в целом всё смотрелось как долбоёб и сбоку звёздочка.
Голову военного строителя могла также покрывать фуражка, но, по уставу, фуражка должна сопровождаться кителем и брюками поверх тупорыло уставной обуви из чёрной кожи.
Такой комплект, кратко именуется «парадкой» (парадной формой), с чёрными погонами на плечах кителя.
( … чёрный всегда в моде…)
Чёрные петлицы на воротнике кителя парадки имели украшение в виде миниатюрных эмблем военных строителей из жёлтого сплава.
Та же эмблема повторялась в нарукавном шевроне, но уже без металлических примесей.
Краткое Геральдическое Истолкование Эмблемы
« комбат мечет гром и молнии,
прапорщик вертится, как белка в колесе,
а я бросил якорь
и на всё хуй забил ,
меня теперь и бульдозером
хуй сдвинешь»
Из-под кителя видна рубашка цвета хаки и галстук более тёмного хаки с белой резинкой от трусов, которая пряталась под воротник рубашки и скрытно держала галстук.
Но вернёмся к «повседневке»( повседневной форме), которая начиналась с пилотки.
Поверх трусов и майки (в зимнее время байковых кальсонов и рубахи-балахона) – курточка без погонов (получишь звание, различаемое количеством поперечных лычек на погоне – сам пришьёшь).
Полы курточки доходят до середины ляжек, застёгивается она рядом пуговиц из лёгкой пластмассы с барельефом звезды и серпа с молотом скрещённых у неё в центре.
В широких манжетах рукавов – более мелкие, а в остальном такие же пуговицы.
По боковинам, чуть ниже пояса, прямые карманы, не накладные, но с клапанами, чтобы песок не засыпался.
Под левым бортом курточки, на уровне сердца, внутренний карман из холстины цвета хаки.
Штаны повседневки – образец прагматичности.
Это суживающиеся книзу хэбэ трубы с большими накладными заплатами на коленях, для упрочнения и продления срока службы; два кармана на бёдрах; ширинка с мелкими пуговицами без каких-либо эмблем.
(Внизу труб-штанин пристрочены штрипки, но их просто обрезают, чтобы не делали мозги и не натирали ноги.)
Зимою головным убором являлась шапка-ушанка из серого искусственного меха.
Наличие шнурков на длинных отворотах позволяет носить шапку-ушанку четырьмя способами:
1) «уши вверх» – типа, венец царя Соломона;
2) «уши под затылком» – типа, затаившийся кролик;
3) «уши распущены» – типа, гордо реет буревестник;
4) «уши под подбородком» – типа, партнёр для спарринга.
Поверх повседневки зимой одевалась фуфайка длиной чуть ниже пояса.
Вертикальные строчки швов для удержания утепляющей ваты, делали её помесью древней воинской ферязи и униформы концлагерника, но однотонного цвета хаки.
Вместо фуфайки мог быть бушлат, превосходящий фуфайку по многим параметрам.
Во-первых, в нём ваты вдвое больше и, значит, он теплее.
Во-вторых, длиной он доходит до середины ляжек, прикрывая пах и ягодицы от изуверств зимней непогоды.
Зимой поверх парадки одевалась двубортная шинель из материала суконно-войлочного вида, длиною чуть ниже колен, с двумя рядами жёлтых пуговиц (один – декоративный).
Сзади, поперёк крестца, пришит короткий хлястик с парой декоративных пуговиц, под которым, чуть ниже прямого прохода, начинается вертикальный разрез донизу – на случай необходимости прибавить шагу, или какой другой необходимости.
Вот, вкратце, как одевался военный строитель, он же стройбатовец.
Правда нам, весеннему призыву 1973 года, на первых порах выпала честь донашивать гимнастёрки классического образца российской и Красной армий, завалявшиеся на складах Советской армии.
Впоследствии, когда мы их износили и они стали раритетом, «фазаны» кипятком ссали чтоб раздобыть себе такую, непохожую на всех.
Сравнительный анализ составных частей обмундирования показывает, что самым идиотическим предметом одежды является фуражка с твёрдым козырьком, на которой и спать неудобно, и на уши её не натянешь …)
Входом в казарму служила пристройка-тамбур по центру длинной боковой стены барака.
Тамбур – это прихожая три на три метра вымощенная крупной серой плиткой, в которой окон больше, чем стен.
Снаружи перед дверью в тамбур брошена арматурная решётка в рамке из 45-миллиметрового уголка – оскребать грязь с сапог. Под решёткой – неглубокая бетонированная яма, чтоб грязи было куда сваливаться.
Рядом с тамбуром сооружена открытая беседка такого же, примерно, размера со скамьёй из трёх брусьев вдоль дощатых бортиков. Шатровая крыша опирается на стойки по углам.
В центре беседки снова неглубокая бетонированная яма, но уже округлая, чтобы сидящим вдоль бортиков военнослужащим было куда бросать свои окурки – дневальные уберут.
Рядом с беседкой невысокие длинные кóзлы, сваренные из труб. Несколько человек могут поставить ту, или иную ногу на продольную верхнюю трубу, когда чистят свои сапоги.
Ничего не забыл?
Ах, да! Ещё трава по сторонам асфальтной дорожки.
Когда сержантам надоедает муштровать наш строевой шаг на плацу между проходной, столовой и сортиром, или вдалбливать смысл строк из тощей книжечки Устава внутренней службы, они отдают приказ приступить к искоренению амброзии
Мне раньше казалось, что амброзия – это взвеселяющий напиток на пирушках вечно юных, бессмертных богов Олимпа, а она оказалась жутко вредной травой.
Нам показали листки с типографским текстом и её чёрно-белым изображением – найти среди травы похожих на картинку и – искоренить.
Обезвредить распространяющего аллергию преступника.
Это хорошее задание, потому что сержанты куда-то исчезают на часок и можно не спеша знакомиться.
Из Конотопа, например, только я один, зато много земляков из Сумской области – Бурынь, Кролевец, Шостка.
Вообще, весь наш майский призыв с Украины, но днепропетровцев привезли раньше нас. Они уже прошли учебку и распределены по ротам.
Пользуясь отсутствием сержантов, некоторые из них прокрались в беседку у тамбура – выуживают из круглой ямы окурки покрупнее, которые мы туда выбросили при команде на построение.
Никто толком не знает за что такие гонения на амброзию, которой тут и не видно, но разговоры в траве помогают отвлечься от навалившейся на нас вечности длиной в два года.
В новоодёванном обмундировании неудобно отрабатывать «отбой-подъём», пуговицы туго пролазят в петли.
По совету Вити Стреляного, я расширил петли ручкой алюминиевой ложки в столовой и – стали влетать как миленькие.
Ближайшая цель строевой подготовки – показать себя на построении в день присяги.
В «учебке» нас три взвода, а строевая песня – одна.
Через две, Через две весны, Через две, Через две зимы — Отслужу, как надо, И – вернусь…Когда первый взвод, печатая шаг, хором допевал её и делал «стой! раз-два!», на плац вступал второй и запевал её сначала. Бодрая песня становилась нестерпимо длинной.
А вслед за ними притопывали мы – третий взвод – и орали про третью пару зим и вёсен, и в этом чувствовался явный перебор.
Даже в строю новобранцев раздавались сдержанные смешки; сержанты двух первых взводов смеялись в открытую, а наш нервничал.
Когда я сказал ему, что могу приготовить другую песню, только мне нужна бумага и чем писать, он не сразу понял о чём речь, но затем отпустил с плаца – заняться творчеством на благо взвода. Бумагу и ручку даст дежурный по роте.
При входе в казарму первым делом видишь тумбочку, возле которой стоит солдат. Это – дневальный, тумбочка – его пост; отсюда он должен подать команду «рота! смирно!», при появлении офицера.
Дневальных двое, они сменяют друг друга у тумбочки каждые четыре часа и тот, что не на посту, ходит вместе с дежурным по роте в столовую – делать заготовку на столах для приёма пищи своей ротой.
Эти трое – дежурный по роте и два дневальных – называются «нарядом» и они заступают в наряд на одни сутки, а потом их сменит другой наряд.
Дежурный по роте удивился, но нашёл мне бумагу с ручкой и я прошёл в комнату, которую замполит роты именует «ленинской», потому что тут стены обшиты панелью из жёлтого ДСП и рядом с зеркалом плакатная голова Вождя всего двумя красками; а солдаты кличут «бытовкой» – тут есть розетки для утюга, или электробритвы и зеркало достаточно широкое, чтобы в него могли смотреться два-три бреющихся.
Музыка к песне проблем не составляла – все знали популярную:
Маруся, раз-два-три, Калина, Чорнявая дивчына…Но не всем было известно, что это переделка из другой песни «Розпрягайте, хлопцi, коней…»,
так что ей уже не привыкать к перемене текста:
Мы громче всех споём И строевым лучше всех пройдём — Во-о-от Идёт Наш третий Взвод…Сидя над листом бумаги, я вертел ручку в пальцах и подбирал в уме слова, подгонял их так и эдак.
И бытовка вокруг меня, и запах хэбэ от моей гимнастёрки, и стёртая сапогом до крови кожа правой ступни отошли на второй план. Я был в самовольной отлучке из армии.
Да, мы разучили и спели её.
В конце дня выдалась минута покурить в беседке и вокруг неё.
Мимо проходил старшина четвёртой роты – мужик лет сорока с добродушно круглым лицом и шаровидным пузом.
Он остановился спросить откуда мы призывались.
Наверное, ему нечего было делать до отъезда в город – в пять часов старшин, прапорщиков, и офицеров, а также две пары женщин из бухгалтерии при штабе части, отвозили в Ставрополь. Из офицерского состава в отряде оставался лишь дежурный по части.
Один из нас, по имени Ваня, видя гуманное расположение старшего по званию, заискивающе улыбнулся и спросил:
– Товарищ старшина, а меня могут за это комиссовать?
Он набычился и упёр указательный палец в широкий шрам на своём темени, окружённый щетиной обритых волос.
– Чё, нашёл чем от армии закосить? – сказал старшина. – А хýй ты угадал!
И он отечески-увещевательно хлопнул Ваню по спине широкой ладонью.
От звучного шлепка Ваня прогнулся в обратную сторону и болезненно скривил рот:
– Ой!
Солдаты с готовностью засмеялись шутке старшины.
А тактические занятия мне даже понравились.
Все три взвода «учебки» построили в одну колонну и вывели за территорию части.
Сержанты объяснили, что «вспышка» – это ядерный взрыв и нужно залечь головой в его направлении.
Последовала команда «бегом марш!» и, когда вся колонна перешла на нестройную рысцу, один из сержантов крикнул:
– Вспышка справа!
С оживлёнными вскриками мы вразнобой повалились на траву. Это повторилось несколько раз.
( … когда мы стали «дедами» и мои сопризывники вспоминали эти «вспышка слева!», «вспышка справа!» как одно из мытарств «молодой» службы, я их не понимал.
Не понимаю и до сих пор. Бегать по летнему полю, кувыркаться в зелёной траве, когда есть на то силы и охота – это ж в кайф!
Как молоды мы были, Как молоды мы были …)После неустанной и напряжённой четырёхдневной учёбы мы приняли военную присягу и стали частью вооружённых сил Союза Советских Социалистических Республик.
Нет, никакого автоматического, либо какого-нибудь иного оружия нам при этом не выдавали.
Мы по очереди выходили к столу на асфальтной дорожке, брали листок с текстом присяги, зачитывали его, клали обратно, ставили свою подпись в другом листке – где укажет лейтенант – и возвращались в строй; лицом к длинной стене барака из белого силикатного кирпича в кладке «на ребро».
Позади стола, лицом к нам, стояли два офицера.
Если у кого-то из присягающих не ладилось с чтением, то к нему не очень-то и придирались – лишь бы кончил поскорей да поставил свою закорючку на бумаге.
Напоследок лейтенант спросил нет ли у кого-нибудь из нас медицинского образования.
После общей небольшой заминки из строя вышел молодой солдат и сказал, что он помогал фельдшеру в медпункте своего села.
Его оставили служить в четвёртой роте, как и трёх профессиональных водителей из нашего призыва.
( … сколько раз в последующие два года я крыл себя многоэтажными выражениями, что не сделал два шага вперёд – объявить о трёх годах подготовки к поступлению в медицинский институт на отделение нейрохирургии!..)
Потом нам зачитали кому где служить.
Я попал в первую роту – роту каменщиков.
Вторая и третья – штукатуры. Четвёртая – шофера и всякое там ещё.
Нас отвели в казармы соответствующих рот и представили командиров наших отделений. Те указали свободные койки в кубриках пустой казармы, потому что личный состав роты в это время дня трудится на строительных объектах в городе.
В природе нет ничего более отвратительного по своему звучанию, чем команда дневального «рота! подъём!»
( … забегая вперёд, признаюсь, что и сам я, будучи дневальным и дождавшись когда стрелки больших квадратных часов над тумбочкой покажут шесть ноль-ноль, делал глубокий вздох и самым наираспропаскуднейшим голосом орал:
– Рё-о-т-я-а! Пад-ёоом!
Око за око. Ухо за ухо …)
После первой ночи в казарме первой роты из моих личных вещей в тумбочке кубрика осталась только начатая пачка лезвий «Нева» стоимостью в 25 коп.
Пропажа зубной щётки, пасты и бритвенного станка не так меня удручила, как исчезновение 30 копеек из кармана хэбэ штанов. Это на две пачки сигарет «Прима».
Мне вспомнились днепропетровцы, стрелявшие бычки в яме беседки.
Заправив постель одеялом и накинув на шею, по примеру старших товарищей, белое вафельное полотенце, я покинул казарму и в общем потоке цвета хаки пошёл в сортир.
Над каждым из десяти очок кто-то сидел и над каждым сидящим стояла очередь из пары ожидающих и даже к мочестоку не сразу-то доступишься.
Шёл шумный обмен новостями о происшествиях минувшего дня.
– Он чё – готовый был?
– Сам знаешь.
– Поймали?
– А хýй его знает. Ищут.
– Поймают.
– Сам знаешь.
У кранов умывальника перетираются те же происшествия, но уже в подробностях.
К восьми часам дежурные по ротам провели на плацу зарядку с «молодыми» и «черпаками» своих подразделений. Роты позавтракали в полном составе и построены в пять шеренг на плацу, кроме нескольких «дедов», которые на всё забили уже по полной.
Без чего-то восемь к проходной подъезжает «козёл» комбата и маленький автобус с офицерами и бухгалтершами.
Комбат, замполит части и начальник штаба выходят на середину плаца, бухгалтерши позади барака-казармы третьей роты направляются к четвёртой: половина того барака – это штаб нашего ВСО.
Начинается развод.
Дежурный по части докладывает командованию, что за истекшие сутки в одиннадцатом военно-строительном отряде происшествий и нарушений не было.
Начальник штаба приказывает двум солдатам третьей роты выйти из строя и встать лицом к построению. Вчера они нарушали воинскую дисциплину на строительных объектах в городе.
Начальник штаба объявляет меру наказания – десять суток ареста.
Седовласый комбат, водя по сторонам широкими стёклами очков в роговой оправе, начинает обличительную речь.
О чём речь – понять невозможно, потому что он маразматик и с половины начатого предложения сбивается на следующее, но тоже до половины.
За его спиной по дорожке вдоль клуба приближается отдельная рота. Они идут на завтрак в столовую. Им этот развод вообще пó хую. Они – отдельная рота.
Наконец, замполит говорит заорáторившемуся полковнику, что хватит уже.
Тот договаривает ещё пару матюков и утихает.
Дежурный по части сдаёт дежурство следующему, заступают в наряд новые дежурные по ротам, нарушители дисциплины бредут к проходной; там их запрут на «губу» – в тёмной комнатушке без окон, но с нарами.
Начальник штаба отдаёт команду на отправку к месту работ.
Мы шагаем к воротам, за которыми нас уже ждут грузовики.
Комбат всполошился – он вспомнил чтó ещё хотел сказать, когда говорил.
А вот хуя тебе, мудозвон! Развод кончился.
Мы уже один за другим вспрыгиваем в кузов – ногой на колесо, руками за борт, перемахнуть через него и проскочить дальше, чтоб на тебя не приземлился следующий.
Ну, всё.
Отъехала проходная, побежали столбики кирпичного забора. Поворот вправо и мы едем вдоль лесочка к городу.
Ничего, что сидеть не на чем; мы держимся за борта и друг за друга. Мы в город едем!
Вобщем-то, это оказалось окраиной и возле нашего объекта ещё угадываются останки лесополосы.
Девятиэтажный жилой дом из двух секций. Кладка белым силикатным кирпичом выведена уже до пятого этажа.
Командир нашего отделения-бригады приказывает складывать на поддоны кирпич из наваленной самосвалами кучи.
Поддон – это четыре толстые доски по метр двадцать, прибитые к двум поперечным брусьям по девяносто сантиметров, которые служат поддону ножками, чтобы заводить под него стальные тросы строп башенного крана.
Двенадцать рядов на один поддон, получается без малого кубометр кирпича, но его надо укладывать с перевязкой, чтобы не рассыпался, когда башенный кран будет подавать его каменщикам для кладки стен.
Вообще-то, дело не сложное, но оказывается силикатная пыль въедается в кожу рук и пальцы стираются ещё до завершения первого поддона. А рукавиц нам не дали.
Мелкорослый Гриша Дорфман печально смотрит в свои ладони.
Кроме того, белую пыль трудно стряхнуть с наших хэбэ и сапогов, а спецовок нам не выдавали.
Тот же грузовик везёт нас обратно в часть на обед. Прохожие на тротуарах ходят без строя и им и дела нет до стройбатовцев в проезжающем грузовике.
На выезде из города, где от трассы отделяется шоссе к нашей части, стоит группа зданий промышленного вида.
Ребята нашей бригады-отделения начинают вопить и махать в ту сторону, как футбольные болельщики, когда их команда выходит на поле.
Витя Стреляный нехотя поясняет, что там – зона.
Понятно – солидарность.
( … 30% личного состава стройбата – это граждане отбывшие срок за не слишком тяжкие преступления.
Остальные 70% не признаны годными для строевой службы по состоянию здоровья, или же, подобно мне, не сумели закосить до конца.
Комбат, в моменты просветления от своего хронического маразматизма, ухитряется-таки выдавать чёткие определения:
– Сброд калек и зэков, еби о мать, блядь!..)
С работы нас привозят уже в сумерках.
Вечернюю проверку после ужина проводит командир роты, капитан Писак.
Рота построилась в две шеренги в обе стороны от тумбочки на входе в казарму.
«Молодые» – таков закон – в первом ряду.
Стоя лицом к строю, Писак читает фамилии в списке и, не подымая головы, вслушивается в:
– Я!
– Я!
– Я!
Он по голосу знает каждого «я» и по тембру определяет его текущее состояние.
Когда перекличка дошла до «молодых», Писак подходит и становится напротив каждого из новых «я» и пару секунд молча ощупывает твоё лицо немигающим взглядом из-под чёрного козырька фуражки. Затем выкликает следующего.
И – всё, его фотографическая память запомнила тебя на два года вперёд и спустя месяц, вместо:
– Как фамилия, рядовой?
Он скажет:
– Рядовой Огольцов!
– Да, товарищ капитан!
– Блатуешь, рядовой Огольцов?
– Никак нет, товарищ капитан!
– А бляха почему на яйцах? Сержант Баточкин!
– Слушаю, товарищ капитан!
– Рядовому Огольцову пять нарядов вне очереди.
– Есть, товарищ капитан.
Ну, да, когда мы подходили к девятиэтажке я малость послабил ремень поверх гимнастёрки. Откуда мне было знать, что он выйдет из лесополосы?
В тот день я во всю пытался выслужиться перед сержантом. Он послал меня ровнять лопатой грунт под прокладку бордюров.
Как я хуярил! Метров двести, если не больше. Может сержант, видя моё рвение, похерит наряды?
Два солдата из стройбата Заменяют экскаватор…Двое прохожих по недалёкому тротуару до того впечатлились, что подошли и стали приглашать распить с ними бутылку вина.
– Нет. Спасибо. Не могу.
На вечерней проверке сержант поманил меня пальцем из строя – «на полы».
«На полы» значит – когда все улягутся по кубрикам, подмести все проходы и, принося воду из умывальника возле плаца, делать влажную уборку всей шестидесятисемиметровой казармы, включая бытовку и тамбур. Мыть в два приёма: сперва мокрой как хлющ тряпкой, затем выжатой насухо.
Воду менять почаще, чтоб не оставалось грязных разводов.
Потом доложить дежурному по роте, чтоб он принял работу.
Если примет, можно делать отбой и радоваться, что сегодня не послан «на полы» в столовую.
И уснуть, едва лишь голова коснётся подушки, а через секунду:
– Рё-о-т-я-а! Пад-ёоом!
Пять нарядов – пять раз «на полы» до полуночи.
– Ваньку в психушку увезли.
– Какого?
– Сам знаешь. Шрам на голове.
– За шо?
– На подъёме не стал обуваться. Говорит – в сапоги мышь залезла.
– Косит, или заёб в голову зашёл?
– А хуй его знает. Там проверят.
Первый выходной день у нас был в августе. До этого ежедневно с восьми до сумерек пахали на объектах, а тут – целое воскресенье в части.
«Молодые» постирали свои пропылённые хэбэ. Бродят по части в трусах, майках и кирзовых сапогах, как те спортивные фрицы в фильме «Один шанс из тысячи».
За время, истёкшее до первого выходного, наше отделение перестало приветствовать криками зону у развилки шоссе.
А перед завтраком, по утрам с безоблачной погодой мы уже не засматриваемся на диковинку – снега на вершине горы Эльбрус, зависшие в небе над свинарником.
Рядовой Алимонов, он же Алимоша, научил меня докуривать стрельнутый у товарищей бычок «Примы» до трёх миллиметров от конца сигареты.
А один раз нам выплатили получку.
Старшина роты, крепко «под газом», выдавал в бытовке каждому по рублю и копеек двадцать сверху; а остальное натурой – кусок белой тряпки на подворотнички, две баночки сапожной ваксы, катушка ниток.
Но в ведомости мы расписывались, конечно, за три рубля восемьдесят копеек. Потому что всем известно, кого ни спроси, что рядовой Советской армии ежемесячно получает 3 руб. 80 коп.
Это такая же аксиома как про Волгу и Каспийское море.
Посреди лета, на вечерней проверке, замполит роты объявил, что моей жене, по её просьбе, послана справка, что я нахожусь на службе в армии.
– А я не знал, что ты женатый, Голиков.
– А ты не спрашивал.
( … им-то некогда было в колониях для малолетних преступников …)
Ольга, Конотоп, завод, танцы – кажутся чем-то нереальным; из другой далёкой жизни.
От неё приходят письма.
«…а вечерами смотрю как девушки с парнями своими идут гулять а я всё одна и так обидно аж плачу…»
Мама тоже письма пишет; брат с сестрой прислали по паре штук.
Во внутреннем кармане на груди у меня уже плотненькая пачка их писем.
Я не знаю что писать в ответ.
«Здравствуй, получил твоё письмо, за которое большое спасибо…»
А дальше?
«… отслужу, как надо, и – вернусь…»?
Ничего в голову не лезет, уже и думаю только матом.
Вроде, близкие люди – роднее не бывает, а какая-то во мне отстранённость.
Отстранённость?
Ну, примерно, как в тот раз, когда мы уже сидели в кузове грузовика под девятиэтажкой и дожидались кого-то из переодевающихся каменщиков.
Один из старослужащих начал доставать Мишу Хмельницкого, за то, что тот хохол.
Миша, пряча глаза, бормотал, что никакой он не хохол, просто фамилия такая.
Мы все сидели молча.
Старослужащий начал смеяться – что за призыв такой с Украины – ни одного хохла?!
– Ладно, я – хохол, ну, и что?
Только когда эти слова каким-то странным эхом вернулись в кузов от белеющей сквозь сумерки кирпичной стены, мне дошло, что это я сказал это.
Странно услышать себя со стороны, если не ожидаешь. Какая-то самоотстранённость.
Старослужащий заткнулся. И действительно – что дальше-то?
Позднее Миша Хмельницкий открылся мне, что он тоже женат и сверх того поделился интимными подробностями – ему всегда было охота в конце полового акта ещё и помочиться туда же, для хохмы, но никак не выходит.
Я мысленно от души порадовался, что процесс эволюции хомо сапиенса предусмотрел анатомический механизм препятствующий шуткам таких вот пизданýтых хохмачей.
Конечно, мои товарищи по службе не знали таких слов как «эволюция», или «хомо», зато могли пересказать по памяти части статей из книги Уголовного Кодекса.
– А ты по какой ходил?
– Статья шестьсот семнадцатая, часть вторая с отягчающими обстоятельствами.
– Чё пиздишь? Такой статьи нету.
– Недавно ввели – за людоедство.
Оказалось, что татуировка не просто украшение, а изотерические письмена для посвящённых – за что сел и какой достиг степени в лагерном табеле о рангах.
А кто загремит по полной, те у себя на лбу делают наколку «раб СССР».
Опять-таки, не все одинаковы.
У одного после зоны всего три слова на плече, неброским скромным шрифтом – «in vino veritas», с такой татуировкой можно и за доктора философии сойти.
Латинист, ебёна вошь.
Имеются и свои табу. За татуировку не по чину – жестокая расправа.
И со словом «вафли» тоже надо поосторожнее.
Алимоша после той получки зашёл в магазинчик напротив проходной и, показав пальцем на пачку вафлей, сказал продавщице:
– А дайте мне ото печенье в клеточку.
Но его это не спасло.
– Чё, Алимоша, на вафли потянуло?
– Да, пошёл ты…
( … а как не восхититься, не прийти в умиление от незатейливо безыскусных, но таких поэтично задорных дуэлей из пересмешливых лагерных двустиший?
– Я ебал тебя в лесу, Хочешь – справку принесу?.. – Я ебал тебя на пне — Вот и справочка при мне!.. – Я ебал тебя в малине Вместе с справками твоими!..И победная завершающая точка:
– Нечем крыть? Нет туза? На, вот – хуй, протри глаза!..)Кроме игры слов случаются и практические шутки.
После обеда, стоя у проходной, ожидаем свой грузовик.
Саша Хворостюк и Витя Стреляный накануне вечером побрили головы лезвием, теперь выделяются нежно-белой кожей над загаром лиц.
– А вот, если мне на темени зарубку сделать – стану я на хуй похожим?– спрашивает меня Витя.
– Витёк, ты и без зарубки похож.
– Будь другом, возьми меня за уши – сдрочи.
Разве другу откажешь? Стиснув его уши, дёргаю вверх-вниз.
– Тьфу-тьфу-тьфу…
Я не понял – белая слюна мелких плевков падает на грудь моей гимнастёрки…
– Это я кончил,– поясняет он.
Перед проходной тормозит грузовик, привёз отделение штукатуров, днепропетровские. Они заходят в раскрытые ворота.
Из проходной выскакивают пятеро «черпаков» и всей кодлой накидываются на здорового, как бугай, солдата нашего призыва.
Нет, отмахался, только пилотку сбили.
Это внутренние разборки третьей роты.
Водитель грузовика сигналит нам, чтоб лезли уже в кузов.
Девятиэтажку кладут и ночью, под гирляндой из электролампочек подвешенной над кладкой.
Из нашего призыва в ночной смене двое – долговязый солдат, который на гражданке работал каменщиком, да я.
Ему дали мастерок и он тоже ложит кирпичи, а я лопатой подношу раствор из железного ящика на стену. Ночи тут холодные и мы поодевали затасканные бушлаты и фуфайки неизвестно после кого.
В темноте за стеной вырисовывается кабинка башенного крана, а в ней неясное лицо кранового.
Каменщики уговаривают его поднять наверх питьевой воды в чайнике, но тому лень спускаться по длинной лесенке внутри башни, а внизу никого нет, чтобы наполнил чайник из трубы водопровода рядом с растворной площадкой.
Наконец, один из каменщиков становится на два из четырёх крючков «паука» – связки из стальных тросов – которыми цепляют растворные ящики и поддоны с кирпичом. Руками он хватается за те же тросы.
Крановой врубает свою махину, подымает и разворачивает стрелу крана и несёт стоящую на крюках фигуру далеко вниз, где горит одинокая лампочка растворной площадки.
Какая техника безопасности? В королевских войсках всё по понятиям.
Снизу крановой подымает поддон кирпича, а на нём чайник.
Поддон приняли на линию между каменщиками и скомандовали крановому отвести стрелу.
Один из крюков «паука» подцепил «молодого» каменщика за ремень на спине бушлата и поднял в воздух.
Вознесение не слишком высокое – на метр, не более, потому что сразу поднялся свист и крики «майна».
Крановой исполнил команду и всё обошлось, но каково было бедняге в те несколько секунд, когда он висел в воздухе, болтая длинными ногами и кричал «харэ! харэ!»?
( … это означает «хорóш вам баловаться!», хотя, возможно, так получилось само собой, случайно, потому что «старики» тоже кричали крановому «майна! вниз!» …)
Потом бригадир каменщиков отошёл на дальний угол возводимой секции, встал на краю кладки и помочился вниз, на далёкие останки лесополосы, дугообразной струёй с пунктирными отблесками от гирлянды электролампочек.
Нету лучшей красоты, Чем поссать с высоты…Он спрыгнул с угла и вернулся на линию – продолжать кладку.
Но не всегда всё обходилось…
Двое солдат схватились, шутя, бороться над шахтой лифта.
Вернее, тот, что поздоровей схватил того, что помельче – у здоровяков, обычно, настроение более шутливое.
Ну, и свалились оба в шахту.
Благодаря закону ускорения тел в свободном падении, здоровяк первым достиг дна шахты и всмятку расшибся на куче строительного мусора.
Мелкий долетел вторым – на подстилку из бывшего шутника – и отделался тяжёлыми переломами. Но его не комиссовали, дослуживал до своего дембеля сторожем на различных объектах.
Раз в месяц на утреннем разводе нам зачитывали приказы о тех, или иных летальных исходах вследствие злостного нарушения правил техники безопасности в военно-строительных отрядах бакинского округа ПВО, в подчинение которому входил и наш стройбат.
Всех «молодых» в начале службы нагружают, но наше отделение было самым «молодым» из «молодых».
Так сложилась цепь неблагоприятных обстоятельств.
Прапорщик, он же командир взвода, поймал сержанта, он же командир нашего отделения, с двумя бутылками вина из гастронома.
Что такое прапорщик?
Это «дед», которому нравится блатовать – вона как молодые перед ним трепещут! – и который понимает, что после дембеля, на гражданке, он – никто.
На гражданке другая иерархия.
Вот почему такой «дед» остаётся на сверхсрочную службу.
Четыре месяца школы прапорщиков и он приходит в ту же часть с одной звёздочкой на беспросветном погоне.
Ходит в парадке, шугает солдатиков, получает сто двадцать в месяц.
Как не порадоваться за человека нашедшего своё место в жизни?
И вот наше отделение созвано из разных мест девятиэтажки – кто-то клал перегородки, кто-то рыл траншею, кто-то складывал поддоны – и построено у груды щебня напротив второго подъезда.
Перед строем стоит наш сержант лишённый ремня с бляхой – явный признак арестанта – у ног его две бутылки вина с широкими наклейками, в трёх метрах от него – белобрысый прапорщик в рубахе от парадки; лето ведь.
Короче, этот пацан, который даже и не «дед», а всего лишь прапор, решил устроить воспитательно-показательную ораторию.
Мол, этот изменник родины покинул товарищей на трудовом посту, предательски ушёл в гастроном, но был пойман с поличным.
Дотолкал прапор свою речугу до конца, а что дальше – не знает.
Однако, он, по-видимому, не так давно смотрел сериал из жизни военных курсантов: кому-то там пришла посылка и он её втихаря жрал, пока не попался, и замполит заставляет его съесть плитку шоколада перед строем и жмот, понурив голову, сгорает от стыда и просит общего прощения.
И вот этот Песталоцци с одной звёздочкой начинает тут перед нами кинозвезду из себя строить, косить под замполита из телевизора:
– Ты бросил товарищей ради вина! Ну, так пей!
Он не учёл, что в жизни совсем другое кино.
Вместо того, чтоб понурить голову, сержант её задрал и засадил бутылку с горлá – не отрываясь.
Вторую не успел – прапорщик очнулся, подбежал и разбил её о щебень.
Сержанта отвезли в часть и заперли на «губу» в проходной, а утром разжаловали в рядовые и послали каменщиком в ту бригаду, где он и был до нашего призыва.
А как иначе? Чтоб он десять суток отлёживал бока на «губе» и даром хлеб ел? Не выйдет!
Ведь, даже и без татуировки на лбу, все мы – рабы СССР.
Бригадиром нам поставили рядового «черпака» по фамилии Простомолóтов.
– Зовите меня просто – Молотов.
Интеллектуал. Очки носит. Про Молотова знает, но – «черпак» и, хотя ему дали лычку ефрейтора, «деды» им помыкают, а он и не пикнет, чтобы те, хоть иногда, нагружали бы какое-то другое отделение «молодых».
Вот и получается, что после рабочего дня, вместо отбоя, мы идём на кухню и чистим картошку на обед всему личному составу части плюс отдельной роте – потому что картофелечистка поломалась.
Всю ночь напролёт. До пяти утра.
Правда, последний мешок, по частям, вынесли вёдрами на мусорку, присыпав картофельными очистками, чтоб дежурный по кухне не врубился. Типа, отходы.
А потом как заведено развод и – на работу.
Или после ужина везут нас обратно на девятиэтажку, потому что туда КАМАЗы со станции возят алебастр и если пойдёт дождь накроется целый вагон ценного строительного материала.
И мы, стоя по колено в сыпучем алебастре, загоняем его лопатами в подвал девятиэтажки через проём в блоках фундамента торцевой стены. Не успели перебросать один – подходит следующий самосвал; и будут ещё и ещё.
А внутри алебастр надо тоже перегонять в соседний отсек подвала, иначе всё не поместится.
( … не забуду синюшный цвет лица Васи из Бурыни в свете подвальной лампочки, когда он там заснул на алебастровом бархане …)
Вобщем, Простомолóтов, права армейская мудрость:
– Лучше иметь дочь проститутку, чем сына ефрейтора.
Приехал папа Гриши Дорфмана и переговорил с кем-то в штабе.
Гришу перевели в четвёртую роту и дали должность портного.
Вскоре Гриша уже щеголяет в «пэша» и даже не ночует в казарме, ведь у него швейная мастерская рядом с баней.
«Пэша» значит «полушерстяное обмундирование», материал поплотнее хэбэ, цвета тёмной болотной тины – одного из оттенков хаки.
В «пэша» ходят аристократы срочной службы: водитель «козла» комбата, например, или киномеханик, он же почтальон.
Великое дело – иметь папу умеющего вести переговоры.
А Ванькá, всё-таки, комиссовали.
Сержант, который сопровождал его от психушки домой, рассказывал, что в Ставрополе на вокзале Ванёк бросил на пол свою сетку-авоську с газетным свёртком и кричал:
– Тикайте! Там – бомба!
Люди шарахались.
А когда прибыли в родную хату Ванькá, он, на прощанье, спокойно проговорил:
– Вот так, сержант, умные люди в армии служат.
Вобщем, в тот августовский выходной день, ища уединения от ленивой толпы пляжников в кирзовых сапогах, я хотел уйти за угол клуба части и из окна с арматурной решёткой, рядом с крыльцом и дверью в кинобудку, услышал акустическую гитару.
Гитара…
Я стоял и слушал, хоть слушать было нечего – кто-то коряво пытался сыграть аккорды «Шыз-гары», но с ритмом не ладилось; он бил балалаечным боем.
Я не выдержал и вернулся к входной двери в клуб. Она оказалась открытой.
В конце зала, по бокам от окошечек кинобудки – две двери. Одна – настежь, звук гитары – оттуда.
В узкой комнате, у окна с решёткой, твёрдая больничная кушетка, на которой сидит зверовидный солдат в пилотке, чёрном комбинезоне и тапочках. В руках у него гитара.
Другой солдат, тоже в тапочках сидит напротив него, у стены на стуле.
– Чё нада?!
– Это вы «Shocking Blue» сыграть хотите. Я могу показать.
Они переглянулись.
– Ну, покажи.
( … красота спасёт мир?
Ну, это ещё бабушка надвое сказала.
Уж больно расплывчатая это штука – красота.
Другое дело – музыка. Она способна творить конкретные чудеса. Наводить мосты. Отбрасывать лишнее.
Вместо «фазана» Замешкевича, «черпака» Рассолова и «салаги» Огольцова остались просто три парня, передающие гитару из рук в руки …)
Через пару дней в жестяную обивку двери постучал, изъеденными известковым раствором пальцами, днепропетровский, Саша Рудько.
Музыкант Александр Рудько.
Бас-гитарист. Он «на гражданке» работал в областной филармонии.
Так началось создание ВИА «Орион» в нашем военно-строительном отряде на аппаратуре и инструментах оставшихся от прежних призывов.
Ребята ходили в штаб, говорили с замполитом.
Сашу Рудько назначили завклубом части.
Но он так и не завёл себе «пэша» и ночевал в казарме второй роты и стоял там на вечерних проверках.
Он знал нотную грамоту. Играл на всём, что подвернётся. Учил нас делать распевку «ми-мэ-ма-мо-му» и страдальчески моргал мутновато-голубым взглядом на мою лажу в пении.
У него был большой, припухший от постоянных насморков нос, и он картавил.
Но он был Музыкант.
А я начал вести двойную жизнь.
После ужина – в клуб, до вечерней проверки.
– Разрешите стать в строй, товарищ старшина?
– А ты чё опаздываешь, Огольцов?
– Был в клубе.
– И чем это вы, клубники, там занимаетесь?
В строю хаханьки в поддержку намёка.
– Занимаемся сольфеджио, товарищ старшина!
У старшины тупо застывает лицо. Он таких слов отродясь не слыхал.
В строю хаханьки погромче, но уже в обратном направлении.
– Замполит части в курсе, товарищ старшина!
– Встань в строй, сафл… сажл… Ссука!
А в рабочее время я – как все.
Нас перебросили на пятиэтажку – её готовят к сдаче.
Витя Новиков и Валик Назаренко зазвали меня в пустую квартиру. Мы распили бутылку вина с горлá. Забытый кайф.
До вечерней проверки всё выветрилось. Да и по скольку там было-то на троих?
На вечерней проверке капитан Писак посылает дневального в посудомойку за кружкой – будет тест на употребление алкоголя.
Продвигаясь вдоль строя, Писак даёт солдатам кружку – дыхнуть в неё, потом нюхает оттуда. Двоим уже приказал выйти из строя.
Когда он протянул кружку мне, я понял, что мне – пиздец. Я сам себя выдал ещё до выдоха в неё тем, что меня бросает то в жар, то в холод.
За бляху он дал мне пять нарядов, а теперь – полный пиздец.
Писак нюхнул из кружки и, не глядя мне в глаза, садистски выговаривает:
– Ну, вот, если человек не пил – сразу видно.
После проверки Витя Стреляный с улыбкой говорит:
– Ты был белее стенки.
Как будто я сам не знаю!
Писак, сучара! Что за кошки-мышки?
И снова выходной. Аж не верится.
Вечером показали кино. Польский фильм «Анатомия любви» с намёками на эротику.
Может в Польше было больше, но, пока кино досюда докатилось, порезали кому не лень; начиная от цензуры и до прыщавых киномехаников, что вырезают из лент куски, где в кадре голые титьки.
Для близких друзей и личного пользования.
Кретины.
Утром, стоя в ряду мочящихся в сортире, я грустно встряхнул свой и, застёгиваясь, безмолвно сказал ему среди общего гама:
– Такие дела, кореш. Быть тебе два года всего лишь сливным краном.
На работе мы носилками вытаскивали строительный мусор и лишний грунт из подвала; делали планировку.
Все такие молчаливо тоскливые после вчерашнего фильма.
В перекуре я, от нечего делать, начал доставать Алимошу.
Он всё отмалчивался, или кратко посылал, а потом вдруг вскочил и набросился на меня с кулаками.
Пришлось отмахиваться как умею. А умею я, прямо скажем – никак.
Тут зашёл Простомолóтов, крикнул прекратить и мы опять взялись за носилки.
Я пару ходок сделал, смотрю, а боль в правой руке не утихает. Неудачно ударился большим пальцем об татаро-монгольскую Алимошину рожу.
Наутро кисть вообще распухла и, после развода, помощник фельдшера из санчасти – тот самый из нашего призыва, только уже в «пэша» – повёз меня в ставропольский военный госпиталь; до города грузовиком с бригадой, а там городским транспортом – для солдат проезд бесплатный.
Когда приехали, он сказал мне подождать во дворе, а сам зашёл в какое-то здание.
Хорошая территория. Густой сад с деревьями жёлтой алычи. Жаль аппетита нет – рука ноет.
Сидя на скамейке возле здания, я заснул.
Открываю глаза – круглая морда с длинными кошачьими усами прямо передо мной. Я аж дёрнулся, хорошо спинка скамьи удержала.
Гляжу – у котяры капитанские погоны. Понятно: увидал, что солдат спит спозаранку и начал обнюхивать на предмет выявления присутствия алкоголя.
Тут мой сопровождающий вышел, отвёл меня на проверку; оказалось – перелом.
Они мне кисть щупают, а я шиплю, как гусак, и второй рукой сам себя по боку хлопаю, словно крылом перебитым.
Ладно, говорят, и так срастётся. Обмотали кисть бинтом, гипсом обмазали и оставили меня в госпитале.
Спасибо, Алимоша!
Но мыться одной левой рукой неудобно.
Что может быть лучше перелома? Никаких уколов – лежи и жди, пока срастётся.
В столовой столики на четверых обедающих и стулья, а не лавки.
И хавка получше, чем у нас. Понятное дело – в госпитале офицерá тоже лечатся. Конечно, знаков различия тут нет, все пациенты в пижамах. Просто офицерские палаты на втором этаже, а для солдат в полуподвальном.
Какая разница где спать?
Тем более отсюда к столовой ближе, она у нас, в конце коридора.
Госпитализированных не слишком много. В моей палате кроме меня один грузин Резо, а коек четыре.
Чёрные волосы у Резо такие длинные, что может зачёсывать их назад. Явно «дед».
Левую руку он держит плотно прижатой к боку.
Он работал на уборке урожая водителем и там, на полевом стане, начал крутить любовь со стряпухой, а её муж ударил его в спину большим кухонным ножом.
Стряпуха теперь его навещает.
Они уходят в сад пониже аллеи, а потом Резо приносит алычу в карманах пижамной куртки; угощает меня, но мне не хочется.
А соседняя палата заполнена. Там даже есть один из нашего стройбата.
Тоже «дед», но русский – Санёк. Волосы русые, а правая бровь слизнута плоским шрамом.
Он ходил в самоволку на своём тракторе, куда-то там врезался, или перевернулся. Пришлось ампутировать обе ноги выше колен.
В столовую он не ходит. Ребята ему оттуда обед прямо в палату носят, хотя у него есть костыли и пара высоких протезов рядом с койкой.
В журнале «Сельская жизнь» на передней обложке он увидел фотографию ударницы-комбайнёрши со Ставрополья, на фоне комбайна и пшеничных колосьев; и теперь ей письма пишет.
«Здравствуйте, незнакомая Валентина…»
Иногда его навещают водители-сослуживцы из нашей части. После их визитов он орёт песни и скандалит с дежурным по госпиталю, но ему это сходит с рук; всё равно не сегодня-завтра комиссуют.
На втором этаже есть библиотека. Жаль читать нечего. Всего две полки книг и все переводы с китайского, о том как строится социализм в китайской деревне. Печаталось в пятидесятые, до разоблачения культа личности на ХХ-м съезде КПСС; то есть, до того, как Мао-цзе-Дун обиделся за своего корифана Сталина и в обеих великих державах перестали петь:
Москва – Пекин, Навеки дружба…А куда денешься, если читать нечего? Вот и читаешь социалистический реализм в духе Жеминь Жибао.
В соседней палате переполох на весь коридор – комбайнёрша Валентина ответила на письма личным появлением.
Стоит во дворе под деревом. Вся такая смуглянка-молдаванка лет за тридцать; красивая красотой киноактрис из первых советских цветных кинолент про колхозы в казачьих станицах.
Красавчик в госпитальной пижаме ей втолковывает, что Санёк сейчас выйдет – у него процедура.
А Санёк в полуистерике на койке в палате пристёгивает свои протезы; ему помогают натянуть сверху пижамные штаны и на двух костылях под мышками он неумело волочит своё тело к выходу.
Но Валентина – молодец, минуты три она с ним всё же посидела на скамейке перед входом.
Потом тот же красавчик повёл её по тропинке к выходу через прореху в заборе.
А Санёк в тот день опять нажрался.
Через два дня по той же тропинке… Смотрю – не врубаюсь… Не может быть!
Ольга!
Точно – она!
Подбежала. Обнялись. Только волосы у неё уже тёмно-рыжие и незнакомые брюки в больших жёлтых цветах.
В тот же вечер я в тех брюках пошёл с ней в парк на танцплощадку. Ещё какая-то водолазка в обтяжку. А на ней, конечно, мини-юбка.
На площадке какие-то местные начали вязаться, но меня два «черпака» из нашей части опознали и подошли.
Один в гражданке, второй в «пэша». Я и имён их не знаю.
Местные врубились, что стройбат гуляет в самоволке и – отвалили.
У Ольги в жизни – ворох новостей.
Она опять уехала в Феодосию, а там в яслях мест нет.
Она с Леночкой пошла в горисполком на приём к председателю, а тот тоже – нет мест, и всё тут. Так она Леночку просто на стол ему положила и ушла.
Он до самой лестницы за ней бежал:
– Женщина! Заберите ребёнка!
Вобщем, нашли место. Сейчас её мама за Леночкой смотрит, вот только по пути в Ставрополь в поезде у неё деньги вытащили.
И моё обручальное кольцо пропало.
Но это ещё в Конотопе – она ж его носила на пальце, а оно широкое и когда пелёнки стирала не заметила как оно в таз соскользнуло; так с мыльной водой и выплеснула в сливную яму.
На следующий день она заняла деньги на обратный путь у стряпухи, что как раз проведывала Резо, и ушла по той же тропинке.
Мне сняли гипс с руки и выписали.
Я поехал на юго-восточную окраину Ставрополя и от Кольцевого пошёл под высокими деревьями вдоль трассы на Элисту к развилке на Дёмино.
На грунтовой обочине лежали редкие ярко-жёлтые листья. Светило солнце, но чувствовалось, что уже осень.
А где же лето?
На трассе затормозил один из стройбатовских грузовиков. Водитель крикнул мне:
– Домой?
Я ответил, что да, домой, и запрыгнул в кузов; потому что ни с работы, ни из самоволки мы не возвращались в «часть», или в «казарму».
Мы возвращались «домой».
Дома тоже оказалось не без новостей.
За время моего отсутствие наше отделение пережило разгул «дедовщины», когда их после отбоя выводили на плац и заставляли ходить «гусиным шагом», в полуприседе.
Избивали.
Особо зверствовал Карлуха из второй роты – покалывал «молодых» ножом; не резал, но покалывал. А сам – шибздик, на полголовы ниже нормального роста.
Потом в подвале 50-квартирного ломанулся с ножом на Сергея Черненко, он же Серый, из Днепра; но у Серого после зоны остались навыки к таким разборкам и он его вырубил.
Карлуха блатовал только на том основании, что он «дед», но «деды» из тех, кто срок мотал и пайку хавал за него не писанулись против Серого.
Так что всё, типа, поутихло, но напряжённость сохраняется.
На волне этой напряжённости какой-то «фазан» ко мне прицепился:
– Ты чё – блатной?
Скажешь «да», так за слова отвечать надо, а для меня статьи Уголовного Кодекса такая же закрытая книга, как и формулы органической химии.
Я сказал «нет», он завёл меня в бытовку и начал стричь «под ноль» ручной машинкой – мол, чересчур оброс для «молодого».
А мне не жалко, за два года ещё отрастут. Только машинка тупая и пару раз дерганула очень больно.
В бытовке присутствовал штукатур из третьей роты, который пришёл проведать своих земляков-армян.
Он и предложил «фазану» – «давай я докончу», а тот уже и сам не рад, что начал – отдал машинку.
Вобщем, достригал меня Роберт Закарян, а когда машинка заедала, он говорил «извини».
Я уж и забыл, что такие слова бывают.
Потом он тоже начал приходить в клуб и стал вокалистом «Ориона».
У него чистейшее русское произношение, потому что он вырос на севере.
Его отца посадили за диссидентство, или что-то такое, а когда его выпустили на «химию», на том же севере, то мать взяла Роберта с братом и переехала туда же.
Потом отец подал заявление на выезд из Союза. Года два волокитили, отец умер, а тут и разрешение дали.
До выезда ещё оставалось время и Роберт поехал в Сочи отдохнуть.
Там он познакомился с девушкой Валей из Тулы и влюбился.
Они обменялись адресами и когда Роберт вернулся домой, то сказал, что никуда не поедет.
А бумаги уже все оформлены на семью в полном составе, если он откажется, то и мать с братом не выпустят.
Брат лез в драку, но Роберт стоял на своём. Потом мать начала плакать и он поехал с ними в Париж к родственникам, которые и присылали вызов.
Он работал там на стройке, языка не знал, друзей не имел и мечтал только про Валю из Тулы.
Через год, с туристической группой из Франции, Роберт Закарян приехал в Москву и в первый же вечер, отделившись от группы в гостинице, махнул в Тулу.
Десять дней он жил там в доме родителей Вали, а потом её мать уговорила его сдаться властям.
В тульском КГБ ему обрадовались, потому что в Москве уже на ушах стояли из-за исчезнувшего туриста из Парижа.
Его враз на самолёт и – во Францию.
В Париже он обратился в советское посольство с просьбой пустить обратно к любимой.
Потом каждую неделю приходил туда и работник посольства, с татуировкой «Толик» на руке, качал головой и говорил, что на заявление нет ответа.
Только через год Толик сказал, что пришёл положительный ответ.
Роберт приехал в Тулу, женился на Вале, у них родилась дочь и его забрали в стройбат.
Он любил показывать чёрно-белую фотографию своей семьи: слева он сам – широколицый черноволосый, с серьёзным взглядом широко расставленных глаз под широкими чёрными бровями положительного семьянина; справа жена Валя – в белой кофточке и с круглым лицом в обрамлении светлых волос; в центре – дочь-младенчик в чепчике в мелких кружевцах.
Так что в стройбате не одни только зэки с калеками, но и двойные эмигранты тоже попадаются.
К седьмому ноября ВИА «Орион» выступил со своим первым концертом в клубе части.
На барабане с хэтом стучал Володя Карпешин, он же Карпеша; вокал – В. Рассолов и Р. Закарян; Саша Рудько им подпевал и играл на бас-гитаре; я молча играл на ритм-гитаре.
В составе нашего вокально-инструментального ансамбля имелся также трубач Коля Комисаренко, он же Комиссар, невысокий чернявый парень из Днепра жизнерадостно еврейской наружности.
Играл он старательно, но лажал не меньше, чем я в своём пении.
Рудько страдал, но терпел, должно быть вид трубача на сцене ущекотывал его ностальгию по филармонии, а чтоб поменьше резало слух, он урезал партию трубы и делал её всё короче и короче.
Для концерта мы переоделись в парадки (трое из нас в чужие, потому что парадку выдают когда отслужишь один год).
Концерт начался исполнением «Полюшко-Поле» (типа, как патриотическая).
Рудько мечтал сделать её с раскладкой на голоса как у «Песняров», но при ограниченности голосового диапазона вокалистов и с заездами Комиссаровой трубы не в ту степь (на что он и сам оторопело таращился, но – дул), эту филармонию чуть не освистали.
Зато Роберту похлопали за его номер (типа, как лирическая).
Он исполнил переделку французской песни, под музыку к которой в телепрограмме новостей «Время» на Центральном Телевидении годами рассказывали про прогноз погоды на завтра.
Я тебя могу простить, Как будто птицу в небо отпустить.. .Военнослужащие кавказских национальностей (в основном из отдельной роты) с горячим воодушевлением приняли песню «Эмина» в исполнении В. Рассолова (типа, как восточно-комическая).
Под чадрой твоей подружки Не подружка, а твой дед. Э, Эмина!..А песня «Дожди», из репертуара Фофика (ДК КЭМЗ, г. Конотоп), удостоилась единодушной овации (типа, как хит сезона).
Однако, в устной рецензии замполита части, высказанной после концерта в узком кругу музыкантов, заключительная песня получила самую низкую оценку.
– Рудько! Эти твои «Дожди» уже всем настопиздили…
Он состроил слащаво-гнусавый голос, подразумевая эстрадных звёзд:
– Дожди… ты меня жди… да, не буду я ждать… и пошёл ты нá хуй…
Мы невольно засмеялись.
Эту, конкретно, песню он слышал в первый раз, но в точности ухватил суть лирики музыкальной массовой продукции данного пошиба.
Я сквозь дожди пройду, Ведь я тебя люблю-у-у-у!..А в бригаде у нас опять поменялся командир отделения.
Простомолóтова вернули в его бригаду, но без разжалования из ефрейторов, потому что ни на чём он пойман не был, а просто зашёл в контры с прапором, командиром взвода.
Скорее всего, в какой-то момент не скрыл от прапорщика своё интеллектуальное превосходство; «заблатовал», как говорят в стройбате.
На его место пришёл азербайджанец Алик Алиев в фазанисто ушитом хэбэ.
Стройный парень высокого роста с красивым круглым лицом, в котором чистая тонкая кожа обтягивала высокие скулы и развитую челюсть.
Через неделю ему дали звание ефрейтора, он построил наше отделение, хлопнул ладонью о кулак и радостно объявил:
– Юбать буду!
Но он несколько поторопился в своих прогнозах и радостных предвкушениях.
В нашем отделении нашлись, не менее рослые, но более сдержанные в эмоциях рядовые, которые спокойно поделились с Аликом своими понятиями – и он их тоже понял и принял – что, если люди, попавшие в стройбат после зоны, не блатуют, то и ему, оказавшемуся здесь по причине недостаточно свободного владения русским языком, правильнее будет проявлять сдержанность.
Ну, а ко мне у него с самого начала не было никаких претензий.
Ещё будучи рядовым, он оказался невольным свидетелем случая, когда в бытовке роты Простомолóтову, тогда ещё командиру нашего отделения, двое старослужащих из «Ориона» втолковывали постулат о неприкосновенности музыкантов.
Так что на работе теперь мы просто делали своё дело – копали, таскали, клали, подымали, а после работы отдыхали в пределах очерченных стройбатовским бытом.
Конечно, нам не позволялось до отбоя лечь в кубрике на заправленную койку – это привилегия «дедов», но оставались ещё табуреты в проходе и бытовке; можно сесть и посидеть.
А выходить в беседку перед тамбуром стало уже слишком холодно.
Потом началась зима.
Нам выдали шапки и бушлаты. На ГАЗонах и УАЗах, которыми нас возили на работу, натянули брезентовый верх над кузовами, а в них появились лавки-доски от борта к борту, чтобы ездить сидя.
Тёмно-синим вечером, после работы, наше отделение собралось у подножия девятиэтажки, но грузовик за нами запаздывал. Мы даже вышли ему навстречу, по ту сторону останков лесополосы и ещё метров на сорок.
Рядом тянулся пустой в такую пору тротуар к отдалённому кварталу пятиэтажек.
Мы стояли широким кругом на утоптанном снегу. Приколы, подначки, хлопки по плечам – обычная оживлённость в конце обычного рабочего дня перед отъездом к обычной хавке в стройбатовской столовой.
Мне надоело слушать сто раз слышанные прибаутки и я замедлено пошёл к свету далёкой электролампочки на торцевой стене девятиэтажки.
( … один из способов преодоления тягучести времени – это поглощение пространства….)
Вот я и топал в темноте, зная, что без меня не уедут, как не уедут и без пары «дедов»-каменщиков, что не спеша переодеваются в девятиэтажке.
Вскрики, гики и хохоты товарищей остались за спиной.
Я шёл размеренным шагом, думая ни о чём.
( … такие размышления ещё именуют «прекраснодушным томлением», это когда ничего конкретно не додумываешь до конца, а всё равно, почему-то, грустно …)
Так я зашёл уже в останки лесополосы, когда из грустного далёка донёсся приглушённый зов.
Что-то позвало меня.
Я вернулся в сейчас-и-здесь, нехотя оглянулся и увидал накатывающий на меня задний борт грузовика.
Отскочить я не успел, а только лишь начал прыжок, ещё даже не оттолкнувшись толком от дороги.
Меня спас наклон в направлении будущего прыжка – удар дощатого борта довершил начатое и отшвырнул меня под дерево, а не на дорогу под вертящееся двускатное колесо.
– Мы тебе столько кричали,– сказал Витя Стреляный, когда мы ехали домой.
Ну, не знаю. Я услышал только один зов. И очень издалека.
Дня два болело правое плечо.
В конце декабря наше отделение перебросили на стоквартирный. Вернее, на его начало.
Там имелся лишь котлован под укладку блоков фундамента, и стоял башенный кран на непродолжительных подкрановых путях.
Да, был ещё обитый жестью вагончик с дверью и двумя окошками.
Перед нами поставили задачу: прорыть траншею под блоки боковой стены здания, которая, как выяснилось, должна проходить на два метра ближе к вагончику.
Выкапывая котлован, не учли, что дом окажется стоящим на водопроводе для целого района, но вовремя опомнились и решили сдвинуть ещё не начатое здание.
Однако, пока выясняли и прикидывали, пришла зима, ударили морозы и никакая техника не в силах была расширить котлован – замёрзший грунт не поддавался ковшам экскаваторов и потому пригнали нас.
Половина вагончика оказалась набитой новёхонькими лопатами и нам даже выдали неслыханную роскошь – брезентовые рукавицы.
Разумеется, лопатам грунт тоже был не по зубам – тут требовались ломы.
И их привезли – целый самосвал – и со звоном свалили у вагончика.
Увесистые такие ломы. Метра за полтора длинною. Вот только, самодельные.
На каком-то из местных производств нарезали толстенную арматуру нужной длины, подплющили концы в кузне и со звоном высыпали около котлована.
Лом должен быть гладким – это ручной инструмент. Арматура же сплошь покрыта косыми частыми рубцами, чтоб лучше схватывалась с бетоном. Эти рубцы хоть и заокруглены, но продирают любые рукавицы после десятка ударов «лома» о грунт и даже на самых заскорузлых и мозолистых ладонях натирают водянки в новых местах.
Но если не мы, то кто же встанет на защиту родины от недоструганых головотяпов и жирножопых соплежуев?
Стройбат всё покроет!
Ветер как с цепи сорвался – хлещет по лицу завязками отпущенных ушей шапки; тащит в своём потоке чёрно-серые тучи над самой кабинкой башенного крана. Из-за них с утра до вечера всё вокруг тонет в сумерках.
Отогреваемся в вагончике обогреваемом нашим дыханием.
Рукавицы давно стёрлись в прах. Вместо них хватаемся за морозную арматуру тряпками из найденной в вагончике ветоши.
Удар арматурины в грунт отколупывает от него корявый кусочек размером с грецкий орех. Потом ещё осколок, потом ещё.
Твой напарник стоит спиной к ветру, дожидаясь когда наколешь достаточно, чтоб их отгрести и отбросить лопатой. Через три-четыре наскрёбанные лопаты вы с ним меняетесь.
Как сказал Витя Стреляный:
Привезли нас у Ставрóполь — Землю колупати, А вона ж така твердá — В рот її єбати…( … но у меня подозрение, что это переделка из лагерной частушки эпохи первых пятилеток, сложенная в шахтах Донбасса …)
Впрочем, везде есть место наслаждению – о, как сладко дремлется, сидя на полу вагончика, опёршись спиной на спины товарищей!
Через три часа долбёжки мы открыли, что немногим глубже полуметра мерзлота переходит в грунт поддающийся штыковой лопате.
Через три дня мы разработали технологию проходки.
Если вырыть шурф метр на метр и глубиной в два метра, а рядом ещё такой же, то их можно соединить штольней пробитой ниже мёрзлого грунта. Затем, захлестнув потолок штольни тросом стропы башенного крана, долбишь вдоль краёв мостика мерзлоты до того момента, когда крану хватит сил вырвать цельную глыбищу мёрзлого грунта.
Ага, блядь!
Да, стройбат сделал это.
И хотя до конца траншеи ещё многие дни пáхоты, победа будет за нами.
Мы сломили хребет сумеркам заполярной ночи спустившейся аж до Ставрополя.
Кроме вагончика, от холода можно укрыться в подъезде многоквартирной пятиэтажки по ту сторону котлована.
Когда не стоишь на пронизывающем ветру, то и сигарета греет, если найдётся у кого стрельнуть.
Пока я грелся по подъездам, Алимоша и Новиков исследовали прилегающие земли и обнаружили там молочную фабрику и хлебозавод. Только через забор надо перелазить.
Они вернулись раздутые, как шары, от засунутых под фуфайки трёхгранных картонных пирамидок по поллитра молока и буханок хлеба.
С того дня мы отряжаем туда гонца по очереди. Рабочие без вопросов позволяют загружаться прямо с конвейера.
Иногда выходим на улицы просить деньги у прохожих.
– Брат, на бутылку 27 копеек не хватает; выручи, а?
– Сестрёнка, на «Беломор» 11 копеек не дашь? А то уже уши попухли.
Алимоша объяснил мне нюансы.
К пенсионерам лучше не обращаться – пустой номер, а то ещё и вякать начнут.
И ни в коем случае не просить круглую сумму. Вместо 27 он тебе, как минимум, сам 30 даст; а вместо 11 – «пятнашку».
Зачем деньги?
Ну, вместо махорки по 9 коп., или «Памира» за 11 коп. можно купить «термоядерный» кубинский «Партогас», или ту же «Приму»; только не индийские «Red&White» с фильтром – кислятина в золотистых фантиках.
И вино, конечно, выпиваем иногда. С устатку, под хлебозаводскую закусь.
Как низко я пал! Побираюсь на улицах! И мне не стыдно?
( … ну, во-первых, у нас это поточнее называется: не «побираться», а «шакалить».
А насчёт стыда я, наверное, извращенец. Мне стыднее перед Валей Писанкой за тот цилиндр из ватмана, чем за принятые в ладонь медяки и «десюлики» от прохожих.
Может я, местами, и благородный человек, но, в целом, не испанский гранд – это точно …)
В феврале кончилась хлебозаводская масленица – нас перебросили на строительство медицинского центра.
Тут подвал уже покрыт бетонными плитами перекрытий, но не до конца и под ним, на больших кучах песка, мы разводили костёр, для которого ломами разбивали доски, потому что никакого вагончика и близко нет.
Территория будущего центра оказалась большой, но на отшибе – шакалить негде.
Грузовики, которыми нас возили, предоставляла местная автобаза, с гражданскими водителями.
Нам попался ухарь-асс.
Он влетал на территорию будущего медицинского центра, бил по тормозам УАЗа и тот, скользя по обледенелостям, заносился и разворачивался в обратную сторону – залезай, поехали!
При этом подранный и не закреплённый брезентовый верх кузова вздувался и пузырился, как парашют приземлившегося диверсанта.
Водитель скалился кривозубой улыбкой из-под тощих усов – ему по кайфу было блатовать, типа, цыганской романтикой.
Выхлопная труба его машины могла громко бахкать, но стрельбу он приберегал для проезда вдоль городских тротуаров – шугать прохожих.
Ба-бах!
– Ой, мамочки!..
Ребята что-то поясняли насчёт связи этих хлопков и карбюратора, но я в этом всё равно не смыслю.
В один из первых дней на новом месте я отправился в туалет паркового типа на краю территории.
Малую нужду мы справляли где придётся и за этим я туда, конечно бы, не пошёл.
Просто из-за морозов пользование сортиром части было сопряжено с определённым риском. Весь пол там стал сплошным жёлтым катком, сапоги скользили, и даже сидеть над очком было скользко.
Пока я опорожнял кишечник в том территориальном туалете, у меня стали возникать странные слуховые ощущения.
Я услыхал… ну, не совсем голоса… скорее, отголоски голосов.
Отдалённый слитный гул голосов, без каких-либо отчётливых слов, но явственный ровный гул, без всплесков.
Потом я достал из внутреннего кармана куртки письмо. От этих писем у меня уже давно карман распух.
Не глядя от кого письмо, я использовал его как туалетную бумагу, встал, застегнулся и вдруг – увидел источник гула.
Дощатые стены и перегородки пустого туалета были сплошь испещрены надписями.
Карандашами, ручками написаны, процарапаны имена, названия населённых пунктов, даты.
Некоторые залазили поверх других – не хватало свободного места.
Мне стало ясно, что прежде тут помещался ставропольский сборно-распределительный пункт призывников в армию, и они, уже погружаясь в вечность из двух лет, уже захлёстнутые ею, оставляли тут свои меты: «Саха, посёлок …», «Афон, станица …», «Дрын, город …».
Они уже там – погружены – потому и слов не разобрать, один только гул, но руки ещё дописывают метку: «Андрон …»
( … в стройбате общечеловеческая тяга оставлять по себе отметину не исчезает, но становится анонимной.
Здесь не увидишь классического «тут был Вася», здесь расписываются за всех:
Орёл, ДМБ-73
Читай: «призваны из города Орёл (или орловской области) демобилизуемся в 1973 году».
Графитом, мелом, краской на стенах, на трубах, на жести.
На любом объекте возводившемся ставропольским стройбатом за год-два до 1973-го, найдётся такая надпись.
Затем будет «Тула, ДМБ-74».
Придёт черёд и для «Сумы, ДМБ-75», «Днепр, ДМБ-75», но до этого ещё так далеко!..)
«Орион» принял участие в городском музыкальном конкурсе.
Мы исполнили два номера, но никакого места не заняли.
Мне вообще показалось, что весь конкурс был затеян, чтоб показать какого-то местного певца.
Молодой парень мог петь без микрофона на весь зал. Вот что такое голос.
Вторым номером у нас была «Песня индейца» из репертуара Тома Джонса; неизвестно о чём он в ней пел, но в советской переделке она оплакивала горькую долю краснокожих:
Из резерваций, брат мой, знай: Одна дорога – прямо в рай…В этом конкурсе у нас уже играла целая группа «медных».
Переведённый неизвестно за что и не помню откуда прапорщик Джафар Джафаров пришёл в клуб части и сказал, что он играет на трубе.
Своей внешностью он оставлял приятное впечатление мягкости.
Округлое лицо с мягкой кожей приглушённо оливкового цвета; мягкий блеск чёрно-маслиновых глаз; мягкая улыбка, когда он выговаривал: «я тебе мамой клянусь!»
И он действительно играл на трубе, которую приносил и уносил с собою.
Комиссар здорово подтянулся рядом с ним.
Ещё в клуб зачастил Серый – укротитель Карлухи.
На работу он забил ещё в самом начале службы и в стройбате просто мотал очередной срок в два года.
А чё, та же колония только режим помягче и спецуха цвета хаки.
Приехав утром на объект, он уходил в город и возвращался лишь к вечернему грузовику.
Иногда его сажали на «губу», но даже комбат со своим маразмом понимал бесполезность подобных воспитательных мер к этому уже вполне сложившемуся блатному, отмеченному лысинкой шрама на брови тонкогубого лица, зависшего поверх широких плечей на по-волчьи вытянутой шее.
Серый шёл по жизни незатейливой стезёй потомственного блатного.
В комнате музыкантов он делился отчётами о своих недавних похождениях в городе или шугал Комиссара.
Это было неправильно, потому что и Комиссар, и он – одного призыва, но у Серого зонный кодекс перевешивал стройбатовский.
В преддверьи становления «фазаном», Комиссар сделал себе большую наколку на весь тыл правой кисти – горы, восходящее из-за них солнце и надпись «Северный Кавказ».
На сцене он становился татуировкой к залу и горделиво косил глазом на живописную работу неизвестного автора.
Наверное, Серого заело, что Комиссар блатует более броской наколкой, чем его паук-крестовик, знак для посвящённых, вот он и цеплялся.
( … впрочем, там где у меня стоит слово «наверное» не стóит слишком-то верить нá слово – наверняка вокруг него идут лишь предположения да измышления всякие.
Вариантов и толкований может быть целая уйма, но этим «наверное» все отметаешь и оставляешь одно, может быть, и не самое верное.
Слово требует осторожного с ним обращения.
Иной раз ляпнешь чего-то такого разухабистого
«эх! лабухи – одна семья! мы друг за друга – стеной!»,
а потом неловко себя чувствуешь: эка, как меня опять занесло!
Потому-то всякие обобщающие наименования хороши лишь для лозунгов:
«Пролетарии всех стран – соединяйтесь!»,
или там
«Двуногие! Возлюбите друг друга!»
и срабатывают они лишь до той поры, покуда общие интересы совпадают с интересами данного индивидуально взятого млекопитающего; но стоит интересам разойтись и – сразу: «вы – себе, а мы – себе!» …)
Взять того же Юру Замешкевича.
Покуда, заперев кочегарку, он может укрыться в клубе, чтоб не мозолить глаза отцам-командирам, а побренькать там на гитаре, выпить кружечку чифира принесённого из кухни, он – свой.
Человек тонкого душевного склада, изысканный ценитель истинной музыки, верный друг, прекрасный товарищ и надёжный брат; одним словом – лабух.
Но вот приехала к нему жена и ждёт его на проходной, а он бегает в поисках парадки и шинели, чтобы уйти с ней в город, наскоро бреется, получает в штабе бумажку увольнительной записки, заскакивает зачем-то в клуб и, выходя, на прощанье приподымает меня, сидящего на кресле заднего ряда, в воздух, схватив медвежьей хваткой за член и вокруг него.
Конечно, я ору!
Потом боль проходит, но остаётся неизбывное недоумение.
Зачем?
( … ответа не нашёл я ни у наивного примитивиста Фрейда с его братией, ни в Упанишадах с Бхагаватами, ни в двух Заветах, ни в Коране.
Лишь в «Истории России с древнейших времён», когда Лже-Дмитрий прятался в палатах, тот казак, что его обнаружил, вытащил на расправу ухватив за «потаённый узел».
Но там хотя бы прослеживается какая-то цель, а тут…
Что ему с этого?..
Некоторые вопросы не по силам людскому пониманию; мы можем лишь указать на них, в назидание любознательным, и развести руками – сие пребывает за пределами доступного разумению человецей.
Для таких случаев имеется даже специальное научное название; когда, допустим, ты настолько крут, что проссыкаешь до трёх метров льда, но в какой-то херне даже и ты хуй проссышь, вот это уж оно и есть – трансцендентализм …)
Так чем же мы занимались в клубе помимо сольфеджио, репетиций и обмозгования трансцендентальных вопросов?
Промелькнувшим, вскользь, чифиром?
Его горечь была редким лакомством. Да и водка случалась не чаще.
У нас имелся кодовый стук в дверь комнаты начальника клуба, она же музыкантская.
Правильно постучишь – откроется дверь, а если нет, то иди откуда пришёл, или голос подай, покричи – чё те нада…
Один раз, после правильного стука, в двери нарисовался замполит части и прапор из четвёртой роты. Наверняка он и постучал, гид-экскурсовод грёбаный.
У Рассола реакция – будь-будь, пока те вкруговую секанули кто тут, шо и почём, он бутылку опустил в кирзовый сапог из той пары, что возле этажерки стояла.
Конечно, замполит нас всё равно назвал притоном алкашей и тунеядцев, но прямых улик уже не было.
А больше всего мы разговаривали – кто что делал «на гражданке», как будет жить после дембеля и как третья рота ходила мочить отдельную, но чурки бляхами отбились.
Чемпионом говорения был, разумеется Карпеша – негромким доверительным голосом часами мог он рассказывать как ездил в отпуск и за десять дней шесть раз ссорился и мирился со своей бывшей одноклассницей.
Тебе не интересно слушать в седьмой раз?
Выходи в пустой кинозал, там тебе Роберт расскажет про жизнь в Париже, где все всё про всех знают; например, что Жан Марэ – голубой.
Жаль, конечно. В «Фантомасе» он мне не понравился, но в роли Д‘Aртаньяна из «Железной маски» – само воплощение мужественности.
Что этот Париж с людьми делает.
Серый поведает как шугал влюблённые парочки на своём «кутке».
За калитку выйдет, на батиной двустволке курки взведёт:
– Ну, шо, Ромео, догулялся?
Тот, конешно, рвёт когти, но, сука, зигзагами, и через плечо советы выкрикивает:
– Беги! Света, беги!
Или как он первый раз своей молодой жене навешал и наутро у неё глаза позаплывали, как у китаёзы.
A Джафаров, поглаживая красивый мягкий блеск своей трубы, расскажет как он ещё пацан был и на одной халтуре подглядел как одна блядь делала минет офицеру, а потом вышла в зал и дальше танцевала с кем-то ещё и взасос целовалась с другим офицером, по званию старше первого.
– Но такая, блядь, женщина. Клянусь честным словом! Красавица.
А когда он служил в сводном оркестре, их руководитель вообще по городу с тубой ходил. Самая большая труба в духовых оркестрах. Халтуру искал. Да.
Ходит и смотрит – куда похоронные венки понесут и он туда же.
– Военный оркестр хотите на похоронах? Можем договориться.
Клянусь, такой проныра.
Но оркестр, конечно, не в полном составе.
Такая халтура называется «жмурика лабать». Да.
Один раз так же вот лабать приходим. На втором этаже, дверь открыта, зашли.
Родственники сидят плачут. Всё как положено. Но что-то уж очень слишком плачут. И на музыкантов ноль внимания.
Руководитель к той, с кем договаривался:
– Что за делá?
– Ой, у нас горе! Наверно, похороны придётся отменить.
Заводит нас в другую комнату – там ещё больше плачут.
По центру стол, на нём гроб. Всё как положено. А в гробу покойник сидит. Ну, в натуре, клянусь – сидит!
Он при жизни горбатый был. Горб большой, лечь не получается. Накрылась халтура…
Руководитель подходит – на лоб ему надавил; тот через горб перекинулся – лёг как надо; только теперь ноги кверху – брык! – и торчат. Крышка не закроется.
– Мы так уже пробовали,– говорит та, с кем договорено, и ревёт громче всех в комнате.
Но руководитель молодец – догадался:
– Всё,– говорит,– пусть из комнаты все выйдут, а останутся одни музыканты.
Вобщем, вытащили покойника, опустили на пол, перевернули и сверху гробом – хрясь!
Не пропадать же халтуре.
– И помогло?– сквозь слёзы спрашиваю я.
– Что-то треснуло, но – клянусь! – распрямился.
Гроб на место поставили, его положили – лежит как положено; вот только…
– ?? (у меня уже нет сил спрашивать)
– Ноги на десять сантиметров из гроба вытарчивают; он же, мамой клянусь, длиннее стал…
В байке лабуха про горбатого жмурика реальность переплетается с вымыслом, я испускаю дух на деревянном кресле кинозала, задохшись в хохоте, и понятия не имею что в Ставрополе есть крайком КПСС, а в том крайкоме есть первый секретарь, а того секретаря зовут Горбачёв, но среди местных «цеховиков» у него кличка «конверт».
( … «цеховики» – это люди, которые делают бизнес в условиях развитого социализма, но за это им приходится платить.
М. Горбачёв приучил ставропольских цеховиков, чтобы плату они приносили исключительно в конверте, как во всём цивилизованном мире …)
Не хочу, чтобы сложилось впечатление, будто стройбат – это беспросветно унылый каторжный труд.
Порой и здесь наступает весна и мы переходим на летнюю форму одежды, сдаём старшине роты фуфайки и бушлаты, ставшие почему-то такими тяжёлыми; меняем жаркие серые шапки на пижонистые пилотки.
Так приятно налегке стоять на разводе под свеже-синим небом с перьями облаков; въезжать в открытых кузовах грузовиков в залитый утренним солнцем город, где вдоль тротуаров ходит столько разноцветных платьев и юбок.
Весной девушек прибавляется и они начинают выплёскиваться за пределы тротуаров.
Во всяком случае, в конце дня две девушки появились даже на территории будущего медицинского центра.
Я шёл к месту сбора, куда приезжает за нами грузовик, а те две девушки метрах в тридцати впереди. Наверное, куда-то путь срезали; идут себе не спеша, говорят о чём-то.
Вдруг разговор их оборвался, минуя место сбора, они перешли на скорый шаг и скрылись из виду.
А там уже сидит Саша Хворостюк – первым явился.
Унасестился на невысокий столбик – руками упёрся в колени широко расставленных ног, типа, в позе ППП – «пахан параши петухов» – и, свысока так, водит клювом по сторонам. Из расстёгнутой ширинки хэбэ свисает его член.
Потому и девахи отсюда ломанулись; больше тут срезать не будут.
Вот ведь ёбаный утконос!
А иногда в стройбате вообще вдруг окунаешься в мир иной – без траншей, лопат, поддонов и шуганины…
Всё шло как заведено, но, въехав в город, грузовик повёз нас незнакомым маршрутом.
Наверно, ефрейтор Алик знал куда мы едем, но ограниченный словарный запас не позволяет говорить толком, вот он и отмалчивался с загадочно важным видом.
Грузовик остановился у здания городского цирка, мы спрыгнули вслед за Аликом и мужик в гражданке сказал что предстоит нам делать.
В цирке идёт пересменка – одна труппа выезжает, а на её месте начинает гастроли цирк лилипутов.
( … какая роль достаётся стройбату в промежутке между двумя цирками?
Точно! Погрузить один и разгрузить второй …)
Но всё равно это был праздник и мы празднично втаскивали большие ящики в длинные прицепные фургоны с брезентовым верхом и празднично вытаскивали такие же ящики из таких же, но других, длинных прицепных фургонов.
А потом мы съели по мороженому, выпили кваса из бочки на околоцирковой площади, зашли в его здание и расселись, кто где, на зрительских креслах пустого амфитеатра вокруг арены.
Представители только что прибывшей труппы лилипутов ходили восхищёнными кругами вокруг самого низкорослого члена нашей погрузочно-разгрузочной группы особого назначения.
Если б он вырос на два сантиметра короче, то его не загребли бы даже и в стройбат; а так – метр пятьдесят шесть есть? – годен!
Один из лилипутов даже о чём-то негромко поговорил с ним; солдат так никогда и не признался нам – о чём.
Скорее всего его сманивали в номер силовых акробатов, когда на нижнем силаче выстраивается целая пирамида из более легковесных гимнастов-лилипутов.
Какая-то лилипуточка позвала меня помочь ей.
Мы с ней покинули здание через боковой ход и она повела меня к ряду вагончиков на автомобильных колёсах.
( … как-то странно идти за женщиной, которая тебе по пояс; чувствуешь себя слоном в индийской деревушке …)
Она поднялась на высокое крыльцо, вскинула руку над головой, подёргала ручку двери и тонким голосом попросила меня открыть.
Я опустил ладонь на ручку, чуть налёг, чтоб повернулась, и распахнул дверь.
– Спасибо!
– Пожалуйста.
До чего, оказывается, неудобно жить в мире не подогнанном под тебя.
Я вернулся в цирк, где Алик Алиев самозабвенно гонялся по кругу арены за низкорослым белым пони, который в гробу видал таких ефрейторов-джигитов в кирзовых сапогах.
Оркестр духовых наскоро репетировал бравурные марши с нагловатой фальшивинкой присущей оркестрам цирка.
Группка лилипутов скопилась возле тяжёлых складок занавеса и одна из них – размером с детсадницу старшей группы – закатывала матерный скандал своему мужу, которого застала в вагончике с другой лилипуткой.
Исполненная цыплячьим писком матерщина теряет в своём удельном весе, но накал эмоций скандалистки не уступал глубине страстей в шекспировских твореньях.
Ольга приехала посреди дня.
Нас привезли на обед и мне сказали: «твоя жена на проходной».
Я – туда, оттуда – в штаб. Увольнительную дали только до утра. Говорят, комбат не здесь, после утреннего развода продлят.
Потом еле-еле парадку нашёл – старшины нет, а ключ от каптёрки только у него.
В хэбэ городские военные патрули на увольнительную не посмотрят – загребут.
Так что, в город мы приехали вечером, но у неё место в гостинице уже было.
Номер на двоих, с умывальником на стенке.
Тут к нам какой-то рыжий парень постучался. Ольга говорит – познакомься, мы вместе в поезде ехали.
Он в свой номер пригласил, там у него встреча с друзьями.
Мы пошли, только Ольга попросила, чтоб я говорил, будто она моя сестра – она ему в поезде лапшу вешала, что к брату едет.
( … ну, ладно. Сара с Авраамом тоже так прикидывались …)
У него в номере длинный стол весь вином заставленный – гусарская пирушка.
Он учился в ставропольском авиационном военном училище лётчиков-штурманов, но его за что-то там отчислили и вот приехал друзей проведать.
А те уже курсанты третьего курса.
Я их училище знаю, вместе с нашим отделением в их новом корпусе в подвале перегородки ставил. Когда эти курсанты по звонку убегали со двора на уроки, мы в их беседках бычки стреляли.
Тут у них вокруг стола свои воспоминания идут, тосты. Мы тоже выпиваем.
Смотрю, этот рыжий свою ладонь Ольге на коленку – она между ним и мной сидела.
Ну, что? Хватить его бутылкой по голове? Так брату не положено – вдруг будущего зятя спугну?
Она, конечно, руку его сняла, а я, типа, ничего не видел. Ушли мы.
Она говорит, а что такого?
И правда, в Конотопе на Миру, когда мы у фонтана на скамейке всем кодлом покурить садились, ей тоже коленки гладили, а она точно так же снимала.
Но тогда мы ещё не состояли в браке.
Утром, когда я бежал к УАЗику, что привозит прапоров в часть, Джафаров от смеха по кузову укатывался:
– Ты бежал как в замедленной съёмке. Клянусь мамой, видно, что стараешься, а всё на одном месте. Хорошо хоть ветра нету.
Увольнительную мне дали до вечерней проверки.
Суки.
Когда я вернулся, Ольга всё ещё спала, в кофточке наизнанку.
Потом уже надо было освобождать номер – он даётся на одни сутки.
Я сказал ей, что должен вернуться в часть к вечерней проверке, а она сказала, что вечером у неё поезд.
Мы ещё в кино сходили; какая-то сказка про персидского Геракла по имени Рустам.
Потом посидели на скамейке внизу Комсомольской Горки.
Она сказала, что ей пора на поезд, но провожать не надо, и заплакала.
Прохожие хмыкали – классическая картина Репина: девушка залетела, а солдату это всё по барабану.
Она ушла.
Я ещё немного посидел и поехал домой.
На следующий день в столовой я опрокинул на себя миску супа. Горячий.
Сам не знаю как это вышло. Все как-то так посмотрели, молча.
Облился. Что за знак?
Кофточка наизнанку.
( … есть мысли, которые лучше не начинать думать , а если уж начал, то лучше не додумывать до конца …)
Замполит приказал Саше Рудько, чтоб к 9-му мая в отряде был духовой оркестр, или он из начальников клуба пойдёт пахать на стройку, а старшина его до конца службы на полах сгноит.
И – пожалуйста! За три недели у нас духовой оркестр.
Джафаров с Комиссаром – трубы, Рассол на баритоне, Замешкевич в тубу «бу-бу»; они, оказывается ещё в школьные годы в кружке дудели; Карпеша – барабанщик, Рудько на кларнете, клубный художник, Саша Лопатко, в большой барабан колотушкой бýхает, а у меня самый главный инструмент – две медные тарелки.
Саша Лопатко тоже начинал в нашем отделении, но потом его папа приехал на переговоры с командованием отряда.
Кстати, папа у него – поп. Возможно, за это и в стройбат сынка определили, как поповича.
Боевую технику ведь не каждому доверять можно.
Мы подготовили целых два номера «На сопках Маньчжурии» и «Прощание славянки»; не потому, что угроза возымела действие, а просто лабух за лабуха – стеной!
На 9 мая мы переоделись в парадки и нас маленьким УАЗиком возили по строительным объектам. В сопровождении замполита на «козле».
Праздники для бездельников, а стройбат всегда на боевом посту.
Отделениям-бригадам приказывали временно оставить фронт работ и построиться.
Замполит толкал совсем краткую речь (комбат бы на полчаса завёлся сам не зная о чём), мы играли «Сопки» и «Славянку», и солнце играло на трубах.
Чтобы получился праздник, обязательно нужен духовой оркестр.
Следующим шагом карьеры «Ориона» стало приглашение отыграть танцы в клубе села Дёмино, отстоящего за шесть километров от нашей части вдоль одного и того же асфальтного шоссе.
Мы там не только играли, но и, сменяя друг друга на инструментах, по очереди спускались с маленькой сцены в маленький зал – танцевать в кругу местной молодёжи.
Все, кроме незаменимого бас-гитариста, Саши Рудько.
Под длинную песню Роберта Закаряна, я обнимал крупнотелую дёминчанку Ирину.
Жизнь улыбалась мне.
Юра Замешкевич уходил на дембель и поставил в известность зампотыла Аветисяна, что только я смогу сменить его на посту кочегара части.
Заверения Замешкевича убедительно поддержал повар Владимир Рассолов, которому оставалось служить ещё полгода.
По ходу ходатайства, повар поздравил Аветисяна с получением долгожданного майорского звания.
Майор Аветисян выразил согласие зачислить меня в славные ряды «чмо».
Это собирательное имя охватывало всю обслугу при части: свинарь, посудомойщики, кочегары, повара, слесарь, портной, сапожник, киномеханик, водители отрядных автомашин и даже помощник фельдшера в санчасти – все, кому не посчастливилось трудиться на строительных объектах, составляли «чмо» под командованием зампотыла майора Аветисяна.
( … ЧМО, по сути дела, является аббревиатурой слов «человек мешающий обществу», но её столь выразительное звучание заставило забыть первоначальный смысл и нынче все думают, что «чмо» – это, типа, «лох», но только ещё хуже …)
Юра Замешкевич показал мне местонахождение водопроводного колодца с вентилями подачи воды в водонапорный бак над кочегаркой. Научил зажигать факелом форсунку парового котла, следить за водомерной трубкой и манометром давления.
Меня перевели в четвёртую роту, где числилось всё «чмо», и Юра уехал на дембель.
Из нового, симферопольского, призыва майор Аветисян назначил мне напарника – Ваню, с редкими усами, зато с густыми бровями; хотя вряд ли выбор Аветисяна пал на Ваню из-за ширины его бровей. Скорее всего, папа Вани, приехавший проведать сына на третий день его службы, нашёл убедительные доводы во время переговоров с майором.
Я поделился с Ваней наукой Юры Замешкевича и мы стали работать в две смены.
Кочегарка войсковой части 41769 – это два высоких зала в кирпичном корпусе; в каждом из залов по два котла, обложенных кирпичом в кубе общей для обоих обмуровки, и масса всяческих труб с вентилями и задвижками – для горячей воды, для холодной, для пара, для подачи топлива; в бетонном полу перед топкой каждого котла установлен мотор воздушного насоса для распыления топлива в форсунке.
Однако, постоянно в работе только один котёл, во втором от входа зале – остальные котлы резервные и для отопления в зимний период.
Наша задача летом – обеспечить подачу пара в поварские котлы на кухне для варки пищи, плюс к тому, горячую воду для посудомойки.
Не считая бани раз в месяц.
Три-четыре часа приходится сидеть за круглым столом под высоким окошком напротив неумолчного воя воздушного насоса и гуда пламени форсунки в топке котла, пока дежурный повар не постучит в запертую на крючок дверь и скажет, что хавка готова, можно выключать.
Тишина – это неоценимая благодать.
Направо от входной двери насосная – гонять зимой горячую воду по системе отопления, а если пройти прямиком, то в углу, позади пары котлов первого зала – дверь в мастерскую, где есть окно, деревянный верстак и железный ящик, в котором хранится молоток и тупое зубило; в стене повыше ящика – выключатель электролампочки и узкое зеркальце вмурованное в штукатурку.
Приход лета ЧМО в/ч 41769 отметило общей попойкой.
Отрядная машина, развозящая ужин для сторожей-военнослужащих и тех, кто занят особо неотложным трудом на объектах, вернулась с ящиком водки контрабандно уложенной в опорожнённый котёл-термос.
Дежурный на КПП, как заведено, ограничился мимолётным взглядом в кузов поверх борта возвращающейся в часть машины.
Возлияние началось после отбоя у дальних боксов.
Меня тоже позвали – кочегар нужный в солдатском быту человек.
В ярком свете полной луны человек пятнадцать чмошников сели широким кругом на землю, словно племя аборигенов данного поля, лицами внутрь круга, где отблескивало стекло бутылок и белели бока пары бачков с мясом, поджаренным поварами в больших противнях на кухне. На подстилке из мешковины громоздились несколько буханок хлеба нашинкованные в хлеборезке.
Прежде мне ещё не доводилось пить водку с горлá.
Сперва гадостно, а потом сама льётся.
Жаль закусь быстро кончилась.
Бутылку я так и не допил. Поднявшись на нетвёрдо стоящие ноги, с наилучшими пожеланиями честной компании, я оповестил о незамедлительном отбытии меня в Дёмино.
Спакуха, кенты! Како дежурны бля кака часть? Пшёл он! Я сам дежурны!.. бля…
Но чтобы, всё же, не нарваться, я преодолел ограждение вдали от казарм, неподалёку от свинарника и взял курс на круглый лик полной луны, что светила со стороны Дёмино, но качалась туда-сюда, как на качелях.
Я бормотал ей выговоры за непостоянство и этому полю тоже, что устроило тут морскую качку.
Потом я свалился и попытался приподняться на локтях, но земное притяжение оказалось неодолимым, а поле таким ласкающе мягким.
Проснулся я в сумерках рассвета, всего за сотню метров от свинарника, сдыхая от жажды, и побрёл обратно – выпить воды из крана в кочегарке и свалиться на деревянный верстак в мастерской.
Пожалуй, я чересчур послабил удила своих грёз, когда решил, что до конца службы буду кантоваться в пределах клуба и кочегарки.
После одной из ночных смен майор Аветисян застал меня спящим в мастерской и приказал отправляться в роту.
И это в то время, когда многие чмошники манкировали даже вечерней проверкой!
Штабной писарь спал в санчасти. У художника Лопатко вообще своя комната в клубе.
А тут сидишь весь день под вой мотора, потом ещё на вечернюю проверку топай, где за других чмошников из строя выкрикивают «на дежурстве!», и – нет вопросов.
Чтоб как-то скоротать время пока варится обед-или-ужин-или-завтрак, я через писаря взял книгу в штабной библиотеке. Взял за толщину, чтоб на дольше хватило.
«Идиот» Достоевского.
У-ух! Вот это – книга.
Кульминация за кульминацией.
После школьной программы и не подумал бы, что он так круто пишет.
А больше в штабе и брать нечего – всего одна полка книг, но после Достоевского на Б. Полевого и Н. Островского совсем не стои́т.
Рудько в клубе дал мне буклет «Beatles in America» про ихнее турне там.
Привезено кем-то из «молодых». Я взялся перевести – текста немного, всё больше фотографии.
Однако, без словаря под рукой, моего школьного запаса хватает с пятого на десятое.
Так что перевод получился с домыслами и пропусками, но Рудько и так остался доволен.
Вобщем – рутина из шипения пара, гуденья мотора, вечерних проверок и – снова в клуб.
А утром всё сначала.
Вот Джафаров в кочегарку заскочил. Лицо белое, рубаха на спине тоже – где-то об побелку теранýлся.
– Спрячь! Начальник штаба за мной!
Я в дверь гляжу, а тот уже сюда от кухни прёт своей боксёрской походочкой.
Джафаров еле успел через окошко мастерской в бурьян за кочегаркой выпрыгнуть.
– Никак нет, товарищ майор, сюда никто не заходил.
Но у него нюх, как у собаки и уже слышу за углом:
– Прапорщик Джафаров! Ко мне!
Пиздарики тебе, прапорщик…
Чего это начштаба за ним как с хуя сорвался?
Хотя, какая в хуй разница…
А вечером в поле другая охота.
Отдельная рота обложили крысу и загнали в трубу с заглушкой; плеснули туда бензина и подожгли.
Она выскочила и скачет по полю, как ком пламени, а они следом – культурно-спортивный досуг.
Потом, в ночную смену, я увидел крысиный выводок в проходе вокруг печи с котлами и с криком бросился на них – затоптать; но разбежались.
За что, спрашивается, я вдруг так крыс возненавидел?
Инстинкт самосохранения.
Они ведь людям, и мне в том числе, не простят сожжение той крысы; вот я и кинулся их превентивно перебить.
Придурок.
Однажды я спал на верстаке, а мне что-то на грудь уселось; тёмное такое, типа, сгусток чёрного тумана и – давит; хочу сбросить, а сил нет ни шевельнуться ни даже криком спугнуть; тягостно так…
Еле проснулся.
Ваня потом с умным видом начал пояснять, что это, мол, домовой.
Вот они там, в Крыму, тупые.
Кочегарка это – дом? Откуда тут домовому быть?
А та тварь сидела как раз в том месте на груди, что я побрил станком перед вмурованным в стену зеркалом.
Ну, чтоб видуха стала, как у мачо, а то у меня там волосни не больше, чем у Вани на верхней губе.
Но фиг я угадал, как было, так и осталось.
После очередной вечерней проверки я ушёл в Дёмино и там нашёл дом той Ирины, с которой познакомились на танцах.
У неё ещё и старшая сестра оказалась.
Та начала со мной тет-а-теты устраивать: Ирине, мол, за все её девятнадцать лет ещё ни один подлец не попадался и можно ли на мой военный билет взглянуть?
Это, типа намекнула, что её младшая сестра – целка.
– Не бойся; я – не подлец.
А насчёт военного билета, который у меня во внутреннем кармане хэбэ лежит: откуда у меня билет?
(Там же как раскроешь, справа внизу «жена Ольга Абрамовна».)
Билета нет. Нам его только в увольнение из сейфа выдают.
Потом пришёл муж старшей сестры, по имени Сеня.
Сперва он, типа, ревновать начал, но потом чай попили и я ушёл.
Через неделю в кочегарку солдатик из отдельной роты зарулил. Там, говорит, у забора какая-то девушка меня спрашивает.
Я – туда, а там – Ирина.
Дёминские иногда из Ставрополя в своё село по шоссе пешком ходят; парами, или по три, а тут – одна.
Привет. Привет. Поцелуи.
Договорились, что после проверки приду в село.
– Проводишь меня немного?
Это значит вдоль всего забора, мимо штаба, мимо КПП.
– Нет. Я тебя возле того угла подожду.
Я прошёл по дорожкам внутри части, она, параллельно, по шоссе. И от дальнего угла забора я её даже малость проводил.
( … теперь вот жалею – такую упустил возможность.
Ведь как красиво могли бы мы пройти вдвоём вдоль всего стройбата.
Не спеша.
А если б дежурный прапор остановил у КПП, я б мог ему сказать…
Хотя какая теперь разница что мог бы я ему сказать, если упустил – струсил и прошёл через часть, как шавка…)
Ночью она разделась до трусов, но не дальше.
Трусы были большие и свободно растягивались.
Вероятно, после всех тех, кто, как и я, хотел, но не сумел стать подлецом.
Под утро я ушёл несолоно хлебавши, на этот раз даже без чая.
Шесть километров по шоссе, когда вокруг тебя природа пробуждается для нового дня – это прекрасно.
Светало, но солнце ещё не поднялось над линией горизонта.
Недалеко на взгорке я увидел коня среди зелени широколистых трав и, без раздумий, сразу свернул к нему.
Идиотизм.
Я в жизни не садился на коня. Но так вдруг захотелось.
Он начал уходить, а я преследовать, но не догнал, а только насквозь промочил хэбэ в росяных травах.
Я вернулся на шоссе и шёл дальше, и орал всякие песни – всё равно здесь некому слышать мою лажу:
Спи – ночь в и-ю-не только шеееееееееееесть часов!..Потом я получил от неё письмо отправленное из Ставрополя:
«…болит душа – по ком? – по тебе!..»
Красивые слова; но я, увы, уже достался той, что «…была безмерно счастлива…»
( … на письмо я не стал отвечать, но искренне надеюсь, что Ирине всё же попался подходящий подлец, и что стали они жить-поживать, да добра наживать …)
По истечении первого года срочной службы в рядах вооружённых сил СССР, военнослужащий получает 10-дневный отпуск, чтоб побывать на родине – откуда призывался.
Когда я заикнулся об этом майору Аветисяну, он и слушать не захотел: разве Ваня продержится без сменщика десять дней?
Ваня сказал, что да, продержится и тогда Аветисян пообещал мне отпуск, так и быть, если я сделаю косметический ремонт кочегарки, то есть побелю её изнутри.
Слесарь, рядовой Тер-Терян, показал мне место в бурьянах, где зарыта была в земле известь недоиспользованная в предыдущих ремонтах.
Я разводил её в банном тазике с ушками, втаскивал под потолок по опёртой на стену лестнице и широкой кистью – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – белил куда мог дотянуться.
Местами лестницу приходилось опирать на проложенные под потолком трубы – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – цирк, да и только – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – разве мальчикам каждый день достаётся белить забор?
Но неделю циркового ремонта не выдержит никакой Том Сойер – два громадных высоченных зала и большущие печи с парой спаренных котлов в каждой.
Предвкушение – вот что помогло мне продержаться эту неделю: ведь мы с Ольгой – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – столько всего ещё не перепробовали – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – за эти десять дней, вернее ночей – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – мы с ней и так будем, и так, и даже так – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх… – десять ночей, которые потрясут мир – …шлёп-плюх… …шлёп-плюх…
И вот ремонт закончен.
Бетонный пол в обоих залах забрызганы разнокалиберными белыми каплями, трубы наскоро обтёрты.
Побелка не то, чтобы очень равномерная, но повсеместная – без пропусков; два зала и две громадины печи.
– Товарищ майор, ремонт закончен.
– Это ремонт называется?
– Товарищ майор, вы же обещали.
– Я ничего не обещал!
Так майор Аветисян поимел Тома Сойера.
ШЛЁП-ПЛЮХ!..
После ужина Серый зашёл в кочегарку. В части все всё обо всём знают.
– Наебáл?
– Да.
– Ничё. Ща мы в Париж полетаем.
Из внутреннего кармана хэбэ он достаёт многократно сложенный лист газеты, разворачивает до места, где содержится коричневатая пластинка, открашивает щепотку и складывает газету как была.
Затем он разминает папиросу «Беломор-канал», покуда весь табак высыплется в ладонь с крошками от пластинки, смешивает их.
Смесь с ладони пересыпается в трубку опорожнённой папиросы.
Хоть я никогда ещё не видел как это делается, всё же знаю, что это он забил косяк.
– Взрывай,– он подносит горящую спичку.– Дым в себе держи.
Мы выкуриваем косяк, передавая его друг другу. Я старательно повторяю его способ втягивания и задержки дыма.
– Ну, чё?
– Чё чё?
– Ты чё? Тебя не цапануло? Ну, ты – лосяра!
– Извини.
Он разочарованно уходит на вечернюю проверку.
Через неделю, во время варки ужина в кочегарку скромно и тихо зашли пара солдат среднеазиатской наружности: отдельная рота, или из крымских.
– Нам пробить нада,– застенчиво говорит один.
– Чё?
– Дрянь. Сам знаешь.
Я не очень-то понимаю о чём речь, но неудобно выглядеть невежей перед «молодыми».
– Ладно.
Они выходят и возвращаются уже вчетвером; в руках какие-то неполные мешки.
Я отвожу их в комнатку мастерской и возвращаюсь в зал с воющим мотором.
Пару раз я заглядывал в мастерскую с разложенной по верстаку травой; они встречали меня благодарно-радостными улыбками и я возвращался к печи – зачем отрывать от дела занятых людей?
Уходили они часа через два, когда в кочегарке уже было тихо.
– Мы там оставили,– сказал последний.
В неглубокую коробочку, что давно уже валялась на верстаке, насыпана пригоршня коричневатой липкой пыли.
Я поставил её в железный ящик и забыл.
Конечно, я вспомнил о той коробочке, когда с получки вместо обычной «Примы» купил в магазинчике пачку «Беломор-канала».
Повторив процедуру Серого, я забил косяк и выкурил.
Во-о!.. Чё это?.. Ни себе чего!..
И я даже подплыл к зеркалу в стене и заглянул в него убедиться что сзади никого потому что чёткое такое ощущение что как бы голова моя воздушный шарик когда надуть не слишком туго и ты в него вдавишь с двух сторон пальцы через стенки но не так чтоб лопнуть а просто крутишь их там но они друг до друга не дотягиваются как у меня сейчас через виски всунулись пальцы и крутят между мозгов в извилинах но в зеркале только я а сзади никого вот это улёт только надо пойти глянуть на манометр на котле а то и он улетит высоко-высоко сам ты лосяра Серый…
( … так я стал нашаваном, одним из просветлённо посвящённых, которые тащатся от дури, она же дрянь, она же травка, она же анаша, она же …)
Одним из первых о моём переходе в новое качество догадался старшина четвёртой роты прапорщик Гирок, потомок немецких колонистов.
Он увидел меня погружённым в увлечённое чтение обрывков прошлогоднего номера «Красной Звезды», наклеенного на жестяной стенд в траве у бетонного края плаца.
Солнце изливало палящий зной на мою пилотку.
А чё? Типа, к политзанятиям, типа, готовлюсь…
Американцы терпят поражение во Вьетнаме, наш корреспондент из Сайгона…
Он подошёл ко мне справа, но увидев, что «беломорина» в моих руках докурена до мундштука, даже «пяточки» не осталось, улыбнулся слабой улыбкой, облизнул сухие губы и расплавился в потоках жары…
С моих просветлённых глаз спала пелена непонимания и выяснилось, что в «Орионе» с дурью знались все, просто всяк по своему.
Карпеша с Рассолом – деловито.
Джафаров – мягко.
У Рудько гомеопатическая система – небольшие косячки-маячки через определённые промежутки времени.
Роберт – когда угощают, но и то через раз.
Похоже, я едва не отстал от поезда.
Но самая классная дрянь у художника, Саши Лопатко.
В его комнате я попадал в состояние невесомости, как на орбитальной станции «Салют».
Только у этого жлобяры не выпросишь. Рудько тоже говорил, что в жизни не видал такого страшного эгоиста.
И ведь, казалось бы, папа у него такой хороший – служитель культа, должен же был привить сыну любовь к ближнему…
( … по укýрке, тáска бывает разных видов: то таким становишься спокойным, тебе хорошо, пушисто, и хочешь, чтоб всем было хорошо; и не хочешь никому пушнину ломать.
Или вдруг подметишь какую-то забавную грань в окружающей действительности и – всё, тебя уже не остановить, будешь смеяться до изнеможения, потом отдышишься и опять начнёшь.
Это называется «приход поймать».
Это самая опасная тáска, если ты телекомментатор…
Ещё, бывает, приколешься к чему-нибудь и делаешь, делаешь, уже и не надо – а всё делаешь.
Как та бригада зэков, что на лесоповале дубовую рощу завалили лобзиками.
Или «поросячья тáска», это когда приколешься чего-нибудь есть и такая вдруг гамма вкусовых ощущений открывается – можно, не заметив, целый бачок холодных макарон захавать.
И вообще умный такой становишься, рассудительный; к тебе кто-то подошёл «привет, как оно ничё?», а ты уже знаешь на какой минуте он у тебя на косячок попросит.
Или просто мысли такие приходят – ахуеть! – но не задерживаются, на что-то ещё отвлекаешься.
Вобщем, игра теней на клубящейся пелене тумана.
Музыку слушать под кайфом – вот самый кайф …)
У нас проигрыватель на этажерке с долгоиграющим диском «Burn» от «Deep Purple».
Поставил, возле динамика на пол сел и, пока одну сторону не доиграет, всё на обложку диска смотришь – там их бюстики, типа, в бронзе и у каждого из головы язычок пламени, как из зажигалки, чуваки понимают как тащится.
Самый облом, когда дурь вдруг иссякнет; к кому ни кинешься – ни у кого нет.
Это называется «подсóс».
Все злые как собаки, потому что ж кумар долбает, давит, у некоторых чуваков даже ломка начинается.
Ну, в натуре, ломает их. Аж смотреть жалко.
Один раз меня Серый колёсами подогрел. Он из города привёз.
– Чё будешь?
– А чё оно?
– Ништяк.
– Ну, давай.
Он даёт, я глотаю; когда полпачки кончилось говорю:
– А доза какая?
– Всё ништяк.
Так целую пачку и заглотал.
В ушах потом гул стоит, как от водопада, а уже ночь.
О – кочегарка…
Ваня на смене…
Я зашёл.
Он мне чёт гаарит, а я не врубаюсь. Зачем-то вокруг печи ходить начал.
Он мне потом рассказывал, что я в проходе остановился и полчаса стоял как памятник.
В бронзе.
И, главное, боюсь спать ложиться; это ж я каким-то снотворным облопался – а вдруг не проснусь?
Обошлось.
А он падла и сам дозы не знает, эксперименты на людях – выживу или нет.
– Ну, ты, блядь лосяра!
К Ване жена приехала из их деревни под Симферополем.
Я гляжу тут не стройбат, а клуб женатиков.
Опять я за двоих без пересменки.
Она уехала, Ваня в хэбэ переоделся, пришёл в кочегарку – грустный такой. За окнами тьма.
А тут Рудько пришёл.
У него опять насморк; в санчасти дали каких-то порошков – ингаляцию делать.
Он на кухне кружку взял – пришёл в кочегарку.
Порошки в кружку высыпал, из-под крана кипятком заварил, сверху какой-то картонкой накрыл, чтоб не сразу остывало.
Сидим с ним за круглым столом, о чём-то беседуем; он картонку сдвинет, занюхает, накроет и – опять беседуем.
А Ваня в кочегарке уже всякого насмотрелся и из соседнего зала все эти манипуляции просёк и сделал свои выводы.
Решительным шагом подходит и:
– Рудько! Дай и мне!
– Чего дай?
– Ну – это!
И на кружку показывает.
А Рудько ж интеллигент, думает – если у него насморк, так и у других бывает.
– На.
Ваня картонку сдвинул, пару раз – глубоко так! – занюхал, и, смотрю, у него глаза под лоб закатило, причём даже крест-накрест.
А чё? Я поверю.
Самовнушение – великая сила.
Вера горами движет.
Вот он поверил, что Рудько тут «голубую фею» вёдрами херячит и у него сейчас галлюцинации начнутся. Спасать надо парня.
– Ваня,– говорю,– я тут вчера в столовой с одним татарином из вашего призыва толковал.
– Ну, и чё?
– Да просто; я ему: -«Друг»,– говорю,– «тебя как звать-то?», а он мне: – «Моя руски не понимай». «Ну, это ясное дело»,– говорю,– «а служить тебе ещё до хуя?»; так он аж за голову схватился:– «Вуй! Блят!»– говорит. Может это знакомый твой? А, Ваня?
Вобщем, откачал напарника от галлюцинаций.
Закон боевой дружбы, сам пропадай, а товарища выручай.
По-моему, «Орион» предоставлял свои музуслуги безвозмездно, то есть даром.
Во всяком случае, не помню, чтоб в разговорах упоминались какие-нибудь деньги за халтуру.
Для нас – просто вырваться за пределы в/ч 41769, играть танцы для людей одетых в гражданское платье было бесценной платой.
Так что, если угодно, нам платили минутами свободы.
Время – деньги.
Перепадало ли что-то на уровне командования, то есть замполиту?
Понятия не имею, а и врать не буду.
В симферопольском призыве пришёл и влился в «Орион» знающий себе цену музыкант – Юра Николаев.
Свой прейскурант он изучил на гражданке, работая в ресторане на ритм-гитаре.
Ещё он пел – без особого диапазона, без особой лажи – всё что угодно в рамках традиционных заказов от подогретых парой графинчиков водочки ресторанных гуляк.
Есть вода, холодная вода! Пейте воду с водкой, господа!..После третьего графинчика шёл тяжёлый рок:
…где течёт журча водою Нил, жил своею жизнью беззаботной маленький зелёный крокодил!..А когда клиент целиком созрел, катило сюрреалистическое:
Цвели дрова и лошади чирикали, Верблюд из Африки приехал на коньках…Так что моё присутствие в «Орионе» оправдывалось лишь парой старых номеров, зато выезжавший с нами для присмотра прапорщик не мог заложить замполиту, что я выезжаю с ансамблем просто так.
На фиктивную должность звукооператора обычно примазывались не меньше двух чмошников.
Но танцы – дело сезонное. Танцы для новогодних вечеров, а летом, вернее в начале осени, нас позвали только один раз.
Вечер танцев на хлебозаводе.
Тот ли это самый, где мы брали подаяние с конвейера, не могу знать.
На этот раз я увидал лишь обнесённый запертыми боксами двор да трёхэтажное здание заводоуправления. В нём-то и гудели танцы на втором этаже.
Разумеется, я много танцевал и так покорил одну из своих партнёрш, что она не кобенясь вышла со мной из зала.
По тёмной лестничной клетке мы поднялись на третий этаж, но там перед запертой дверью в коридор распивали вино эти чмошные звукооператоры.
На первом этаже картина почти повторилась, только тут уже её сотрудницы дымили сигаретами.
Я повлёк её на выход; она покорно вышла во двор.
Бляяядь!
Голая заасфальтированная площадка залита светом дуговой лампы. Ни одного закоулка.
Единственное затенённое место – антрацитно чёрная полоска тени от столба, что держит лампу посреди двора.
Я сам себе показался щенком Тузиком, который спёр резиновую грелку, но не может найти место где её подрать.
Пришлось давать обратный ход.
Должно быть я разочаровал её своей непредприимчивостью и тем, что так не по-солдатски спасовал перед неприхотливым минимализмом обстановки.
Она не появилась на свидании назначенном в парке на следующий вечер.
Я покружил по тёмным аллеям, немного постоял у ярко освещённой танцплощадки, за оградой которой отдыхала ставропольская молодёжь, хотя выходить на свет опасно – я не в парадке.
Нет её, и вряд ли будет. Пора заворачивать оглобли.
– Солдат, спички найдутся?
Патлатый парень с сумкой на широком ремне через плечо.
Я достал спички из кармана хэбэ, он взял их и расстегнул зиппер на сумке.
Сверху, кроме пачки сигарет лежал коробок спичек.
– Ой, я такой забывчивый. Закуришь?
Он протянул мне пачку, приоткрыв крышечку на фильтрах.
Я вытащил одну.
– Ах, здесь такой шум, даже голова разболелась. Может отойдём?– Он правой рукой взворошил ширококудрую стрижку тёмных волос.
…я не понял… он это, типа, меня снимает?..
Невысокий аккуратненький парень, чуть патлатый, сумка под локтем.
– Можно.
Мы отходим в сопровождении взглядов обычной возле танцплощадок части публики – тех, что не заходят внутрь.
Медленно шагая, мы идём никуда.
Он всё говорит, говорит. Такие женственные интонации.
Он рассказывает мне анекдот из жизни голубых. В Москве одного поймали и в ментовке бьют, а тот кричит: «ну, капитан, я же хотел только в ротик, а не в зубы!»
Игра слов, но не смешно, хотя понятно.
И с ним всё понятно. Интересно, дальше что.
– Хочешь вина?
– Можно.
Мы заходим в ближайший от парка гастроном. Очереди почти нет.
Он покупает бутылку вина, советуется со мной – подойдёт?
Я первый раз такое вижу – «Горный цветок».
Магазин залит светом и опять все молча пялятся.
Он радостно выбивает в кассе чек и засовывает бутылку в сумочку.
Мы возвращаемся в парк, в верхнюю его часть, где нет скамеек и нет фонарей.
Стоя в темноте у шеренги подстриженных кустов, мы распиваем вино, не до конца.
Он опускается вплотную передо мной на колени и расстёгивает пуговицы в ширинке моего хэбэ.
Вобщем-то, возбуждает. Потом становится тепло и мокро.
Его голова, едва виднеясь в темноте, качает вперёд-назад.
Я передвигаю на себе бляху солдатского ремня за спину, чтоб он не стукнулся лбом.
Он меняет ритм, меняет темп. Передохнул. Начинает снова.
Как-то это… монотонно. Долго мне ещё так стоять?
Чмо-ок.
Опять тайм-аут?
– Негодяй! Ты был с блядью, поэтому не можешь кончить! Негодяй!
– Да не был я ни с кем.
Я застёгиваюсь, а он жалобно сетует, что у меня такой подходящий – ровно тринадцать – но ничего не вышло.
Его оценка на глаз не совпадает с замерами во время того обеденного перерыва в КПВРЗ, но я не в обиде, с поправкой на его разочарование – так старался и попусту.
И за вино он платил.
– Тут ещё осталось – будешь?
– Ах, нет.
Я допиваю дохленький горный цветок под его повесть, что он тут проездом из Нальчика, где какой-то очень важный директор очень важного предприятия сделал его таким, когда он ещё был совсем мальчиком.
Потом он меня обнимает, но не целует – ведь я наказан, я был с блядью, негодяй – и он уходит сентиментально манящей походкой в сторону уличных фонарей за деревьями парка.
Мальчик из города Нальчик.
Судя по анекдоту, жизнь у них не сахар. Таись и прячься, пока не поймают.
Ну, чё? Пора домой двигать?
Пришло письмо от Ольги, что она получила письмо от моего сослуживца.
Он анонимно сообщал ей о моих амурных самовольных хождениях в разные стороны от дислокации воинской части 41769, она же одиннадцатый ВСО.
Меня до глубины души возмутила наглость грязных инсинуаций.
Ведь ни в Дёмино, ни на хлебозаводе ничего не получилось!
А тот голубой вообще не в счёт. Я ведь даже и не кончил.
Поэтому в ответном письме я открыто и честно заявил, что ничего такого, что он там наподразумевал, и близко не было и пусть она мне вышлет ту анонимку для проведения графологической экспертизы и принятия соответственных мер пресечения к этому оборзевшему суке.
В своём ответе она сообщила, что письмо с вымыслами о моём, якобы, неустойчивом, поведении повергло её в состояние аффекта, пребывая в котором, она разодрала его на мелкие клочья.
( … и тут я снова упираюсь в трансцендентальность.
Зачем? Какой в этом прок анонимщику?
А если Ольга просто так брала меня на пушку, то всё равно – зачем?
До чего, всё-таки, ограничены возможности человеческого разума.
Во всяком случае – моего …)
Ваня ушёл на вечернюю проверку – сегодня моя ночная смена.
Пришёл Серый и привёл «молодого» водителя из симферопольских.
Оба на поддаче; понятно – у «молодого» деньги есть, то-то он с ним и кентуется.
И тут Серый повёл какой-то непонятный базар, типа, на меня у ребят обиды.
Я не понял. Какие ребята? Что за обиды?
Ща, паймёшь, ну, пашли. И входную дверь на крючок.
Зашли мы втроём в мастерскую и Серый враз слинял. Я не понял.
Этот верзила «молодой» стоит, в глаза мне не смотрит:
– Ты чё ребят закладываешь?
И кулаком в лицо. Я плечо подставил, за дверь выскочил – тот следом.
А за печью лом стоит. Я за лом схватился, кричу:
– Серый! Кого я, блядь, закладывал?
А Серый тут же в проходе стоял; увидел, что я с ломом и мне серию по корпусу.
Я лом уронил.
Да и хватался-то скорее инстинктивно, для острастки.
А тут под окном железная ставня сдвинулась и вползает Саша Хворостюк из нашего призыва; в сапогах, трусах и с полотенцем на шее, хотел, видно, душ принять в насосной.
Серый на него полканá спустил:
– Пошёл на хуй отсюда!
Тот задним уполз, Серый опять ко мне, а у меня вся грудь в крови – куртка была нараспашку и он, когда ударил, родинку сорвал.
Ну, он не слишком пьяный был, видит – кровищи до хуя и хуй его знает чё там в мастерской было; в дисбат загреметь неохота; ещё чего-то попиздел «смотри!», «ребята!», и ушли они.
Так я и не понял что за хуйня.
Потом его увидел спросил, он толком ничего не сказал, опять «смотри, если чё».
Короче, пахана из себя строил.
С того случая у меня на дежурствах занятие появилось.
Мотор воет, котёл шипит, а я, на круглый стол опёршись, всё одну думу думаю.
Часами думаю.
Как мне Серого грохнуть.
Грохнуть, конечно, не проблема – всё тем же ломом, но что потом?
Надо так грохнуть, чтоб самому не загреметь – а как?
Яму в поле выкопать и то нечем – в мастерской только молоток с зубилом. У кого-то попросить – так потом всплывёт.
Или, допустим, в насосной; в ту яму, что постоянно водой заполнена. Она глубокая, груз привязать и – туда. Но вдруг вода завоняется, когда труп начнёт разлагаться?
Самое правильное – в топку котла, там от форсунки пламя на два метра, испепелит бесследно.
Вот только Ваня придёт меня сменять, а тут жареным пахнет, попробуй объясни.
Проблема явно не имела решения и я неделю за неделей ходил по замкнутому кругу, пока дежурный повар не скажет, что можно выключать котёл.
Кто знает, может я и справился бы с этой квадратурой круга, но тут туляки ушли на дембель и в часть пригнали новых «молодых» из Узбекистана и Ставропольского края и майор Аветисян вышиб меня из кочегарки, взяв на замену кого-то из пятигорских.
Бывай, Ваня! И ты, круглый стол, наперсник безмолвный бесплодных раздумий…
Да, я стал «дедом» и по настоящему прочувствовал это, когда зашёл в сортир и увидел бурынского Васю, с которым нас шугали в отделении Простомолóтова.
Он сидел на корточках над очком и в руках держал распахнутую перед носом газету.
Я охуел!
Картина Репина – сидит такой вальяжный, избу-читальню тут устроил. На шее ремень с бляхой, типа, кашне, и он, как деловой, новости дня просматривает.
И тут он, сука, меня вконец добил.
Чуть-чуть так приподнялся, кивнул степенно и говорит:
– Добрый вечер.
Распроебут твою, блядь, каркалыгу! Ну, Вася!
Где он такие, блядь, слова находит?
Период моей «дедовщины» проплывал довольно сумбурно.
Я уже не принадлежал к шатии чмошников, но переводить меня из четвёртой роты ещё куда-то всего на полгода поленились.
Вот и пришлось мне трудиться то там, то сям.
Больше всего на РБУ.
РБУ – это не реактивно-бомбовая установка, а растворо-бетонный узел.
Хотя, конечно, «дед» не перетрудится; могу покидать песок лопатой, а могу и не кидать.
Здесь отделением командовал Михаил Хмельницкий из нашего призыва.
Он забурел, в сержантских лычках. «Молодых» шугает.
На кирпичный завод меня тоже отряжали, там «молодых» нет, самолично укладывал кирпич-сырец в кольцевой печи для обжига.
Кольцевая печь внутри как арочный тоннель и работает беспрерывно.
Тут тебе через проём в стене транспортёром кирпич-сырец гонят – только успевай укладывать, а на другом конце диаметра кольцевой печи из форсунок в арочных стенах пламя бушует для обжига кирпича.
Жар, конечно, и сюда доходит – работаешь в одном хэбэ.
Ещё жарчее свежеобожжёный кирпич на те же ленты транспортёра выгружать – он и через рукавицы руки печёт, а от арочных стен таким жаром пышет, что до нательной рубахи разденешься.
А следующая смена на этом месте опять сырец уложит, и так без конца – закольцованный цикл.
Ещё в какой-то городок возили, Светлоград, кажется, грузил продукцию на тамошнем заводе керамической плитки.
Ну, и в казарме стал больше времени проводить.
«Молодые» при нештатных ситуациях ко мне за советом обращались.
Например, такси остановилось за забором, а в нём сержант из нашей роты – в отрýбе.
Я перелез, гляжу он на заднем сиденьи валяется голый до пояса.
Таксист говорит ничего не надо, только машину освободи. А сержант как боров, насилу через забор вдвоём перекинули.
Ну, потом в сушилку его – это комната без окон рядом с каптёркой, где после рабочего дня бушлаты сушат над тэнами, там он и дрых.
Узбеки один раз из полученной своей посылки угостили.
Сушёная дыня косичкой заплетена. Сладкая.
Вспомнилась та посылка, что родители мне присылали – четыре банки сгущёнки, я её в клуб отнёс.
А узбеки сами подошли и угостили – я и не знал, что у них посылка.
Наверное, потому, что хоть я и «дед», а в столовой ихние пайки масла с сахаром не обжимаю.
Командир роты, капитан Черных, куда-то перевёлся из стройбата, или у него штрафной срок кончился.
Вместо него старлей исполняющим стал. Ребята бухтеть начали: почему в отдельной роте, или, вон, в третьей телевизор смотрят, а у нас второй год не работает?
Так комбат нам собрание устроил в ленинской комнате.
На стол уселся, типа, князь, брюки чуть не до колен вздёрнулись, а из-под них носки с туфлями и волосня седая.
А мы перед ним на принесённых из казармы табуретах, ждём чего умного скажет.
У художника Гойи целая серия таких картинок есть.
– Вы что, блядь, забастовку устраивать? А? Как в Италии? Так хуй вы угадали! У них там – макароны! Одна макаронина длинная, а другая – нет. Потому что пополам обломана.
И сидит, через очки вокруг зырит.
Филин мохноногий. Переваривает чего это он сейчас тут выдал.
А мы напротив сидим и преданно на него смотрим.
Но позади уставного взгляда, которым полагается есть начальство, я вспоминаю рассказ Рассола про гермафродита Софочку из орловского призыва.
Её-его родителям пришлось раскошелиться, чтобы врачебная комиссия закрыла глаза на некоторые особенности физиологического строения их ребёнка – хотели хоть два года отдохнуть.
Софочку отправили в стройбат, чтоб сделать из неё настоящего мужчину.
Уже незадолго до демобилизации в казарме четвёртой роты сложился взрывоопасный любовный треугольник вокруг миловидного дембеля.
Она предоставляла свою благосклонность сразу двум сослуживцам, а те не хотели мирным путём решить вопрос: на чью койку ей приходить после отбоя?
Тогда в этом же самом Ленинском уголке тоже собрание устроили, Рассол тоже на нём сидел, и комбат поставил вопрос ребром:
– Софочка, ну, скажи, еби о мать, у тебя там хуй или пизда?
Рядовой военнослужащий поднялся с табурета и, подойдя к старшему по званию, плавным жестом отвесил пощёчину:
– Козёл старый!
Всё также вихляя бёдрами, она пошла обратно, спиной к довольному уханью хохочущего филина.
Отцы-командиры. Ну, блядь, и армия!..
Я бы не поверил в возможность призыва гермафродита в армию, но слишком уж достоверны детали рассказа Рассола, чересчур совпадают с окружающей действительностью
– Вам дана высшая материя, блядь! Мозг! Серое, еби о, вещество!
Ага, это он там у себя уже в следующую извилину забурился.
Во, блядь, армия – охуеть!..
На утреннем разводе начштаба объявил, что вчера в городе он видел кого-то из солдат отряда в самоволке.
Он даже и погнался за солдатом, но тот убежал.
Однако, возмездия не миновать; сейчас он, начштаба, пройдёт вдоль строя личного состава и обнаружит самовольщика.
И он пошёл внимательно вглядываясь в лица первой роты, второй роты, третьей роты, четвёртой роты.
Всё – дупель-пусто; дальше только проходная и ворота.
Также медленно он вернулся вдоль строя к первой.
Вот ведь долбоёб.
Если ты за кем-то гонялся, то так он тебе и выйдет утром на развод, жди больше, глазки закрой – ротик открой.
Он сейчас где-то в сушилке кантуется. Или дневального подменил.
Может вообще из тех бригад, что месяцами безвыездно в городе.
Пошёл на третий заход.
Первая рота, вторая рота, третья рота, четвёртая рота.
За дурной головой и ногам покоя нет.
Ну, блядь и ар..
– Вот он!– боксёрский палец майора уставлен на меня.
– Чё? Да если б за мной гонялся, ещё до развода б вывел!
– На гауптвахту!
Дежурный по части и два «черпака» в красных повязках подходят с требованием отдать им бляху и ведут меня к проходной.
Я на ходу продолжаю доказывать, что он, сука, и сам знает, что это не я был, но меня запирают в глухой комнатушке «губы».
Через час или два дежурный по части отпер дверь и вернул мне ремень – я назначен на штрафные работы – посыпать песком шоссе до города поверх гололёда. Грузовик с песком уже у ворот.
Жмуря глаза от вьюжного ветра, я добросовестно бросаю лопатой песок через железный борт.
Въехав в город, грузовик направляется за следующей порцией песка, но мои с ним пути расходятся у первого же светофора.
Потом я нашакалил на бутылку, или две и очнулся уже в сумерках, сидящим на скамье внизу Комсомольской Горки.
Оказывается, вьюга уже утихла; сверху из темноты опускаются большие тихие снежинки и тают у меня на лице и на груди под распахнутым настежь бушлатом.
Прохожих прибавляется – конец рабочего дня у служащих. Спешат домой, до меня им дела нет – солдатик тихо культурно отдыхает.
– Эй! Замёрзнешь!– один всё же потряс мою коленку.
– Пшёл, бля, на хуй!
– Как ты смеешь?! Я – работник КГБ!
– И твою КГБ – на хуй!
– Я вот патруль позову!
Потом я поднялся в набитый битком автобус, меня корёжит от холода и в плотной массе пассажиров распахивается вдруг тоннель – прямиком к высвобожденному сиденью.
Всё-таки любит наш народ защитников отечества.
На Новый год мы играли в кулинарном училище.
Точнее, играли они, а я при «Орионе» был просто по инерции.
В осенний призыв из Пятигорска пришёл Володя по кличке Длинный. Он был не только длинный, но и тощий, с тёмными кругами под глазами, как и положено сидящему на игле наркуше.
Зато на электрогитаре он играл как соло-гитарист из «Led Zeppelin» на диске «Лестница в небо».
Рудько его боготворил, я тоже преклонялся, но характер у него был паскудный.
– Ну, чё ты так Длинный?
– Я всегда самое своё гавно показываю, чтоб отцепились и в покое оставили.
Смеялся он хорошо, но редко.
Пацан пацаном, а на гитаре – бог.
Конечно, ансамбль отряда «Лестницу в небо» не исполнял, но Длинный и в «Орионовский» репертуар делал такие вставки, что и Джимми Пейдж не постыдился б.
Ему из Пятигорска его гитару с фузбустером знакомый чувак привёз. Он же и на барабанах стучал в новогодний сезон.
До призыва Длинного в армию они там в одной группе были; потом гитару друг увёз, конечно.
Не в клубе ж такие вещи держать.
А пели на вечерах Юра Николаев – звезда крымских кабаков, и Саша Рудько – виртуоз Днепропетровской филармонии.
Каждый в присущем ему стиле, под импровизы от Джимми Пейджа и от Хендрикса, который всё равно Джимми.
Но для нормального любителя музыки из глубинки, вскормленному на классических образцах советской эстрады, подобные вариации отдавали какофонией, поскольку явно не кобзонны.
Так что одна из будущих кулинарок имела законное основание подойти к Юре Николаеву и спросить:
– Пгостите, пожалуйста, а вы гусские нагодные иггаете?
Это она так картавила.
А Юра знал, что Рудько подпал под влияние Длинного и как тот скажет, так и будет. Поэтому он направил девушку прямиком к Длинному, чтоб зря время не теряла.
А у Длинного сушняк, сидит на стуле, ноги враскорячку, китель на спинке стула, галстук от парадки через плечо переброшен и упорно вдаль уставился – чего-то там за барханами высматривает.
– Пгостите, пожалуйста, а вы гусские нагодные иггаете?
Нечеловеческим усилием, воин на стуле собрал всю свою волю в кулак, сосредоточился, навёл резкость органов своей оптики и – различил, что к нему девушка обращается.
– Гусскую? Нагодную? Это к товагищу Гудько,– и пальцем указал на Сашу Рудько, который задумчиво покручивал ручку громкости на усилителе бас-гитары.
Девушке не в жилу, что её второй раз отсылают, но, видно, упорная попалась; дошла до Рудько и вопрос свой повторила.
– Извините,– говорит Рудько и смотрит присущим ему страдальчески туманным голубым взором.– Мы гусские вообще не иггаем.
Ещё и носом шмыгнул.
Он бы и рад по другому, но не может – сам картавый.
Но она-то об этом не знала!
Вот и толкуй о врождённых комплексах – всё благоприобретается с опытом.
Я на том вечере со ставропольской гречанкой целовался; Валя Папаяни.
Только целовался.
Она сказала, что она тут преподавательница и ей двадцать семь лет.
Так на следующее утро на разводе комбат объявление сделал:
– Вчера один из наших, еби о, музыкантов шестидесятисемилетнюю проблядь под лестницей разложил!
Вот ведь маразматик – двадцать семь от шестидесяти семи не отличает.
Это ему тот кусок дерьма – прапор из четвёртой роты заложил.
Дня через два опять где-то играли новогодний вечер, но там я уже не танцевал. Потому что там была такая дурь, что всем дурям – дурь.
Мы раскумарились на лестнице, зашли в зал, ребята нежно так инструменты взяли, начали играть; а музыка тихая такая, как будто из-за горизонта и, что характерно – медленная. Голову опустишь к колонке, видно же – динамики дёргаются, а всё равно приглушённо как-то.
Потом я пошёл по залу бродить. И люди там – как будто каждый из листа фанеры выпилен, то есть плоский, всего в двух измерениях.
Я хочу заглянуть что у них на обратной стороне плоскости, а не получается – кто-то уже следующий нарисовался и тоже двухмерный.
А издалека и медленно так – музыка…
Иногда повыше всех голов на паре стебельков шарики глазных яблок проплывают, как перископики – это те псевдо-звукооператоры по залу бродят.
Во они тащатся!
Такие смешные… И сами тоже смеются…
Где они такую дурь достали?
Домой нас привезли уже заполночь.
Стоял скрипучий арктический мороз. Под светом колючих звёзд в небе мы перенесли аппаратуру на сцену пустого холодного кинозала.
Никто ничего не говорил. Ни сил. Ни желания.
Ибо всё есть пустота, полная пустота и пустота пустот…
Ах, да! Вместе с тем симферопольским призывом привезли ещё ребят из Молдавии и Москвы. Немного – человек по десять.
У молдаван такие чудны́е фамилии – Рару, Шушу. Но имена, правда, обычные.
Вася Шушу получил извещение, что на городской почтамт ему пришла посылка до востребования. Он взял с собой Лёлика из Москвы, Виталика из Симферополя и меня позвал.
Получили мы посылку, зашли в какую-то столовую на второй этаж.
Вася посылку открыл, а там —
вино, молдавское вино — оно на радость нам дано…Взяли какие-то макароны с чем-то. Вася по стаканам под столом разливает – прикончили, не знаю сколько литров.
Ну, чё – погнали?
Спустились на первый этаж и Лёлик там в урну помочился, пока Виталик его, типа, загораживал для соблюдения приличий.
Этот Лёлик вообще отмороженный.
Я один раз на комбинат стройматериалов заходил, там длинный такой транспортёр высоко вверх уходит, под крышей; Лёликова работа – по лестнице вдоль этого транспортёра вверх-вниз ходить и ломом пробивать, если где забьётся.
Не помню зачем я туда заходил, но Лёлик как меня увидел – у него этот лом в руках затрепетал. До того ему захотелось меня грохнуть.
Ни за что. Просто потому, что подвернулся.
Но, видно, у него тоже квадратура круга не решённая. Грохнуть – грохнешь, а труп куда?
Короче – обошлось.
Вышли мы из столовой, идём, беседуем.
Яркое солнце, белый снежок. Жизнь – прекрасна.
Тут Лёлик и Вася начинают выяснять чья отчизна лучше – Москва или Молдавия?
Так, слово по слову, стали друг друга за грудки хватать.
Но Виталик – молодец, зачем, говорит, на улице? Давай в какой-нибудь двор зайдём.
Зашли между каких-то двухэтажек.
Виталик тут уже как лондонский рефери поясняет: бляхами не драться, лежачего не бить.
Скинули они бушлаты, шапки и ремни и – пошла молодецкая забава.
Оба за метр восемьдесят, кулаки – как гири. Один другого ахнет – по двору эхо отдаётся.
Эх, окропим снежок красненьким!
Вася Лёлику бровь разбил, кровь брызнула; Лёлик на одно колено упал.
Вася к бельевым верёвкам отошёл и не добивает – богатыри по правилам бьются.
Тут по крылечку какой-то мужик в тельняшке сбежал, говорит, кто-то из двухэтажки в милицию позвонил.
Короче, матч откладывается.
Оделись служивые, Лёлик снегом умылся и покинули мы ристалище.
Но бойцовский задор никак не уляжется.
Разделились мы на пары. Впереди иду я с Лёликом и его убеждаю, что Москва – столица нашей Родины, лучший город Земли; а метрах в десяти сзади Виталик с Васей Фет-Фрумоса обсуждают.
Мирно так себе идём, не спеша.
И тут справа «волжанка» тормознула и из неё два мента в шинелях – прыг на тротуар. Обложили.
Мы с Лёликом бляхи расстегнули, захлестнули на кулак и машем – не подходи, мол!
Тот, что слева пушку выхватил.
Такая маленькая чёрная дырочка, а вокруг неё кружочек солнца, смотрит мне прямо в лицо.
А тут и вторая пара собеседников подходит.
До того увлеклись, что по сторонам не смотрели.
А тут – опаньки! – резкая смена декораций: два солдата с бляхами против двух ментов с пистолетом.
У Виталика от переизбытка чувств и ассоциаций ноги подкосились и он лишь в последний момент успел спиной на забор опереться.
Исполать тебе, земля Молдавская, ты взрастила доблестного Васю Шушу!
Истинный воин, преисполненный духом товарищества и боевого братства, обхватил он могучим объятием ближайшего к нему мента, что без пушки был, и крикнул:
– Беги!
Повторять не пришлось.
О, боги! Как я боялся! Как бежал!
Вокруг меня и подо мной мелькали заборы, деревья, переулки, холмы, буераки, крепостные валы и горные кряжи…
В себя я пришёл в каком-то сарае с широкими продольными щелями в стенах из горизонтально прибитых досок и долго приводил в порядок своё дыхание.
Вечером в казарму пришёл только Лёлик. Ему надо было застирать куртку от крови из разбитой брови.
Я отвёл его в кочегарку.
Там оказались свои новости. Обмуровка одной из печей потрескалась, как видно от перегрева котла. Во время аварии из трещин валил дым с чёрной сажей и сажа осела на печах и потолке в обоих залах.
Накрылся мой косметический ремонт.
( … позлорадствовал ли я?
Если да, то не очень – мне уже всё было пó хуй …)
Сыпучие вещества возят в особых вагонах – без крыши, а пол в таких вагонах это ряд железных люков.
При разгрузке, сшибаешь размещённый снаружи крючок-запор, крышка люка распахивается и вещество высыпается.
Не знаю, для какой организации пришли в город Ставрополь те пять вагонов с песком, но когда на станции в них распахнули люки, то ничего оттуда не посыпалось, а как заглянули снизу, то увидали там мелкозернистый монолит.
Песок отправляли мокрым и морозы обратили его в сплошной большой параллелепипед по форме вагона.
Ждать обратного превращения некогда; если не возвращаешь вагон в течении трёх суток, то это «простой подвижного состава», за который накручивается громадный штраф и продолжает крутиться дальше.
У организации пошла голова кругом; проблема – хоть «караул» кричи.
А кем у нас решаются неразрешимые проблемы? Верно – стройбатом!
Вот нас и привезли в трёх грузовиках на станцию.
Правда, на этот раз ломы гладкими оказались; только снизу через люки долбить бесполезно – лом отпрыгивает на тебя же.
Сверху будем ебашить и – через борта лопатами. Ходят слухи, что даже отбойные молотки подвезут, а пока – вперёд!
Я малость попробовал и бросил – слишком уж эта монотонщина приелась за годы службы; но и просто так стоять – холодно.
Михаил Хмельницкий мне деньги дал – сходить за «сугревом». Сам-то не может, он – сержант, ему за узбеками присматривать надо.
И откуда только у людей деньги берутся?
Проще простого: РБУ раствор готовит, сколько у водителя в бумажке-заявке написано, столько и приготовит.
А если заявки нет?
Тогда водитель даёт другую бумажку.
Кому даёт?
Командиру отделения работающего на РБУ.
Пошёл я в город. Места незнакомые, магазин не сразу нашёлся.
Затарился. Бутылки – под бушлат, снизу бляхой подпоясал; полненький такой стал.
Кто говорил – в стройбате плохо кормят?
Иду обратно опустив голову, не от стеснительности – просто снег в лицо летит.
– Почему честь не отдаёте? Вас что – не учили?
По уставу ты каждому старшему по званию козырять должен.
Так ведь не видел я, а потом, если козырну, бутылки под бушлатом зазвякают.
– Виноват, товарищ…
Смотрю ему на погон – врубиться не могу; погон без просвета, как у куска, но звезда крупнее, чем у прапора, и даже больше майорской; но тут я листочки в петлицах углядел.
– …товарищ генерал-майор. Задумался.
– Задумался он! Идите!
И это правильно. Генералу с солдатом в чёрных погонах разговаривать, практически, не о чем.
Единственный офицер, что за два года мне «вы» сказал…
На место сибиряка Черных к нам новый комроты перевёлся, или его перевели, из Монгольских степей; тоже капитан.
Нос такой длинный, аж до верхней губы достаёт. Сам общительный такой.
Когда его дежурство, он в кабинете не сидит, всё по казарме расхаживает, солдатикам про сертификаты рассказывает, или бороться затеет.
И после борьбы такой радостный весь, глазки блестят, по щекам красные пятна, а губа за нос цепляется.
Я смотрю, что-то в его ужимках знакомое мелькает, а что не вруба…
Ну, да! Мальчик из Нальчика!
Но ведь офицер! И жена есть.
Вобщем, окрестил я его по имени монгольской валюты «тугриком» и кликуха враз прижилась среди личного состава роты.
И вот, на вечерней проверке опять Тугрик завёлся какой он богатый на эти самые сертификаты, завтра пойдёт холодильник жене покупать и себе часы наручные, а то в этих уже ходить стыдно – придётся выбросить, хотя жалко, «Командирские» называются.
Я не выдержал и говорю:
– Не хочешь выбрасывать – отдай кому-то из солдат.
Он сразу:
– Кто сказал? Выйти из строя!
Вышел я. Он ко мне подходит, демонстративно так ремешок часов расстёгивает:
– На!
Я взял и в карман сунул, хотя он, конечно, на другой исход рассчитывал.
Но как я на следующий день с часами этими намучался!
Полдня ходил по улицам, чтоб толкнуть – никто покупать не хочет; думают как стройбатовец, так и часы краденые.
И хорошие ж часы, отец мой в Москве за такие 25 рублей платил, а я за 7 отдать согласен.
Первый раз не шакалю, а товар предлагаю.
Дохлая вещь коммерция, если спроса нет.
Под конец занёс я их в часовую мастерскую, мастер трёшку предложил и я согласился.
Выхожу из мастерской с честно заработанными и – надо же совпадение! – подваливает ко мне какой-то ханыга:
– Солдат! Часы у меня купи, за троячку отдам!
Эти алкаши до того оборзели, уже даже к стройбату пристают.
Через неделю мне Ваня рассказал, что у него в кочегарке повар из «молодых» в мастерской на верстаке спал. Тугрик дежурным по части был, так даже в кочегарку свой длинный нос сунул. «Молодого» спящим на матрасе увидел, за хуй его схватил:
– Дай! Ну, дай!
Вобщем, Ваня говорил, что Тугрик уже у двух «молодых» поваров сосёт, а один из них его жену поёбывает.
В казарме он один раз начал на меня наезжать:
– Не слишком ли ты себя «дедом» ставишь?
Я в ответ ничего не сказал.
Ни слова.
Только губы вытянул и три звука издал «чмок-чмок-чмок».
Он молча развернулся и отошёл по проходу. С тех пор меня не замечает.
Вот такой я негодяй оказался.
Нига-а-дяй пра-ативный!
В роте новенький появился, его перевели из другого стройбата, аж где-то в Дагестане.
Он там в самоволку ушёл и застал свою жену с кем-то ещё. Начал разборку, но его повязали и на «губе» он так убедительно обещал всех порешить и с собой покончить, что его к нам перевели – дальше некуда было.
Кавказец какой-то.
Кто их разберёт: в одном Дагестане аж 48 народностей.
Всё время молчит ни с кем не разговаривает. К нему тоже подходить опасаются. Типа, новый зверь в привычной клетке.
Как-то вечером сидит он на табурете с газетой. Я мимо шёл по проходу.
Чё-то заголовок какой-то меня заинтересовал.
В натуре, не шугаю, просто хочу глянуть и отдать.
А он:
– Уйди!
– Ты чё! Блатуешь, салага?
Он вскочил.
Так я до него даже дотянуться не успел. Сразу сворой налетели и его метелить начали.
Он вырвался – убежал из роты.
Что характерно – не «деды» писанулись, а «черпаки».
Потом уже я догадался – они эти несколько дней на него злобу и страх копили за то, что не такой как они.
Не по национальному признаку, а за то, что у него такая семейная трагедия, из-за которой тебя может грохнуть без оглядки на квадратуру круга.
Стая страхом цементируется.
А он всего лишь в штаб убежал – не рискнул в Дагестан податься.
Оттуда дежурный по части старлей пришёл и отвёл меня на «губу».
Там уже один из днепровский отдыхал. У него хорошая дрянь оказалась.
Раскумарились.
На нары прилягли и тут он мне начал поливать, что вся наша великая держава давно под контролем тайной сети теневой организации с разветвлённой структурой взаимодействия и все мы движемся к одной великой цели независимо от того, осознаём мы это или нет.
Вобщем, такой себе рыцарь-тамплиер из Днепропетровска.
Но если ты настолько франк-масон, тебя в стройбат загребли бы?
Но я ему не мешал свой структурный анализ излагать, ведь дурь у него же.
Тут дверь открывается и вкатывается татарский колобочек.
И кто это такой смешной и кругленький?
Алимоша! А тебя за что?
Дежурный по части снял с грузовика за прибытие в расположение части в нетрезвом состоянии.
Хотел даже обыск учинить на предмет обнаружения попытки ввоза контрабандного спиртного, но Алимоша стал бить себя в грудь, фуфайку расстегнул и кричит: смотрите, какой он честный боец, а запах это от жигулёвского пива, что выпил по нечаянности, думал, что это ситро, там темно было!..
Так расстёгнутым его к нам и привели.
Минут через пять Алимоша в дверь постучал, спросил у дежурных по КПП – старлей ушёл или нет?
Ушёл.
Тут Алимоша из рукава фуфайки достал бутылку вина и велел отнести в первую роту Вите Новикову, а то ребята заждались уже.
Дежурные ушли исполнять поручение, а Алимоша из второго рукава достал вторую бутылку и остался без бицепсов. Ну, и как водится
…бойцы вспоминали минувшие дни и битвы где вместе рубились они…Утром нас, конечно ж, выпустили – кому-то ж надо пятилетку выполнять.
А кавказца, что шантажировал самоубийством поверх серии убийств, перевели в отдельную роту.
Того узбека я приметил в столовой, потому что он натолкнул меня на мысль, о том, что для тáски не обязательно иметь дурь, а можно тащиться и на шáру.
Мы после отбоя в столовую зашли; «молодые», у кого наряд на полы, там уже уборку начали; мы в углу за столом аккуратно сели, никому не мешаем – когда они ещё сюда домоются! Косячок культурно по кругу ходит, а таскалово на смехуёчки завернуло – друг на друга смотрим, со смеху уссыкаемся.
И этот узбек, что метрах в трёх от нас мокрую тряпку по полу таскал, вдруг тоже заржал!
Короче, на нас глядючи, подзарядился и его тем же руслом поволокло – на шáру, без дури.
Подозвали его, пяточку предложили, но он отказался.
Ну, ясно, шугается ещё – вдруг кусок из его роты сюда заглянет как тут что…
А потом смотрю – он в бригаде с РБУ в одном со мной грузовике домой ездит.
А иногда по дороге песни поёт на своём языке и в своих среднеазиатских гармониях. Непривычно, но слушать можно; типа, Джимми Хендрикс без гитары.
Узбеки в задумчивость впадают, и дорога быстрей кончается.
Молодец акын, или, может, ашуг. Ну, короче – лабух.
Сержант Миша Хмельницкий никак имя его не мог выговорить, под конец говорит:
– Ладно! Будешь – Вася!
Вот как-то едем домой, Хмель и говорит:
– Вася! Пой!
Я вижу, что тому неохота, настроения нет, а Хмель не унимается:
– Ты чё, не понял? Тебе сказано – пой!
Ну, тот и запел. Узбеки на него волком смотрят, по своему матерят: чё, мол, ты у этой падлы канарейкой заделался?
Языка я не знаю, но оно и так понятно.
Лабух куплета два проаманил и – на коду.
А Хмель опять пристаёт:
– Пой, Вася!!
Тот опять завёл на высоких нотах.
Тут смотрю узбеки расцвели, в одном месте хохотнули даже.
Ну, понятно, это он в песне слова переделал:
Вай, сержант, я твой мама ебал!..А Хмель не врубается:
– Во! Молодец! Ещё давай!
Тот ещё даёт:
Вай, сержант, я твой рот ебал!..Узбеки со смеху дохнут, а сержанту понравилось:
– Хорошо, Вася!
Тут грузовик на нужном мне перекрёстке у светофора тормознул и я, не прощаясь с милой компанией меломанов, через задний борт по лесенке с достоинством слинял.
А линял я к тихой мышке.
Вообще-то её Таней зовут, просто про себя я её так называл.
Блондиночка.
Когда я к ней в троллейбусе первый раз подошёл, она всё так тихонько отвечала.
А как не подойти? Несколько раз её в одном и том же троллейбусе видел, в котором от Кольцевого до РБУ ездил.
Она мне уже потом сказала:
– Я тебя ещё в феврале приметила. У тебя в самые морозы бушлат нараспашку был, вся шея открытая.
…лишь тех мы женщин выбираем, которые нас выбрали уже…Она старше меня года на два.
В то утро, когда она согласилась вечером встретиться на Кольцевом, я не один на работу ехал, и там от остановки до РБУ ещё по переулку метров двести топать. Так я тому молдаванину говорю:
– Рару! Спорим – разденусь?
Вобщем, кругом снег, хоть и март уже, а я до пояса всё скинул; в одних сапогах и хэбэ брюках по переулку вымахую, а Рару мой бушлат и куртку с рубахой несёт.
Вот такой на меня восторг напал.
Но это ещё до того, как она мне про мою шею рассказывала.
Скорее всего, это на меня та встреча с юродивым повлияла.
Ещё в феврале я на 50-квартирном с неделю околачивался; на том самом, который мы когда-то ломами из арматуры начинали, а теперь уже к сдаче движется.
И ребята мне сказали, в одной улочке неподалёку какой-то старик босиком ходит.
Я специально два раза ходил, пока его застал.
Старик с бородой; борода седая – аж жёлтая, шапка на нём, пальто.
Тощий и длинный, но вряд ли наркоман – он по своему тащится. У него штаны закатаны и ноги от колен голые.
Метлой дорожку в снегу прометает.
Снег падает, а он босиком ходит и прометает. И пусто вокруг.
Посмотрел я на него, и он на меня – искоса.
Помолчали.
И я ушёл.
( … каждый верит, что он прав. И каждый верит по своему.
У ставропольских мужиков вера, почему-то, крепко с ногами связана.
Через много лет по телевизору про одного мужика передача была.
Так тот вообще из Ставрополя аж до Москвы на коленках прополз. Куски автомобильных покрышек на колени привязывал и – вперёд…
Для возрождения веры и благообразия в христолюбивом народе России.
Я не против. Я – неверующий, но веротерпимый.
Настоящая веротерпимость только среди неверующих и бывает. Остальные все прикидываются, а на самом деле хотят всех в свою веру обратить.
Даже те же атеисты, которые верят, что бога нет.
Неверующий это когда верить нечем, нет соответствующего органа.
Доктор сказал «мы отрежем только аппендикс», но хряпнул лишку и оттяпал то, чем верят.
А если веры нет, то и обращать некуда.
Так что ползайте себе на здоровье, в позу лотоса садитесь, лбом в землю упирайтесь – да что угодно! – лишь бы не на моей грядке.
Пусть я и дальше останусь – веротерпимым …)
Но в стройбате той весной мне не до теологии было, когда я ожидал троллейбус номер пять на Кольцевом.
Их несколько прошло, пока Таня приехала.
Мы тихо пошли по тротуару вдоль пятиэтажек сложенных липецкой кладкой из белого силикатного кирпича. Потом зашли в подъезд одной из пятиэтажек.
Долго и тихо обнимались, стоя у батареи под лестничным маршем первого этажа.
Тихо совокупились, всё так же стоя.
Вышли снова на тротуар и я её проводил до другого подъезда в другой пятиэтажке.
Потом долго не удавалось повторить тихое наслаждение – подъезды стали почему-то слишком людные.
Пару раз мы ходили в кино на дневной сеанс, но вокруг детвора сидела.
После одного сеанса меня капитан Писак засёк вместе с нею; отозвал меня в сторону и призывал незамедлительно прекратить всякие с ней отношения, хотя ничего конкретного предъявить на неё не мог.
И что характерно, если ты Писак, так иди командуй своей первой ротой, а у меня комроты – Тугрик.
Но потом я всё-таки пришёл к ней домой.
Оказалось, совсем не в том подъезде, куда провожал её в первый раз.
Когда в прихожей я снял сапоги и спрятал в них портянки, чтоб не слишком воняли, то оказался босым, и даже тапочки не скрывали этот факт – как юродивый, только без метлы.
Дома у неё оказалась мама и дочка трёх лет.
Потом её мама с её дочкой вышли в магазин, а мы сели на ковре и она распахнула альбом с фотографиями.
И в альбоме и на ковре она была очень симпатичная, эта тихая мышка блондиночка Таня.
Мне стоило лишь протянуть руку, положить на плечо её домашнего халатика и разложить её рядом с альбомом, но я так и не смог.
Не знаю что, но что-то меня не пустило.
( … в те непостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои невзгоды или радости, взлёты и падения, все мои наслаждения и лишения, исходят от той сволочи в недостижимо далёком будущем, которая сейчас слагает это письмо тебе, лёжа в палатке посреди тёмного леса под неумолчное журчанье струй реки по имени Варанда …)
Потом вернулась из магазина её мама с внучкой и принесла сетку оранжевых апельсинов.
Дальнейшие наши встречи проходили вне её дома и она начала интересоваться содержанием записей в моём военном билете.
Туфта насчёт сейфа не прокатила – она была на два года старше.
В отряде у меня что-то захороводилось, пошёл какой-то сумбур и мы потеряли друг друга из виду.
Уже перед самым дембелем я заходил к ней, но мама сказала, что она не дома.
Я дождался её у её подъезда, мы прошли в широкий ночной двор между пятиэтажками и она тихо отдалась мне на столе детской площадки.
Однако, кончил я слишком быстро, куда быстрее, чем в подъезде.
Мне это не понравилось и я прервал с ней отношения, как и хотел Писак.
Чем ближе дембель, тем меньше спится.
Куда вы удалились – те блаженные времена, когда я, салага, засыпал едва упав главою на подушку?
А теперь? Проверка прошла, в клуб сходил, вернулся в роту, а сна ни в одном глазу.
Вот и собираются вокруг такие же полуночники; лежим на койках кубрика, базарим о том, о сём. Или дуры гоняем.
Гнать дуру – значит рассказывать длинную историю, и не обязательно реальную.
( … через много лет из «Архипелага» Солженицына я узнал, что это старинный зэковский обычай времяпрепровождения; ещё с царских времён; когда в камере рассказывают какой-нибудь роман из какого-нибудь Диккенса, расцвечивая его деталями из современной повседневности.
Но тогда вместо «гонять дуру», говорили «тискать роман» …)
Когда очередь дошла до меня, я погнал роман возмездия о двух юных влюблённых и жестоком бароне из замка, который заточил юношу в подземелье и у него на глазах делал из девушки секс-рабыню, до того момента, пока юноша, через месяц, не расшатал забитый в стену ёрш, куда крепилась его цепь.
( … к Диккенсу это не имеет никакого отношения, гоняя эту дуру, я, закрыв глаза, видел полупрозрачную блузку Мишель Мерсье из первой серии «Анжелики».
Но возникает вопрос: если я на целый месяц отдал возлюбленную барону, чтоб он ею пользовался совместно со своим волкодавом и различными предметами средневековой утвари и инвентаря, а сам в это же время, типа, как соучаствуя, дёргался на своей цепи, чтобы расшатать крепление, но всё же в такт происходящему, то, может быть, я – извращенец?
Конечно, этот вопрос возникнет не у слушателей, а у меня, и не сразу, а потом, но всё таки …)
Во время расправы с бароном, проводившейся самым изуверским образом, Хмель вдруг крикнул:
– Дневальный!
От тумбочки в конце прохода пришёл дневальный и Хмель ему сказал:
– Он уже заебал свои храпом – ебани́ его в лобешник, пусть упокоится.
– Кто?
– Вон тот салага через два кубрика.
Дневальный склонился над нарушителем покоя, прислушался к сонному дыханию:
– Не, вроде не этот.
В разговор включился Лёлик:
– Ну, всё равно ебани́ – какая в хуй разница.
( … глубина философской мудрости этих слов до сих пор заставляет меня прослезиться:
«всё равно ебани́ – какая в хуй разница»
Вот она – квинтэссенция уставных и прочих отношений, залог боевой выучки, боеготовности и боеспособности армии… хотелось бы сказать – Советской, ушедшей в небытие… но кто нынче верит в Дедов-Морозов?..)
Солдат-дембель живёт в постоянном напряжении.
Непонятное, беспочвенно тревожное состояние лишает его сна, аппетита, способности соизмерять свои действия с требованиями элементарной логики.
Каждое утро твои однопризывники на разводе выстраиваются группами лицом к построению и, после краткого напутствия от замполита или начштаба, идут к проходной, за ворота, на дембель.
А я когда же?
И чем заполнить ещё и этот день тягостного нескончаемого ожидания?
Промаявшись часов до трёх в расположении части, я сел в кабину УАЗа-хлебовозки, чтобы поехать в Ставрополь.
В крытый брезентом кузов забрался ещё Лёлик и кто-то из его кентов, тоже в самоволку.
Мы выехали через КПП и погнали по мокрому после недавней грозы шоссе.
Асфальт по краям шоссе повыбит, поэтому та белая легковушка, что выскочила из-за поворота нам навстречу, пёрла посреди дороги.
Водитель хлебовозки увернулся, соскочив правыми колёсами на грязь обочины. А тут поворот – он крутанул руль влево и дал по тормозам.
УАЗ выскочил на шоссе, но нас понесло юзом по мокрому асфальту.
Машина мчала вперёд то левым, то правым бортом, не обращая внимания куда крутит руль водитель.
Под конец нас вообще развернуло в обратную сторону и, проехав сколько-то задом-наперёд, машина опрокинулась под откос.
Он был невысоким – метра два, поэтому мы перевернулись не больше двух раз.
Странное ощущение, когда находишься в кабине машины кувыркающейся под откос. Как будто ты рыба в аквариуме.
Наверное, это и есть невесомость.
Мимо тебя проплывает висящий над сидением водитель, руль, дверь, опять водитель…
На него я и приземлился. Машина лежала на боку. Но из кабины он вылез первым, через окно в двери над головой.
Я последовал за ним. Ребята из кузова уже стояли рядом с водителем.
Повезло.
На шоссе заскрипел тормозами «козёл» комбата. Не дожидаясь продолжения, я ушёл в зелёную листву опушки.
– Это кто ещё был?
– Не знаю, из отдельной роты попросился…
Через два километра лес кончился, а у меня улеглась напряжённая дрожь в руках и пошёл Ставрополь.
Я поехал в кино – снять адреналин. «Как украсть миллион» с Питером О’ Тулом.
Или это был «Повторный брак» с Бельмондо?
Нет! После Бельмондо я познакомился с Надей.
Студентка чего-то там. Мы долго гуляли, я её обнял, но когда начал целовать, она укусила меня за язык.
– Я знаю на что ты намекаешь!
Вот дура! Какие тут намёки? Я даже говорить не могу, больно же!
Я проводил её до одноэтажного дома, где она снимала квартиру. Она зашла туда и вынесла банку сгущёнки. Типа, утешительный приз раненому бойцу.
Я обнял её на прощанье, но целовать поостерёгся.
Оставшись один, я посмотрел на банку у себя в руках, потом на стену дома, но гвоздика нигде не оказалось.
Поставив банку на перила, я ушёл.
Какое уж там наслаждение с прокушенным языком.
В отряде остались всего четыре дембеля – я, Серый, Рыжий из Днепра, и Саша Рудько.
Я уже достал себе парадку – попросил у «фазана», потому что из-за перевода меня в четвёртую роту на должность кочегара мне её тогда так и не выдали.
Утром, до начала развода, рядом с сортиром закрутился хоровод.
Накануне вечером Серый заставил «молодого» автокрановщика везти его с объекта в часть, а уже возле отдельной роты сел сам порулить и – врезался в столб.
Ничего страшного не произошло, крану даже ремонт не нужен, но начштаба утром как узнал – взбеленился и догнал Серого возле сортира.
– Бляааадь!!
Какой замах! Какой хук! Майор вложил в удар весь вес своего габаритного тела и – … промахнулся.
Отскочил Серый.
М-да… Эх, майор, а я-то думал, что ты боксёр…
Начштабу помогли подняться, Серого сопроводили на «губу».
На разводе замполит объявил, что Рыжий отправляется на дембель, а мы с Рудько – завтра.
– Товарищ замполит, мне характеристику надо.
– Какую ещё характеристику?
– Для поступления в институт.
– Ну, ты, Огольцов, совсем, блядь, борзой! Охуел? Алкоголик, наркоман, дебошир! Я тебе такую дам характеристику, что тебя ни одна зона не примет – прямиком на крытку повезут.
Наша вина перед обществом, что ты вообще отсюда выходишь!
Ну, ничего, общество с тобой справится – в мелкий порошок перетрёт!
Нам троим выдали в штабе деньги. Ничего себе! Так я ещё и заработал!
Сто двадцать рублей за два года честного труда.
Мы с Рудько поехали провожать Рыжего и заодно экипироваться.
В дорогу Рудько купил себе спортивную сумку, а я дипломат-кейс; они только-только входили в моду.
Его чёрное пластмассовое нутро приняло в себя дембельские гостинцы – колготки Ольге в прозрачном целлофане, бутылку водки нам с отцом, и малиновую шёлковую скатерть с бахромой за 7 руб. 50 коп., которую Рыжий купил своей мамане, но попросил, чтоб полежала в дипломате, пока сбрызнем ему дорожку. Туда же я положил туфли – лёгкие и практичные, из чёрного вельвета, всего за шесть пятьдесят, потому что в отряде я так и не смог найти ботинки для парадки, а те, в которых вышел в город, нужно вернуть в каптёрку третьей роты.
Когда мы сбрызнули Рыжему дорожку и шумно попрощались, не доходя до остановки, откуда ему ехать на вокзал, я не был пьяным и помнил, что в моём дипломате лежит малиновая скатерть с бахромой, которую он купил своей мамане.
Я не напомнил Рыжему о ней.
Я её украл.
В какой-то момент, предоставляя мне последний шанс, он отрезвело глянул на меня – может вспомню? Но я смолчал.
Он снова захмелел и пошёл к остановке; вот между нами десять метров; двадцать…
Но я так и не окликнул:
– Рыжий! Ты ж забыл!
( … и никакая падла с берегов Варанды не оправдает эту мою подлость …)
Следующим утром на разводе мы с Рудько стояли лицом к строю и начштаба объявил, что мы уходим на дембель.
Мы сделали поворот «налево!» – я со своим дипломатом и Рудько с синей спортивной сумкой.
Через пару шагов комбат углядел на мне вельветовые туфли, направляющиеся к воротам, за которыми затаилось в засаде общество, изготовясь стереть меня в порошок в первый же удобный для этого момент.
Батяня-комбат сделал последнюю отчаянную попытку спасти обречённого:
– О! А эт чё за еби о мать?!
– Да, пусть пиздует к ебéне фéне!– сказал начштаба.– Заебал, блядь, он уже, на хуй.
Прощайте и вы, отцы-командиры…
Но и сутки спустя я всё ещё торчал в Ставрополе.
В его аэропорту деревенского вида.
Мало «отслужить как надо», надо ещё суметь вернуться.
У меня был билет до Киева, купленный в городской кассе Аэрофлота, и я провёл ночь в гостинице, но когда приехал в этот, типа, аэропорт, посадку отложили на час, потом ещё на один и лишь к полудню наш АН-24 пробежал по взлётной полосе и под крылом самолёта, под гул моторов, поплыли редкие облачка и топографические пейзажи.
Стройбат остался в прошлом, но я всё ещё оставался в стройбате и думал о старшине первой роты, что на прошлой неделе прицепился ко мне в городском автобусе.
Главное, оно ему надо? Он же в гражданке был. Подвыпивший, вот и решил пошугать.
– Ты чё тут? Немедленно в часть. Комбату скажу на разводе.
– А я скажу, что ты был пьяный как свинья.
Никто никому ничего не сказал.
И тот майор тоже в гражданке был. Вообще не знаю откуда он и что.
– Я – майор!– кричит.– Ты что себе позволяешь?!
А почём я знаю, что ты майор, если ты в гражданке?
Вот у меня всё ясно. Глянь на погоны – рядовой стройбата.
Это мы с ним из-за буфетчицы в кафе сцепились.
Ядрёная баба. Она сперва больше ко мне имела склонность, пока он майором не объявился. Может врал?
Нет такую бабу не проведёшь.
Я всё ещё принадлежу стройбату, какая-то часть меня осталась в нём.
Навсегда.
Какую-то часть его я уношу в себе.
До конца.
Но ни о чём таком я не думаю. Я – просто дембель летящий домой.
Не домой, в смысле, в казарму, а домой, в смысле, домой.
Хотя мать писала, что дом продали и купили пол-хаты дальше на Посёлке.
Ничего, найду, адрес знаю.
Но долго думать о Конотопе не получается; думать о нём я отвык, вот и думаю о привычном.
Как мы водили пятигорского ударника в лётное училище, показывать на что он годен.
Втроём пошли – Длинный, ударник тот и я, чтоб те курсанты из их вокально-инструментального ансамбля убедились, что лабух клёво стучит и поговорили б со своим замполитом приткнуть его в ЧМО при училище.
Такая была идея.
Курсанты как раз на сцене репетировали. Зал, как летний кинотеатр – без крыши.
Длинный гитару их взял, ударник за барабаны сел.
Ну, и врезали попурри из Джимми и Джимми. Отвели душу.
Как трактором проехали по тем курсантам в голубых погонах.
Им же барабанщик нужен типа того, что за пионерским знаменем рядом с горнистом ходит:
ду-ду-ду-дý, ду-ду-ду-дý.
Вряд ли они своему замполиту хоть слово об этом приходе сказали.
Чистенькие такие. Ухоженные.
Неужели всё позади? И больше не будет вечерних проверок? Ни комроты, ни начштаба, ни кусков…
Лечу домой.
Дома будет всё ништяк. Не зря же мечтал все эти два года; точнее не позволял себе думать о доме.
Это мой первый полёт в самолёте. Не тащиться же двое суток поездом.
Вот только запястье щемит. Та дура в гостинице вчера вечером.
Она бы дала, да негде было.
Говорит, пошли к тебе в номер. Я мужиков попросил – они вышли.
Так пока она себе цену набивала и своими ногтями мне запястье уродовала, они возвращаться по одному начали.
Сеанс окончен.
А я ведь и не налягáл, сама за руку ухватила и начала когти запускать.
Не Ставрополь, а рассадник садисток.
Может Ольга и не заметит. А увидит – так что? Мало ли какие раны-шрамы можно получить на боевом посту.
АН-24 приземлился в Ростове. Я вышел в туалет возле взлётного поля и на обратном пути был остановлен военным патрулём.
Конечно, вельветовые туфли не по уставу, но, братцы, дембель я – пролётом к дому, у меня уже самолёт винтами гудит.
Отпустили.
Дозаправка в Харькове и – вот он, залитый совсем уже по-летнему ярким солнцем – аэропорт Борисполь.
В тот первый прилёт я решил, что это уже Киев и, выйдя на солнечную площадь, запруженную всевозможным транспортом и снующими пешеходами, направился к большому щиту с буквой «Т» и двумя рядами клеточек шахматной доски – на такси.
Таксист оказался немного патлатым молодым мужиком лет под тридцать. Мне понравились его добротные туфли коричневой кожи с широкими шнурками.
Я сказал, что мне на железнодорожный вокзал и он предложил мне подождать в машине, пока он найдёт попутчиков.
До Киева оставалось ещё сорок восемь километров.
Он ушёл, а я остался ждать на переднем сиденьи, снял китель и, чтобы скоротать время и сгладить нарастающее нетерпение, забил и выкурил косяк.
Тут он привёл двух офицеров – майора и подполковника, но помоложе, чем у нас в отряде; и мы поехали.
Может этот таксист в коричневых туфлях унюхал дым от косяка в салоне и улетел от личных воспоминаний, но он гнал как бешеный, а после моста Патона и вовсе перестал замечать светофоры.
А может это был день отключённых светофоров – праздник свободного вождения – обгоняй кто кого и как может.
Расплачиваясь у вокзала подполковник сказал:
– Ну, шеф, ты и летаешь!
Так что, скорее всего, у таксиста и впрямь был улёт на шáру.
В 1975 году дипломаты типа «кейс» встречались не так уж часто и потому привлекали к себе внимание своим деловым видом.
Старшему офицеру оно бы и простительно, а меня при входе в Центральный зал вокзала остановил военный патруль.
Опять, кстати, курсанты, но уже в красных погонах.
Они проверили мою дембельскую бумагу и сличили меня с фоткой двухлетней давности в моём военном билете. Придраться не к чему.
И тут я допустил ошибку, посмотрев на свои туфли.
Старший патруля проследил за моим взглядом и увидел вопиющее нарушение уставной формы одежды.
Меня повели в комендатуру под центральной лестницей, что вела высоко вверх к многотонному беломраморному изваянию головы Ленина.
Дежурный офицер комендатуры вокзала велел мне открыть дипломат и сразу понял, что я – дембель: колготки, бутылка водки и краденая скатерть с бахромой.
– Иди,– сказал он. – Вернёшься в ботинках – получишь свой кейс.
Я рванулся в громадный кассовый зал налево.
В кассу московского направления стояла длинная очередь, а в ней – метров за тридцать от кассы – я увидел солдата в парадке.
Он был большого роста – значит и нога не маленькая, и он был грустный – значит возвращается после отпуска дослуживать ещё год.
– Тебе куда?
– До Москвы.
– Пошли.
Я подвёл его прямо к окошечку кассы и объяснил загалдевшей было очереди, что у нас срочный приказ охранять их покой и сон на дальних рубежах отчизны.
Он взял билет до Москвы, а я до Конотопа.
Когда мы отошли, я обрисовал ему ситуацию с кейсом.
«Фазан» не в силах отказать «дембелю».
Мы сели на одну из множества скамеек для ожидающих и поменялись обувью.
– Где это ты так быстро?– спросил дежурный офицер комендатуры.
– Купил у цыгана на перроне.
С вызволенным кейсом я поспешил в зал ожидания, где грустный отпускник прятал свои не по уставу обутые ноги поглубже под скамью.
Я присел рядом, но поменяться мы не успели – репродукторы объявили, что поезд на Москву будет отправлен с шестого пути и мы побежали туда, чтобы не опоздать.
Шнурки на одолжённых ботинках распустились и хлопали по платформе, но мы всё равно успели.
Поезд торопливо стучал по рельсам, нёсся в Конотоп, а напряжение во мне не спадало, я подгонял его и не находил себе места.
Лишь поздно вечером, сойдя на четвёртой платформе конотопского вокзала, я поверил, что – всё.
Отслужил солдат службу долгую, Службу долгую, службу ратную…Меня снова вёз всё тот же третий номер трамвая, но теперь аж до конечной.
Темнота за окнами заставляла стёкла неясно отражать китель и фуражку солдатской парадки.
На конечной я спросил где тут улица Декабристов, и мне сказали, что надо идти вон в ту сторону.
Заборы. Хаты за калитками. Редкие фонари. Незнакомая окраина.
Спросив ещё кого-то по пути, я вышел на улицу Декабристов и пошёл вдоль неё, пока не различил в темноте табличку с номером тринадцать.
Зайдя через калитку, я постучал в первую дверь. Она открылась.
Это мой отец такой седой?
В свете падающем через проём двери, он недоверчиво присматривался к моей парадной форме.
– Сергей?
Он обернулся в дом.
– Галя! Сергей пришёл!
Мать выскочила на крыльцо и с громким плачем уткнулась в китель парадки.
Я неловко погладил её вздрагивающее плечо.
– Ну, чё, ты, мам, вернулся же.
Мне и впрямь непонятно было о чём тут плакать.
( … это теперь только дошло, что плакала она о себе, о своей промелькнувшей жизни – недавно ходила с подружками в балетную школу, а тут уж – нате вам! – мужик перед ней в кителе, типа, сын из армии пришёл.
Когда?..)
Она оглянулась на испуганную девочку замершую у кухонного стола и, доканчивая последний взрыд, сказала:
– Чего ты, глупенькая? Это папа твой приехал.
Потом снова повернулась ко мне.
– А как же ты Ольгу не встретил? Разминулись? У неё третья смена. Она на кирпичном работает.
Отслужил…
~ ~ ~
~~~мои университеты (часть вторая)
Вот именно об этом я и мечтал, вернее не позволял себе мечтать все эти два года – чтоб утром просыпаться не от гнусаво падлючего вопля дневального, а от объятия женщины – Ольги.
Она пришла с работы и обняла меня поверх одеяла, и я проснулся и ответил на поцелуй.
Разговор наш как-то не клеился, получался слишком односложным и мы так смотрели друг на друга, что мать моя, у которой был отпуск, взяла нашу дочь Леночку и поехала на Базар.
До чего же всё повторяется в жизни.
Что было, то и будет.
Разница только в деталях, в сопутствующих обстоятельствах.
Например, что моя мать вернулась с Базара (а не из магазина) без апельсинов, и что меня ничто не сдержало в этот раз.
Что до иероглифов, от когтей гостиничной садистки у меня на запястьи, то Ольга, конечно же, их углядела и сосредоточенно прочла; но не вслух.
Да, я и не настаивал.
( … нет ничего эластичнее времени.
Текущий год не имеет ни конца, ни края; год прожитый из долгого периода превращается в точку во времени.
Точка не имеет протяжённости – кончается даже не начавшись.
Всё, что короче года, не удостаиваются даже быть точкой – что ты можешь сказать про прошлый месяц? Что там было несколько пятниц и одно тринадцатое число?
А про минувший час?
Ах, да! Там было шестьдесят минут.
Пустопорожнее жонглирование цифрами.
Десятилетие – та же точка.
После отбытия этой точки в школе у человека начинает расти щетина.
Если она случилась в местах не столь отдалённых – ноют суставы, особенно в правом плече, но это всего лишь точка…)
Неделю спустя после дембеля стройбатовская вечность стала всего лишь обрывками воспоминаний наколотых на точку в прошлом. Саму же её течением жизни снесло невесть куда, да и не важно куда, потому что нужно струиться дальше.
При купании есть два способа захода в воду. При первом заходишь в воду шаг за шагом, поахивая, приподымаясь, когда углубляется дно, на цыпочки; а второй – зайти по колено и с криком, или без, бултыхнуться нырком вперёд.
Пришла пора окунаться в течение гражданской жизни.
Умер мастер Боря Сакун, не исполнив своё обещание уйти на пенсию.
Архипенки уехали на Камчатку. Вот где рай рыбакам.
Мои брат с сестрой закончили железнодорожный техникум и получили направление отрабатывать диплом на изыскании и строительстве железных дорог где-то между Уфой и Оренбургом.
Владя и Чуба, придя из армии на полгода раньше меня, уже успели притереться к этому течению, а Чепу оно обточило до солидной лысины – и он продолжал ждать пока ему исполнится двадцать семь лет, окончание призывного возраста. Ведь он единственный кормилец своей матери-одиночки и службе в армии не подлежит, лишь бы и она проздраствовала до его двадцатисемилетия.
Первый выход в свет в компании друзей не слишком-то меня потешил.
Мы собрались у Влади, я на радостях забил косяк, но они затянулись всего по паре раз – из вежливости.
Оттуда мы направились в Лунатик, где «Шпицы» играли в парке и по пути, возле Шестого магазина, Владя пукнул на зажжённую спичку, что Чепа поднёс ему сзади. Испускаемый аммиак пыхнул голубым пуком пламени.
Меня это не слишком восхитило. В стройбате мне доводилось и не такое видеть и я не хотел напоминаний.
Вобщем, мой способ тащиться оказался им не в кайф, так же как и мне – ихний.
Мы остались друзьями, но в дальнейшей жизни текли, в основном, раздельными струями.
Взятого в библиотеке Клуба капитана Блада я не смог прочесть и до половины – дребедень. А когда-то ведь был у меня настольной книгой.
– Что это ты там в газете на шкафу держишь?– спросила Ольга.
– Гандон с усиками. Показать?
– Нет!
Наверняка ведь, прежде чем спросить, заглянула и видела, что там дрянь.
Или я её переоценил?
Она представила меня незнаемой части течения – своему сотруднику с кирпичного, что встретился нам возле Первого магазина.
Мужик лет за тридцать. Он назвал своё имя, я – своё и мы тут же забыли услышанное.
Улыбка мне его не понравилась – слишком стёршиеся дёсны обнажили зубы чуть не до корней. К тому же натянутая она у него какая-то; сразу видно и встреча, и знакомство ему не в жилу.
Лучше б мы и не подходили.
А по ту сторону Путепровода, возле Пятого магазина, уже не мы, а к нам подошёл полузнакомый Халимоненко, по кличке Халимон.
Он потребовал от Ольги отдельного разговора.
Она попросила меня подождать и отошла вместе с ним метра на три, на том же длинном двуступенчатом крыльце перед магазином.
До меня доносились обрывки слов «участковый», «мало не будет».
Неприятно стоять так вот отодвинутым в сторонку, но ведь меня так попросили.
( … ещё одна моя ненужная черта – бездумно исполнять о чём попросят и начинать думать, когда уже поздно…)
Их разговор закончился и она вернулась ко мне в сопровождении его хозяйского «смотри!» вдогонку.
Ольга объяснила, что у Халимона из сарая пытались увести мотоцикл и он, по недоразумению, решил будто и она причастна.
( … мифы бывают разные – полезные, как мифы Древней Греции, и бесполезные, как тот, будто служба в армии превращает юношей в мужчин.
Брехня! Будь оно так, я бы сказал Халимону:
– Это моя женщина – со мной говори!
Не то, чтобы я его боялся, просто мне тогда и в голову не пришло так сказать.
Армия не сделала из меня мужчину…)
Ольга предложила пойти в субботу в Парк КПВРЗ, где играла танцы группа «Песнедары» из Бахмача.
От Конотопа до райцентра Бахмач полчаса езды электричкой в киевском направлении. Что за группа может быть из такого захолустья?
Но Ольга сказала, что играют они хорошо и что она меня там познакомит с Лялькой, он же Валентин Батрак, брат Вити Батрака, он же Раб.
«Песнедары» звучали очень даже неплохо благодаря их клавишнику – длинному парню в причёске как у Анжелы Дэвис.
Они пели «Smoke on the Water» группы «Deep Purple» и «Mexico» группы «Чикаго».
Потом с Мира подъехал Лялька и Ольга представила нас.
Высокий тощий, в причёске из длинных чуть взбитых волос и такая же светлая бородка а-ля́ кардинал Ришелье.
Один лишь взгляд в просветлённый взор друг друга сказал, что нам требуется более уединённое место, чем танцплощадка.
Там мы обменялись верительными грамотами, пришли к обоюдному согласию относительно качества дури и завязали отношения дружбы и сотрудничества на предстоящие годы.
Оказывается, у моего отца имелись стратегические виды на применение моих армейских навыков.
По его проекту, к недавно купленной полу-хате необходимо пристроить ещё одну комнату и веранду, а остальную часть облицевать кирпичом. И, раз уж начинаем, поставить во дворе кирпичный же сарай из двух отсеков – один для топлива, второй жилой, типа, летняя комната.
Мне не хотелось объяснять, что на службе я освоил только лом с лопатой, а «каменщик» в графе военная специальность туфта туфтой; вот я и сказал – конечно, нет проблем.
На кирпичном закупили машину кирпича.
Завезли песок, цемент и – началась стройка века.
Вода от хаты оказалась чуть дальше, чем на Нежинской, к тому же до окраин Посёлка водопровод не проложен и воду приходится доставать из глубокого колодца, крутя коленчатую ручку толстотрубного вала, чтоб на него наматывалась многометровая цепь с жестяным ведром на конце.
Лето выдалось жарким во всех отношениях – и погодой, и трудовым накалом.
Задачи, начертанные планами отца были исполнены.
Качество?
Швы кладки толстоваты; но отвесность проёмов и углов меня и до сих пор не заставляют покраснеть.
Для постановки на воинский учёт в военкомате, дембель должен приходить в парадке, а затем я отослал её посылкой в войсковую часть 41769, сунув трёхрублёвку во внутренний карман.
Дошли ли деньги?
Мать мне сказала, что в каждое из своих писем она тоже вкладывала по три рубля.
И хоть бы раз упомянула! Я бы написал не делать так, потому что до меня доходили только письма; спасибо и на том.
Вскоре и мне пришло письмо из Ставрополя от писаря при штабе одиннадцатого ВСО.
Он, как и было между нами уловлено, прислал чистый лист бумаги с оттиском печати части.
Оставалось лишь заполнить страницу характеристикой для поступления в вуз и поставить подпись комбата.
Текст характеристики составил я, обрисовав себя с самой положительной стороны, как отличника боевой и политической подготовки, активного участника художественной самодеятельности части, надёжного товарища и опытного воина вооружённых сил вообще и военно-строительных войск в частности.
Не замполиты горшки обжигают.
Переписать текст на бумагу из штаба я попросил отца, поскольку у его почерка более офицерский вид.
Он написал мне мою характеристику, но чуть замялся, когда дошло до подписи:
– А если поймают?
Я заверил, что комбат и сам не распознаёт своей подписи по причине хронически прохудившейся памяти.
Долг платежом красен и, за доблестный труд в то лето, мой отец поставил вполне полковничью подпись рядом с печатью в/ч 41769.
Поступать я отправился не в Киев, а, по совету матери, в нежинский пединститут на факультет английского языка.
До Нежина всего два часа электричкой, а педагогичность заведения меня не слишком отпугивала, главное – я смогу читать на английском.
На время вступительных экзаменов мне, как абитуриенту, выделили место в общежитии на главной площади города, с видом на белую статую Ленина и здание горком+райком партии у него за спиной.
От площади до института одна остановка автобусом, но пешком быстрее.
Английский факультет располагался на третьем этаже Старого корпуса, построенного ещё во времена декабристов графом Разумовским и уже тогда ставшего учебным заведением, в котором учился Гоголь. За это заведению навеки присвоили имя Н. В. Гоголя.
Мне понравилась короткая аллея мощных берёз перед высоким крыльцом Старого корпуса, и большие белые колонны несущие его фронтон, гулкие широкие коридоры с паркетом и высокие аудитории. Понравился и декан факультета – Антонюк.
Наверное, за то, что он не стал особо придираться к моим хромым познаниям.
Вряд ли бы это сошло мне с рук, знай он, что деда моего звали Иосифом, а тестя Абрамом.
Декан Антонюк являл собой тип воинствующего антисемита.
В расписании занятий всех четырёх курсов факультета и висевшей рядом с ним факультетской стенгазете, Антонюк украдкой, тёмными вечерами перечёркивал яростным карандашом фамилии преподавателей еврейской национальности.
Типа, юный подпольщик в борьбе gegen Anzeigen оккупационных властей третьего рейха.
Но Александр Близнюк, один из преподавателей-евреев, недремный, как гестапо, выследил Антонюка и поймал с поличным, за что тот и лишился должности.
Однако, это случилось позднее.
На вступительных экзаменах сочинение по русскому я написал на твёрдую четвёрку.
В сущности, оно являлось недоказуемым плагиатом – изложением той памятной отповеди, что накатала мне красными чернилами учительница языка и литературы конотопской средней школы номер тринадцать, Зоя Ильинична.
А на устном экзамене мне и вовсе повезло – попался билет с образом князя Андрея из романа «Война и мир».
Правда, экзаменатор попытался посадить меня дополнительным вопросом:
– Расскажите какое-нибудь стихотворение советского поэта, любого.
Вопрос, как говорится, ниже пояса, но я вовремя вспомнил, что Есенин тоже какое-то время жил при Советской власти и завёлся читать с ресторанным подвывом:
Клён ты мой опавший, Клён заледенелый…На втором куплете он сдался и я получил проходной балл.
В промежутке между экзаменами я купил пару воздушных шаров для Леночки.
В торговой сети Конотопа они появлялись редко, а мне не нравилось, что помимо пары кукол её любимой игрушкой оставался чемодан, который она вытаскивала из спальни на середину кухни и объявляла:
– Плачь, баба! Дед, плачь! Лена на БАМ едет!
В ту пору в программе теленовостей «Время» каждый вечер и уже который год показывали трудовые успехи на прокладке железнодорожного пути Байкало-Амурской магистрали.
Приезжай ко мне на БАМ, Я тебе на рельсах дам…Мне не нравилось, что ребёнок растёт чересчур заполитизированным, и вспоминалось как на Объекте мы любили играть воздушными шариками.
И вот, валяясь вечером на койке в общежитии, я курил, а дым папиросы уплывал к потолку и, от нечего делать, натолкнул меня на мысль о проведении эксперимента по физике.
Своим поведением этот дым ещё раз доказывает, что он легче воздуха, следовательно, наполненный им воздушный шарик должен взлететь. Остаётся только решить техническую проблему – как засунуть в шарик дым?
На помощь пришёл жизненный опыт.
У нашаванов есть способ взаимной помощи друг другу для обеспечения скорейшего улёта под кодовым названием «паровозик».
Один из них берёт косяк горящим концом в рот, соблюдая, разумеется, меры предосторожности, чтобы не обжечься, и – дует.
В результате из мундштука папиросы валит плотный густой дым, который втягивает в себя второй нашаван.
Но шарику, конечно же, сгодится и простая папироса.
Я раскурил её, вдохнул дым в лёгкие, одел шарик на мундштук и вдул ему, что было мочи.
Но нужно же было учесть, что дым «паровозика» заглатывается потребителем, а воздух из шарика стремиться покинуть теснину резиновых стенок!
Короче, вдутый мною дым пошёл обратно в мундштук и вышиб табак тлеющей папиросы мне в глотку.
( … «собаке не хрен делать, так она себе яйца лижет», говаривал мой отец;
порою лучше лизать, чем заниматься проблемами воздухоплавания…)
Табак я выкашлял, конечно, но огонь папиросы прижёг мне гортань аж где-то позади гландов.
Вот что случается, когда филологи суются в область физики.
Во-первых, больно, во-вторых, отправляйся по аптекам в поисках фурацелина для полосканий.
( … но самое обидное, до слёз обидное, что даже этот опыт не пойдёт мне впрок.
Некоторые придурки не способны учиться даже и на собственном опыте; ведь невозможно же предугадать какие ещё шарики с паровозиками взбредут мне на ум завтра…)
Меня зачислили студентом первого курса, но триумфальный отъезд в Конотоп попытался омрачить комендант общежития.
В окне моей комнаты он обнаружил недостачу одного стекла.
Его там не хватало и при моём вселении, но он и слушать не хотел – плати и всё! Или ищи мастера, который вставит.
Указанной им суммы у меня не оказалось и крайне возмущала несправедливость ситуации. Оставшись один, я поднялся этажом выше и вытащил стекло из окна в туалете. Размеры полностью совпали.
Как я люблю стандартизацию!
Комендант, правда, придирался, что стекло явно б/у, то есть бывшее в употреблении, но я оправдался тем, что покупал его с рук, на базаре, и не заметил следов краски по краям.
Ольге не нравилась вся эта затея с получением высшего образования, тем более на учителя. Английский язык она вообще за специальность не считала – его обязан знать любой и каждый даже без всякого вуза, так ей детский доктор говорил, однажды вызванный по случаю простуды Леночки.
В ответ я говорил, что доктор тот слишком умный и что по субботам я буду приезжать.
Её малость утешило, что я не противился, когда ей захотелось покрасить мои волосы перекисью водорода.
Вот почему на общем снимке первокурсников 1975 года факультета английского языка нежинского государственного педагогического института, он же НГПИ, я, как и положено герою нашего времени, блондин с тёмными усами.
Курс подразделялся на четыре группы по двенадцать человек, из которых только один мужского пола. Такое же процентное соотношение сохранялось и на прочих курсах факультета.
Из-за того что я крашеный блондин, вокруг меня начал увиваться местный юноша с интонациями мальчика из Нальчика.
Шокированный матом стройбата, он отстал, но трагически оповестил, что жизнь его разбита – из-за меня он не поехал в Москву, хотя и мог бы.
Ольга незамедлительно поставила меня в известность, что в Нежине я тусуюсь с пидорами.
На моё требование назвать источник лживой информации, она указала некоего Шурика, чья сестра тоже учится в НГПИ на математичку.
В Лунатике на танцах Лялька, по моей просьбе, вызвал Шурика в неосвещённую аллею поговорить со мной. Я ударил Шурик по лицу и тот убежал.
Преследовать я не стал, а лишь кричал вслед по-стройбатовски :
– Иди сюда, бля!..
Странный способ вернуть убегающего, если вдуматься.
Занятия в Старом корпусе длились с девяти до почти двух, или полтретьего, а потом по широкой асфальтной дорожке между фасадом Нового корпуса, в плитке песчаного цвета, и рядом бесспинных скамеек под густыми раскидистыми ивами, я шёл к краснокирпичному корпусу студенческого общежития, оно же общага.
Напротив общаги высится высокая двухэтажная столовая в стекляно-кубическом стиле.
Большой зал на втором этаже заполнен квадратными столиками, голосами проголодавшихся студентов, журчанием воды в посудомойке, бряцаньем кухонной утвари, звяком тарелок с хавкой, переставляемых на подносы, стуком подносов об узкие рейки, по которым их тащат вдоль прилавка кухни в сторону восседающей в конце пути кассирши в белом халате и белом матерчатом раструбе на волосах.
Орден монахинь-кассиреанок.
Мимолётный взгляд на содержимое подноса, и кассирша оглашает приговор – от 60 коп. до 1 руб. – принимает плату, даёт сдачу и с лязгом выбивает очередной чек из аппарата и тот добавляется в ворох таких же бумажек.
Порой особо любознательные студенты, из чисто научного любопытства, брали одинаковый набор еды находясь в разных местах подвижной очереди.
Стоимость таких контрольных наборов варьировалась.
Кассирша творила цену на лету, по вдохновению, с учётом внешнего вида клиента, погодных условий на дворе и уровня шума в зале.
Поев, посетители спускались на первый этаж мимо запредельно краткой мудрости Е = mc 2 , начертанной на стене лестничной площадки.
Пустое брюхо к ученью глухо, а после обеда, глядишь, и постигнется теория относительности.
( … кстати, неизвестно кто мудрее – Эйнштейн, или тот, кто нашёл такое правильное место применения его формуле… )
На первом этаже находился вечно запертый зал торжеств, где два раза в год случались свадьбы.
Выйдя на высокое крыльцо можно ещё свернуть в стеклянную дверь небольшой светлой кондитерской с двумя продавщицами в белых халатах и обычным ассортиментом песочных пирожных за 22 коп., вчерашних пончиков и табачных иделий.
Сигареты были не ахти – сыроваты, но «Беломор-канал» самого превосходного качества – сухие, набитые податливым табаком папиросы, что очень важно.
Расчувствовавшись, я однажды потребовал у продавщиц «Книгу Жалоб и Предложений» и вписал туда благодарность на этот счёт, которая заканчивалась словами «спасибо, родные!»
Графоман всегда найдёт повод предаться своей скрытой страсти.
Теперь можно вернуться к пятиэтажной общаге из красного кирпича.
У входа её три колонны из широких железных труб поддерживают плоский бетонный навес. Каждая из труб, если по ней ударить, издаёт звук различной высоты. На этих колоннах можно сыграть «до-ре-ми до-ре-до», настолько точны интервалы высоты тона нот издаваемых железными трубами.
В НГПИ имеется отделение учителей пения, но честь данного музыкального открытия принадлежит студенту английского факультета, он же англофак, которого я уже не застал.
Что до самой музыкальной фразы, то она является старинным лабуховским матюком.
Стоит её сыграть и любой лабух усечёт, что это ты кого-то посылаешь:
– Да пошёл ты на х*й!
По одному слогу под каждую ноту.
За остеклённой входной дверью – небольшой прозрачный тамбур со следующей дверью – в вестибюль.
Тут, в правом углу, стол дежурной вахтёрши. К стене над её над головой прибит квадратный щит из фанеры, утыканный гвоздиками, на которых висят ключи от комнат.
Если гвоздик под номером 72 пуст, значит кто-то из моих сожителей сейчас в комнате и ключ у него.
По коридору позади вестибюля можно свернуть налево, или направо – всё равно; и там, и там выйдешь к лестнице на верхние этажи. Но мне ближе по левой.
Этажи поделены между факультетами; второй этаж – биофак, третий – англофак, четвёртый – математика и пятый – музпед.
На любом этаже с лестничной площадки входишь в длинный полутёмный коридор, в дальних концах которого по одному окну – от пола до потолка. Всё остальное убранство составляют стены да двери над тёмным бетоном шлифованного пола.
Крайняя дверь у окна справа ведёт в умывальник, а та, что напротив неё, в мужской туалет. На противоположном конце длинного коридора всё в точности так же, только там туалет женский.
Комната 72 через стенку с умывальником.
Как войдёшь, за дверью по обе стóроны, фанерные шкафчики до потолка, для верхней одежды, два и два. Вслед за шкафчиками комната становится чуть шире – и в промежутке до широкого трёхстворчатого окна с форточкой с каждой стороны умещается кровать, тумбочка, кровать.
В центре комнаты тёмно-коричневый стол с задвинутыми под него стульями – иначе не пройти к окну.
Под подоконником ещё две тумбочки. Чтоб вышло по одной на каждого жильца.
На стенах засаленные, местами драные обои.
В белёном пыльном потолке круглая жестяная коробка для лампочки. Имеются две розетки и выключатель у двери.
Но с полуночи и до шести утра свет в комнатах выключает дежурная вахтёрша рубильником электрощита на первом этаже.
Тех, кому охота грызть гранит науки, на первом ждёт читальный зал с такими же коричневыми столами и круглосуточным освещением; рядом с залом для просмотра телепередач.
Читальный зал пустеет задолго до полуночи, и зал с телевизором тоже, если только не передают международный матч по футболу или премьеру телефильма с Андреем Мироновым.
Все мои сожители по комнате-пеналу четверокурсники.
Федор Величко из глубинного села на просторах нэньки-Украины.
Его волосы, прямо торчащие над прямым лбом, чем-то напоминают соломенную крышу сарая на тихом хуторе.
Саша Остролуцкий воспитывался в детском доме, но собирается жениться на дочери профессора Соколова из Москвы. Ни с дочерью, ни с самим профессором никто, кроме него, не знаком.
Он невысок ростом, как и Фёдор, но пощуплее.
Любимое занятие Остролуцкого – ходить в гости по комнатам девушек на этаже и пить там чай со сладостями. У него прямые светлые волосы, длинноватый нос и репутация Казановы.
В чайных походах Сашу иногда сопровождает Марк Новоселицкий из Киева.
У Марка широкое лицо, сосульки чёрных волос до широких стёкол очков и непременная усмешечка под редковатыми усиками. Он самый упитанный в комнате.
Светочке Хавкиной, первокурснице из Чернигова, Марк и Саша заплатили за чаепитие чёрной неблагодарностью.
Выпили и, рассевшись на покрывала девушкиных коек, принялись осуждать и хаять этих нехороших людей – евреев.
Света, миловидная чернокудрая дочь одного из колен Израилевых, менялась в лице на каждое из их антисемитских замечаний, но терпела молча.
Потом она два дня места себе не находила, пока Илюша Липес, третьекурсник с бакенбардами как на пушкинских автопортретах, не объяснил ей, что эти неблагодарные свиньи на самом деле и сами евреи.
Четвёртый четверокурсник, Яша Демьянко из Полтавы, живёт где-то в городе на квартире, но почти ежевечерне навещает однокурсников.
Мы играем в «дурака». Яша самый сильный игрок и ростом он выше всех.
У него длинное прибалтийское лицо в обрамлении длинных кудрей. Он, как и Фёдор, разговаривает исключительно и только на украинской мове.
Остальные общаются на русском, но все мы отлично понимаем друг друга.
Ещё в нашу комнату приходит четверокурсница Света из Нежина.
Она официальная невеста Марка, их родители уже тоже знакомы.
В карты она не играет, садится исключительно на койку Марка и держит его в ежовых рукавицах:
– Что такое, Марик? Я не поняла!
– Ну, Светик, ну, я только…– виновато опустив глаза под стёклами очков, начинает оправдываться провинившийся, пока остальные игроки не начнут возмущаться, чтоб он не тянул уже с ходом.
Потом он провожает её домой, возвращается и, когда в комнатах отключат свет, приводит свою однокурсницу Катраниху.
Минуты две они молча поскрипывают на его койке и расходятся.
И это правильно, потому что завтра снова день учёбы и занятий.
У Катранихи широкая натура, она очень гостеприимна.
Когда в Киеве один урка грабанул республиканский Дом моды и решил залечь на дно, то заехал электричкой аж до Нежина и неделю ночевал в её комнате.
Всех её сожительниц по комнате он каждый вечер водил в оба нежинские ресторана.
В конце недели уголовный розыск, по следам импортных тканей, которые урка пытался толкнуть на базаре, поднялся на третий этаж нашего общежития.
Оперативников было двое, один из них достал чёрный пистолет и постучал в дверь комнаты Катранихи, но от урки уже и след простыл.
Взяли его только через месяц в Мариуполе.
Во всяком случае, так рассказывал оперативник с пистолетом своей жене, тоже четверокурснице англофака.
Один раз Катраниха пригласила меня в кинотеатр им. Ленинского Комсомола, метров за двести от столовой, напротив озера в Графском парке.
Мы посмотрели фильм «Зорро» с Аленом Делоном.
Ну, не знаю, но, по-моему, сцена финального фехтования, чересчур затянута.
Вобщем, зря она потратила на меня столько времени, я не мог смотреть на неё как на женщину, зная, что это девушка моего сожителя по пеналу.
Какой-то я, всё-таки, старомодный.
Когда я стал студентом, то даже и не помышлял о нарушении супружеской верности.
Целую неделю.
А потом где-то на этаже нашлась незанятая комната, а к ней нашёлся ключ, а к ним моя однокурсница – Ирина из Бахмача.
В той комнате мы провели с ней ночь до самого рассвета.
Она оказалась стойкой приверженицей тактильных утех и не ниже резинки.
Опять! За что?!
Не спорю – грудь у неё пышная, но с диковинными сосками; мне никогда не попадались столь миниатюрные, как головка английской булавки, но утешаться всю ночь напролёт одним лишь бюстом занятие монотонное.
Через два дня она решительно преградила мне путь в полутёмном коридоре общаги:
– Ты не сказал, что ты женатый!
– А ты не спрашивала.
( … и в этом, на мой взгляд, основной изъян цивилизации.
Взять, например, меня – имею самые чистые побуждения – совершить честную сделку по схеме «ты – мне, я – тебе»; то есть, обменяться удовольствиями.
Я готов отдать все интересующие её услады от моего мужского тела в обмен на удовольствия предусмотренные устройством её женских прелестей.
Но вместо вакханки молодой вьющейся в моих объятиях змеёй, я (в который раз!) упираюсь в факт использования влагалища в качестве капкана.
Горьки твои плоды, цивилизация!
Поиграйся титьками и – вали отсюда! Вот женишься – хоть ложкой хлебай.
И кому какое дело до твоих самоугрызений, что не смог пробудить ответного пыла?
Не смог – значит импотент.
Конечно, для самоутверждения можно и к изнасилованию прибегнуть, но – не могу.
И что интересно – само лишь начертание слова «rape» вызывает у меня эрекцию, а вот претворить этот термин в жизнь даже с той, что возлегла со мной по собственной воле, не могу.
Она скажет «нет» и я начинаю укрощать свою целеустремлённость, чего бы мне это ни стоило.
Всё потому, что люблю честные сделки. Ну, и плюс к тому родился слишком поздно – после происхождения семьи, частной собственности и государства…)
Это теперь в Нежине городские автобусы останавливаются рядом с железнодорожным вокзалом, а тогда автомобильный мост над путями ещё не бы построен и к месту их остановки приходилось идти по высокому пешеходному.
Потом нужно было долго дожидаться автобуса, штурмом втискиваться в него и не менее долго ехать до главной площади.
От площади уже пешком спускаешься до моста через реку Остёр, на правом берегу которой находится и общежитие, и учебные корпуса, и Графский парк с колоннами тёмных старинных вязов, обхваченный длинной подковой озера.
Однажды всю дорогу от вокзала до площади я уговаривал Якова Демьянко продать мне рубаху.
Белая нарядная, в широкую жёлто-синюю клетку из тонких линий.
Яков привёз эту рубаху из Полтавы, чтобы фарцануть, то есть продать по договорной цене и в автобусе показал мне её из портфеля.
Вот я и пристал, а он никак не соглашался, потому что на нём была такая же, а мы с ним с одного факультета.
Нехорошо, если двое в одинаковом.
Пришлось поклясться, что буду одевать её только с его разрешения, когда у него постирана, или ещё там что.
( … мы жили в эпоху дефицита и отлично знали об этом.
Меня не шокировало, что у однокурсницы, сидевшей рядом на общей лекции, прорехи в колготках заклеены изолентой.
Всё равно при ходьбе из-под юбки не видно, а колготки итальянские…)
Федя, Яков и я крепко сдружились на почве сухого вина.
После занятий мы шли в гастроном за универмагом, что напротив церкви, в которой когда-то бракосочетался Богдан Хмельницкий, и покупали четыре-пять бутылок сухого белого вина ёмкостью по 0,75 литра.
Яков был сторонником умеренности и его дозу составляла всего лишь «одна довга».
Мы же с Фёдором придерживались более либеральных воззрений.
От универмага мы спускались мимо базара и ресторана «Полiсся» ко второму мосту через Остёр, за которым начиналась улица Красных партизан постепенно переходящая в шоссе на Чернигов.
Но наш маршрут покороче. Мы спускались в густую прибрежную траву недалеко от католической часовни и ложились там для возлияния.
Дно винных бутылок покрывал толстый слой осадка, но мы умели пить с горлá не взбаламучивая его.
Пустые бутылки мы швыряли в воды Остра, почти неподвижные, потому что где-то внизу по течению закрыты шлюзы плотины. Укоризненно покивав и покачавшись словно поплавок, бутылки застывали, указуя горлышком в небо.
( … борцы с загрязнением окружающей среды не одобрили бы наши действия, но молодым беззаботным студентам все поллюции по колено.
Кроме того, если сравнивать наше поведение со студенческими подвигами Михаила Ломоносова в германских университетах, мы – просто агнцы невинные.
Читая о его фортелях, понимаешь – не зря шёл человек пешком от самогó Архангельска и аж до Москвы.
Тяга к знаниям знает куда тянуть…)
И в той траве, куда она нас притянула, мы вели просвещённые беседы о том, о сём, перемежая их прихлёбами из «довгих».
Про то, что в Остре, когда он был ещё судоходным, затонул купеческий корабль с драгоценностями. Японцы предлагали провести чистку всего русла за свой счёт, при условии, что клад им достанется, но наши сказали: «дзуски, вам!»
А латинист Литвинов, по кличке Люпус, безжалостная скотина.
– Упражнение пятое. Прочтите седьмое предложение.
А как прочтёшь, если впервые видишь?
Конечно, это упражнение из домашнего задания, но где ты время найдёшь на всё те задания?
– Седьмое напечатано за шестым.
– …
– Перед восьмым.
– …
– Садитесь – два.
Спокоен. Невозмутим.
Голова похожа на электролампочку, только волос чуть побольше.
Его красавица-жена сейчас на четвёртом курсе; а на первом, в зимнюю сессию, она смогла сдать ему зачёт только с шестого захода. Он расписался в зачётке и сказал:
– Выходите за меня замуж.
Она просекла, что в летнюю сессию по латыни будет не зачёт, а экзамен и поняла – сопротивление бесполезно.
И мы условились, что когда Федя с Яшей получат диплом, то на прощальной пирушке я забреду в воду Остра с бокалом шампанского в руке. Как в фильме «Земля Санникова» поручик царской армии заходит в полосу прибоя вслед уплывающей к открытиям шхуне.
Есть только миг между прошлым и будущим, Именно он называется жизнь…Потом мы, размякшие и счастливые, подымаемся из травы и идём к общежитию, обгоняя застывшие посреди реки горлышки ленивых бутылок.
( … мы жили в эпоху застоя, но ещё не знали об этом…)
В обложенном голубым кафелем душе на первом этаже общаги, я сделал открытие, что у меня очень даже звучный голос. Вот и привёз из Конотопа гитару и пел из своей комнаты на третьем этаже серенады никому.
Ирина из Бахмача, похоже, оповестила англофачных артемид, что я не кошерная дичь.
Томная задумчивость во взорах сменилась выражением насторожённой бдительности и моё появление в комнате каких-нибудь девушек уже не вызывало мгновенного предложения попить чайкý.
Но я всё равно пел.
Иногда с пятого этажа спускались ребята из музпеда и просили одолжить гитару хотя бы на вечер.
Наверное, отдохнуть хотели…
А в конце сентября, когда наш курс поехал на свадьбу однокурсницы Гали из Борзны, я там всю ночь бренчал и пел из репертуара «Орфеев», «Ориона» и Дюка Эллингтона.
И люди под меня танцевали!
Стройная невеста в длинном белом платье, приникнув к массивной фигуре жениха, бросала мне благодарные взгляды, а её брат отваживал от проигрывателя желающих поставить пластинку.
Не на всякой свадьбе бывает «живая музыка».
В начале октября меня вызвали в отдел кадров НГПИ.
Начальник отдела кадров, не глядя мне в лицо, предложил пройти в дополнительную комнату позади стола в его кабинете, а сам остался сидеть, где сидел.
В его захребетной комнате тоже имелся стол, а за ним физкультурного вида мужчина с бритым лицом лет за сорок и блекло-тёмными волосами неопределённой длины.
Сцепив пальцы длинных рук поверх стола, он представился капитаном Комитета госбезопасности и объяснил, что, для пресечения шпионской деятельности агентов ЦРУ, приезжающих в нашу страну под видом корреспондентов, КГБ нужны молодые люди владеющие английским языком.
Впоследствии, после соответствующих курсов спецподготовки, их направят в зарубежные страны для обеспечения нашей государственной безопасности.
Ух, ты! Мечты сбываются и не надо идти к участковому Соловью!
Капитан КГБ сам пришёл и сделал мне предложение, от которого невозможно отказаться; не зря же в юных грёзах я примерял рубаху Баниониса из «Мёртвого сезона».
Осталось обсудить детали.
Если по пути в общежитие после занятий я увижу его с газетой в руках, значит спустя час мне нужно позвонить ему вот по этому номеру для получения дальнейших инструкций.
На том мы и расстались.
Через неделю, когда я звонил ему по телефону-автомату из стеклянного отсека в вестибюле общаги, он проинструктировал меня приехать на вокзал и на первом этаже деревянного особнячка вокзальной милиции, рядом с общественной уборной, зайти в первую дверь направо.
За этой дверью, под его диктовку я написал заявление с просьбой зачислить меня в секретные сотрудники Комитета государственной безопасности, где, в целях конспирации, моим рабочим псевдонимом считать имя «Павел».
На третьей встрече, он сказал, что замполит войсковой части, где я прослужил два года срочной службы, очень плохого обо мне мнения. Мол, и такой я, и сякой, и, снова-таки, этакий.
( … похоже, в КГБ всё поставлено с ног на голову – сперва он меня вербует в разведчики, а потом начинает собирать справки стоит ли это делать.
Хотя, возможно, тут есть доля и моей вины – слишком уж красивую характеристику я себе составил при поступлении в вуз.
А ведь недаром говорил великий и мудрый крановщик Гавкалов из СМП-615 (о котором попозже), что «слишком хорошо – это совсем не хорошо»…)
Я спросил, не сообщает ли замполит ещё и о моём участии в ограблении банка, на что капитан хмыкнул, но всё же пожелал узнать за что именно так сильно невзлюбил меня товарищ замполит.
Причина, указанная мною, не являлась абсолютным вымыслом, я лишь заменил собою киномеханика части, которому замполит доверял развозить подарочки своим малолетний пассиям.
По моей версии, именно я случайно переспал с одной из девушек, а та нечаянно проболталась и замполит впал в яростную ревность, на почве которой и делает теперь из меня наркомана и дебошира.
После этого разговора ореол моей мечты о работе разведчиком в Соединённых Штатах крепко потускнел. Я заподозрил, что стал просто-напросто стукачом – «ухом гестапо в кармане обывателя».
Будущее подтвердило мрачные предчувствия. Ни о какой разведывательной школе уже и речи не было – она служила лишь вербовочной наживкой, зато два раза в месяц на встречах в комнате на первом этаже привокзальной милиции я докладывал, что никаких разговоров о политике среди студентов не слыхал.
С одной стороны, неудобно – не оправдываю возложенных на меня капитаном надежд, но что я ему расскажу?
Что Игорёша Рекун, мой однокурсник, поступивший в институт прямо со школьной скамьи, влюбился в Ольгу Жидову, четверокурсницу из Чернигова?
Все вечера он пропадает в её комнате, а Ольгины сожительницы эксплуатируют чувства юного влюблённого и посылают его с чайником за водой из крана в умывальнике.
Однажды в коридоре его остановил мой сокомнатник-четверокурсник Марк Новоселицкий.
– Ты что – у них за водоноса?– спросил он с усмешечкой.
– Ну, и что? – не сробел вчерашний школьник, вскинув острый носик со стёклами очков чайного цвета и жуя, с независимым видом, жевательную резинку.
– В Ольгу Жидову влюбился?
– Ну, и что?
– Может, и жениться на ней хочешь?
– Ну, и что?
– Как ты можешь жениться, если я её трахал?
– Ну, и что?
Игорёк выдержал и этот удар. Только чайник-предатель перекосился в ослабевшей вдруг руке и тонкая, как спица, струйка побежала на серый бетонный пол.
Аж жалко парня.
Сожитель мой не врал, конечно, и свой поступок объяснял желанием уберечь Игоря от роковой ошибки, но всё равно – сволочь он, этот Новоселицкий, хоть и еврей.
Короче, нéчем мне выслужиться перед кагебистом и нéчем подсушить подмоченную замполитом репутацию.
( … а ведь если бы закрыли на неё глаза и на факт крещения дочери в подпольной церкви, и на оскорбление работника КГБ на Комсомольской горке в городе Ставрополе, то я, глядишь, и без разведшколы в президенты б вышел.
Мама всегда говорила, что я очень способный.
По сути дела, я собственными руками отравил свои студенческие годы.
Две ежемесячные встречи с безымянным капитаном выматывали меня как неизбывная зубная боль.
Я глушил и гнал от себя мысли об этом, но они возвращались, как возвращаются к больному смертельной болезнью мысли о подступающем конце.
В моменты самых ломоносовских разгулов вдруг вспоминалось, что через три дня мне опять на встречу; и что хотя «сексот» всего лишь сокращение от «секретный сотрудник», но звучит парашнее, чем «чмо».
А деваться некуда – у них моё заявление и доносы с подписью «Павел».
Даже если залечу на зону, там враз «кум» подкатит, чтоб я стучал и дальше, иначе архивы КГБ дотекут до «пахана».
Жить мне стало тесно, как Синдбаду-Мореходу, когда в каком-то из путешествий на шею ему примостился подлый старик и душил ногами при непослушании.
Но почему чекист вдруг оказался безымянным?
Он называл мне своё имя-отчество, вот только убей – не вспомню.
Не то, чтобы боюсь – нет, а просто провал в памяти.
Как ни напрягаюсь, не могу вспомнить.
А впрочем, не слишком-то и хочется…)
Ресторанов в Нежине тогда насчитывалось два – «Полiсся» на базарной площади, и «Чайка» в одноимённой гостинице возле горкома-райкома и Ленина на главной.
Третий находился в первом этаже вокзала, но днём он работал как столовая, поэтому я его не считаю.
Эпически провинциальная глушь; до умиления.
Даже площадь перед базаром, в сущности, всего лишь улица, но просто очень широкая, вверх от моста к универмагу.
В ресторан мы ходили очень редко и то не все – Яша и Фёдор отказывались.
Их замещала Светочка, невеста Марика.
Длинные белые скатерти на столах и широкая зелёная дорожка от входа и до ширмы в углу, за которой окно на кухню, показывали, что тут вам ресторан, а не забегаловка.
И надо очень долго ждать, пока официантка принесёт заказанный гуляш с картошкой.
Саша Остролуцкий всякий раз принимался тереть салфеткой ложку-вилку-нож из разложенного перед ним прибора на столе.
Типа, он такой чистоплотный. Хорошо хоть нет мизинчик не отставляет при этом.
Чистоплюй детдомовский.
Светочка как всегда шпыняет Марика: «что такое, Марик? Я не поняла!», но уже вполголоса.
Наконец-то из-за ширмы показалась официантка с подносом в руках. Нет. Понесла к другому столику.
Но вот уже и к нам. Она переставляет тарелки с подноса на скатерть.
Саша деловито разливает водочку из круглого, как колба в химических опытах, графинчика.
Вздрогнем!
И после второй стопки ты уже участник остроумной застольной беседы. Твои ухватистые пальцы так ловко покручивают вилкой.
Музыка из динамиков за ширмой звучит уже не слишком резко.
Ты ненавязчиво обводишь взглядом зал.
Какую тут можно пригласить для медленного танца на зелёной дорожке?
Марик всех их знает: с какого факультета вон те, скажем, девушки и даже курс какой.
А если местные, то Светик изложит всю их подноготную.
Золотая молодёжь. Прожигатели жизни.
В конце Марик платит за всех из мягкого коричневого кошелька – в общежитии рассчитаемся за свои доли.
Вобщем, Марик парень неплохой, вот только очень любит поучать.
При возвращении из душа на первом этаже, он непременно заглянет в вестибюль, поблагодарить вахтёршу тётю Дину за горячую водичку.
И начинает мне толкать, что она к водичке ни при чём, но это неважно, зато теперь готова делать тебе одолжения.
Это как если кому-нибудь что-нибудь пообещать. Никто не знает когда ты выполнишь обещанное и выполнишь ли вообще, но человек уже зависит от тебя и, в ходе ожидания, он – за тебя.
( … мне кажется, что он просто повторял то, чему его с детства научал его отец.
Еврейская мудрость – от поколения к поколению.
Вот у кого чекисты научились сулить разведшколу…)
За обучение уму-разуму я расплачиваюсь книгой «Замок Отранто» в толстом коричневом переплёте, которую по его просьбе украл в библиотеке Клуба КПВРЗ.
Это несложно – засунул книгу под ремень брюк под кожухом и вышел записать какую-то ещё в свой формуляр.
Пиры у себя в комнате обходятся дешевле. Яша с Федей отправились за «Кальвадосом» в приплюснутых бутылках; мы с Остролуцким – на кухню.
На каждом этаже две кухни, рядом с каждой из лестничных площадок, в каждой кухне по две газовые плиты, один кран с раковиной и дверцы ящиков в три ряда, как в автоматических камерах хранения, только не железные, а из ДСП.
Мы чистим картошку. Много картошки.
У Саши спортивно-подтянутый вид, зиппер курточки взжикнут до верху, висюлька собачки болтается под подбородком.
Ладно, хватит. Теперь нарежем. Ты постой там у двери, просто обопрись.
Посмотрим, что тут у нас….
Остролуцкий открывает дверцу ящика и выгружает кусок сливочного масла на огромную сковороду.
А тут и лучок есть, отлично!
Он с такой непринуждённостью проверяет ящики, что мне как-то не сразу доходит, что это мы с ним грабим «торбы» однофакультетниц.
Так запросто и ловко, что и язык не повернётся назвать это воровством.
( … ну, ладно, Сашу оправдывает полуголодное детдомовское детство, а мне-то как после такого смотреть в глаза Робин Гуду?
Но, даже при всех угрызениях совести, ничего не ел я вкуснее той студенческой картошки; а вот «Кальвадос» – паршивое пойло.
Им даже и опохмеляться противно…)
Из Индии вернулся Жора Ильченко.
По окончании второго курса его послали туда работать при советском посольстве, а теперь вот вернулся, чтоб доучиться до диплома.
По англофаку заходили книги, которые он там накупил.
Я с Жорой не знаком, пару раз издали видел; лысеватый такой, в усиках; ну, позавидовал ему, конечно – целый год в Индии! – и попросил Игорька, когда дочитает взятую у Жоры книгу, чтобы и мне дал.
Рассказы В. С. Моэма в оригинале, напечатано в издательстве «Penguin».
Читать трудно – столько всяких слов заковыристых; пришлось попросить у Наташи Жабы большой англо-русский словарь.
Она из моей группы и Жаба это не кличка, а натуральная фамилия. Вот кто точно возьмёт в ЗАГСе фамилию мужа.
А у Моэма попался мне рассказ – совсем короткий, страницы на три – «Человек со шрамом», и именно его размер подкинул мне идею: что если взять, да и перевести?
Тем более, что есть где размещать – на третьем этаже Старого Корпуса, напротив двери в лингафонную лабораторию, рядом с расписанием англофака висит газета «Translator», где вклеены машинописные страницы студенческих переводов.
Рассказ хоть и короткий, но представляет самую суть всех этих латиноамериканских революционеров.
У них ведь оно там как – наберёт банду, присвоит себе звание полковника, или генерала и начинает освободительную войну под лозунгом «Свобода или смерть!», пока не станет диктатором.
Однако, в рассказе у этого освободителя-революционера, до того как он стал человеком со шрамом, боеприпасов не хватило.
На рассвете перед расстрелом он зарезал свою девушку, которая прибежала попрощаться.
Настолько сильно любили они друг друга.
И за это правящий диктатор его не расстрелял вместе с остальной бандой, а приказал депортировать в соседнюю латиноамериканскую страну.
И он там спивался и продавал лотерейные билеты.
Один раз у него лопнула бутылка пива и на лице остался шрам от стекла.
Такая вот незамысловатая история, но Моэм в своих рассказах умеет подать кинематографически краткие, но ощутимые детали.
Выпукло зараза пишет.
( … слова в английском языке короткие, кроме заимствованных, и одно предложение смотрится как горстка риса, а смыслов в нём на полмешка.
Ну, а в русском слова, из-за своих суффиксов с приставками, длинные как спагетти, или паутина, из которой и выплетается о чём, собственно, речь…)
Перевод я собирался в два вечера закончить, а ушло две недели.
Стенную газету «Translator» редактировал преподаватель теоретической грамматики, или ещё чего-то изучаемого на старших курсах, Александр Васильевич Жомнир.
Интересный тип.
( … нынче его назвали бы неформалом, а тогда это означало – непойманный диссидент…)
Внешне он больше смахивал на украинского националиста, чем на диссидента, но всё равно непойманного, иначе не пустили б в институте преподавать.
Свои длинные серые волосы он зачёсывал назад, но они тут же падали обратно на широкий лоб и густые брови.
Он круглил чуть вскинутые плечи, как будто собирался принять на них мешок картошки, а в движениях чудилась годами отрабатываемая неуклюжесть.
Типа, хуторянский пасечник, или мельник, который пробился в профессорá лингвохирургии.
В институт он приезжал на велосипеде, как мужик, но интеллектуально пристёгивал его висячим замком за спицы.
Поверхностно перелистав половину тонкой тетради с моим переводом Моэма, Жомнир на слишком старательном русском языке объяснил, что не работает с русскоязычными текстами и потому в «Traslator’e» все переводы на украинском, за исключением стихов.
Да, в моём школьном аттестате за украинскую мову и литературу стоит «н/а» – «не аттестован», но после переезда в Конотоп я с первого же месяца читал библиотечные книги на украинском языке.
Через две недели я принёс Жомниру украинский вариант всё того же «Человека со шрамом».
Он оживился, заблистал глазами и камня на камне не оставил от моих трудов.
Обидно было, но я видел, что он прав.
Плюнуть на всю эту шрамотень я не мог не потому, что гордость заела, а просто вошёл во вкус борьбы с неподатливостью славянских слов для полного выражения того, что я смог уразуметь в бисере языка Моэма.
Борьба оказалась настолько увлекательной, что я отвёз гитару обратно в Конотоп.
Дошедшие до меня год спустя слухи о том, будто, приезжая по субботам в Конотоп, я бросал свой чёрный пластмассовый «дипломат» в прихожей, а сам сразу отправлялся по блядям и не обращал внимание на то, что моя жена гуляет регулярно и напропалую, были сильно преувеличены.
Наши с Ольгой отношения оставались неизменно бурными и приносили чувство глубокого удовлетворения.
Кроме того раза, когда я устроил хронометраж.
Мой сожитель по комнате Марк Новоселицкий вдруг ни с того, ни с сего меня спросил какова продолжительность моих половых актов с женой и я, навскидку, ответил: минут десять-пятнадцать.
Он начал подымать меня на смех, мол, такое невозможно и мы поспорили.
Ольга не поняла зачем я притащил в спальню будильник из кухни, но я не стал ей пояснять. Его цоканье по мозгам довело до плачевного результата.
Вернувшись в воскресенье в Нежин, я честно признался Марику, что набежало всего пять минут и он победно расцвёл.
Но в остальные разы всё было как надо – минуты теряли всякий смысл.
Перед этим мы шли в Лунатик и тесно танцевали медленные танцы, а быстрые – размашисто.
Она в любом была хороша.
Наблюдали пару драк на паркете – Лялька называл их гладиаторскими боями – и выходили из зала в неосвещённый коридор библиотечного крыла.
Приопёршись на высокий подоконник молчаливо чёрного окна за спиной, мы с Лялькой курили травку, постепенно и всё глубже постигая аквариумную суть интерьера вокруг; а Ольга курила свои сигареты с рыжим фильтром.
Всё становилось ништяк и мысли о моём сексотстве в Нежине отступали на самое дно аквариума.
Так что супружеский долг я исполнял сполна, а когда Ольга сказала, что беременна и что за аборт муж должен сдать в больнице стакан своей крови, я беспрекословно отправился туда, хоть, вроде, и предохранялся.
В кабинете по переливанию крови меня обули в белые бахилы и уложили на покрытый холодной клеёнкой стол.
Меня поразило выражение глаз тамошних работниц, вернее всякое отсутствие его, глаза у них словно задёрнуты тусклой ширмой, как у уснулых рыб.
С гибким шлангом и иглой у него на конце, они подступили ко мне, стараясь воткнуть её в вену руки, чтоб кровь потекла через шланг.
С трёх попыток, им так и не удалось проколоть вену, та упруго упорствовала и откатывалась от введённой под кожу иглы.
От изумления они сжалились и поставили отметку в бумажке, будто кровь сдана, и тот аборт обошёлся бесплатно.
Отступать я не мог, да и не хотел.
Мне пришлось изучить ещё одну письменность – похожую на арабскую вязь, но поразмашистей – почерк Жомнира, которым он делал пометки между строк моего перевода.
И пришёл день, когда он поднял кустистую бровь и сказал, что вот теперь – ничего и перевод можно поместить в следующем «Translator’е».
Яша и Федя, стоя перед новым номером «Translator’а» с рядочком машинописных страниц моего перевода, в изысканно вычурных выражениях поздравили Жомнира с открытием нового таланта на ниве украинских переводов со столь истинно украинским окончанием фамилии – ОгольцОВ.
Жомнир отвечал попроще – не его вина, что щирi украинцы ДемьянКО и ВеличКО за все четыре года так и не почухались.
Пришла весна, а с нею – самая безоблачно чистая любовь моей жизни.
Все её называли Швычей, а я – Надькой.
Она возродила во мне веру, что женское начало, всё-таки, ещё живо в этом затруханном цивилизацией мире.
Мы любили друг друга.
Упивались любовью.
Любовь ради любви и есть чистая любовь, она же любовь в чистом виде.
С чего это я расписываюсь за обоих? Какое тому основание?
Очень просто – Надька была девственницей, ещё неискушённой в притворстве.
Так может я снова забыл сказать что женат?
В этом не было необходимости – она заканчивала четвёртый курс англофака и жила на том же самом третьем этаже общаги.
Редкостное сочетание: девственность и четвёртый курс.
…немало есть на свете, друг Горацио, такого, что не снилось нашим мудрецам…Ребята-четверокурсники гуляли чей-то день рождения в комнате напротив нашей, позвали и меня.
Мы с Надькой оказались сидящими на одной койке, и когда кто-то выключил свет, я чисто рефлективно расстегнул молнию спортивной курточки на ней.
Она мгновенно задёрнула её обратно. Когда включили свет – всё чин-чином, даже полиция нравов не придерётся, но Марик слышал как вжикал зиппер в темноте – вниз-вверх, и начал насмехаться.
Надька ушла, тем всё и кончилось.
На следующий день она встретила меня в коридоре общаги всё в том же спортивном костюме, заговорила и улыбнулась.
О, улыбка Надьки – это что-то!
Эти ямочки на щеках, эти чёртовы искры в чёрных глазах!
Она отвечала всем параметрам украинской красотки.
Чёрные гладкие волосы до середины спины; дуги бровей на круглом лице; налитые груди; округлые плечи плавно переходили в руки, упёртые в крепкий стан над роскошными бёдрами тренированной пловчихи.
Потому что она занималась именно этим спортом.
И, спрашивается, зачем я ей?
Да, очень просто – в то лето она выходила замуж.
Не за меня, конечно, а за какого-то лейтенанта какого-то военного училища, который после свадьбы должен увезти её к месту своей службы.
Времени оставалось не так уж много и мы не хотели его терять. Мы любили любить друг друга и хотели ещё и ещё.
Но это потом, а сперва нужно было разобраться с её девственностью.
Две первых встречи мы провели в отсеке умывальника – с одним окном, одной раковиной, одним подоконником – зачем-то отгороженными одной дверью от остальных раковин.
Меблировка скудная, но для начальных стадий узнавания друг друга и такой достаточно, тем более, что дверь отсека открывается внутрь.
А затем ребята из 71-й комнаты куда-то уехали, оставив ключ Жоре Ильченко.
Вообще-то, он жил на квартире, но кто откажется от ключа свободной комнаты в общаге?
Вот только ключ они передали не из рук в руки, а оставили висеть на гвоздике возле вахтёрши в вестибюле.
Не знаю как до меня досочилась вся эта информация, но повторного приглашения к такому подарку судьбы я ждать не стал и снял тот ключ пораньше Ромы.
Вечером мы с Надькой уединились в комнате 71 и заперлись изнутри.
Когда стуки в дверь комнаты прекратились и в гулком коридоре утихли крики Жоры Ильченко:
– Кто-нибудь видел Огольцова?!
Надька начала постепенно снимать свою спортивку, сопровождая стриптиз эпохи застоя припевкой из довоенной кинокартины «Цирк»:
Тики-тики-дуу! Я из пушки в небо уйду!..хотя немного нервничала.
Мы легли на койку у окна.
По ту сторону двойной перегородки из гипсовых плит находилась моя комната, 72. Там под окном стояла койка Феди, рядом с вывалившейся из стены розеткой.
Вскрик Надьки из розетки привлёк его внимание, он вынул её вовсе, приник к образовавшемуся «уху Дионисия» и долго заполночь слушал последующие Надькины стоны.
Мы с ней не знали, что нас прослушивают, но даже и зная б не остановились.
На следующий день ребята из 71-й вернулись и ключ пришлось отдать.
В понедельник в умывальнике Надька была грустна и молчалива, но я сумел выпытать причину.
Марк Новоселицкий распустил на четвёртом курсе грязный слух, что Огольцов Швычу в умывальнике раком…
Я как чувствовал, что он к ней неравнодушен.
Иначе с чего бы так вслушивался во вжиканье зиппера на том дне рождения?
Ну, погоди, морда жидовская!
Во вторник он пошёл в душ, а когда вернулся с влажными ещё волосами и полотенцем через плечо, то в комнате застал одного только меня. Я запер дверь на ключ и сказал:
– Снимай очки, Марик. Я тебя бить буду.
Очки он так и не снял, а начал бегать вокруг коричневого стола с подсунутыми под него стульями.
Пришлось сдвинуть стол к тумбочке и ему не осталось места делать витки по орбите.
В закутке между подоконником, койкой и столом он стоял понурив голову, как Андрий, сын Тараса Бульбы – безропотный агнец готовый к закланию.
Я ударил его в подбородок, чтоб не повредить очки, и на повышенных тонах пообещал, что если он, блядь, ещё хоть одно слово про Швычу…
Когда я закончил нагорную проповедь, он с заискивающей улыбкой поправил свои очки и сказал:
– А здорово ты меня ебанýл, а?
( … мудрость веков, впитанная с молоком матери.
И, что характерно, на лету ухватил выражения из моей проповеди.
Способность к языкам у них в крови…)
В четверг, в конце свидания в отсеке умывальника, она задумчиво сказала:
– А ведь он правду говорил…
Меня заело, что я, типа, исполняю планы предначертанные Мариком.
Тоже мне – пророк Натан.
Но где выход?
Манна небесная явилась в виде студента первого курса музпеда.
В светлых ангелоподобных кудрях, сияя золотистой оправой своих очков, он спустился с высот пятого этажа на наш третий и дал мне ключ от свободной комнаты на ихнем. Аллилуйя!
Но почему?
Ведь я не просил и даже понятия не имел о существовании той комнаты. Да, осенью я давал ему гитару, но с тех пор мы не общались. Откуда он узнал?!!!
( … в те непостижимо далёкие времена я ещё не знал, что все мои удачи или радости, все взлёты и…
– ДА ЗАТКНИСЬ ТЫ ТАМ УЖЕ В СВОЁМ СПАЛЬНИКЕ!..)
И всё.
С тем ключом мы с Надькой перешли на ночной образ жизни, подымаясь на пятый, когда в коридорах уж по вечернему стихает шум жизни студенческого общежития, и спускаясь на третий в тиши рассветных сумерек.
Она стала, типа, первокурсницей.
Когда наш курс для обучения возили в Киев на экскурсию для иностранных туристов, она тоже присоединилась.
Гид в том автобусе говорил исключительно на английском:
– Look to your left… Look to your right…
В конце экскурсии он спросил:
– Do you have any questions?
Я до того втянулся в роль интуриста, что задал вопрос:
– Are you a Communist, Mr. Guide?
Он малость не ожидал, но ответил:
– I am a Candidate to the Communist Party Membership.
– OK. I see Comrade Guide.
Потом мы с Надькой сидели на скамье в скверике одной из улиц, что спускаются к Хрещатику.
Светило солнце, а вокруг него плавали облачка.
Мы с Надькой целовались долгими поцелуями.
Рядом сидел печальный Игорь Рекун и бросал кусочки печенья разномастным голубям, что шумно толпились на асфальте у наших ног.
Надеюсь, в тот день Киев почувствовал, что он тоже хоть и маленький, но тоже Париж…
( … почему меня так мучило моё сексотство?
Я ведь никого не закладывал. Кагебист даже вздыхал на мою безрезультативность.
И всё же чувство, что я пойман на крючок, стиснут обстоятельствами, из которых нет выхода, и постоянный страх, что моё стукачество откроется, оставались источником неизбывных внутренних мучений – «шестёрка», даже если и не капает, всё равно «шестёрка».
В то же время, оставалось чувство неловкости перед капитаном.
Особенно после того, как я не уважил его зимой…)
Капитан попросил продать ему мой кожух, чтобы он в нём ходил на охоту.
Короткий чёрный кожух из косматой овчины, отцовский, ещё с Объекта.
Кожух, на котором мы с Ольгой сидели на своей свадьбе, был частью моего «имиджа», вместе с чёрным пластмассовым «дипломатом» и неизменным полуцензурным ответом на все жизненные проблемы:
– А хули нам? Прорвёмся!
Продать кожух всё равно, что продать часть себя.
Капитану всего этого я не сказал, просто ответил, что не могу.
Настаивать он не стал, возможно, это просто была проверка моей готовности продать самого себя.
Но зато в мае я порадовал его по полной программе.
Вознаградил за все те пустопорожние доносы, писанные под его диктовку, что ничего особенного не замечено и не произошло.
Он диктовал, а я писал, чтобы накапливались бумажки с моим почерком за подписью «Павел» и чтобы я ещё глубже насаживался на крючок.
В мае после выходных Марик приехал очень оживлённый и, едва зайдя в комнату, объявил, что узнал в Киеве новую игру «в партии», которую надо попробовать – до того интересно.
Мы с Федей оторвались от игры в «дурака» на одеяле его койки, Остролуцкий присел на свою, и мы выслушали правила.
Суть игры, чтобы как бы начать историю заново, с лета 1917 года, когда ещё не было однопартийной системы, а всякие меньшевики, большевики, эсеры, анархисты; и каждый выберет себе партию по душе и будет доказывать остальным чем его партия лучше.
Наша комната 72 по популярности не уступала проходному двору и всем, кто заходил сюда, Марик с весёлым смехом повторял предложение поиграть в эту ролевую игру.
Илюша Липес, сам он и Остролуцкий сперва, по национальному признаку, назвались Бундом, но потом переметнулись в меньшевики и социал-демократы.
Заглянувший в комнату Саша Нестерук помахал своим чёрным шарфом и объявил анархию матерью порядка,
Мы с Федей объявили себя махновцами, чтоб посылать всех, кто помешает нам и дальше играть в «дурака».
Полтавчанин Яков стал, «безсумнiвно», представителем Украинской Центральной рады.
Поржали и разошлись.
Наутро никто уже не вспоминал и не вспомнил бы об игре в партии, если бы в тот день я сдуру не проболтался на встрече с кагебистом.
Капитан оживился и вместо обычных двух строк вымотал из меня целую страницу фамилий всех побывавших в комнате и кто за какую партию выступал.
Ему не понравилась концовка моего доноса – что игра сдохла к концу вечера, пришлось переписывать заново.
И – понеслась!
Ребят, даже кто и близко не был, начали вызывать на допросы в КГБ, записывать их показания – кто зашёл вторым, где сидел, почему объявил себя эсером?
Студенты с вытянувшимися лицами возвращались в общагу, пересказывали ход допросов, тревожно обсуждали возможный исход.
При однопартийной системе можно запросто и не получить диплом даже после четырёх лет обучения.
Через три недели состоялось общефакультетское собрание о том, что в нашей студенческой среде обнаружились нездоровые тенденции…
Представленный собранию капитан КГБ зачитал список участников нездоровой игры в партии (у меня отлегло, когда услышал и свою фамилию – не догадаются, что это я настучал).
Потом начали выборочно вызывать игроков к большой доске в аудитории.
Липес сказал, что он заходил случайно на две минуты попросить чайник и не успел вникнуть что за игра там шла.
Сергей Нестеренко из Киева с места в карьер врубил декламацию отрывка из пьесы Шекспира:
Romans! Countrymen! Lend me your ears!..Его призвали прекратить балаган и он вернулся на место.
А Яков Демьянко даже рад был случаю строить логические силлогизмы на выспренно украинском языке по поводу беспрецедентного прецедента.
Последним, как зачинщик, вышел Марк Новоселицкий и повинился, что не подумал насколько это плохая игра и обещал, что больше не будет.
Собрание закончилось вынесением выговора всем из списка капитана и призывом блюсти честь советской молодёжи.
По пути в общагу мне казалось, что все косятся на меня и перешёптываются за спиной.
Саша Остролуцкий для снятия стресса от допросов в КГБ выпил бутылку водки не закусывая и ему стало плохо, но он успел выбежать в туалет.
Все доучились и получили свои дипломы.
«Партийные игры» не удалось раздуть до масштабов «дела о врачах-отравителях», посягнувших на жизнь Вождя всех народов, товарища Сталина.
Однако, капитан доказал начальству своей Конторы, что не даром получает зарплату.
( … а я вот всё думаю, что не зря ко мне в кочегарку приходил Серый с разборкой за стукачество.
Просто он перепутал время, предвосхитил события…)
В первый раз я так подумал, когда на прощальной встрече в текущем учебном году капитан КГБ выдал мне двадцать рублей и взял расписку, что их я получил за секретное сотрудничество.
О, да! Сумма не совпадает, деньги тоже не серебром, но они жгли мне руки и хотелось поскорей приехать в Конотоп и тут же обменять все двадцать рублей на дурь.
Но и после этого успокоенье не пришло, я ехал на подножке третьего трамвая, смотрел на отражение себя в стекле складной двери – мне всегда нравилось как я в нём отражаюсь – но теперь меня тянуло плюнуть в эту рожу.
Зачем я исковеркал себе жизнь?
Между Новым корпусом и общагой тянется довольно широкий ров для стока избытка воды из озера Графского парка в Остёр.
Мы шли втроём – Надька, я и Игорь Рекун – почему-то огибая Новый корпус с обратной стороны, когда я обратил внимание на железную трубу от одного берега рва до другого.
Она провисал где-то за метр от неподвижной воды заросшей тиной.
– Перейду – спорим? – сказал я.
Надька закричала, что «нет, не надо!», а Игорёк сразу сказал:
– Спорим!
Труба неширокая, сечением 10 см, и над серединой рва она зашаталась из стороны в сторону. Под Надькины «охи» за спиной, я начал ловить равновесие, продвинулся ещё метра на два, а остаток пути пробежал.
– А-а!– заорал я и оглянулся. Игорёк помахал мне:
– Ну, теперь давай обратно!
Ищи дурака! Я – Огольцов, но не настолько же.
Зачем я вообще на неё полез?
Подштопать мужское самолюбие.
За день перед этим наш курс устроил пикник на берегу Остра, почти за городом.
Там Надька вызвала меня соревноваться в плавании. Заплыв на сто метров вдоль реки.
Она сразу ушла вперёд, а мне через двадцать метров дошло, что мой кандыбинский полукроль – фигня рядом с её мощным брассом.
Что оставалось делать?
Я вылез на берег и первым добежал к финишу, а по пути нарвал цветы в траве для встречи победительницы.
– Ты чемпионка, Надь!
Когда мы втроём – Федя, Яков и я – пришли с грузом «довгих» в сень великанских вязов в Графском парке и возлегли в траве для возлияния под шелест зелёной листвы над головой, Яков спросил, правда ли, что я строил из себя канатоходца на трубе.
Я удивился, ведь его там не было, но Федя сказал, что весь англофак уже знает.
Мы выпили, Федя начал жаловаться на проректора Будовского, который испортил ему всю зачётку – за четыре года обучения там стоят одни лишь тройки, а гад Будовский взял и четвёрку поставил, хоть Федя и просил его не делать этого.
По этому поводу Яков поделился философской поговоркой «плыв, плыв, а перед берегом втопывся».
Мы снова выпили и, вдохновившись ярким тёплым днём, я сказал, что канатоходство – ерунда и мне по силам взобраться даже на вон тот вяз.
Его широкий неохватный ствол раздваивался метрах в восьми над землёй.
Яков назидательно поднял указательный палец и объявил это невозможным, и он готов поставить две «довгих», если я помашу ему рукой из листвы кроны.
С моей стороны не обошлось без мухлевания – позади вяза росло тонкое дерево, откуда можно перебраться в развилку вяза.
Я поднялся на условленную высоту и благополучно возвратился на родную землю.
Яков начал было витийствовать, что про подставу не уславливались, но Федя, в качестве третейского судьи, сказал ему заткнуться – оговорённая точка достигнута и две бутылки за ним.
Когда мы допили и по шли обратно в общагу, я показал им трубу надо рвом – вот она, канатоходная.
У Яши взыграло ретивое и он сказал, что тут и переходить-то нечего и он запросто это докажет за две «довгих». Только пусть я подержу его штаны.
Чего не сделаешь для старшего товарища c твоего факультета, наставника по преферансу и в затяжного «дурака»?
И он пошёл в белой нарядной рубахе в широкую клетку из «жовто-блакитних» полосок, из-под которой длились его длинные ноги в носках и чёрных туфлях.
Он не знал насколько коварна эта труба над серединой рва.
Вобщем, там оказалось не так уж и глубоко.
Когда он выбрался обратно на берег, к цветовой гамме облепившей его торс рубахи добавилась зелень тины.
Терять ему уже было нечего и он пошёл во второй раз с таким же успехом, как и в первый.
Я начал ржать и Федя, для поддержания чести четвёртого курса, отдал мне свои штаны и тоже пошёл по шаткой железяке.
После приводнения ему хватило ума вылезти на тот, противоположный берег.
Чёрт побери! Как я угорал с их штанами в руках!
Хорошо хоть общага рядом, а там четверокурсник без штанов не такая уж и редкость.
Но смеялся я, похоже, не к добру.
Приехав домой в Конотоп, я узнал, что Ольга пропала.
Вчера ушла на работу и больше её не видели.
Моя мать ходила к её тётке, но и та ничего не знает.
По настоянию матери я всё-таки поужинал перед тем, как отправился к тёте Нине в надежде на более свежие новости. Та опечаленно качала головой, ничего.
Тогда я пошёл на кирпичный завод.
Уже давно стемнело и в цеху основного корпуса горел жёлтый свет.
Оказывается, на конотопском кирпичном печь не кольцевая, а с вагонетками, по принципу туда-сюда.
В цеху я увидал только одного мужика и спросил где Ольга.
– А где ей быть? Таскается в городе,– со злостью ответил он.
Тут я узнал его – тот самый с кем она меня знакомила возле Первого магазина.
Узнал ли он меня?
Не знаю.
Я вышел в ночь на территории завода. Таскается…
Но, может, ещё придёт на третью смену? Мне всё равно идти некуда.
Неподалёку от цеха я взобрался на кладку стены недостроенного здания и уселся там, как тот филин, или сова, что прилетела ко мне в детстве на Объект, посланная неизвестно кем.
Вот так я и сидел там, посреди ночи, думая мысли, которые лучше не начинать думать, а если уж начал, то лучше не додумывать до конца, потому что наступает момент, когда их критическая масса доходит до точки, за которой – хочешь ты того, или не хочешь – надо уже что-то делать, неважно, додуманы они у тебя, или нет.
Вот только что?
Распахнулся прямоугольник жёлтого света, из двери цеха вышел мужик и захлопнул свет темнотой.
Опять открыл, зашёл и – снова темно. Выходил помочиться.
Мне тут делать нечего. Пойду домой.
Следующий день принёс новость.
Саша Плаксин, он же Эса с улицы Гоголя, видел Ольгу на Сейму возле домиков. Он с ней не говорил, но видел, два дня подряд.
Я не стал ждать дальнейшего развития событий и уехал в Нежин. Главное – жива-здорова, а у меня завтра утром экзамен.
Люпус поставил мне четвёрку.
Перед дверью в аудиторию, где шёл экзамен, я зычным голосом взревел:
Gaudeamus igitur …Пропажа и заочное возникновение жены совсем не там, где хотелось бы, меня примяли, но главное начать, а дальше оно само пойдёт:
Juvenes dum sumus!..Люпус выскочил из аудитории убедиться, что это я так хорошо латынь усвоил, а затем уже экзамен у меня принимал словно на конвейере – открыл зачётку, поставил четвёрку, закрыл зачётку.
Прощай, латынь.
После экзамена я вернулся в Конотоп и мать мне рассказала, что утром приходила Ольга.
Та не заметила, что мать в спальне, и сразу бросилась в комнату, к зеркалу в шифоньере.
Блузку расстегнула и стала рассматривать пятна на груди.
Клеймо владельца.
Каждому – своё; кому иероглифы на запястье, кому ожерелье из засосов на грудь.
– Накричала я на неё, чтоб убиралась где была. Она собрала одежду и ушла. Что теперь будет?
Я пожал плечами:
– Что теперь может быть?
– Ленку я ей не отдам,– сказала моя мать.
Всё это было очень тягостно.
Ольга пришла на следующее утро, но уже в водолазке. Сказала, что ночует у тёти Нины, потому что моя мать её выгнала.
Начала вешать мне лапшу про отдых на Сейму со Светкой в домике знакомых дяди Коли.
Я попросил её не напрягаться, всё равно мы разводимся.
– А Леночка?
– Останется здесь.
Она начала грозить, что увезёт дочку в Феодосию к своей матери. Потом сказала, что это я её довёл своими блядками в Нежине, про которые ей докладывали, но она молчала, что, да, она поехала на Сейм назло мне, но там ничего не было, а у нас ещё может всё наладиться.
( … в жизни всегда есть выбор.
Можно копать землю, а можно и не копать.
Подав на развод, признаёшь себя рогоносцем, принимающим ответные меры в рамках текущих правил общественной морали.
Не подав на развод, всё равно остаёшься рогоносцем, но только, если смотришь на себя глазами общества; либо – но это уже дано не каждому – становишься ахулинамистом, забившим на всё и живущим в своё удовольствие.
Маленький нюанс в том, что истинный ахулинамист не замечает никакой дилеммы – он так и живёт в своё удовольствие.
Мне всегда хорошо было с Ольгой, но на меня навалилась масса вековых устоев морали и кодексов «чести», так что я стоял перед выбором: становиться рогоносцем, или перейти в другую лигу?
Выбор всегда трагедия – выбирая одно, утрачиваешь другое…)
Не люблю выбирать, предоставляю трагедию другим – судьбе, или случаю.
Но в тот момент я вместо монетки использовал Ольгу и сказал ей, что всё будет забыто и мы начнём с чистого листа, если она до конца дня достанет мне дури на один косяк.
Она ушла и вернулась под вечер усталая, сказала, что обошла весь город, но ни у кого не нашлось.
Перст судьбы. Жестокий случай.
Alea jacta est!..( … если бы Ольга достала косяк, мне, как благородному человеку, оставалось бы только сдержать данное слово.
Нам пришлось бы жить дальше и теперь это письмо тебе писал бы кто-нибудь другой.
А может никакое письмо и не понадобилось бы, а были бы у тебя и папа, и мама. Ведь изменение всего одной, даже мелкой детали приводит к неисчислимым вариантам возможных последствий.
Допустим, летишь на машине времени в Мезозойскую эру, где случайно раздавливаешь одного единственного комарика и по возвращении оказываешься в необратимо изменённом будущем – год тот же, откуда вылетал, но сам ты уже не соответствуешь современным нормам.
Сам виноват – глядел бы лучше на что наступаешь в мезозойском прошлом.
Всего один косяк вернул бы мне семейную идиллию с идеальной женщиной.
Она ведь не торговала собой, не обменивалась на деньги, или другие какие-то выгоды и мне изменяла ради личного удовольствия.
Натуральный обмен утехами; ты – мне, я – тебе.
То, что она ещё там с кем-то менялась, не умаляло моего наслажденья ею.
Зачем же я так тупо отказался от того что хотел и получал?
Устои общества не оставляли мне иного выбора, кроме как влиться в толпу тупорылых «бурсаков»…)
Она сделала мне отличный минет на прощанье и попросила прийти назавтра к тёте Нине для чего-то важного.
Так, по воле жестокого случая, я стал рогоносцем.
( … долгое время я всё не мог понять за что так не люблю Лермонтова; теперь знаю – за его ложь.
Лермонтов лгал с первого же шага, со стихотворения на смерть Пушкина:
…с свинцом в груди… поникнув… головой…Ну, допустим, эта ложь вызвана незнанием анатомии; гусар – не лекарь, ему что пах, куда попала пуля, что грудь, всё едино; полметра туда, полметра сюда.
Но следующей лжи я уж никак не могу простить:
…восстал он против мнений света…Голубчик, Лермонтуша! Не восставал он, а именно что в точности исполнил предписания света на подобный случай.
Неукоснительно, с рабской верноподданностью исполнил.
А коль скоро Пушкин не смел ослушаться морального устава общества, то нам, простым обывателям, и сам бог Аполлон велел в случае нарушения супружеской верности подавать на развод…
Любимым ищешь оправданья.
А вдруг если Пушкин вовсе и не подчинялся диктату обычаев и нравов, но наоборот – с умыслом использовал их в личных целях?
Что если стареющий, истрёпанный поэтическими излишествами, он прицепился к залётному пацану Дантесу и симулировал из себя шекспировского Отелло с единственной целью – красиво уйти?
Однако, развитие этой гипотезы требует трёх докторских: по геронтологии, психологии, филологии; а у меня есть дело поважней – письмо к дочери, поэтому вернёмся-ка обратно, с Варанды в Конотоп…)
На следующий день, на хате у тёти Нины, та повторила уже слышанное мною от Ольги, насчёт нашей новой совместной жизни.
Потом она ушла на работу во вторую смену.
Мы с Ольгой выпили по стакану самогона и целый час терзали друг друга в пустой гостиной и на кухне.
Когда мы оделись, Ольга спросила – что же дальше?
Я ответил, что вопрос решён и, увы, не мною.
Она заплакала и сказала, что она знает что ей теперь делать, и начала глотать какие-то таблетки.
Две я сумел отнять, но их было больше.
Я выскочил из хаты, добежал до улицы Будённого и мимо Парка к Базару, где у перекрёстка висел телефон-автомат. Он к счастью работал и я вызвал «скорую».
Наверное, их не каждый день вызывают по поводу таблеток, но машина «скорой помощи» обогнала меня на обратном пути.
В хате тёти Нины Ольга вяло, но самостоятельно сидела на табурете посреди кухни и нехотя отвечала на вопросы врача и медсестры в белых халатах.
В руках у неё была большая кружка, а на полу возле ног – таз, куда делала промывание желудка.
Кризис миновал и я ушёл не вдаваясь в подробности – вряд ли у неё найдётся вторая доза, да и на собственном опыте я знал, что в ходе данной процедуры происходит переоценка ценностей.
Через два дня мне сказали, что Ольгу видели на Вокзале, когда она садилась на московский поезд с каким-то чернявым парнем.
Скорее всего – тот самый, которому она изменяла со мной два дня назад.
В конце месяца я поехал в Нежин на выпускной вечер четвёртого курса, потому что обещал Надьке.
Вечер проходил в Зале торжеств на первом этаже столовой.
Надька была самой красивой, в длинном платье из лёгкого шифона, как у невест на свадьбе, только розовое.
Под конец все пошли на берег Остра позади общаги и устроили костёр из общих тетрадей с конспектами лекций, которые писали четыре года.
Светила полная луна, костёр бесцельно горел языками националистически жёлто-синего пламени.
Бывшие студенты разобщённо стояли глядя в огонь – дальше уже каждый за себя – а вокруг по тёмной траве бродил кругами преподаватель по теоретической грамматике.
Он был карликом – всем по пояс, но про него говорили, что он очень умный.
Одна из выпускниц, самая некрасивая и, по сплетням, тупая и грубая, согласилась выйти за него замуж, чтобы не ехать по распределению в село.
Сама она тоже была из села, так что знала от чего отказывается, делая такой выбор.
Для нашей прощальной брачной ночи с Надькой мы поднялись в её комнату, где даже были занавесочки на окнах.
Мы прощались, засыпали и просыпались, и снова прощались; и брассом, и кролем, и на спине, и вольным стилем.
Когда белесый свет утра начал вливаться поверх занавесок в комнату и она потянулась за первым в своей жизни минетом, я устало отстранился.
Пускай её будущему мужу хоть в чём-то достанется быть первым.
Всем нам – рогатикам – нужно по-братски делиться друг с другом.
Мужику делать нечего, так он работу себе находит.
Хата на Декабристов 13 с лихвой обеспечила моего отца заполнением досуга, а он, в свою очередь, и меня запрягал в реконструкцию инфраструктуры.
Обложить кирпичом стены погреба под кухней, поставить новый забор с калиткой, летний душ рядом с сараем, утеплённый туалет в огороде, проложить кирпичные дорожки, чтоб осенью грязь не месить. Дел на лето всегда найдётся.
Для заполнения своего культурного досуга я отправлялся к Ляльке.
Он жил аж на Миру, на втором этаже одной из краснокирпичных пятиэтажек между кинотеатром «Мир» и Универмагом; в той, что рядом с кафе-мороженым «Снежинка».
Отец его по молодости блатовал, а под старость стал идейным вдохновителем следующих поколений блатняков.
Возвращаясь с зоны, они с умилением вспоминали, как Лялькин стары́й приходил на заседание их суда в пиджаке поверх одной майки, давал напутственные наставления, чтоб и там держали хвост пистолетом, пререкался с судьёй и принудительно покидал зал.
Его я не застал.
Зато его тёща, Лялькина бабка, всё ещё жила затворницей в спальне с видом на рубероид крыши «Снежинки» вместе с дряхлой, но злой болонкой Бэбой.
Лялька сменил своего пахана насчёт моральной поддержки подзалетевшим хлопцам.
На суды он не ходил, но знал когда кого отправляют в места отбывания срока и приходил на Вокзал попрощаться через решётку прицепного спецвагона, он же «столыпин».
Балкон гостиной Лялькиной квартиры выходил в широкий тихий двор между пятиэтажками, где изредка росли тенистые яблони и стояла заколоченная хата для подрастающих блатарей. В голубятне над хатой младший брат Ляльки, Раб, он же Рабентус, держал голубей, когда бывал на воле.
Мать, Мария Антоновна, портниха из ателье позади Главпочтамта, когда-то мечтала, чтобы Лялька стал скрипачом и даже купила скрипку, которую он прятал в заколоченной хате, типа, отправляясь на урок.
Так что привить она смогла лишь любовь к хорошей одежде.
Рубашечки, джинсы Ляльки всегда подогнаны были тип-топ.
Хотя музыку он тоже любил, не то что Рабентус, у которого интересы только к голубям, да насчёт пожрать; потому-то Раб в два раза толще стройно шотландистого Ляльки.
На том балконе мы с ним слушали Чеслава Немана, «Слейд», «АС/ДС».
Когда в дверь звонили, Лялька выходил в прихожую и вёл посетителя на кухню – он по мелочам толкал им шмотки.
Если же это оказывался не клиент, а кто-то из кентов Раба, или просто из городских резаков – типа Графа-младшего, или Коня, или так далее – что продёргивали через двор и завернули на звук динамиков (хата пользовалась династическим уважением) побазарить про свои понятия, что всё должно быть по справедливости, то Лялька ставил совсем уж полный хард-рок – «Эроу-Смит», или «Блэк Шабаш».
Эти доморощенные натур-философы понятий справедливости больше одной песни не выдерживали и покидали застеленный жёстким ковром диван.
Лялька вздыхал им вслед, подкатив глаза качал головой, что это жлобьё вконец окабанели – но что поделаешь, традиции обязывают – приглаживал кардинальскую бородку и ставил Энгельберта Хампердинка.
Вообще-то, у него имелась тяга к знаниям и он не стыдился и не скрывал этого. Однажды, например, он попросил меня объяснить слово «эксцесс», услышанное от меня же.
Короче, я нужен был ему как оазис среди всех этих поборников справедливости.
Безусловно, основным связующим нас звеном была дурь, а в период предсезонного подсоса – колёса; ноксирон, седуксен, кадеинчик – главное знать что с чем и в каких пропорциях.
В Лунатике на танцах он встречался со своей девушкой Валентиной, у которой были прекрасные испанские глаза, как сказал один резак в виде комплимента:
– Вот так просто взял бы вырезал и – на стенку.
Один раз я танцевал с её подружкой Верой Яценко, хотя и знал, что Квэк по ней не первый год страдает, а она неделю с ним походит и опять месяцами не признаёт.
После танцев Квэк остановил меня с нею в аллее парка, попросил у неё извинения и разрешения переговорить со мной.
Она пошла дальше в неспешной толпе текущей к выходу из ночного Лунатика, а мы с Квэком отодвинулись к подстриженным кустам, чтоб не мешать движению.
Я различал, что Квэк бухóй, хотя не до отруба, но не слабо.
Он облокотился на меня лбом и, подпёршись, на всякий, взглядом в землю, сказал:
– Сергей, я был с Ольгой.
Конечно, эта чистосердечная исповедь меня царапнула, но объяснять ошибочность подобного воззрения – что это не он, а она была с ним, и что она попользовалась не им одним – я не стал.
Во-первых, такие тонкости он и по трезвянке не догонит, не то что под бухаловом, а во-вторых, мне надо догонять Веру Яценко.
Я проводил её в один из двухэтажных домов на проспекте Мира и, когда мы стояли в тёмном дворе, туда же нарисовался Квэк и попёр вперёд с неуместными восклицаниями.
Я сделал пару шагов ему навстречу и нанёс удар в голову. Он свалился и заорал:
– Так вот как вы встречаете? Подготовились?!
Наверное, у пьяных и впрямь есть свой ангел-хранитель, но тем превентивным ударом я выбил себе палец на руке и больше бить не мог.
Когда Квэк поднялся, поединок перешёл в борцовское единоборство.
Мы покатались по земле и после угрозы Вера Яценко, что она позовёт брата, или папу, мы покинули двор.
Идя в одном и том же направлении мы постепенно разговорились, затронули детали минувшей схватки и обсудили неоспоримые достоинства Веры.
К вопросу об Ольге мы не возвращались.
На Переезде он сел на «тройку», а я пошёл пешком через Вокзал и вдоль путей на улицу Декабристов, потому что у меня слегка кровоточило плечо, ободранное о шлаковое покрытие дорожки во дворе двухэтажки.
Шлак хорош от осенней грязи, но как татáми он занимает второе место после гаревой дорожки.
На следующее утро пришлось говорить родителям, что это я упал с велосипеда – традиционная отмазка, которая вызывает понимающую ухмылку спросившего.
( … наверное, ангелы-хранители тоже уходят на пенсию; через много лет Квэк умер традиционной украинско-мужицкой смертью – заснул в сугробе и замёрз в нескольких метрах от своей хаты.
Иногда мне кажется, что единственное место, где он ещё существует – это мои воспоминания о нём…)
Вскоре меня вызвали в отделение милиции рядом с Пятым магазином отчитаться в попытке самоубийства Ольги, про которую им сообщила «скорая помощь».
Я доказал, что соучастником не был и меня отпустили.
Мать моя собрала остававшуюся в доме одежду и обувь Ольги: осеннюю, зимнюю – всю. Получился изрядный тюк, который она обшила белым полотном для отправки почтовым вагоном.
Я попросил Владю помочь и мы потащили тот тюк вдоль путей на Вокзал для сдачи в багажное отделение.
Мы тащили его продев никелированную трубу от оконного карниза под верёвку, которой он был обвязан.
Тем же способом, как доисторические охотники, или дикари-аборигены носят забитую дичь.
Только мы несли в обратном направлении – прочь; потому что это была не добыча, а утрата.
В отделении я написал на полотне феодосийский адрес и получил квитанцию с указанием веса.
Когда мы вышли оттуда, Владя явно хотел мне что-то сказать, но сдержался.
Я всегда знал, что он тактичнее Квэка.
Есть мысли, которые лучше не начинать…
Труба карниза порядком прогнулась от нагрузки и я отбросил её в кусты, позади высокого перрона у первого пути – не тащиться же мне с ней к Ляльке.
Первого сентября на построении вокруг большого печального бюста Гоголя между Старым и Новым корпусом, ректор института, как всегда, объявил, что занятия начинаются для всех, кроме студентов вторых и третьих курсов, которые на месяц поедут с шефской помощью в село.
Второкурсники и третьекурсники всех факультетов, как всегда, закричали «ура!»
На следующий день пара больших автобусов повезли второкурсников по московской трассе до райцентра Борзна, а оттуда по ухабистой дороге в село Большевик, но последний километр одолеть не смогли – грязь оказалась слишком глубокой.
Студенты и с полдесятка преподавателей вышли из автобусов на обочину и по узкой тропе сквозь зелёные заросли высоких, мокрых после утреннего ливня стеблей кукурузы пошли в село, где им предстояло трудиться на уборке хмеля.
Многие тащили «торбы» – матерчатые сумки с продуктами питания взятыми с собою из дому.
Моя ноша полегче – гитара, положенная гладкой стороной грифа на плечо, да курево в карманах, поэтому прогулка была бы в кайф, если б не промокали кеды.
Впереди меня красный свитер, синие джинсы, чёрные сапоги и белая косынка-козырёк тащат свою «торбу».
Сам себе удивляюсь – достаточно, чтоб волосы были подлиннее моих, а бёдра пошире и поокруглее, как вот у этой вон впереди и – всё! Я сражён, поражён, лапки кверху и сдаюсь на милость победительницы.
– Девушка, у вас сапоги сорок пятого размера?
Надменный взгляд через плечо:
– Сорок шестого.
Каков привет, таков ответ.
Подъехал, конечно, не ахти как, но хорошо хоть ответила.
Обгоняя её, я оглянулся улыбнуться неприступно недовольному лицу и пошёл дальше.
У меня нет привычки подмигивать девушкам, хоть, говорят, что они это любят.
Большевик – это широкая пустая улица из полдюжины домов и отдельно стоящих строений покрупнее, что теряются в тумане и промозглой сырости позади деревьев, с листвы которых падают редкие тяжкие капли.
Все зашли в одноэтажную, полутёмную из-за ненастья на дворе, столовую с длинными столами под изношенной клеёнкой и с запертым фанерной створкой окном раздатки.
После затяжных переговоров между старшими преподавателями и местным руководством, студенты начали размещаться для предстоящего проживания в селе.
Четырёхкоечные комнаты в двух деревянных двухэтажных зданиях предоставлены студенткам, а студентам отвéден большой зал на втором этаже клуба, тоже деревянного.
Каждому выдали матрас с подушкой и солдатским одеялом и по паре простыней.
Поднявшись с этой скаткой в клуб, я поразился простоте дизайна общей спальни.
Невысокий сплошной настил из дощатых щитов представлял собой знакомые мне нары – типа, схлопотал месяц «губы».
Тридцать, или около того, матрасов расстелены поверх щитов вплотную друг к другу; поэтому, для отдыха, на них надо вползать с конца на четвереньках.
К счастью, недалеко от входа стоял высокий биллиардный стол с изношенным зелёным сукном.
Заняв биллиардный стол, я не блатовал и пахана из себя не строил, а просто обратил внимание, что все биллиардные шары были, как один, жестоко выщерблены, словно надкусанные яблоки – играть такими невозможно, а значит и стол без надобности.
Так что спал я в четырёх метрах от общих нар, на полметра выше общей массы и без храпящих под ухом соседей.
Стол оказался настолько широким, что оставалось место положить рядом с матрасом обломок лакированного кия, потому что в студенческой среде ходили глухие слухи о недоброжелательных настроениях среди местной молодёжи.
Питание в столовой было трёхрáзовым, студенты воротили от него нос, но я их не понимал – хавка, как хавка.
На следующее утро мы вышли на уборку хмеля.
Он рос рядами трёхметровых стеблей достигших до проволок натянутых над полем.
Сплетение тёмно-зелёной листвы нужно сдёрнуть наземь и обобрать с него гроздья светло-зелёных мягких шишечек.
Когда шишечки наполнят неглубокую плетёную корзину с двумя ручками, как у банной шайки, их надо отнести в ящик на весах.
Преподаватель-весовщик запишет в тетрадку твои килограммы, потому что труд этот будет оплачен, после вычетов за питание и постель.
Вот только, расценки за кило собранного урожая оказались настолько низкими, что несложный арифметический подсчёт убивал весь трудовой энтузиазм на месте и наповал…
Конечно, оставались ещё такие стимулы, как звонкая разноголосица задорных молодых голосов над полем, и такие разнообразные, но, каждая по своему, привлекательные формы студенток.
Однако, мои, привыкшие к лому и струнам, пальцы наотрез отказывались участвовать в этом, по-китайски усидчивом, крестьянском труде.
Мой первый день работы на плантации хмеля стал также и последним.
В дальнейшем я исполнял разные работы: пару раз ездил в Борзну грузчиком продуктов для столовой, и настилал пол из обрезков досок на коровьей ферме, и пилил дрова для местной бабы в обмен на мутный крепкий самогон, и… и… ну, пожалуй это всё, но, вобщем, тоже немало.
Хмелеуборщики за месяц заработали по сорок рублей, пара студентов, что пристроились в сушилку по сто с лишком, а мне, по возвращении в Нежин, в институтской кассе выдали рублей двенадцать с мелочью.
Скорее всего, за те три дня на ферме, где я пилил и прибивал горбыли поверх навозной жижи.
Один раз, от сильного удара молотком, из щели между неровных досок грязь цвиркнула прямо мне в лицо.
Стоявшая в ближайшем стойле корова покосилась на меня левым глазом и до того довольно ухмыльнулась, что я теперь наверняка знаю – эти скотины не настолько тупые, какими прикидываются.
Но основным занятием на ферме была игра в «дурака» с мужиками.
Моя фотографическая колода карт вводила их в ступор; уж до того долго обдумывали они каждый свой ход, уставясь на чёрно-белые картинки голых баб.
( … сейчас эпоха поменялась и такие же карты, но в цвете, продаются в привокзальных киосках…)
Один из работавших в сушилке студентов, рыжий Григорий с биофака, тоже играл со мной в «дурака» после работы.
Ему очень хотелось выиграть. Азартный малый даже поменял мою колоду карт на обычные, но школа Якова Демьянко приносила свои плоды и к концу месяца он проиграл мне бутылок двадцать пять – ящик водки.
Впрочем, памятуя детдомовскую мудрость Саши Остролуцкого, что синица в руке лучше журавля в небе, я в последний день в хмелесовхозе сказал огненнокудрому Григорию, что одна бутылка на месте спишет весь его долг; и он с радостью сбегал в сельский магазин, а то бы я и того не видел.
Не то, чтобы я особо кайфовал от водки, или самогона, нет; на безоглядное питиё меня толкало моё общественное положение и мнение общества обо мне.
( … мы пленника мнения о нас.
Если мне скажут, что кто-то стал алкашом оттого, что noblesse oblige – я поверю…)
Например, один филфаковский студент и пара-другая его однокурсниц забрели на ферму.
Там стоял бык в стойле, прикованный железной цепью.
Парень подбросил быку клок сена от коровы из соседнего стойла.
Бык, унюхав коровий дух, начал яриться, реветь и возбуждаться.
Я всего лишь проходил мимо – и всё!
В вечерней сводке новостей в столовой обсуждают как Огольцов водил девушек филфака на экскурсию – показывал бычий член.
«Имидж» – страшная сила и никому ничем не докажешь, что, при моём трепетном отношении к девушкам, я им даже и не подмигиваю.
Ознакомившись с Большевистскими условиями труда и быта, я, для начала, уехал в Конотоп.
Во-первых, сменить промокшие кеды, и потом, в Конотопе меня тоже ждала страда уборки урожая.
Ещё в августе мы с Лялькой совершили пару краеведческих обходов по уголкам города удалённым от его основных магистралей.
В тихих, немноголюдных улочках провели мы учёт небольших, но пышных плантаций конопли, приветливо колыхавшей нам из-за заборов мягкими абрисами ветвей с вызревающими головками.
Гидом был он, а я экскурсантом, восхищённым трудолюбием конотопчан, заботливо возделывающих свои приусадебные участки.
Пришла пора помочь им в сборе урожая.
Конечно, не везде дожидались моей бескорыстной шефской помощи, но нашлись и несжатые нивки.
Я был благородный грабитель, с понятиями о справедливости, не уносил больше двух деревцев с одной плантации; да и этих попробуй допри.
Куда?
В ближайший закоулок поглуше для хищнической переработки.
То есть выход конечного продукта составлял какие-нибудь 10% от того, что можно получить с такого же количества сырья при взвешенном сбалансированном подходе.
Элементарная безграмотность и больше ничего.
После трудовых ночных бдений в Конотопе, мне уже было с чем окунуться в трудовые будни Большевика.
Когда в первый, после возвращения, вечер я вдумчиво настраивал гитару – …оставь без надзора, бренчат кто попало, хорошо хоть струны не порвали… – в общую спальню зашли два местных хлопца.
Они объявили о своём желании поиграть в биллиард.
Из любопытства – как можно играть такими шарами? – я свернул свой матрас и переложил его на стул под стенкой.
Да, никак не можно. Мало того, что выщербленные шары движутся вприпрыжку, так ещё сама припрыжка выбирает куда ей прыгать.
Полная хаотичность исключает всякое эстетическое удовольствие от этой строго выверенной игры.
Когда им тоже это дошло, они представились как два брата из соседнего села.
Особого ажиотажа среди сидящих на нарах студентов это не вызвало и братья покинули спальню.
Старший из них, Стёпа, на следующий день во время обеда вызвал меня из столовой и, в знак признательности за понимание, проявленное мною накануне, пригласил прокатиться в его село. Туда мы и поехали на его «яве».
Стёпа остановил перед добротно обустроенным подворьем и попросил меня изображать перед его родителями будто я служил вместе с ним в Германии, вместе и демобилизовались, а теперь случайно встретились.
Родители Стёпы обрадовались такому нечаянному совпадению и накрыли стол для боевых сослуживцев.
После второго стакана, вжившись в роль, я спросил Стёпу – помнит ли он немку Эльзу, блондинку-официантку из гаштета за углом?
Стёпа опешил и начал внимательно ко мне приглядываться – вдруг мы и впрямь спали в соседних кубриках?
День спустя мы со Стёпой пошли с визитами к девушкам-студенткам, вернувшимся после ужина в свои комнаты.
Он тормознулся где-то среди моих однокурсниц, но я, понимая полную, для меня, бесперспективность общения с данным контингентом, уже в одиночку, прошёл по комнатам следующего общежития, до самой крайней налево на втором этаже.
Её занимали филфаковки: Оля, Аня, Вера и Ира, с которыми мне очень приятно было познакомиться.
Ну, а им ничего другого тоже не оставалось – без танцплощадок, кинотеатров и даже телевизора поблизости.
Оля, невысокая задорная девушка в короткой стрижке волнистых жёлтых волос, спросила: где же моя визитная карточка – гитара?
Я без проблем принёс её из клуба, спел что-то сентиментально-романтичное и отдал гитару Оле, которой вдруг очень захотелось научиться, а сам сел на койку молчаливой Иры и завёл пустопорожний разговор, в котором не важно о чем, а лишь бы слушать голос и прослеживать смену выражений лица и движение глаз.
Не помню в этот, или на следующий вечер мы вышли с ней из общежития – недалеко; до фонаря на столбе между двумя зданиями, и у меня случилось то, что индейцы Северной Америки называют «vision».
Я увидел бескрайне чёрную украинскую ночь; она обступала нас со всех сторон и где-то по краям своим уже гудела осенними холодами.
Единственным светлым пятном, не считая фонаря, было это лицо напротив, и уже улыбающееся, от которого расходились тонкие частые лучики, как бывает, если прижмурился не до конца.
Но я совсем не жмурился, а просто изумлялся до чего красиво оно, это непривычное к улыбками лицо.
А «vision» состояло в том, что всё это я видел как-то со стороны – и даже себя, но посреди плотной темноты, а в самом центре, небывалая, невероятная красота – её лицо.
Словно круг света в обступившей нас тьме. Спасательный круг, что поможет выстоять против гула на дальнем горизонте и посвиста холодных ветров.
( … таких возвышенных выражений у меня, конечно, и в мыслях не было, я просто смотрел на её лицо и всё сильней и сильней влюблялся…)
На следующий день её не оказалось в столовой на обеде.
Вера сказала, что Ира сегодня дежурная – убирает комнату.
Когда я подошёл к зданию обветшалого общежития, она вышла на крылечко со шваброй в руках, в коротком халатике.
( … наиболее широко распространённый способ оценки женской красоты и привлекательности это – замер объёмов.
Знатоки и ценители начинают прикидывать каков объём груди, бёдер. Гурманы учитывают охват талии…
Абсолютное дилетантство. Но что возьмёшь со всех этих разновозрастных недорослей-придурков?
Самая пленительная часть женщины, которой она покорит тебя сразу и навсегда – это её коленки.
Если при взгляде на них у тебя теплеет на сердце, расправляются плечи, углубляется дыхание; знай – это она, ничего красивее уже не будет.
Если же такого не случится, ищи дальше – авось повезёт…)
Увидав её коленки, я сразу понял, что правильно вскидывал лапки и тупил насчёт размера сапогов, потому что на тропе через кукурузные джунгли под синими джинсами были вот эти самые коленки.
Ты, конечно же, уже догадалась, что это была твоя мать.
Таким образом, до твоего рождения оставалось ещё три года.
Срок вполне достаточный для того, чтоб скончались, как минимум, две любви, если верить выкладкам Зигмунда Фрейда.
( … такое вот посягательство на святость догмы.
Разумеется, подобный выпад легко парировать приёмом «терц» – мол, не бывает правил без исключений.
Смотря для кого.
Если б учёный Галилей, роняя шары с пизанской башни, заметил бы, что один, с пометкой «С+И», вдруг начал парить и закладывать фигуры высшего пилотажа, то и закона всемирного тяготения не было бы.
Так что причислить старину Зигги к твердолобым упрямцам-учёным не получается.
Его нужно перевести в другую лигу. Послать в ряды таких прославленный корифеев, как Шарль Перро, Ганс Христиан Андерсен и так далее, вплоть до безымянных творцов Тысячи и одной ночи.
Он там придётся ко двору со своим мальчиком-с-пальчиком «эго», злым великаном «супер-эго», королевским замком «сознание» и непроходимыми дебрями тропических болот и джунглей «подсознание», по канве из которых выплетает он кружевные узоры своей теории.
Возможно ли такое?
Ведь сколько уже поколений были зачаты и, в свою очередь, зачали с благословения его психоанализа!
Природа не терпит пустоты, человек должен чем-то заполнять своё серое вещество, оно же мозг, он же высшая, блядь, материя, по меткому выражению комбата-маразматика одиннадцатого ВСО.
Неоспоримая истина; именно нетерпимость к пустоте и произвела все эти библии-кораны-веды-илиады и веру в домовых.
И, послушные наивной мудрости природы, кончаем пороть чушь – это не педагогично – и приступаем к заполнению трёх лет, пока ты соизволишь появиться на свет…)
В комнате девушек мы уже со всем определились, то есть всем уже стало ясно к кому я прихожу.
Оля охладела к своей идее научиться играть на гитаре, но я гитару так и не унёс. На всякий. Чтобы у меня оставался повод прийти, типа, забыл тут у вас.
Страховка не помешает, когда твоей девушке сообщают: «так он же женатый!»
Я не отрицал, что имею такой факт в биографии, но он уже позади. И она поверила даже не проверив паспорт!
В тот вечер в комнату зашла ещё и молоденькая преподавательница с филфака, наверное, удостовериться – что тут вообще творится.
Потому что кроме меня в комнату зачастил ещё один влюблённый – чех Ян.
Натуральный чех, среднего возраста, приехал в рамках социалистической интеграции, чтоб показать Большевику, который не только село, но ещё и хмелесовхоз, как правильно сушить собранный студентами хмель для получения правильного пива.
Чехи и пиво – близнецы-братья.
Жена Яна осталась с детьми в Чехии, он по ней скучал и, от тоски, влюбился в Олю.
Начал вечерами приходить, о чём-то ей говорить, но о чём – непонятно, потому что по-чешски, а если б не языковый барьер я бы его про 68-й год расспросил.
Один раз в комнате устроили вечеринку, так он вообще в галстуке пришёл, такой цивилизованный. Шампанское принёс и консервы, но не из магазина, потому что консервы оказались покруче, чем даже печень трески.
А магазинную водку он пить отказался. На стакан показывает, морщится и по сердцу себя прихлопывает – мол, у меня несовместимость с этим пойлом.
Но когда пришла преподавательница с контрольным визитом, Яна в комнате не было.
Она смотрит: мы с Ирой хоть и на одной койке сидим, но чинно – каждый у противоположной спинки. Всё пристойненько.
Садитесь, чайку попьём.
А тут в коридоре – трах-тарарах! Ах, ты! Ух, ты! Да, всех вашу!
И дверь комнаты – шарах! – настежь.
А за ней пять-шесть хлопцев в две шеренги в тёмном коридоре.
Преподавалка от стола обернулась:
– Что происходит?!
– А ты хто така?!
Она решила их авторитетом подавить, кричит:
– Девочки! Скажите им кто я!
И все четыре девочки, в один голос, словно с детсада этот стих учили:
– Это препо-давательница!
А в ответ:
– Так пошла она на хуй!!
Да. Плохо мы ещё воспитываем нашу молодёжь. И не только сельскую.
Во время этого монтажа-диалога я, конечно, сообразил, что они по мою душу пришли.
За вечер до этого в общую спальню в клубе прибегала девушка из соседнего общежития сказать, что там местные ребята буянят.
Я, конечно, побежал, а там на первом этаже неразбериха – какая-то девушка плачет, трое местных стоят, напротив них три второкурсника и пререкаются на тему «а ты кто такой»?
Короче, патовая позиция.
Для решения этюда, я того, что покрупнее выбрал и девушку спрашиваю:
– Этот обидел?
– Да!
Нна!!
Засветил я ему. Местные слиняли. Конфликт решён.
Потом он с двумя друзьями меня возле клуба дождался, говорит:
– Это не я был.
– Извини,– говорю, – у меня выбора не было.
Как я ему объясню, что меня начштаба вышколил – по факту нарушения должен быть факт наказания?
Только начштаба, что характерно, у меня прощения не просил.
Но, как видно, моё извинение не приняли и хлопцы пришли показать большевистскую вендетту.
Я из-под койки пустую бутылку от шампанского выудил, что после Яна осталась, и встал перед дверью.
Они хоть лают, но шаг сделать стесняются – бутылка увесистая.
Откуда им знать, что у меня по боевым искусствам – фиг с двумя минусами?
Тут в коридоре раздались шаги и позади них Стёпа завиднелся.
Он вмиг прощёлкал что к чему и ударил с тыла. Я тоже выскочил в коридор с боевым кличем:
– Иди сюда, блядь!
Сработало не хуже, чем на Шурика – хлопцы дрогнули и побежали.
Мы со Стёпой добавляли им стимуляции, но бутылки у меня уже не было, не помню где делась.
Помню только как они дружно сбежали вниз по лестнице, а Стёпа следом.
Я остался один на один с замешкавшимся наверху, но дух его был сломлен и он податливо свалился на перила верхней площадки и обвис, как мокрый коврик.
Он уже не сопротивлялся, просто висел на перилах и смотрел вниз на деревянные ступеньки, куда ему предстояло лететь.
И я обхватил его – noblesse oblige! – но тут до меня донёсся крик; совсем далёкий, едва слышный, похожий на тот, что окликал меня на заснеженной дороге возле девятиэтажки в Ставрополе.
Я посмотрел вниз, потом на обвисшего хлопца.
Зачем?
И я ушёл по коридору в комнату.
( … не спорю, всё это более, чем странно, но иногда бывает. Кому-то слышатся голоса, а я слышал крики…)
И снова она не пришла на обед. Я пошёл в их комнату. Она сидела одна и не хотела разговаривать. Я присел рядом на койку, взял её руку.
Мне нравилась эта рука и пальцы – длинные, а чем ближе к концу, тем уже.
Не нравились только белые узкие шрамики на запястьи – типа, в переходном, видно, возрасте пробовала себя в самоубийстве, но я про них никогда не спрашивал.
Вот и теперь спросил только – что случилось?
Она со всхлипами рассказала, что утром на плантации старший преподаватель её стыдил и позорил.
Говорил недостойно для дочери преподавательницы знаться с таким отъявленным и женатым, как я; что он обязательно позвонит и всё расскажет её матери, как только вернёмся в Нежин.
А что рассказывать? Какая преподавательница?
– По немецкому-уууу…– и она расплакалась.
– Да плюнь ты на них на всех, пошли со мной!
– Куда?
Как будто я знал куда, но она согласилась и мы пошли.
Сначала это было поле кукурузы, но не то, по которому мы шли с автобусов. Стебли низкорослые и редкие.
Дальше началось поле пониже и мы вышли к уединённой длинной скирде соломы.
День был тёплый и ясный.
Мы валялись на соломе, что выбилась из скирды с одного краю, разговаривали, целовались.
Мне хотелось открыть ей всё душу; даже про то, что я нашаван.
И я ужасно хотел её, только солнце мешало.
Но с приближением вечера уединённость исчезала; рядом со скирдой пролегла грунтовка, по которой начали проезжать грузовики, мотоциклы какие-то, и пялиться на её красный свитер.
Вернулись мы в темноте и на подходе нас встретила Аня, сказать, что в комнату нельзя – там засада. И что старший преподаватель орал, что мы не вышли на работу и что нас видели, и что этим займётся деканат и ректор.
Потом вокруг нас собрались также Оля, Вера, Ян и стали держать совет – что делать?
Ян крутил головой и говорил уже не совсем по-чешски, что «так не ест харашо».
Оля прикрикнула на него, что молчал бы уж лучше да пошёл в столовую принёс нам что-нибудь поесть; ему откроют.
Олю он понимал без перевода и скоро вернулся с газетным свёртком для гонимых «миловици».
Я и не знал, что я такой голодный.
Вскоре составился план кампании студентов против препов.
Ира и я пойдём в Борзну, откуда Вера родом, и переночуем у её родителей.
Утром Ира поедет в Нежин, как будто приболела, а я приеду в Большевик, как будто из Конотопа и ни о чём ни сном, ни духом.
Чех Ян вывел нас на дорогу за селом, благословил, чтобы и дальше «миловат, миловици миловат» – сентиментальный таборит; и мы ушли в ночь.
Ночь выдалась тёмная и ветреная, а дорога вся в колдобинах и длиннее десяти километров, про которые говорила Вера.
Ира очень устала, под конец я даже протащил её верхом на себе, как гоголевский Хома Брут ведьму, от одного придорожного столба до другого.
Ира уже бывала в доме Веры и нашла его даже посреди ночи.
Родители Веры постелили нам на полу в гостиной и обещали разбудить Иру к семичасовому автобусу на Нежин.
На мои объятия Ира сказала, что слишком устала и ей рано вставать.
Она скоро уснула, а я ещё долго лежал и тихо радовался, что мы сделали этого старшего придурка преподавателя.
Нет туза? На-ко, вот – протри глаза!
Утром её уже не было и брат Веры отвёз меня в Большевик на своей «яве».
Студенты и преподаватели как раз вышли из столовой и он не спеша и триумфально провёз меня вдоль толпы, треща мотором. Кое у кого и челюсть отвисла.
Но брат Веры разочаровался, когда я ответил, что у меня с Ирой ничего не было на полу их гостиной.
Она долго не приезжала из Нежина и я опять пошёл на поводу своего «имиджа».
Трое мужиков из Борзны приехали проложить водопровод. Траншея по колено, для полдюймовой трубы.
Я мимо проходил, чуть-чуть помог от нечего делать. Они расчувствовались и достали водку, но без закуски.
Расстелили старую кухонную клеёнку под вишней, ноги в траншею опустили – так сидеть удобнее и – распили.
А тут старший преподаватель нагрянул. Факт налицо – опять я не работаю, а беспробудно пьянствую. Погоди, вернёмся в Нежин.
Пока младший из мужиков ходил ещё за водярой, я заглянул на плантацию.
Мои однокурсницы стали выступать, что я своих не замечаю, а только с девушками с филфака знаюсь.
Я им ответил, что я с детства славянофил и аглицкие говядины меня не возбуждают и вообще филфак for ever!
Потом меня позвали мужики от траншеи, мы допили добавочную бутылку тоже, опять-таки почти без закуски, и я вырубился на той же клеёнке-скатерти. Типа, кушать подано…
Впоследствии старший преподаватель в своей обвинительной речи делал упор на то обстоятельство, что возвращающимся с плантации студентам пришлось проходить мимо меня в таком сервированном виде.
Хотя расстояние от дороги до траншеи составляло метра четыре, мне всё равно стыдно было об этом слушать.
Но это уж потом.
Через три дня Вера ходила в Борзну и я пошёл тоже – позвонить Ире в Нежин.
– Привет.
– Привет.
– Как ты?
– Ничего.
– Ты… это… приезжай… я тебе песню написал.
А что ещё взять с меня такого?
Вообще-то я не песню написал, а переделку – подстановочные слова для популярной тогда песни «It’s raining, It’s pouring…»
Снова шепчет дождь под окном моим, Мне напомнил солнечные дни, Капли шелестом своим Всё твердят, что счастье дым, Так трудно не поверить им, Когда один, один. Ну, скажи о чём ты плачешь, дождь? Что ты хочешь от меня и ждёшь? Ты мне не поможешь И понять не сможешь, Что давно прошло всё, Ветер листья носит, Ты мне дней минувших не вернёшь…Замполит бы не одобрил, что опять про дождь, но в оригинале тоже так, и гармония классная.
С Верой мы ходили не по дороге, а известным ей коротким путём – через поле.
Там есть одно место, укромное углубление, словно от бывшей землянки; всё травой заросло. Мы там легли отдохнуть.
Вера девушка красивая – черноволосая смуглянка с правильными чертами лица, а по характеру бой-девка.
Когда Вере надоело, что я всё только про Иру говорю, мы пошли дальше.
На выходе из землянки я заметил в траве фантики от конфет. Похоже, это был местный дом свиданий, где я совсем не оправдал свой «имидж».
Уже много позже Ира мне рассказывала, что в один из длинных вечеров в Большевике, ещё до моего появления в их комнате, они устроили шаманские танцы при закрытых дверях.
Вера прицепила на свои спортивные штаны кусок колбасы и две луковицы.
Так и прыгала: Уу! Уу!
( … эти смуглые славянки кому хочешь фору дадут; в чём и кроется разгадка музыки Игоря Стравинского…)
Ира приехала и я переночевал в их комнате.
Это само собой получилось. Свет давно был потушен. Мы одетыми лежали на её койке и всё теснее и теснее, а потом теснее уже стало некуда. Только я не хотел скрипеть, как Марик с Катранихой и всё как-то…
(Аня не спала и потом Ире рассказывала, что взяла и сама себя поцеловала в предплечье)
…но мне всё равно понравилось.
Уже днём Ира мне сказала:
– Знаешь, похоже, я преодолела психологический барьер.
– Так и физический, похоже, тоже.
После того как Оля отказалась выйти за него замуж, бедняга Ян совсем обрусел.
Неразделённая любовь моментально содрала с него лак цивилизации.
Язык он так и не выучил, но бриться бросил, ходил в щетине и чёрной телогрейке, из-под которой доставал бутылку водки и глотал с горлá, как валидол.
Гомеопатия по большевистски.
В последний вечер перед отъездом Вера очень заботливо постелила нам с Ирой в соседней комнате, которая уже освободилась.
Я не стал выключать свет и Ира потом рассказывала, что испугалась, когда увидела с чем я на неё лезу.
Утром, до прихода автобусов, она со мной почти не разговаривала: «да», «нет», «ничего».
Тогда я так и не смог выпытать, что Оля её убедила – всё это колхозный роман и в Нежине я о ней и не вспомню.
Когда автобусы пришли, я не сел со всеми вместе, а взял гитару и пошёл к дальней лесополосе на горизонте, где проходит московская трасса, чтобы ловить попутку до Батурина, а оттуда до Конотопа.
– Говорят, ты с дочкой преподавателя романы крутишь?
– Говорят, ты замуж вышла?
Да, она вышла, а теперь вот приехала в Нежин по каким-то бумажным делам и зашла в 72 комнату на третьем этаже общаги, перед отъездом в Монголию, куда распределили мужа.
Он, кстати, понял, что она не девочка. После первой брачной ночи спросил, мол, ну, обычно женщины, как бы сравнивают.
– Да, сравнивают,– ответила она и больше не добавила ни слова.
( … вот так прихлопнула нáхрен мужа. Наступила и размазала. Нет, чтобы словом ласковым утешить, обнадёжить. С тебя убудет?
Всё-таки безжалостные твари эти бабы.
А потом мы ещё удивляемся – и откуда только Тугрики берутся?..)
Однако, иногда лучше заниматься любовью, чем говорить.
И мы легли на бывшую Федину, а теперь мою койку, потому что она у окна.
Первый и единственный раз в своей жизни я был с замужней женщиной. Да и то – по знакомству.
Когда мы оделись и обнялись на прощанье, она дважды воскликнула:
– Я – блядь!
Да так радостно. Типа, Архимед в своей знаменитой пробежке после бани.
«Эврика! Я нашла себя! Буду знать чем мне в Монголии заняться!»
– Я – блядь!
Прощай, Надька. Всё равно ты – самая безоблачная моя любовь.
Старший преп-надзиратель сдержал свою угрозу в отношении меня.
Опять в лекционной аудитории общее факультетское собрание, чтобы поставить перед ректоратом вопрос о моём отчислении.
Накануне, по совету Вирича, я созвал собрание своего курса – ну, тех, кто живёт в общаге – в своей комнате, чтобы сплотить ряды.
Вирич – четверокурсник, он тоже поступил после армии.
Набились – битком. Друг на дружке сидели, и не подумал бы что 72-я может стольких вместить. Кроме Игоря и Володи – сплошные девушки.
Мне пришлось на подоконнике ютиться.
Так ещё как сплотились!
Пришли ведь объединённые одной целью – полюбоваться на меня раздавленного, из «имиджа» выдернутого, на подоконнике распятого.
Аж слюна из глаз капает, как у тех, что на площадях собирались публичные казни смотреть.
Заодно и суд Линча устроили за то, что в Большевике от наших девушек нос воротил. Аукнулся мне тот лозунг «филфак for ever!»
Одна из девушек рассказала даже, будто я ей с глазу на глаз такое сказал, что она, умирать будет, а этого не забудет и мне не простит.
Она даже ещё и взрыднула, излагая свою печальную повесть, и все кинулись выспрашивать – что за слова такие? – но она лишь повторила клятву унести их с собой в могилу.
Аж и меня заинтриговала: что это за такие неизгладимые слова я знаю?
Тем более что до этого момента мне и в голову не приходило, что она с моего курса; клянусь – первый раз вижу!
Надоел мне этот самосуд.
– Ладно,– говорю.– Спасибо за поддержку, но мне на завтра ещё домашние задания готовить надо.
Ирина из Бахмача аж заржала.
На собрании после старшего преп-надзирателя выступили парочка сплочённых моих однокурсниц.
Они подтвердили, что да, на работу ходил когда вздумается, а на клеёнке спал.
Потом Вирич сделал попытку переломить монотонное настроение.
Вышел перед собравшимися, на кафедру приопёрся и начал вещать какой я надёжный товарищ и друг и что на днях спас первокурсниц, которые подверглись хулиганским приставаниям в Графском парке.
Я бесстрашно бросился на посягнувших, хотя у одного в руках было горлышко от разбитой бутылки.
Вирич продемонстрировал аудитории как надо правильно держать горлышко в руке и пояснил, что такое оружие опаснее, чем нож.
Информацию восприняли похолодев от внимания.
В общих чертах, он не слишком-то отклонился.
В тот вечер из вестибюля Славик с Двойкой прибежали, говорят, там первокурсницы в истерике – их подружку в парке держат, не пускают.
Мы втроём и побежали, местных шуганули, а полонённая первокурсница на нас халяву развернула, что мы ей личную жизнь ломаем.
Видно кто-то из кандидатов в насильники приглянулся красной девице.
Чтоб я когда-нибудь ещё хоть раз писанýся за этих кошёлок в активном поиске!
Но деталь с горлышком это уже плод полёта фантазии Вирича, я такого не видел.
Под конец мне слово дали.
– Каждый человек – кузнец своего счастья, своей судьбы. И я тоже отковал себе – вот она, тёпленькая, с пылу, с жару, и теперь только от вас зависит, как она обернётся…
Дальше стереотипно повинился, а-ля́ Марк Новоселицкий на собрании «о партийных играх» и с минимальным отрывом – кто за? против? воздержался? – я получил строгий выговор с последним предупреждением.
( … хотя исход собрания был ясен ещё до того как оно началось – отчислили б меня тогда, откуда б ты взялась?
Некоторые осколки просто обязаны пролетать мимо…)
Нет добра без худа – не успел порадоваться, что отчисление просвистало мимо, как снова пришлось впрягаться в постылую лямку. Кагебист помаячил газеткой – пора явиться для отчёта и инструкций.
На встрече выяснилось, что я в этой конторе по рукам пошёл.
Капитана, за проявленные героизм и бдительность в деле «о партийных играх», поощрили повышением из провинциальной глуши в столичный Киев.
Он не скрывал радости по этому поводу, передавая меня, как инвентарь, своему преемнику.
Преемник оказался чернявый, молодой, только что окончивший институт в Чернигове, на историческом факультете которого готовились партийные кадры.
После того факультета не нужно ехать по распределению в село, а получаешь должность, как минимум в райкоме партии и – расти хоть до члена Политбюро ЦК КПСС, если способности позволяют и данные есть.
Но не всякому под силу закончить этот факультет.
Двое студентов нашего филфака перевелись туда учиться, так через месяц плюнули на все карьерные перспективы и вернулись обратно.
Там дисциплина – как в кадетской школе, если при входе лектора в аудиторию не встанешь в постойку «смирно», то староста группы, такой же студент, как ты, на тебя вызверится не хуже, чем «фазан» на салагу.
А в общежитии все вообще по струнке ходят и друг за другом подсматривают, чтобы настучать. Ведь райком райкому рознь – может оказаться в занюханном райцентре, а может и в столичном городе.
Классический пример борьбы за выживание – чем больше выживешь других, тем труднее тебя выжить.
Этот молодой чернявый ходил в длинном кожухе и на мой не зарился.
Он оказался поромантичней повышенного капитана, а может просто облениться не успел, и потому назначал мне встречи в различных городских учреждениях.
То в ЗАГСе, когда уже закрыт после рабочего дня, то в бюро по туризму.
Один раз на кухне пустой квартиры на четвёртом этаже пятиэтажки, недалеко от главной площади.
В тот раз он своего нового начальника привёл. Когда-то на таких говорили «интересный мужчина», седые волосы в стрижке бобриком над загорелым моложавым лицом.
Сразу чувствуется Европа.
Его за что-то из филиала в Венгрии турнули в это захолустье, вот он и заинтересовался сексотом, через которого предыдущий капитан поднялся в Киев.
Однако, послужить и этому трамплином я уже не мог. Хватит. Нахлебался.
Чернявый чуть не плакал от моего неизменного доклада, что нынешняя студенческая молодёжь это аморфная масса думающая лишь о том, сколько сала осталось в «торбе».
Миновали игривые времена.
А ему, неуёмному, до того ж уж хотелось, что он даже и ко мне сексота подсылал, в 72-ю комнату, а вдруг я перевербовался и стал двойным агентом и под койкой у меня подпольная типография?
Конечно, тот сексот мне не представился, что он секретный сотрудник под псевдонимом «Вовчик», но я его всё равно вычислил.
Нормальный студент с физмата обратится ко мне с просьбой, чтоб я его подтянул по английскому? При моём-то «имидже».
Он оправдывался тем, что мы живём в одном общежитии.
Хорошо, если смогу – помогу.
Вот он приходит, я гостеприимно ему предоставляю койку первокурсника из нашей комнаты и называю номер упражнения из его же учебника, и он начинает выполнять его в свою тетрадку.
Теперь я могу вернуться за стол, где уже начата «пуля» в преферанс.
И что он может украдкой записать в тетрадку: «семь червей», «вист», «пас», «мизер»?
В ту эпоху на пачках сигарет и папирос ещё не писали «Минздрав предупреждает – курение опасно для здоровья» и в 72-й комнате дым плавал слоями и свивался в медленные клубы.
Некурящему физматовцу хватило всего двух занятий, чтоб убедиться – да, студенческая масса абсолютно аморфна: по две копейки за вист.
Но один раз чернявый продиктовал мне донос на Жомнира.
Никакого компромата, а просто, что будто бы в такой-то день, в такой-то час Жомнир выходил из лингафонной лаборатории.
Ну, лингафонка это не явочная квартира и, кроме лаборантки, там полно первокурсников за стеклянными дверями кабинок – в наушниках сидят и попугаят тексты Meet the Parkers. Совершенно неподходящее место для раздувания украинского национализма.
По-моему, донос ему понадобился когда узнал, что я бываю на дому у Жомнира для обсуждения моих переводов в «Translator», с которыми я так и не завязал.
Такая бумажка завсегда пригодиться может:
– Почерк вам знаком, Александр Васильевич?
Последним моим заданием стало знакомство с американцами.
В Киеве проходила сельскохозяйственная выставка США и я получил инструкцию посетить её и попытаться завязать знакомство хоть с кем-нибудь из персонала.
Я прихватил с собой Славика и мы погнали в Киев на территорию республиканской ВДНХа, где в большущем ангаре проходила эта десятидневная выставка.
Живые американцы тогда в диковинку были. На выставке толкучка жуткая – поплотнее, чем даже в Мавзолей Ленина на Красной площади в Москве.
Как войдёшь, висит громадный портрет президента США Джимми Картера с наилучшими пожеланиями советскому народу; и дальше толпа движется змейкой вдоль турникетов с отсеками по сторонам – трактора там, сеялки-веялки всякие, картинки фермерских хозяйств.
В одном закутке надувная свинья стояла, симпатичная такая – крупными цветами изрисована в стиле мультика «Жёлтая субмарина» Beatles.
А рядом с цветастой свиньёй – девушка. Так себе, если не знать, что американка, во второй раз и не глянешь.
Стоит и твердит, как заводная:
– This is a piglet! This is a piglet!
Глаза словно стеклом затянуты, наверно, обалдела часами перед толпой стоять, что с гулом мимо валит, как Ниагарский водопад.
– This is a piglet! This is a piglet!
А кто её поймёт в этом людском потоке? Мне жалко стало, притормозил, говорю:
– Call it «porosyonok».
– This is a piglet! This is a piglet!
( … на тот момент две великие нации ещё не созрели для диалога…)
Вышли мы со Славиком из ангара и раскумарились на промозглом весеннем ветру республиканской ВДНХа.
А чернявому я доложил, что американцы зашуганные какие-то. Он понял, что из «зашуганных», как и из «аморфных» дело не сошьёшь и – опечалился.
Задание это оказалось последним потому, что после него я вскоре сам себе яму выкопал.
Чернявый уже внаглую требовал написать хоть что-нибудь новое. И тут мне подвернулось – и ему в радость, и людям без вреда.
В читальном зале института, в Новом корпусе, я перелистывал биографию Богдана Хмельницкого и на одной из страниц увидел карандашную пометку на украинском языке «Богдан Хмельницкий – предатель украинского народа».
Вот на эту пометку я и донёс. Он обрадовался – раз воссоединитель с Россией предателем назван, то это махровый украинский национализм.
– А страница какая?
– Ну, где-то посередине.
Вобщем, изъяли эту книгу, долистались до страницы и на следующем свидании:
– А ведь в книге это ты написал.
– Что?!
– Почерк твой – вот что! Лучше сам признайся – зачем?
Короче, на пушку берёт, экспертизой стращает.
Через месяц он мне объяснил, что у меня буква «а» хоть и похожа, но другая. Так ему графолог говорил.
И, что характерно, не извинился даже.
Вобщем, я, типа, обиделся и перестал ходить на свидания, сколько бы он ни семафорил.
А при случайных встречах в городском транспорте я сводил общение к безразличной незаинтересованности.
Ему, похоже, дошло, что от такого сексота пользы – как от двух тузов в прикупе на мизер с дырками и – отстал.
Так в архивах КГБ перестали копиться доносы с моим почерком и подписью «Павел».
Но я ни разу в жизни об этом не пожалел – особой любви между нами никогда не было.
( … да, но теперь придётся отмотать назад – что это за Славик с Двойкой?..)
Они пришли в мою общаговую жизнь на смену Феде с Яковом.
Первокурсники.
Славик из Чернигова поступил на англофак и даже поселился в одной со мною комнате.
Он тоже служил в стройбате, правда в привилегированной его прослойке – заведовал завскладом, чмошник, следовательно происходил из семьи достаточно зажиточной для ведения переговоров с командованием части.
А в стройбат он угодил из-за зрения, которое и прятал за линзами полутёмных очков. Длинный чуб из прямых каштановых волос наискосок покрывал его лоб – от края и до края. Верхнюю губу он не брил, сберегая мягкие женские усики.
Прошедшему школу стройбата не нужно долго объяснять значение всеобъемлющей мягкости, всепонимания и всепрощения во взгляде сожителя по комнате после недолгой отлучки в Графский парк.
Стройбатовец найдёт в себе решимость задать прямой вопрос и, после прямого ответа, попросить.
В просвещённых кругах это называется «упасть на хвост».
Дурь сплотила нас и сделала, практически, неразлучными.
Вспоминается случай зимнего подсоса, когда я прямо среди недели решил смотаться в Конотоп: трёхчасовой электричкой туда, семичасовой обратно. Так Славик со мной поехал, вот до чего преданный друг.
В Конотопе мы к Ляльке зашли, а тот спросил у меня – помню ли я того фраера питерского?
Как не помнить, мне ещё ботинки на нём понравились: увесистые такие, сразу видно, что выносливые.
Лялька тогда его покорял широтой размаха жизни провинциального захолустья.
Завёл питерца в свой подвал, где травка до кондиции доходит; мы ещё там курнули – ничего, доходчивая травка.
– Так эта гнида,– говорит Лялька,– на той неделе мой подвал бомбанул. Дверь сломал и всё вынес. Его Серёга Король на вокзале видел, тот с рюкзаком, на ленинградский поезд садился.
Да, чистая работа: Питер – культурная столица.
Вобщем, Лялька пару головок уделил, но с предупреждением, что качество ещё не проверял. Я, на всякий, ещё на Декабристов 13 заскочил, на чердаке в сарае одну-две веточки нашёл.
На обратной электричке совсем невтерпёж стало, я из лялькиной в тамбуре косяк забил, пока Славик вокруг меня ширму в меховой шапке изображал.
Выкурили, в вагон зашли сели напротив друг друга.
Он на меня смотрит, я на него. В надежде, так сказать, может это меня просто ещё цапанýть не успело?
Но всё это туфта. Если начинаешь такие надежды строить, значит в дряни дозы не больше, чем в кухонном венике.
В Нежин приехали поздно. Подавленные такие, обезнадёженные.
Пока до общаги доехали совсем темно стало.
Но, на всякий, прошли к Старому корпусу.
Безлюдье. Ночь. Зима.
Я из чердачной забил. Затяжку сделал.
Славик рядом стоит, но сдерживается.
Я ещё раз затянулся и сказал:
– Славик, ( … а от мраморной дощечки на углу Старого корпуса с надписью «Здесь учился Н. В. Гоголь…» мне мои же слова эхом возвращаются…), мы не зря сегодня загнали трёх лошадей.
И передал косяк в его вожделеющие пальцы.
Ну, а Двойка из Бахмача, вообще-то был Сашей. Я его сперва «Двоечником» назвал, но потом укоротилось до «Двойки».
Он же дал мне кличку «Ахуля», от моего полуцензурного клича, которым я отвечал на любые всплески течения жизни: «А хули!»
И даже не из Бахмача он, а из села, что к Бахмачу примыкает.
Вот он и строил из себя наивное дитё природы, сельского простачка.
Родители его не слабо харчевали, каждый выходной собирали в дорогу добрячую «торбу». Так что здоровый получился детинушка.
Суть человека лучше всего проявляется в его способе смеяться.
У Двойки он таков: запрокинет широкое лицо и отрывисто всхикнет своим характерным смешком, при этом плотно зажмурит глаза, чтоб потом чуть раздвинуть веки и, через узкие прощелки, булавочными зрачками остро обшарить обстановку: что тут и как.
Учился он на биофаке и, следовательно, жил на втором этаже общаги.
Тоже был хвостопад, но главное не в этом.
Главный фактор, что сделал нас троицей «не-разлей-вода», это – преферанс.
Отличная игра, если вникнуть.
Покер, храп, кинг или его уменьшенная модификация, ералаш – это игры для актёров.
Преферанс – интеллектуальная игра разума.
Просто мне в него катастрофически не везло.
Я пытался зауздать и объездить фортуну и потому отчаянно рисковал. «Сизые» мизерá являлись визитной карточкой Ахули.
Отчётливо сознавая, что после кражи малиновой скатерти рыжего дембеля удача от меня отвернулась, я пытался во что бы то ни стало переломить такой status quo и снова поймать её за чуб.
В результате, получив две-три взятки, а то и «паровоз» на «сизом» мизере, безучастно и вяло досиживал до конца расписываемого «сороковничка».
Мне платили студенческую стипендию в размере 45 руб. Почти каждый выходной моя мать давала мне десятку перед отъездом в Нежин.
Всё уходило на карточные долги, ну, ещё на столовую.
Ни о каких «довгих» с сухим вином не могло быть и речи.
Я перешёл на здоровый образ трезвой жизни, хотя постоянное безденежье заколёбывало.
Плюс к тому, Двойка со Славиком играли «на лапу», то есть сговорившись, а это значит – забудь надежду о том, что у тебя сыграет второй король, или третья дама.
Играя «на лапу», двое в 50% случаев оставят одного без взятки, или без виста.
Таков закон – суровый, но справедливый: в картишки нет братишки, среди друзей хлебальником не щёлкай.
( … конечно, тебе ни к чему разбираться во всей этой преф-терминологии. Но для примера достаточно представить пару карманников работающих в маршрутке; один держит жертву за руки, второй обшаривает карманы и вытаскивает деньги.
Разница лишь в том, что ты больше в одну маршрутку с ними не сядешь, а в преферансе ты назавтра придёшь к ним и скажешь:
–Ну, чё распишем пульку?
Об их сговоре мне напрямую было сказано годы спустя после окончания института…)
Разумеется, я примечал их «педальную систему» из почёсывания брови и дёрганья себя за мочку уха под видом рефлекторных телодвижений организма, но мне было наплевать.
Я должен был укротить фортуну даже при столь неблагоприятных обстоятельствах – двое на одного.
Зная, что в 72-й «играют», к нам приходили преферансисты и с других факультетов.
С теми у меня сохранялся примерный паритет.
Мог бы оставаться и в выигрыше, не будь так падок на ненадёжные – «сизые» – мизерá.
Помимо партнёрства в карты Двойка стал источником полезных знакомств.
Симпатичные воспитанные «голубые» из местных пару раз приходили в нашу комнату.
Один рассказывал «голубые» анекдоты:
– Палучи, фашист праклятый, гранату ат савецкава гомосексуалиста!
Он смешно, очень точно передавал «голубые» интонации.
А доктор Гриша рассказывал как, отдыхая на пляже Золотые Пески в Болгарии, он закрывал обзор англичанину, который купался в море, пока его партнёр крал солидные часы из-под шмоток англичанина.
Мы снова смеялись.
Нет, Двойка не был «голубым». Я вообще ни одного «голубого» в институте не встретил.
В чём смысл? Поступить и оказаться в группе из одних девушек?
Так что они просто промелькнули, как весёлый эпизод.
Но доктор Гриша оказался полезным. Один раз он сделал мне больничный аж на двенадцать дней; написал в диагнозе какой-то бронхитис.
Такой милый мужчинка, волосы очень красивые, даже слово «причёска» не подойдёт, лучше сказать – волнистая шевелюра.
Лицо приятное, только рост небольшой. Зато большой коричневый мягкий портфель и походка от бедра, а сзади – шарнирная.
С ним у меня были вполне дружеские отношения, несмотря на разность ориентации. Не то, что с Тугриком.
Кстати, Гриша тоже был женат и имел двух детей; мальчиков.
А больничный на три дня, за острое респираторное заболевание, ОРЗ, я мог и без Гриши получать.
Позади Старого корпуса стояло одноэтажное зданьице – институтский медпункт.
Перед занятиями приходишь, тебе дают градусник и, если есть температура, получи ОРЗ и гуляй три дня.
Только нужно ещё зайти в свою группу и предупредить старосту, чтобы в журнале пометки «absent» не писала, всё равно через три дня справку принесу.
Двойка, как специалист биологии рассказал, что при напряжении мышц температура вокруг них повышается. А подмышкой мышцы есть.
Засунув туда градусник, я начинаю их сокращать и расслаблять под одеждой, пока старшая медсестра по прозвищу Пилюля не скажет:
– Хватит уже.
У меня постоянно получалось не меньше 37.3.
Пилюля очень удивлялась отчего я так часто хвораю, или иммунитета нет?
Впоследствии она разозлилась и стала мне по два градусника выдавать, по одному для каждой подмышки.
Так разница составляла всего одну десятую: 37.3 и 37.2 – всё равно ОРЗ.
И тогда Пилюля озверела:
– Хватит! Раз так – вот тебе направление, иди ложись в городскую больницу.
Но и я не пошёл на попятную, отправился в больницу и пролежал там полторы недели; за ни за что, фактически, из чистой принципиальности.
При всём при этом, не нужно сбрасывать со счетов и моё основное занятие – учёбу.
Я отсиживал практические занятия, иногда посещал общие лекции, сдавал зачёты и экзамены.
И кроме того я занимался самообразованием.
На втором курсе мне посчастливилось встретить «Конармию» и «Одесские рассказы» Ивана Бабеля.
Он убедил меня: что и после революции в России остались писатели, а не одни только Шолоховы-Проскурины-Марковы.
На третьем, в институтской читалке я обнаружил журналы с «Мастером и Маргаритой» Булгакова. Он меня потряс.
На четвёртом курсе нескончаемые, как течение Нила, «Иосиф и его братья» ходили со мной на лекции.
И это не считая обычного чтива, что, не имея отношения к моему образованию, просто заполняло время.
Скажем, прошёл по общаге слушок: Ефремов! «Таис Афинская»! Потолок! Вершина и предел мечтаний!
Илюша Липес дал мне эту гетеру на два дня; пришлось даже, когда отключат в комнатах свет, выходить в коридор и читать под светильником у окна, между дверей в умывальник и мужской туалет.
Запахнувшись в чёрный кожух и с голыми ногами, я сидел там на стуле, потому что лень одеваться, если перед этим лежал под одеялом койки.
А что такого? На пляже не бывали?
Но при всём уважении к Илюше, это не литература, а иллюстрация к учебнику «История древнего мира» за пятый класс средней школы; я там такие же цветные картинки уже видел на всю страницу – рабы Египта тащат к пирамиде каменные блоки по песку.
Красочно, конечно, но лубки и литература не одно и то же.
Вот только наперёд не знаешь: где найдёшь, где потеряешь.
Когда я там, у тёмного замёрзшего окна, читал описание древнего ритуального празднества, участники которого бегали средь ночи нагишом, то у меня опять случилось видение.
Всего на секунду, но я оказался в тёмной греческой ночи и бежал совершенно нагой под чёрными деревьями и большими влажными звёздами.
Но тут же – щёлк! – и снова в кожухе на стуле под лампой дневного света и серый бетонный пол уходит во мглу коридора спящей общаги, но я всё ещё отчётливо помню те два шага-прыжка за ту долю секунды, а кожа всё ещё ощущает холодок от бега в ночи далёкого прошлого.
( … ну? Что тут будешь делать?
А делай как все – отмахнись, забудь и живи дальше.
Но книжка сама по себе всё равно – нудятина…)
Точно также и лекции: теорграмматика, теорфонетика, научный коммунизм, эстетика…
Хотя лекторов я, отчасти, даже и понимаю; им ведь и самим пришлось всё эту херню заучивать.
Теперь, на основании перенесённых мук, на нас, студентах, вымещают неудовлетворённость несправедливым устройством жизни.
Приходи ко мне в перинхму, Позиготимся чуток…По настоящему, мне всего одна лекция понравилась теоретическая… грамматика?.. фонетика?.. вобщем, Скнар нам её читал.
Фамилия у него такая, а сам неплохой мужик. Когда я в горбольницу ложился, он мне «Тихого американца» дал с собою, на английском языке.
В одиночку мне б там трудно пришлось – сосед по палате до того громко храпел, что аж оконные занавески пузырились.
Перед той лекцией я на выходной в Конотопе зашёл к Ляльке. Его дома не было, только брат, Рабентус. Он меня подогрел.
Такой травы я ещё не видал. Типа, тонкие сухие скелетики веточек. И такого прихода, как от неё, тоже ещё никогда не получал.
На Рабентуса смотрю как через линзу: вверху и внизу узко, а середина растянута.
Он приметил, что у меня таскалово зашкаливает, посоветовал лицо из-под крана ополоснуть. Без толку.
Но помню, что надо в Нежин ехать. По дороге на вокзал я ещё к Игорю Рекуну зашёл, на проспекте Мира. Мамаша его:
– Как приятно познакомиться! Садитесь, покушайте на дорожку.
А я сидеть не могу; меня туда-сюда таскает – из гостиной на балкон, с балкона в гостиную. Я Игорька попросил – пусть бумагу найдёт и пишет чего скажу. Типа, там:
Мир – обезглавленный небом…потом ещё:
Ватные тучи лезут и трутся об мозг сквозь череп…всякая сюрреалистическая хренотень; не то меня в конец накрыло б.
Вобщем, только уже в электричке, между станциями Плиски и Круты, у меня отходняк пошёл.
А те психоделические лоскутья Жомнир потом в факультетской газете поместил, рядом с «Translator’ом», до того ему понравилось.
Но речь не об этом, а про лекцию Скнара.
Мне ж тогда Рабентус на пару косяков уделил. Так я, зная какая это термоядерная дурь, уже не злоупотреблял, проявлял умеренность.
И вот в такой, умеренном до тихого, состоянии зашёл я на лекцию, а то до общаги идти далеко показалось.
Сидим, значит, а Скнар читает из-за кафедры.
Я смотрю – хорошая какая кафедра! Фанера жёлтая, вся полированная.
Потом вдруг не понял – что за дела? Скнар зачем-то на латынь перешёл.
Прислушиваюсь: точно – латынь!
Причём шпарит покруче Люпуса, но так распевно как-то, и глаза вверх устремил, типа, к тебе взываю de profundis!
Я насторожился – Скнар, или не Скнар?
Присматриваюсь, а от Скнара там один только бюст остался.
Серьёзно, на жёлтой кафедре стоит бюст Скнара, без рук даже – одни плечи. Но голова говорить продолжает.
А на верхней губе у него ямочка, и вот стала она углубляться, темнеть и превращаться в усики Адольфа Гитлера.
Ну, ни хрена себе! В советском вузе бюст Гитлера лекцию читает, причём на латыни!
Молодец Скнар!
Не всякий преп решится отчебучить такую лекцию. Без него я б и поныне думал, что если лекция, то обязательно туфта.
Стереотипы, они очень привязчивы.
А у Жомнира я на дому учился.
Как очередной рассказ переведу, приношу к нему домой и он его целый вечер драконит – тут не то, там не так.
Да я и без него чувствовал, что фраза «лорд впав на рейки» – не то; но почему? И как по другому сказать?
– А то вже твоя справа. Шукай.
– Может так: «лорд жвакнувся на рельси»?
– Нi! Це вже перебор.
Угодить ему невозможно, всегда найдёт к чему придраться.
И потому работа с Жомниром стала хорошей школой не сдаваться.
После тисков украинской «мови» тянуло расслабиться. Я попросил у Жоры Ильченко одну из книг, что он прикупил в Индии и начал переводить её на русский.
Не толстая такая книжица, страниц на двести; автор Питер Бенчли, писатель в третьем поколении, то есть и дед, и папа занимались тем же ремеслом.
Название – «Челюсти», про акулу-людоедку.
Профессиональный винегрет, всего понемногу – откушенные конечности, любовная линия, шериф, мафия проездом.
Правда, заключительная сцена гибели акулы без зазрения совести списана из «Моби Дика», но кто теперь читает Мелвилла?
Я исписал несколько общих тетрадок. Закончил зимой в Конотопе.
Значит это была ночь с субботы на воскресенье, или зимние каникулы.
Часы на стене кухни показывали далеко заполночь, последнюю точку я намалевал на полстраницы – хотел извести пасту в ручке, но она так и не кончилась.
Я выключил свет и лёг на диване в гостиной. За двумя большими окнами стояла какая-то белесая ночь, наверное, снег отсвечивал. И мне казалось, что она, эта ночь, как-то аж налегла на стёкла окон, вот-вот вломится.
Пришлось поскорее заснуть – никогда не любил ужастики.
А тетрадки те моя сестра Наташа потом дала кому-то почитать и они бесследно ушли по рукам.
Всё это хорошо, но когда же о главном?
Ира.
Мои отношения с ней в тот период можно передать одним словом – мýка.
Если хорошенько поднапрячься, то можно и пару слов подобрать – мýка мученическая.
Начать с того, что возобновление с ней отношений в Нежине оказалось непростым делом.
Зачем возобновлять?
Так ведь я ж был влюблён!
С первого взгляда на той тропе через мокрые стебли кукурузы.
И не следует забывать, что по своей натуре я – однолюб. Раз уж влюбился, то разлюбливать, перелюбливать – не по мне.
Недаром из крылатых выражений отец мой чаще всего повторял, что моя лень-матушка раньше меня родилась.
К тому же, Нежин подтвердил правильность моей влюблённости – при всей многоликости, многоногости, многобёдрости, многогрудости выбора – ей не было равных.
Начиная с одежды – в эпоху дефицита она умудрялась выглядеть по-европейски, как в фильмах итало-франко-германского производства.
Переходя к белью – я в жизни ещё не видел столь утончённо женского белья.
Обращаясь к самому важному – к телу.
Такие тела как у неё я видел только в ванной на Объекте, сидя рядом с огнём пылающим в титане, когда рассматривал изваяния богинь, дриад и нимф Эллады на чёрно-белых иллюстрациях в книге «Легенды и мифы Древней Греции».
А вот походка у неё современно немецкая – размашисто широкий шаг, решительный взмах рук.
Круглое лицо, высокие скулы, нос с крохотной горбинкой, широкие, но не вывернутые губы, правильный подбородок; волосы – идеальной длины, причёска – моей излюбленной формы.
Я любил смотреть как она приближается своим решительным шагом по улице ведущей к Старому корпусу, а в далёком круге её лица из нерезких, как на полной луне, разводов начинают проступать черты Иры.
Но это не сразу.
Поначалу она верила зловещим предсказаниям Оли.
И даже Вера, которая так рьяно готовила нам ложе в Большевике для плотских утех и пролития потоков сладострастья, неопределённо пожимала плечами – про него такое рассказывают!
Так что первые наши встречи в Нежине не слишком обнадёживали и у меня даже закралось сомнение, что случившееся в Большевике не более, чем «колхозный» роман, в котором дочь преподавательницы попросту использовала меня.
Спустя какое-то время ко мне в общагу пришла Аня, однокурсница Иры, и сказала, что та ждёт меня в их комнате филфаковского общежития на площади.
Кляня себя за мягкотелость и всякое отсутствие мужской гордости, я отправился туда.
Ира лежала на одной из коек, почему-то без кофты, но в, как всегда, красивом женском белье. Девушки тактично оставили нас одних.
Я присел на койку рядом с ней, стараясь не подавать вида насколько пленён красотой её торса и странно бледного лица.
Она сказала, что у неё была беременность и молодой хирург-гинеколог сделал ей аборт на дому под наркозом.
Аборт под наркозом? На дому? Молодой?
( … некоторые мысли лучше не начинать думать, а если уж начал, то, по крайней мере, не додумывать до конца…)
К моей любви добавились чувства вины и сострадания. Я ничего не мог с собой поделать, обнял её за плечи и, приподняв с подушки, прижал к себе.
– Я люблю тебя, Ира. Всегда знай, что я тебя люблю.
( … и вот опять я упираюсь в несвоевременность своего рождения. Веду себя как древний грек, во времена которых именно женщины отвечали за контроль рождаемости. Притирания там всякие, амулеты.
А в нынешний просвещённый век слабый пол нам уже на голову сел и ножки свесил, причём продолжает прикидываться слабым…)
В дополнение к недоразумениям из-за плотной опеки подруг, у нас на первой стадии любви никак не складывались половые отношения.
То есть условия для отношений имелись. Без проблем.
Стоило Ире прийти в 72-ю и мои сожители-первокурсники по собственному почину отправлялись на первый этаж общаги – переключать каналы телевизора или сидеть в буфете над бутылкой лимонада.
Проблема коренилась глубже…
Не сразу, но я заметил, что после наших занятий любовью у Иры портилось настроение и по дороге от общаги домой она говорила со мною о грустном.
Как грустно, когда по стадиону, куда ты два года ходила на лёгкую атлетику, ветер тащит осенние листья, а ты знаешь, что тебе тут уже больше не бегать – ты зашла попрощаться после растяжения связок.
Как грустно, когда за праздничным столом твои родители настолько увлечены выяснением своих отношений, что и не замечают, что ты берёшь со стола уже третью тарелку и не спеша позволяешь ей упасть на пол, где валяются осколки двух предыдущих – бздынь! – прежде, чем мама с папой наконец обернутся к тебе…
Дальше – больше.
Смена настроения переросла в прямой саботаж.
Как ещё назвать, если в конце акта партнёрша выдёргивается из-под тебя?
Мне стоило немалых усилий, чтобы добиться признания – причина непостижимого поведения в явственных позывах к неудержимому мочеиспусканию.
( … да здравствует наша советская система образования – самая лучшая система в мире!
Деревенских жителей она не смогла искалечить до такой степени – спасало непосредственное наблюдение естественных фактов жизни. Там девушка с одного взгляда определит с чем ты на неё лезешь. Но в городе?
В конце учебника анатомии за 8-й класс среди цветных иллюстраций имелось изображение мужского члена, деликатно прикрытого выпущенными кишками, на общей схеме внутренних органов.
Картинки в конце книги дети проходили самостоятельно – за весь учебный год класс успевал дойти лишь до половины учебника.
Откуда же бедной дочери преподавательницы знать разницу между оргазмом и мочеиспусканием?..)
Не знаю, помогли ли мои настойчивые просьбы довериться своему собственному телу, которое мудрее чем она.
Во всяком случае, выдёргиваться перестала.
Все эти мучительные кризисы в отношениях требовали восстановления сил и рихтовки ущемлённого самоуважения, что и привело к возникновению Светы, которая жила в общаге, и Марии, которая в общаге не жила, но туда приходила, а иногда я ходил ночевать к ней.
Несмотря на то, что Света училась на биофаке, в общаге она жила на пятом этаже.
В ходе одного из визитов с пятого на третий, её покорила моя сдержанность.
Я как раз вернулся с провожания Иры в подъезд её дома и мне сказали, что в 74-й на столе есть куриный суп.
Одно из преимуществ студенческой столовой в том, что после неё ты в любое время суток найдёшь в себе место для куриного супа.
Я зашёл, включил свет. На одной из коек лежала девушка не делавшая тайны из того, что кроме простыни на ней ничего нет.
На столе стояла кастрюля, а при ней пара ложек. Под крышкой оказался суп – порции две. Остывший, но куриный.
Я обтёр ложку, сел на свободную койку и начал есть.
Девушка с простынёй запротестовала, что свет мешает ей уснуть.
Выключив свет, я распахнул дверь, поскольку есть суп в темноте неудобно и доел его в отсветах от коридорного светильника. Вкусный суп, мне понравился, хоть и остывший.
И я ушёл.
Чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей…Зализывать раны после мук с Ирой я подымался на пятый этаж. Света просто создана для этого.
Небольшого роста, в мальчишеской стрижке, с грудями от «Playboy».
Она была хороша по всякому, но фирменное её достоинство это – минет.
А ещё она буквально теряла голову от прикосновения к её соскам.
Счастливый дар природы – и ей хорошо и тебе тоже.
Помимо физиологических проблем – наследия советской школы – у меня с Ирой порою возникали непримиримые идеологические разногласия.
В институте устроили субботник. Наш курс в Графском парке сгребал опавшие листья в большущие кучи и мы с Игорем Рекуном их поджигали.
После перевода «Челюстей» я знал, что сжигание листьев на открытом воздухе это преступление против земной атмосферы; там есть эпизод на эту тему, но разве тут что-то докажешь?
– Сергей, не ломайся! Все так делают. Мы не в Америке.
С волками жить – по волчьи выть. Когда Графский парк утонул в белом дыме, мы разошлись.
Возле Старого корпуса я увидел девушку в спортивке. Она меня сразу чем-то привлекла.
Даже не знаю чем. Широкая белая косынка на шее, в большой чёрный горошек, это понятно. Но не только ведь этим. И не кедами же.
Подхожу ближе – ё-моё! – так это же Ира!
И я до того расчувствовался, что сразу рассказал, как только что в неё заново влюбился.
– Ты не знал, что это я и – влюбился?
– Да! Представляешь?
– Как ты мог!
– Так в тебя же…
– Ты не знал, что это я!
– Да пойми же, раз это оказалась ты, значит у меня нет шансов полюбить другую. Могу только тебя.
– Раз ты только что не меня полюбил, то сможешь и ещё!
– Кого ещё? Разве не ясно, что других как ты нет?
– Ты ничего не понимаешь!
– Хорошо. Так мне в тебя влюбляться нельзя?
– Нет!
– Никогда?
– Нет!
Замкнутый круг. Люби меня, но не влюбляйся.
А она хороша в спортивке, так классно движется…
( … при всех потугах выпятить себя как некую помесь записного Казановы с утончённым аристократом духа, я, в сущности, являюсь классическим примером лоха.
Почему? Слишком простодушен и чересчур падок на новизну…)
Стоило услыхать от Илюши Липеса незнакомое слово «волы», и я увязался за ним как цуцик.
– Ну, что? Пойдёшь к волам?
«Волы» мне представлялись чем-то, типа, бесплатных гетер без комплексов, а оказались те же девушки, каких и в общаге вáлом. А у одной из волиц день рождения.
И вот теперь эта полутёмная большая комната в доме древней застройки и мы в ней общим кругом, типа, веселимся, типа, танцуем быстрый.
Оно мне надо?
Потом лягу с какой-нибудь на одну из двух кроватей, она меня будет потчевать открытым верхом, закрытым низом и говорить:
– Не мучай ни меня, ни себя.
От этой тоски воловьей вышел я в коридор и позвонил Ире, ещё раз объясниться, что я её люблю.
Лох-сентименталист.
А она сразу:
– Это что там за музыка? Ты где?
Обычно я ей из будки в вестибюле общаги звоню. Та почти звуконепроницаемая – в застеклённом отсеке тамбура.
По полчаса говорим. Совершенно ни о чём. Просто люблю слушать её голос.
Она там слово скажет, а я тут умлеваю.
– Да, так, в одном месте, потом скажу, не телефонный разговор. Я люблю тебя. Пока.
( … тогда все знали, что телефоны прослушиваются, так что фраза «не телефонный разговор» исключала дальнейшие расспросы…)
Ну, а потом пришлось гнать парашу, будто в Нежин заехал знакомый наркодилер, попросил проводить его на блат-хату, от которой у него адрес имелся, так что музыка звучала по поводу высокого гостя, а я сразу же и ушёл.
Такое наплёл, что и на уши не налезет. Надо очень захотеть, чтоб такому поверить.
Хотя, может, и поверила после тех икон.
Ах, да, иконы…
Мне сказали меня Вирич к себе зовёт, я и пошёл.
Он на зимних каникулах отдыхал в Карпатах и вместе с лыжами одну ногу поломал, потому сам не ходит – загипсованный.
Он с женой-студенткой в городе на квартире жил.
Когда она на кухню вышла, Вирич и завёл свой монолог про грязную длинную руку сионизма, что тянется за нашим культурным достоянием и духовным наследием.
Это всё к тому, что у Илюши Липеса в общаге под кроватью в портфеле три, не то четыре православные иконы. Где-то сельскую церковь бомбанули, а он теперь хочет их толкнуть как редкий антиквариат. Разве такое можно допустить?
Если б не гипс, Вирич не допустил бы, чтоб наши святыни…
Короче, могу я бомбануть их обратно и восстановить историческую справедливость?
( … насчёт разности религиозных конфессий это он зря старался.
В Зевса, или там Посейдона, я б ещё мог поверить, а все теперешние боги у меня особых симпатий не вызывают; но что характерно – в атеизм я тоже не верю.
А вот с просьбой бомбануть, это он по адресу. Нет проблем. Мне ведь что скажут, я и делаю…)
Дождался когда все утром на занятия уйдут. Ногой в запертую дверь саданул – замок сразу выскочил.
Всё точно: под койкой портфель, в портфеле иконы.
Вот у них нюх у этих сербов, даже в третьем поколении.
Портфель я оставил, а иконы вынес в отсек умывальника. Примерно такие, как у бабы Кати висела, только доски побольше.
А в умывальнике меня уже чёрный дипломат дожидался, куда я их аккуратной стопочкой сложил. И тут прочувствовал справедливость поговорки «курей воровал».
– Чё это у тебя руки так дрожат? Курей воровал, что ли?
Пальцы просто ходуном ходили в неудержимом треморе.
Но не такая дрожь, как после того перевертухеса в УАЗе. Та была напряжённо мелкая, а эта крупно так бьёт.
Вот до чего святотатство-то доводит.
За отпечатки я не переживал. Илюша же не пойдёт в уголовный розыск:
– Снимите, пожалуйста, отпечатки с моего портфеля, где я держал иконы из ограбленного храма.
Однако, и сразу к Виричу тащить добычу неправильно. Попросил Иру пару дней подержать дипломат у себя дома, только не заглядывать. Она как раз болела.
Потом, как, примерный студент, я ещё и на занятия сходил; а после столовой подымаюсь на третий этаж – там шум стоит. В комнате Липеса дверь сломали!
Я подошёл посмотрел – действительно дверь выбита.
Это ж надо! А что пропало-то?
Молчит Илюша, только цыкает от расстройства.
А потом я решил окончательно порвать с Ирой. Ну, сколько можно мучится? Тем более, раз у неё совершенно нет ко мне никакого доверия.
Получаю письмо:
«Сергей, я давно увлечена тобою, но сказать не решалась. Сегодня буду ждать тебя в 7 часов возле Старого корпуса. Люба».
В тот вечер, когда я проводил Иру, в ней вдруг, в подъезде, такое пламя страсти воспылало:
– Не уходи, ещё побудь немного.
А я смотрю на часах уже без десяти семь.
– Да, ребята там ждут. Договорились «пулю» расписать.
– Подождут, куда денутся.
Еле вырвался.
К Старому корпусу успел ровно в семь; я на подходе под фонарём часы проверил.
А на площади перед Старым корпусом – ни души.
Но я не стал там останавливаться, курить, ждать. Нет.
Пересёк наискосок пустую площадь. Только малость шаг замедлил. Могу же я на ходу полюбоваться природой зимнего вечера?
Вон та сосна на кедр похожа. Может и вправду кедр?
До того густые ветки – там сова живёт, ей за теми ветками даже и днём сумерки. А на сугробе под кедровой сосной остатки её трапез мелкими грызунами.
Санитар природы.
И, кстати, я ни капли не соврал. Захожу в 72-ю, а Славик с Двойкой тут как тут:
– Чё? Запишем «пульку»?
Я не сразу узнал, что то письмо подружка Иры под диктовку Иры написала.
На новизну все клюют, но лохи ещё и попадаются.
Ну, и к тому же появилась Мария.
Брюнетка Бальзаковского возраста.
Когда она мне улыбнулась на тротуаре, я не сразу понял с чего это.
Оказывается, она на пару минут заходила тогда к волам на день рожденья.
Вобщем, объяснила в каком доме живёт и номер квартиры сказала.
У меня тот день напряжённый был – вечером концерт в актовом зале Старого корпуса – но я нашёл время и деньги на бутылку водки.
Нёс её по способу Алимоши, в рукаве; такой твёрдый бицепс получается.
Пришёл по адресу; четвёртый этаж. Дверь налево.
Она открыла. Мы немного пообедали и – на диван.
Не люблю кончать едва начав, но и такое бывает.
– Извини,– говорю,– спешу. В пять часов концерт.
Какой? Где?
Она во втором ряду сидела, когда я со сцены, уже с бас-гитарой, уже как ведущий вокалист, орал:
Ты помнишь плыли в вышине-е-е!.. И вдруг погасли две звезды-ы-ы?!..Третьекурсник Витя Кононевич играл на ритм-гитаре и подпевал в терцию; а на барабанах тоже с его курса – Лёша, кажется? – из местных жевжиков.
После концерта мы с Марией гуляли.
Она повела к какой-то своей подруге и та вынесла в подъезд кружку спирта. Медицинский, от него язык прилипает к нёбу.
Зато с тех пор наши акты с Марией по продолжительности не уступали актам в пьесах Шекспира.
У неё был сын шестиклассник, но я его ни разу не видел – не пересекались как-то.
Уютная однокомнатная квартира. Кроме дивана – широкая двуспальная кровать, а рядом с ней ламповый радиоприёмник на тумбочке.
Всю ночь негромко играет себе чего-то на средних волнах и шкала мерцает жёлтым.
Кончала она красиво.
– Ещё! Ещё! А! Ещё хочу-у-у!
Может и отработанное, но всё равно красиво.
И не переносила запаха семени, просила сразу же пойти в ванную.
Я шёл беспрекословно – оно того стоило.
За это она делала мне массаж, такая у неё специальность.
Не понимаю почему за ним так с ума сходят. Ах, массаж!
Но я и тут не прекословил.
Иногда, даже совсем поздно, в дверь звонили.
Она подымалась из кровати, накидывала длинный халат и выходила на площадку объяснить несвоевременность визита.
Я не был в претензии, понимал, что медицинской сестре, даже и массажистке, как-то приходится выживать в этом мире.
Тело у неё было красивое, как на чёрно-белых фотках советской любительской порнографии, да и сама она тоже в таком закарпатском стиле.
Но в постели сорочку не снимала, или совсем редко, говорила какая-то проблема с грудью, мастит, что ли.
А меня после стольких упоров в «открытый верх, закрытый низ» такая перемена даже освежала. Тем более, что низом она знала как пользоваться.
– А можно я так?
И устроит такое, чего я и не воображал возможным, да и вообще не воображал.
Ещё как можно!
Когда она заглядывала в 72-ю, то умело пользовалась тамошней незамысловатой мебелью.
Отношения между актами у нас были дружескими и благожелательными.
Она делилась планами покупки домашних тапочек для меня и обещала вылечить, когда заболею венерическим заболеванием.
Она рассказывала…
Впрочем, это неважно, а то я никогда не кончу.
Как после кружки спирта.
Одним словом, хочу сказать: Бальзак – не дурак, хоть и француз.
Первого мая, если ты один из всего четырёх мальчиков на курсе, то, хочешь, не хочешь, придётся нести на демонстрации портрет какого-нибудь члена Политбюро ЦК КПСС.
Пройдя в институтских колоннах по площади, этого члена надо ещё отнести в Старый корпус и сдать завхозу.
Когда я уже вышел от завхоза, Славик меня предупредил, что перед корпусом видел Иру и она его спрашивала где я.
Славик знал, что у меня с ней уже скоро месяц как всё кончено, потому и предупредил.
Разлука эта мне давалась нелегко.
Пустынно тянулись вечера без её голоса по телефону.
И мне не хватало её немецкой походки издалека.
Случайно увидев её в институте, я ещё раз убеждался, что красивее неё нет никого и у меня сжималось сердце.
Но лучше уж перетерпеть и поставить, в конце концов, точку.
Поэтому, во избежание невыносимой мучительной встречи, я решил отсидеться в Старом корпусе пока она уйдёт.
Тем более, что накануне, на загородной вылазке с Марией, мы условились провести Первомай у неё.
Для вылазки мы поехали на вокзал и в лучах заката пошли вдоль путей в лесок на окраине.
Навстречу попались двое мужиков рабочих. Один начал что-то вякать, но я не обратил внимания – кто угодно позавидует, когда идёшь в лесок с такой красоткой, а вокруг соловьи надрываются настолько густыми непрерывными трелями, что те просто стеной стоят.
Мы нашли поляну и в наступившей темноте я разложил костёр.
Было совсем тепло и она даже плащ сняла. С вином мы обошлись без стаканов.
– Ещё! А! Ещё!..
Костёр, оказывается уже догорел и в переливчатом мерцании его углей неразборчивая тень метнулась поперёк поляны.
Собака.
Как же она испугалась!
Нет ничего умилительней женских страхов. Ты, типа, былинный витязь и охранительно приобнимаешь её за плечи. Мне даже опять захотелось.
– Ещё! Ещё!..
Возвращались мы уже среди ночи и долго ждали автобус.
Это оказался последний, что возит рабочих оборонного завода «Прогресс» после второй смены. Вернее работниц – в салоне почти сплошь женщины.
Они так неприязненно смотрели на Марию. Мы-то пашем, а эта сучка стерва заполночь с хахалем вожжается.
Весной даже бабы звереют.
То есть эта встреча с Ирой мне уже была не нужна.
Я ещё минут двадцать поволынил, прежде чем выйти из Старого корпуса.
– Серёжа!
Она всё-таки дождалась между колоннами высокого крыльца.
Ну, что я могу поделать, если она такая красивая? Если у меня стискивает дыхание и ёкает сердце?
Мы зашли за угол с доской «Здесь учился Н. В. Гоголь» и остановились для разговора у высокого цоколя стены под старинными окнами.
Меня поразила её бледность. Не серовато-болезненная, а словно тонкий фарфор.
До прозрачности белый фарфор.
Уже не знаю от чего больше сжимается сердце: от её красоты, или от жалости к ней.
Конечно же, я тупая скотина, столько мучил и себя и её.
Я снова её обнимаю. Она смеётся и плачет у меня на груди.
Как я люблю её!
Этот проклятый месяц она приходила домой и просто пластом лежала.
Боль буквально физическая. И всё безразлично. Мама не знала что и делать.
– Что с тобой, Ирочка?
– Ничего.
Скотина. Подлец.
До чего бледная. Какая красивая.
– Приходи. В комнате никого.
Она радостно отправилась домой переодеться и сказать маме, что празднует и ночует у подружки.
( … в советских праздниках мне больше всего нравилось именно это вот затишье после демонстрации.
Улицы пустеют, машин и пешеходов почти нет.
Люди разошлись по домам, начинают праздновать…)
Общага тоже стоит пустая. Кроме 72-й комнаты на третьем этаже. Это наша комната, наш этаж, наша общага, наш праздник.
Праздник примирения.
Света чуть было не испортила праздник.
Пользуясь царящими вокруг безлюдьем и тишью, я вышел в туалет в одних трусах, а потом зашёл в умывальник. Тут она меня и прищучила.
– Это что за дела?
И пошла причёсывать мне ухо, что не допустит расширения штата без предварительного согласования. Она мне прощает Ирку, прощает Машку, но что это за новая лярва у меня в комнате?!
– Да ты что?! Это же Ира!
Нет, она только что туда заглянула, а та спиной стоит у окна – откуда может быть у Ирки такой пеньюар?
Как будто я знаю. Сам первый раз вижу.
На второй день я утром вышел из общаги. В гастрономе на площади продавали редкий дефицит – бело-синие банки сгущёнки.
Гордый своей добычей, я вернулся в 72-ю, а Ира с койки у окна сказала:
– Что? Сгущёнку принёс?
Я ох.. опешил, то есть.
– Это ты как это?
– У тебя такой нос довольный, сразу видно.
И с такими способностями писать подмётные письма?
Что-то тут не то…
Так я сдался и мы стали жить-поживать одной общей дружной семьёй.
Полигамия называется.
Мне в ней досталась роль связующего звена.
( … связующее звено должен усвоить одно золотое правило – никаких имён.
«Милая» – самое оно; и ей приятно и недоразумений нет.
Возможно, кто-то предпочтёт «зайку», или «рыбку», это дело вкуса, но, по моему скромному мнению, к чему лишний зоопарк разводить?
– Да, милая. Конечно, милая…)
Сцен Света больше не устраивала.
Она чётко знала своё место – после Иры, перед Марией.
Официально девушки не были представлены, но знали о существовании друг дружки.
Ира и Света наверняка, а Мария, скорей всего – да.
В общении с милыми я особо эту тему не затрагивал – кто что знает, чего не знает, но Нежин провинциальный городок, где все всё про всех.
Когда на третьем курсе я проходил педагогическую практику во школе № 2, какая-то из преподавательниц на перемене начала выдавать порочащую информацию о Марии.
Она старательно смотрела не на меня, а на мою однокурсницу, что тоже проходила там практику.
Это была очень старательная студентка. И она очень старательно готовилась к своему первому уроку.
У себя дома она собрала всех-всех своих кукол и куколок, усадила на крышку пианино и готовилась:
– Good morning, children!
( … инфантилизм – смертоносное оружие, он для меня страшнее пулемёта.
То есть, хочу сказать, от него меня на рвоту тянет…)
То ли дело молодожёны на нашем этаже.
Когда они поженились, им отдали целую комнату. В смысле студентов отселили, а мебель осталась.
Иногда, чтобы расслабиться после напряжённого умственного труда в ходе учебного процесса, они устраивали «скачки» по субботам.
Приглашали в гости какую-нибудь парочку с ночёвкой и после ужина начинали заезды со сменой партнёров, или, может, партнёрш меняли.
Детали мне не известны, я в скачках не участвовал. Витя Кононевич гостевал там как основной жокей.
По-моему, если честно, секс – занятие лишь для двоих, он настолько интимен, что даже презерватив – третий лишний.
Понимаю, что я старомоден, но таким уж уродился.
Летом я поехал на пионерскую практику в лагерь «Юный строитель» рядом с Седневым.
Во время Черниговского княжества там крепость стояла для обороны от татар, литвы, или новгородцев – это уж кто нагрянет.
А теперь от крепости всего одна башня осталась.
От башни крутой спуск к реке Снов с песчаными берегами; за мостом и сосновым лесом два лагеря бок о бок: «Юный строитель» и «Юный химик», а дальше уже пшеничные поля.
В «Строителе» я практиковался на должности подменного воспитателя.
То есть, когда воспитатель какого-нибудь отряда уезжала в Чернигов, я присматривал как дежурные её отряда расставляют в столовой еду на завтрак-обед-полдник-ужин и при выводе детей на речной пляж следил, чтобы пионеры не плескались за пределами железной сетки-решётки, а только в огороженной части русла реки.
Уезжали воспитатели не часто – дорога до Чернигова не близкая – так что основная моя работа заключалась в передаче музыки из радиоузла и в объявлениях отбоя на «мёртвый» час и на ночь.
Я почему-то делал это пидарастическим голосом:
– Вынимание! В лагири абивляица аутбой. Павтаряйу! Вынимание – аутбой!
В радиоузле жила старшая пионервожатая, а за стеной находился небольшой спортзал, но без всякого оборудования, кроме одной койки, на которой я спал.
Дверь в дальней стене спортзала выходила на сцену небольшого зрительного зала под открытым небом в окружении сосен.
Я валялся где попало, читал что подвернётся в лагерной библиотеке и отпускал бороду, потому что после лагеря собирался ехать в студенческий стройотряд.
Одним словом, вёл образ жизни небритого отщепенца.
Должность старшей пионервожатой исполняла моя однокурсница, Ирина из Бахмача.
Мне как-то не сразу дошло, что она меня обхаживает, пока не пригласила в старинную башню Седнева, где встроен романтический ресторан.
Стены там в полтора метра, а из бойниц видно как по равнине, далеко внизу, галопом пролетают тени облаков, словно всадники разбойной ватаги.
Она угощала ликёром из ежевики. Мне не понравился – слишком приторная хрень.
За два года обучения у неё явно поменялись приоритеты и взгляд на жизнь, по сравнению с той ночью, что мы с ней провели на первом курсе.
Однако, всерьёз воспринять её в практических целях я не мог.
И дело вовсе не в злопамятности, типа «ах, не дала, так теперь иди погуляй».
Нет, я не такой.
Всё из-за моей послушливой исполнительности; мне один раз скажут «нет» и я послушно отступаю, а чтобы впоследствии я снова приступил мне нужно сказать «иди сюда».
Она же понадеялась обойтись ликёром.
Не мог я сосредоточиться и на другой практикантке, тоже Ирине, но уже из Нежина – на дочери проректора Будовского.
Во-первых, мне не импонировала его лысина и общий моральный облик, а во-вторых, сразу ж видно, что она ещё целка.
Так что лавры первенства, вполне предсказуемо и неизбежно, достались блондинке-физруку, опять-таки Ирине, но из соседнего лагеря.
Сначала мы встречались с ней на берегу реки в сопровождении её «спидолы», но в моём спортзале оказалось теплее.
Один раз меня посетила группа гостей: Славик, Двойка и Петюня для игры в преферанс и Света для всего остального.
После игры мальчики побегали по спортзалу за ёжиком, которого в тот день принесли ко мне пионеры.
Я попросил их не мучить животное и они переключились на подслушивание эротических арий из радиоузла, где Ирина из Бахмача принимала приехавшего к ней в тот же день гостя, тоже из Бахмача.
Я выдал мальчикам лагерные одеяла – не спать же им на голых досках, и выключил свет.
Света, имевшая законное право на часть моей койки, исполнила с этого возвышения для трёх, притихших вдруг на полу меломанов, концерт для флейты без оркестра.
В другой раз я съездил в Нежин, типа, на выходной, но повёл там себя как свинья.
Облопался колёсами и, обедая в столовой на вокзале, хотел уснуть на тарелке с борщом.
Иру это возмутило и она ушла.
Пришлось Славику, который тоже ехал в Чернигов, тащить меня, как овощ, в дизель-поезд.
Потому что ветка до Чернигова не электрофицирована.
В дизель-поезде я проспался, но мне всё равно было нудно. Как и большую часть той практики.
Нудно, что соврал мужику в поле, который спросил из какого я лагеря.
Зачем сказал, что из «Химика»?
Нудно, что когда в лес, на чьей-то папиной «волге», заехали черниговские недоросли, начали блатовать и один из них достал красивый нож-тесак, я заоглядывался за какой-нибудь палкой, хоть видно ж было – он только и ждёт, чтобы у него отняли.
Секунда промедления, момент упущен и – трофей достался шофёру лагеря. Молодец мужик.
Нудно, что, ныряя с обрыва, я чересчур запрокинулся и, типа, вывихнул хребет, но отлежался.
Нудно, что, при ночном купании в реке, на берег заехала какая-то легковушка, высвечивая фарами девушек, которые уже передумали купаться, и мне пришлось выходить из воды в чём мать родила, вооружённому лишь перекошенным выражением небритого лица.
Не знаю какую аборигеновую маску изобразил мой анфас, но фары потушили.
Потом Ирина из Бахмача насмешки строила – вот уж не знала, что у меня такой маленький. Меня и это не задело – как-то всё нудно…
Дар напрасный, дар случайный, Жизнь, зачем ты мне дана?..А что на день Посейдона пионеры двух лагерей меня поймали и бросили в пруд рядом с речкой, это правильно, а не нудно.
Сперва обидно, мокро, а потом смешно – молодцы, шпингалеты! Так и надо!
В ночь перед отъездом мы с Ириной физруком опять сидели над рекой.
Звёзд высыпало столько, что за ними и неба не видно и меня охватило томление, что как-то всё уходит, утрачивается.
Она почему-то не дала и мы просто сидели, опёршись спиной в спину.
Звёзды светили снизу – из широкого плёса тихого Снова, и сверху тоже.
Вот они были и будут, а удержать их всё равно невозможно. Всё утекает.
Наверное, это всё из-за «спидолы», что начала вдруг читать проповедь на английском.
О чём конкретно я не понял, потому что говорилось не про семью Паркеров из институтских текстов, но можно догадаться, что проповедь.
Я проводил Ирину до «Химика». Она зашла и заперла ворота, но я её снова окликнул.
Мы взобрались на ворота с двух сторон и простились по-лагерному – поцелуем поверх решётки.
Прости-прощай, утрата.
С городом Прилуки я знаком был давно, но заочно. На пачках «Примы» сзади напечатано «сигаретна ф-ка м. Прилуки».
Город Прилуки построили немцы во время его оккупации, поэтому улицы в нём строго параллельны и методично перпендикулярны друг другу.
За исключением той окраинной, где впоследствии построили автовокзал.
Командир студенческого отряда – Владимир Майба с физмата.
Комиссаром – Игорь, украинский националист. Он подозревает Майбу, что тот сексот и потому постоянно над ним насмехается и всячески подрывает авторитет.
А я, типа, ведущий специалист, потому что у меня в военном билете написано «каменщик».
В отряде две девушки и пятнадцать студентов-физматовцев, не считая командного звена.
Нас разместили в общежитии «химиков», но только на одну ночь – утром поедем в 4-ю автобазу, что на шоссе между селом Ивковцы и посёлком Ладан.
«Химики» это заключённые, которых за примерное поведение выпускают из зоны доматывать свой срок «на химии».
Какой-нибудь завод, или фабрика с вредным для здоровья производством, шахта, стройка – всё годится, чтобы стать «химией» для примерных зэков.
Контроль за «химиками» довольно жёсткий – в общагу они должны являться не позже указанного часа, не попадаться с выпивкой, блядей не приводить и много других «не»; но всё-таки не под конвоем и спишь не в кубрике общей спальни.
Опять же какая-никакая – зарплата. Лишь бы мент-воспитатель на тебя в обиде не остался, не то отвезут обратно на зону.
После душа мы с Игорем, который хоть и националист, но говорит на чисто русском и мечтает о Питере – культурной столице, вышли ознакомится с геометрической правильностью Прилук.
– Катраниха! Ни хрена себе! Это ты?
– Тише ты! Мои ученики могут увидеть. Я ж тут учительница.
Ну, конечно, извини запамятовал.
Она уже год как сеет тут разумное, доброе, вечное.
4-я автобаза сама по себе – ни в селе, ни в городе; сразу за лесополосой вдоль шоссе.
Сначала будет двухэтажное старое здание. На первом этаже какие-то запертые склады, а на втором просторный зал с койками для студентов стройотряда и небольшая комната для двух девушек.
Потом идёт одноэтажное здание кочегарки, а дальше – обширная территория автобазы за высоким кирпичным забором.
Там – гаражи, столовая и много других строений, часть которых ещё не достроена; а посреди территории вырыт большой глубокий котлован.
Над котлованом натянуты проволочные провода – вдоль и поперёк. Под местами пересечения проводов нашему отряду предстоит забетонировать армированные площадки, на них собрать опалубки из дощатых щитов и заполнить из бетоном, чтоб получились стаканы, куда в дальнейшем вставятся опорные колонны.
Но это в дальнейшем, а пока – вот лопаты и: «бери больше, кидай дальше».
Так всё знакомо. Только форма другая.
После работы кочегары-«химики», Юра и Помидор, открывают задвижку и из трубы – высоко в стене кочегарки – бьёт широкая струя воды.
Становись на излёте струи и – купайся.
Вода, конечно, холодная, но ведь сейчас лето.
Через неделю командир отряда созвал общее собрание. Вопрос один – питание, потому что то, чем кормят в столовой не еда, а…
( … ну, не знаю, хавка, как хавка…)
Постановили – питаться собственными силами на аванс, который командир возьмёт у автобазы в счёт наших будущих трудовых побед. Отныне девушки не только санитарки, но и поварихи.
Ежевечерне, как стемнеет, группами из трёх человек, ходим в набег на картофельное поле близлежащего колхоза. Ну, и ещё какая там подвернётся зелень.
Яростный стройотряд. Словно степной пожар.. .Студенты нахваливают стряпню девушек.
Вобщем, да, горячéе, чем в столовой, а в остальном такая же хавка, как хавка.
Пару раз вечером ездили на танцы в село Ивковцы на водовозке молодого водителя.
Девушки в кабине, остальные – кто как уцепится вокруг цистерны. Танцуем под хиты Лещенко:
Из полей уносится печаль, Из души уходит прочь тревога, Впереди у жизни только даль…После танцев, сквозь ночь, с ветерком на цистерне.
Один раз съездили пообедать в Ладан.
Многосмысленное имя у этого посёлка.
Но и у меня «имидж» не лыком шит – до смысла не враз докопаешься.
Патлы ниже ушей, бородёнка кучерявая, а на волосах жгутом скрученный грязный бинт, чтоб на глаза не падали.
То ли поп-расстрига, то ли мастеровой. Или Рембо с чёрно-белых фоток?
Но когда в забегаловке Рембо потребовал бутылку «биомицина», и чтоб разом вылили в пивной бокал, всё встало на свои места – алкаш с автобазы!
Возвращаемся мы из Ладана, а тут Саша Чалов, третьекурсник англофака, подъехал из Прилук, где он проживает. И не один подъехал, а с другом своим и с боекомплектом «Солнца в бокале».
А научились-таки в нашей стране делать поэтичные наклейки бормотухе!
После этого «солнца» поверх того ладанского плодово-ягодного, я чувствую – отдышаться мне надо. Хотел залечь в кустах лесополосы, но разве с такими друзьями надышишься?
Саша с напарником откантовали меня на второй этаж, на койку.
Вот это и называется «медвежья услуга» – пришлось блевать в окно, как та струя из стены кочегарки.
Они приезжали сказать, что им бас-гитарист нужен для «халтур» на свадьбах в городе Прилуки.
На выходные мы отхалтурили две свадьбы, но бесплатно – брачующиеся оказались родственниками музыкантов. Получилась работа за харчи.
Так на вторую из свадеб я трёх физматовцев с собою прихватил, типа, они звукооператоры.
«Химик» Помидор свою кликуху внешним видом заслужил – кожа лица красная, как из бани, и волосы оранжево-рыжие.
Он самый жизнерадостный «химик» на свете.
И я бы по жизни с улыбкой шагал, если б умел как он манипулировать.
Колоду потасует, карты сдаст и на руках у него восьмерная в червях. А и даже зная, что «заряжает» гад колоду, не уследишь как.
В котловане мы работали неумело, но с энтузиазмом, пока в конце месяца прораб не закрыл наряды.
По ним получалось, что заработок, после вычета аванса, равняется месячной стипендии – 45 руб.
А тут ещё гвозди кончились, и стало нечем опалубку сколачивать.
Энтузиазм иссяк, а до окончания стройотряда ещё десять дней. Без гвоздей получится простóй, в котором мы проеди́м даже то, что заработали.
Отряд выслал делегацию для переговоров с директором автобазы. Включили в неё меня, как ведущего специалиста, и одну из девушек.
Она ничего не смыслит ни в строительстве, ни в гвоздях нужного размера, но зато блондинка, что придаёт правильный импульс процессу любых переговоров.
Главный инженер сказал, что директора нет, тот вторую неделю на уборочной страде – жнёт урожай на подшефных колхозных полях, но на полевой стан скоро уйдёт машина с запчастями, может и нас отвезти.
Не будь блондинки в делегации, он вряд ли б догадался вспомнить про машину, потому что сам же её и вёл, а блондинка сидела между нами в кабине.
Меня удивило, как это среди встречных машин на шоссе он распознаёт автобазовские задолго до того, как завиднеются их номерные знаки.
Главный инженер объяснил, что своих он различает по рогам и спросил, знаю ли я Чомбе.
Конечно, я знал Чомбе, который расстрелял Патриса Лумумбу из пулемёта, когда я был ещё пионером.
Однако, я засомневался при чём тут диктатор из уж не помню какой африканской страны, потому что тогда я ещё пионером был.
Так что я сказал, что нет, не знаю.
Главный инженер пояснил, что Чомбе это директор четвёртой автобазы, к которому мы сейчас едем.
Этот местный Чомбе распорядился нарисовать на радиаторах всех машин автобазы большую римскую цифру пять белой краской.
Отметина видна издалека и смахивает на рога, по которым сразу видно своих, а шофера кроют Чомбе по матери, потому что теперь труднее делать левые ходки.
Впрочем, его и раньше звали Чомбе, ещё до этих рогов.
На полевом стане из четырёх вагончиков на автоколёсах директора не оказалось. Сказали, что он жнёт другое поле.
Главный инженер с запчастями и блондинка из нашего отряда остались у вагончиков, а я поехал к Чомбе.
Новенькую водовозку марки УАЗ вёл десятилетний мальчик, сын диктатора.
По жёлтому жаркому полю в облаке густой пыли ездил коричневый комбайн с надписью «Нива» на боку.
Я пошёл к нему навстречу, но он проехал мимо и пришлось бежать следом и вспрыгивать на короткую лесенку, что ведёт в наклонную кабину комбайна.
Комбайн стучал и грохотал и, не останавливаясь, ехал сквозь пыль.
Впервые в жизни я поднялся на борт комбайна, но всё получалось само собой – вот лесенка, а вот она дверь.
В тесной кабине сидел человек в кепке и через стекло передней стенки смотрел как его комбайн валит и втягивает густые колосья.
Я захлопнул дверцу, отсекая стук в бункере за спиной, и тоже уставился на ряды ползущих колосьев, пока докладывал поверх кепки, что отряд наш сидит без дела, гвозди кончились и ничего мы не заработаем.
Под грохот мотора колосья дёргались, падали на широкий вращающийся вал и клочьями плыли вверх по транспортёру.
Директор не оборачиваясь сказал, что посмотрит что можно сделать и пусть к нему заедет главный инженер.
Я вылез из кабинки в пыль из бункера, спустился по лесенке и спрыгнул на ходу.
Ни лица, ни цвета кожи человека в кепке я так и не увидел, но почувствовал, что некоторые диктаторы достойны уважения.
В вагончике с длинным столом под клеёнкой шёл обед и нас тоже накормили.
Такой обед не назвать хавкой, это уже харч.
Повар в несвежей, но белой куртке положил в громадную миску полчерпака сметаны и залил её черпаком красного дымящегося борща. Сверху положил кус мяса.
Съев всё это, я переполнился до краёв.
Затем повар подал золотисто обжаренные клубни молодой картошки с укропом и мясным соусом. Очень вкусно, но абсолютно некуда.
Так что второе я съел уже просто из принципа.
Для компота не оставалось места, но, постепенно, я вцедил и его.
Поблагодарив за угощение, я насилу встал, очень осторожно спустился по ступенькам приставного крыльца, расстегнул ремень и походкой циркуля двинулся в примыкающий к полю сад.
Там я аккуратно повалился на охапку сухого сена под яблоней в надежде отлежаться прежде, чем лопну.
А, таки, попустило!
К тому времени, когда в сад пришла блондинка, я чувствовал себя в норме.
Она села под ту же яблоню, опёрлась на неё спиной и пару раз мне мило улыбнулась.
Меня поразило настолько точное стечение обстоятельств – она и я в саду под яблоней, не хватает только змея.
И я с умилением начал думать про Иру и гордиться, что я так верен ей – вовсе никак не подкатываюсь к этой блондинке с физмата, несмотря на то, что созданы все условия – сено под яблоней в райском саду.
На следующее утро мы с главным инженером и длинной рулеткой размечали где проложить стены двух смотровых ям в строящихся боксах.
Чомбе придумал чем нас занять.
За пару дней до окончания стройотряда на автобазу снова приехал Саша Чалов. Просто так – распить солнце в бокале.
Слегка встряхнув свой портфель, он, как обычно, продекламировал своё любимое четверостишье:
Одна звенеть не будет, А две звенят не так, Когда такие люди В стране советской есть.Последняя строка, безусловно, обламывает всякую рифму, но, вместе с тем, нисколько не снижает оптимистичность звучания и воодушевляющий посыл.
Кочегары-«химики» помогли разобраться с содержимым портфеля, вышло по бутылке на рыло – никто не ужрался и Саша Чалов уехал.
Помидор с Юрой хотели уже уходить, но по дороге постучали в дверь комнаты девушек. Дверь оказалась запертой.
Они постучали настойчивее, а потом расшалились, вспомнили своё школьно-хулиганское отрочество и начали засовывать под дверь листки горящей бумаги.
Девушки за дверью оборонялись водой из чайника.
Валяясь на койке я занял позицию подстрекателя и орал в потолок:
– Ату их!
Во мне вдруг вспыхнула злоба на весь женский род, типа, из-за них всё так наперекося́к, и так нудно, и что сам не знаю чего мне надо. И я продолжил орать гадости.
Будь дверь открыта с самого начала, «химики» просто зашли бы потрандели и вышли, но теперь в них играл охотничий азарт.
Разумеется, пребывая под дамокловым мечом отправки обратно на зону, они не собирались усугублять ситуацию, но бедным девушкам было не до всех этих логических выкладок.
К ним в комнату ломились зэки и, что ещё страшнее, я дурнуватым голосом вопил из общей спальни:
– Суки! Волчары! Пидараски!
Наконец, один из физматовцев подошёл к моей койке и сказал, что так нельзя.
Я крикнул Помидору, что хватит уже и они с Юрой сразу умотали.
У «химиков» с логикой полный порядок.
Назавтра я постучал в дверь девушек. Она была не заперта.
Я зашёл и попросил прощения.
– Боишься вылететь из института? – спросила та, которая шатенка.
Вряд ли бы она поверила, что мне просто стыдно. И вряд ли б поняла, что я уж и сам в толк не возьму – боюсь, или хочу исключения.
( … а всё же до чего иногда хочется плюнуть самому себе в рожу.
Но из песни слова не выкинешь и вся эта мерзость это тоже – я…)
з заработанных в стройотряде грошéй я купил куклу Леночке.
Конечно, сам бы не догадался, но радиостанция «Маяк» по три раза на дню крутила самый модный тогда шлягер:
Папа подари! Папа подари! Папа подари мне куклу!..Так что по ходу дня где-нибудь да и услышишь. Или уже сама по себе начинает крутиться в мозгу, покуда – клац! – а ведь это идея!
За куклой я поехал в Универмаг, но кукол там не оказалось.
И нечего валить всё на эпоху дефицита, эпоха ни при чём, что тормознутому идеи с запозданием доходят.
Пришлось покупать собаку. Тоже самую дорогую и ростом ростом не меньше метра – в штанах и рубахе.
Такая же, практически, кукла, только голова собачья.
Леночка росла здоровым ребёнком, ходила в детский комбинат «Солнышко», недалеко, в яблоневом саду на Первомайской.
Весь сентябрь я её отводил и приходил забирать, потому что кто работал в стройотряде освобождается от шефской помощи колхозам.
Бороду я сбрил, а патлы оставил и один раз пошёл с братом на танцы.
В Лунатике на танцах вместо «Шпицов» играл уже Саша Баша.
Мой брат отслужил два года срочной службы на космодроме Байконур и с него взяли подписку, чтоб двадцать лет не покидал страну, даже на курорты социалистической Болгарии нельзя, а вдруг проболтается, что на Байконуре кроме космонавтов еженедельно запускают экспериментальные баллистические ракеты?
Когда мы с ним пошли в Лунатик на мне, помимо длинных патлов, были ещё тёмные очки в оправе «мона лиза».
Вечером тёмные очки ни к чему, но тонкая оправа «мона лиза» считалась попсóвым символом модного чувака. Так же, как и потёртые джинсы.
Их толкали по 120-150 руб., что больше среднемесячной зарплаты рабочего.
Доставку джинсов в Конотоп осуществляли смуглокожие алжирцы, обучавшиеся в инженерно-строительном техникуме.
Эти алжирцы до того наивные.
– Он говориль выйдем будем поговориль. Я выйдиль он меня ногой удариль. Зачему?
Но, при всей своей наивности, цену на джинсы они не спускали.
А моя джиннóта всего за 30 руб., какая-то невнятная бразильская хрень, и не трётся вовсе, не то что Лялькины «Levi’s».
Поэтому, хотя в тёмных очках вечером плохо видно, на танцах они себя оправдывали, прикрывая нищету в джинсах.
На площадку мы зарулили уже после перерыва, толкучка шла полным ходом.
Брат пошёл поискать свою девушку, а я тормознулся возле сцены, стою – слушаю.
Соло-гитарист у Баши неплохой, без натуги играет.
Тут какой-то хлюст из толпы нарисовался и вылупился на меня. Ну, ещё бы – такие патлы, столичный вид. Он позырил и ушёл.
Я дальше стою и минут через несколько смотрю – опять он, но уже с каким-то кентом.
Подваливают ко мне, синхронно так назад откачнулись и – летят в меня два кулака.
Я в плечо принял, но общая масса двойного удара меня смела и я, типа, улетел в другое пространство.
Без балды – другое, как будто под воду.
Звук танцев моментально отключился и я лечу, вернее, качусь по бетону площадки.
А с разных сторон несутся на меня ноги и стараются нанести удар. Причём ноги, почему-то, не цельные, а обрезки какие-то, вот от ступни и до колена.
Так и просвистывают отсюда-оттуда, только беззвучно. Но не попали.
Я вскочил и запрыгнул на скамейку под круговой оградой. Спиной к трубам.
Тут и звук вернулся.
Девушки визжат, Баша в микрофон:
– Друзья, пожалуйста, соблюдайте…
А перед скамейкой несколько хлопцев лицом ко мне и один, плотный такой, кричит:
– Ты кто? Ты кто? Очки сними!
Я «мону лизу» сдёрнул и кто-то крикнул:
– Из «Орфеев»!
Это оказались хлопцы с Посёлка, хоть я их и не знал. Они взяли меня в плотное кольцо и с площадки вывели, а сами вернулись на общую разборку.
В тот день резаки с Деповской хотели доказать, что Лунатик их территория.
На выходе из парка я сошёлся с братом. У него была бровь разбита. Пришлось идти на Вокзал и замывать кровь под краном в мужском туалете.
Труднее всего найти рукавицы, что сам же заткнул себе за пояс.
Я ходил грабить плантации конопли аж чуть ли не до Кандыбина, а тут за забором, в соседском огороде густая рощица растёт.
Ограниченный кругозор – вдаль смотрю, а под носом не вижу.
Пришлось восстанавливать историческую справедливость.
Чтоб замести следы, я перебросил срубленные у соседа кусты через дальний забор на улицу, а потом уже через свою калитку в сарай.
Проба показала, что качество на высоте. Я отнёс малость Ляльке, чтоб и ему запушистилось, не зря же он меня эти два года подогревал.
Подвалила удача – растворяй ворота.
В Нежине, в Графском парке, напротив кинотеатра стоит неприметная хатка, а рядом кусточков пять и совсем без забора. Как тут не пошефствуешь?
Но встала проблема хранения собранного без потерь.
Отнести в общагу? Под койку? Не смешно.
Я обошёл здание, выискивая подходящий закуток, но всё безрезультатно, пока не увидел стол в умывальнике на четвёртом этаже.
Не такой, как в комнатах студентов, а с ящиком под столешницей.
Не знаю как он там оказался и долго ли ещё простоит, но при таком безвыходном положении – не бросать же в парке под кустом – взял всю траву и в ящик тот засунул. Только стол развернул и к стене придвинул, чтобы в глаза не бросалось.
Потом по мере надобности заходил отщипнуть на день-два потребления.
Мои однокурсницы вернулись из колхоза в шоке.
Притихшие такие, призадумавшиеся о смысле жизни. То есть, правильно ли они в ней разобрались?
Оказывается, во время шефской помощи какому-то колхозу два тамошних хлопца подрались на ножах.
Из-за кого? Из-за Тани, что со мной в одной группе учится.
В прошлом году эти твари безжалостные – мои однокурсницы – попросили меня прикинуться, будто я влюбился в неё.
Для смеху просто, уж до того она неприметная и невзрачная.
А меня – тупого лосяру – долго подбивать не надо:
– Таня, я тебя люблю всей глубиной! А какое твоё взаимное чувство?
Два дня на переменах приставал, пока не попросила оставить её в покое. Чуть не плакала.
Я устыдился и отстал.
Ну, и теперь вот – нате вам, стервы!
Кого хлопцы избрали до беспамятства?
И теперь девушки с курса на неё уважительно косятся, а она ходит такая торжественная и задумчивая, словно что-то узнала про себя, чего и сама не ждала.
И на меня уже не так враждебно смотрит – а может я тогда всерьёз к ней приставал? Вдруг не придуривался?
Спасибо хлопцам за алиби.
Но меня долбила мысль про неправильность хранения конопли в ящике стола.
Человек при понятиях её враз в том умывальнике унюхает. Опять же у физматовцев могут ненужные вопросы зародиться – чего это я в их умывальник зачастил?
И по первому ноябрьскому снежку я понёс её к новому месту хранение, предварительно высмотрев, что на крыше Старого корпуса есть слуховое окно, а с обратной стороны здания имеется добротно сваренная лестница прямиком на крышу.
Меня сопровождали Славик, Двойка и Ира, типа государственная комиссия при запуске космонавта с площадки на Байконуре.
Пальто и шапку я отдал Ире, сунул свёрток под рубаху и – стартовал.
Первые минуты подъёма проходили в штатном режиме. Вибрация лестницы не зашкаливала, вот только железяка оказалась холодной и очень длинной – во времена Гоголя этажи строили в два-три раза выше нынешних.
При выходе на крышу возникли непредвиденные проблемы. Лестница не доставала до самой крыши, а заканчивалась под карнизом; пришлось цепляться за жесть жёлоба и переваливать через него.
Из этого момента мне запомнилась беспросветная тьма позднего вечера. Нас было только трое – жесть, темень и я.
Сама крыша оказалась довольно скользкой, хоть и не слишком крутой. Пришлось передвигаться наступая на гребешки жести.
Когда я добрался до слухового окна, оно оказалось наглухо заколоченным толстыми досками изнутри. От ворот поворот.
На подходе к месту, где нужно переваливать обратно через жёлоб, я вдруг оскользнулся, но не упал, выпрямился,стиснул зубы и, ощерившись, проговорил:
– На публику играешь, падла?
Потом я опустился на четвереньки, свесил ноги через выступ карниза и нащупал ими перекладины лестницы.
На обратном спуске я подумал, что ещё ничего, если б просто упал, а вдруг на кого-нибудь?
( … некоторые мысли лучше не начинать думать…)
И снова я высадил дверь.
Что примечательно – ту же самую. Только Илюша Липес там уже не жил, а жил Витя Кононевич, который имел неосторожность попросить у Жоры Ильченко книгу «Godfather» и англо-английский словарь Hornby из индийского привоза.
С каких незначительных, на первый взгляд, мелочей начинаются повороты в жизни. Допустим, говоришь: «Жора, дай «Godfather’a» почитать», а потом приходишь в общагу – у тебя в комнате дверь выбита.
Кстати, на этот раз никаких трясущихся пальцев не наблюдалось.
До чего всё же быстро формируются навыки.
Возможно сказалось и то, что я работал не на Вирича, а на себя.
Роман Марио Пьюзо «Крёстный отец» я украл не из праздного любопытства (затрясутся ли пальцы?), и не для повышения квалификации дверобоя, а чтобы перевести его на русский язык.
Роман, как и его автор, довольно толстый – страниц за четыреста и, с учётом образа действий, благодаря которым он попал мне в руки, работу над переводом пришлось вести исключительно в Конотопе.
Потребовалось несколько месяцев труда, чтобы превратить книгу издательства «Penguin» в кипу толстых пронумерованных тетрадей исписанных моим почерком на русском языке.
Эту кипу я передал затем Ляльке и его жене Валентине для прочтения, но последующие передвижений и дальнейшая судьба «Крёстного отца» мне не известны, как и в случае с «Челюстями».
В ходе работы, примерно на полпути до завершения, своими критическими замечаниями со мной поделился мой отец.
У Пьюзо речь шла о вечерах отдыха голливудских кинозвёзд в специально оборудованном для этого клубе.
Мне никак не удавалось передать на русском американский термин «blow job». Описательные варианты казались мне слишком длинными, а те, что покороче, чересчур нецензурными.
Одну из неудачных попыток я выдрал из тетради и сунул в плиту-печь на растопку.
Вечером мой отец открыл чугунную дверцу, чтобы положить дрова в топку, достал смятый тетрадный листок и, ознакомившись с его содержимым, спросил :
– Что это ты тут за херню понаписывал?
Я не стал оспаривать его мнение по двум причинам.
Во-первых, то, что в печатном тексте воспринимается как эротика, в переписанном от руки виде смотрится как пошлая порнуха.
Достаточно вспомнить рукописный рассказ в тонкой тетрадке, ходивший среди учеников старших классов конотопской средней школы номер тринадцать.
Там имелся такой пассаж: «…она вскинула свои ажурные ножки ему на плечи…»
Не знаю почему, но у меня эти «ажурные ножки» сразу же и неразрывно заассоциировались с Эйфелевой башней.
Спрашивается: какая может быть эротика с Эйфелевой башней на плечах?
Однако, вовсе неизвестно как на меня подействовали бы те же ножки, попадись они в ровной строке типографского набора.
По одёжке встречают…
Во-вторых, я всегда с уважением относился к тонкому литературному чутью моего отца.
В газете «Труд» он читал лишь телепрограмму на неделю, а остальному содержанию, бегло взглянув на заголовки, давал следующее определение:
– Ни в склад, ни в лад – поцелуй блоху в кирпич.
Точнее не скажешь.
Кроме того, он обладал поразительной лингвистической изобретательностью.
Возможно, тут сказались его рязанские корни.
Рязанщина всегда лежала на перепутьи языковых контактов.
Ну, например.
Напряжённо сдвинув поседелые брови над пластмассовой оправой очков, он мастерит за кухонным столом какую-то «железку». Вправляет «энту» в «энту».
Я прохожу между столом и плитой-печью от двери к окну, потом от окна к двери. Не отрывая взгляд от «железки», отец говорит:
– Чё ты тыркаешься?
Ни в одном словаре не найти этого слова.
Но до чего сочный глагол! Сколько в нём упругой пластики; как точно ухвачена суть действия и состояние того, кто производит это действие. И главное, слово родилось спонтанно, только что; покуда эта поебéнь никак не хочет влазить в ту.
– А как же мне не тыркаться? Коли сикулька запенькала?
Он роняет «железку» на стол. Долгий взгляд поверх оправы очков.
Потом произносит:
– Тьфу!
И в этом, кстати, вся суть проблемы отцов и детей – наплодят себе подобных, а потом тьфукают.
( … возвращаясь к «Крёстному отцу».
В американской литературе, увы, не осталось писателей – Селинджер, Пирсон, Карвер – и обчёлся. Остальные пишут лишь затем, чтобы их продукцию купил Голливуд для экранизации. Составители мультяшных сюжетов и мыльнооперных диалогов.
Вон у того же британца Моэма – первый абзац рассказа как аккорд, как вступление в фугу.
В первом абзаце у него, помимо поверхностных деталей, рассыпаны узелки-зёрнышки, что перерастут в дальнейшее повествование и в развязку, которая перекликается с первым абзацем.
Вот где мастерство ремесла. А у голливудистов ремесло без мастерства.
Отец мой сказал бы:
– Тьфу!
Вот и Пьюзо из той же когорты голливудописцев.
Он стал первым, кто за своё творение выручил шестизначную сумму долларов – бухгалтерный первопроходец, но его «Крёстный отец» страдает общим для боевичных бестселлеров недомоганием: покуда герои борются за своё существование в неблагоприятной среде из прочих мафиозных кланов, читать ещё можно, но при переходе к раздаче слоников, то есть к планомерному истреблению плохих парней, которые не изловчились своевременно прикончить шустряков, интерес иссякает.
Та же самая беда и с 19-й песней в «Одиссее» Гомера – герой вернулся из странствий и одного за другим мочит женихов своей жены Пенелопы со всеми подробностями – кому и как он выпускал кишки; я так и не смог дочитать эту песнь, даже в добротном переводе на украинский язык, скучно стало…)
Я заметил его на долю секунды раньше, чем он меня.
Сцепившись взглядами, мы шли на сближение по тротуару вдоль здания Профкома Отделения Дороги.
Мы знали, что в живых останется только один из нас. Или никто.
Боковым зрением я отмечал фигуры редких прохожих, они, испуганно и старательно избегали пространство на одной прямой между ним и мною.
Мы сходились в неумолимо размеренном движении. Шаг за шагом.
Дистанция сокращалась. Поединок неизбежен.
Его рука метнулась к правому бедру, но едва лишь ладонь успела коснуться рукоятки «смит-энд-вессона», как мой «кольт» разразился серией выстрелов слившихся в гремящее стакатто.
Если хочешь выжить в Конотопе, ты должен выхватывать пистолет первым.
Его руки вскинулись к изрешечённой пулями груди. Он зашатался и скрючился над шеренгой стриженных кустиков газона, чтоб в следующий миг свалиться на них.
Я сунул «кольт» обратно в кобуру, он распрямился и мы обнялись:
– Куба!
– Серый!
Прохожие обходят нас стороной. Да – это Куба.
Он лыбится золотом сменившим его зубы, утраченные в портовых драках дальних странствий, но это – Куба.
– Как ты?
Странно, что все меняются – полнеют, лысеют, стареют – кроме друзей.
Один раз встречаешься глазами и – всё; ты уже не видишь шрамов, вставных зубов и прочего. Ты видишь своего друга Кубу, с которым гонял на Кандёбу, на Сейм, ходил в Детский сектор.
Просто теперь Кубе есть что рассказать про жизнь бороздящую Мировой океан.
Мы сидим у него дома. Старики на работе, но нашлось три яйца для яишницы, а в трёхлитровой банке прозрачно-убойного самогона лимонные корки плавают чуть ниже середины.
Мы пьём, закусываем и слушаем рассказы морехода Кубы.
Как один раз он не успел из отпуска к отходу своего судна в море и его на месяц приписали к самоходной барже, пока подвернётся подходящий корабль.
Экипаж состоял из него одного, но он строго хранил морские традиции; громко кричал сам себе с мостика баржи, стоявшей у дальнего причала в устье реки:
– Отдать швартовые!
Затем перебегал с мостика на нос и отвечал на команду:
– Есть отдать швартовые!
Перепрыгивал на причал и отвязывал канат, а потом заскакивал обратно – скомандовать «малый назад!» и выполнить команду.
Молодец! Это по-нашенски! Выпьем!
А в заграничных портах есть специальные дома отдыха моряков. Оборудованы как люкс-отель.
Ресторан, номера, бассейн.
Наши как нырнут в бассейн сразу вокруг каждого малиновое пятно. Там заграницей что-то в воду добавляют и от мочи та враз малиновой стаёт. Ну, а у наших же привычка…
Вобщем, они там спускают всю воду из бассейна и наполняют заново, и немцы часа полтора сидят за столиками над своим пивом и ждут.
– Русише швайнен!
Сами они свиньи. Фашистюги недорезанные! Выпьем!
В Гонконге, не то Таиланде, наши пришвартовались, сходили в город, идут обратно по пирсу.
А там бригада ихних грузчиков – щуплые все такие, живут же на одном рисе и морепродуктах.
Наш боцман – богатырь, два метра ростом – одного взял за шкирки, от земли поднял.
– Эх, браток! Так вот всю жизнь и маешься, да? Тоска!
Поставил обратно и дальше пошёл.
Так этот жёлтый не понял братской солидарности и не оценил славянскую широту души. Наперёд забежал, подпрыгнул – «йа!» – и боцмана, в натуре, пяткой в нос.
Потом того целый час на пирсе водой обливали, чтоб вернуть к жизни.
Пральна! За Брюса Ли! Выпем!
Не, Куба жениться и не думает. Они же все бляди.
Корабль на рейде перед отплытием. Жена капитана на буксирном катере подошла. Счастливого плавания, милый!
На обратном пути в рубке двум мотористам и рулевому по очереди дала.
За свободу! За блядей! Выппэм!
А товар из загрáнки трудно провозить. У замполита корабля в команде не меньше двух сексотов. Ящик вискаря везёшь, и то – всýчат.
– Так я не поял. На корабле там замполит есть?
– Обзательно.
– Так лучче я и дальше буду сухопутной крысой!
Пральна! За крыс! Выпмм!
Но я чётко помнил, что шёл в аптеку; мать попросила до отъезда в Нежин съездить за лекарством.
Поэтому я тепло попрощался с водоплавающим Кубой, хотя лимонные корки ещё не скребли по дну трёхлитровой банки, а в сковородке от яишницы кое-где поблёскивали не до конца вытертые хлебом капли подсолнечного масла.
– Не! Не! Я сё зна, сё бу ништяк!
На Переезде я пересел в трамвай до Универмага, за которым была та самая аптека.
Я чётко сошёл с трамвая, обогнул Универмаг, зашёл в стеклянную дверь, подошёл к стеклу перегородки и, на вопрос женщины в белом, вдохнул воздух, но вдруг понял, что даже если бы я и вспомнил название лекарства, то всё равно бы выговорить не смог.
С горьким сожалением, я сделал выдох, молча развернулся и сокрушённо вышел.
Площадь я всё же как-то пересёк, но понял, что дальше – кирдык, и переключился в режим подчинения ангелу-хранителю.
Он завернул меня в дворы пятиэтажек, выбрал правильный подъезд и проследил, чтоб я не сверзился на тёмной лестнице незнакомого подвала.
Затем он повёл меня по длинному коридору до того места, где рассеянный свет из проёма приямка обнаруживал опёртую о стену кроватную сетку. Оставалось лишь опустить её на пол и самому опуститься на неё. Кожух и шапка послужили спальным мешком.
Проснулся я в негнущемся состоянии, но всё же успел на последнюю электричку до Нежина.
На следующий выходной я снова вызвался сходить в аптеку за лекарством, если мать напомнит название, но она сказала нет, уже не надо.
В фойе Нового корпуса проводился предновогодний вечер танцев для студентов.
Мы с Ирой танцевали там и какая-то преподавательница с биофака пришла в восторг и объявила нам, что мы созданы друг для друга.
Приятно такое слышать, тем более от разбирающегося в особях специалиста.
Но потом у меня разошёлся зиппер на джинсах. Длины свитера не хватало прикрыть эту прореху.
Тогда я, в пустой аудитории, попытался пристегнуть свитер к низу ширинки неизвестно откуда взявшейся у Славика булавкой.
Это не помогло, потому что стреловидно оттянутый свитер начал напоминать девочкóвый купальник-трико, а меня мучило постоянное опасение, что булавка расстегнётся и уколет если не в одно, так в другое точно что-нибудь.
Пришлось пойти в общагу и переодеть джинсы.
Обычно запасной одежды я в комнате не держал – в чём приехал из Конотопа, в том и уехал. Однако, в тот раз как-то так сложилось – я привёз нарядные джинсы для танцев.
По возвращении в фойе, я застал Иру в увлечённой беседе с каким-то молодым человеком. Он мне сразу не понравился, несмотря на то, что оказался кем-то из её давних знакомых.
Вероятно, я не смог скрыть своей к нему неприязни, и та стала взаимной.
До рукоприкладства дело не дошло, но мы с ним перешли на угрожающие тембры голоса.
В какой-то момент я отвлёкся от этого противостояния, взглянул на Иру и – поразился.
Она цвела счастьем.
Никогда прежде я не видел столько радости в её глазах.
По пути домой она доказывала мне неправильность моей реакции на нормальную ситуацию, а я в пол-уха оборонялся и укладывал в голове новое открытие.
( … женщина – это самка, для которой миг наивысшего блаженства тот, когда два самца готовы сшибиться ради неё рогами. За неё, за призовую самку.
Вот так-то вот.
Пигмалионишь, превращая статую в живую плоть; пашешь как папа Карло, а потом кто-то явится на готовенькое.
Неадекватно получается…)
Новый год Ира встречала в общаге.
До её прихода я сервировал стол на двоих, а потом вдруг решил сделать ей сюрприз, точнее – новогодний подарок.
Меня как-то приучили думать, что чем дольше, тем лучше.
В смысле бóльшая продолжительность акта является показателем его качественности.
Человечество нашло немало путей к повышению качества.
Простейший – хряпнуть стакан-другой, но на этом пути нужна правильная закусь. Проспер Меримé, например, рекомендует блюда из петушиных гребней.
У меня не было даже сала.
Пришлось идти другим путём и, опираясь на жизненный опыт, изыскивать иные средства.
Опыт подсказывал, что из двух актов второй всегда длиннее.
Так что я решил предварить акт актом.
По коридору как раз бегала Пляма.
Я не стал излагать ей всю подоплёку моего неожиданно возникшего к ней интереса и объяснять, что собираюсь использовать её исключительно в целях технического содействия.
Хотя такая откровенность её бы не задела.
Она и не такое видела в киевском университете, откуда перевелась на наш англофак во избежание отчисления за блядство.
Возможно, имелись и какие-то другие причины – она упоминала вскользь, что её муж вообще ничего не носит под джинсами.
Ну, не знаю; для меня всё это слишком сложно.
Техническая помощь проводилась в нейтральной, разумеется, комнате и орогенитальным способом, но, увы, безрезультатно.
Возможно из-за её предупреждения не мять ей груди – у неё там нет эрогенных зон. Не помогли даже кудряшки цвета воронова крыла и очки, которые она так и не снимала.
А ведь какой был стройный план!
И какая готовность к беззаветному самопожертвованию!
Что может явиться более ярким свидетельством любви и заботы по отношению к девушке, чем минет Пляме, которая понятия не имеет где у неё вообще эти эрогенные зоны!
Но я не сказал Ире, на что пришлось пойти ради того, чтобы ей было хорошо.
У меня нет привычки подчёркивать свои положительные стороны и афишировать благородные поступки.
Позднее в ту новогоднюю ночь, когда мы с Ирой снова сели за стол, завернувшись в простыни как в тоги, Пляма прошла мимо двери распахнутой в коридор.
Там шумно и радостно поздравляли друг друга те, кто встречал Новый год в общаге.
Она вежливо постучала в дверной косяк, была приглашена за стол, угощена вином и стала расспрашивать Иру о её житье-бытье.
Ира прогнала ей дуру, будто она замужем, но её муж-геолог редко бывает дома.
Пляма, которая совсем недавно перевелась из Киева в Нежин, верила всему, а мы с Ирой ухохатывались.
Заносчивые, наивные римляне в простынных тогах, мы потешались над легковерной Плямой, не зная, что любая шутка – это правда, которой просто не пришло ещё время исполниться.
Закончилась зимняя сессия и мы с Ирой поехали в Борзну – её подруга Вера выходила замуж за жениха в солидном звании майора.
В отличие от моей первой борзнянской свадьбы, эту гуляли не на дому, а в большой кафе-столовой на главной площади райцентра и продолжалась она два дня.
После первого дня мы с Ирой провели ночь в небольшой хате среди заснеженных огородов окраины.
Хозяйке, дальней родственнице Веры, нас представили как мужа и жену и та, посидев на свадебном пиру, ушла ночевать к ещё какой-то своей родственнице, потому что хата её состояла из одной всего комнаты с побелённой печью и кровать там тоже была только одна.
Кровать стояла у окна с широким подоконником, где в ярком свете полной луны контрастно прочертилась тень оконного переплёта и поблёскивало стекло порожней трёхлитровой банки.
Мне нравилось тут всё – и земляной пол из крепкой прометённой глины, и кровать с досками вместо сетки, и матрас неравномерно набитым сеном.
Вряд ли хозяйка поверила, что мы муж с женой; во время застолья я пару раз улавливал её усмешливо подшпоривающий взгляд из-за стола, где та сидела среди прочих пожилых баб в парадных чёрных телогрейках-«плюшках», раскинув по плечам толстые клетчатые платки.
Свою одежду мы сбросили на стул и табурет и взошли на супружеское ложе каким оно было и сто и двести лет назад в таких же вот, затерянных среди сугробов, хатах.
Луна неохотно всплыла из окошка в тёмное небо и уже не могла засматриваться на игрища пары молодожёнов, прессующих сено в разных концах кровати, вросшей в земляной пол древней хаты.
На второй день пиршества Ира приревновала меня к местной красотке, которая вызвала меня из зала через брата Веры по кличке Моцарт.
Не слишком врубаясь что-почём, я вышел из кафе-столовой в задний двор, где, вобщем-то, красивая красотка закатывала театральную истерику в руках двух подружек, тоже в лёгких платьях, на утоптанном снегу.
Вокруг гомонила группа зрителей из вышедшей на воздух молодёжи.
Не принимая участия в инсценировке, я развернулся уходить и упёрся в непрощающий взгляд Иры.
За столом мне долго пришлось её убеждать, что я не имею отношения к выбрыкам перебравшей красотyли.
Меня поддержала сидевшая по ту сторону Иры крупная молодая женщина замечательного телосложения – что называется «баба в теле».
Рядом с ней сидел не очень крупный армянин.
Его армянская принадлежность выяснилась, когда он в сумерках повёз нас прокатиться.
На улице ведущей к московской трассе крупнотелая Валя сказала ему притормозить и вышла из «жигулей» прикрикнуть на Толика, своего сына-пятикласника.
Мальчик разговаривал с мамой на чистом украинском языке и меня это как-то выбивало из колеи из-за резкого контраста снега окружающей зимы с его негритянским лицом.
Позднее Ира мне говорила, что Валя родила Толика после работы официанткой в Киеве, или пошла в официантки после родов – тут я не очень уверен.
Армянин – текущий спутник жизни Вали – не вмешивался в воспитательный процесс.
Мы выехали на трассу и через пару километров остановились на снегу обочины.
Водитель включил магнитофон и достал бутылку шампанского с завёрнутым в фольгу горлышком.
( … красота армянской музыки открывается не сразу, к ней нужно обвыкнуться; в тот раз она для меня оставалась ещё непостижимой, но я терпел: кто катает – того и музыка…)
На дороге остановилась патрульная машина и два милиционера в шинелях и, несмотря на зиму, фуражках, подошли к «жигулям».
Армянин вышел провести переговоры, что тут всё путём.
Тем временем Валя начала возмущаться, что нас с Ирой определили на постой в такую древнюю хату и взяла на себя обязательство донести это возмущение до родителей невесты, которые ей тоже родственники.
Поэтому вторую ночь мы провели в большой обустроенной хате в зажиточной части Борзны.
Луна на новом месте не подглядывала, лишь неяркий отсвет её пробивался к нам через стеклянную дверь смежной веранды. Сетка кровати чересчур проваливалась и тарахтела; пришлось сбросить матрас на крашенные доски пола.
Вобщем, тоже ничего, хотя не то, что в хате.
В Нежин нас отвёз армянин. По пути я почему-то думал про негритёнка Толика, вслед которому тюкают и крестятся борзнянские старухи.
Каково это – видеть, что ты не такой как все?
( … дед Пушкина тоже был чистопородный эфиоп, но тот хоть в детстве успел пообщаться с нормальными людьми…)
Когда мы вышли из «жигулей» возле общаги, армянин отозвал меня спросить адрес красотки с театральными замашками. Она тут учится в каком-то техникуме.
Я не знал и знать не хотел.
Мы с Ирой поднялись в комнату и после получасовой качки на более упругой сетке, она сказала, что ощутила нечто такое, чего с ней раньше не случалось.
Ну, спасибочки!
Выходит я не зря пыхтел эти полтора года.
Или ей просто стало жалко меня?
Как уже говорилось, в феврале я на полторы недели попал в больницу из-за своей принципиальности.
После недели лечения меня нашла там моя сестра Наташа.
В Конотопе на улице Декабристов телефон имелся у соседей за четыре хаты от родительской, но я не знал его номера, а если бы и знал, то вряд ли б догадался позвонить.
Полторы недели – не два года.
Я вышел из палаты к Наташе и в конце коридора мы спустились на один марш по лестнице ведущей в подвал. Она достала свои сигареты с фильтром, а я забил в папиросу косяк и мы смешали дымы.
– Ну, а ещё ты как вообще?– спросила сестра, когда я рассказал про оборзевшую Пилюлю.
– А ещё у меня есть Ира,– сказал я и принялся доказывать сестре, что Ира совсем не такая как все.
– Ну-ну,– неопределённо ответила Наташа.
При выписке я вдруг почувствовал, что отдал слишком много сил борьбе за правое дело.
По пути в общагу пришлось даже распустить уши моей кроличьей шапки-ушанки.
Так я не делал даже в жуткий мороз, когда только лишь потирал свои уши о поднятый воротник кожуха и требовал от продавщицы привокзального киоска продать мне бутылку отмороженного пива и, несмотря на её увещевания, пил его мелкими глотками, а на горлышке намерзало колечко льда.
А теперь?
Ничто не губит нам здоровье хуже больницы.
Пришла весна и ко мне подошёл Витёк с музпеда, с древне-римскими завитками коротких светлых волос на голове.
Тот самый, кому на первом курсе я давал гитару, а он ответно дал мне ключ от комнаты на пятом этаже.
Теперь он подошёл с просьбой за своего приятеля Володю.
Но почему тот сам не поговорит? Ведь мы с ним участвовали в КВН за сборную музпеда с англофаком и заняли почётное третье место из трёх.
Ну, он, типа, стесняется. Вобщем, у него жена забеременела и для аборта он должен сдать кровь, а у него ещё курс лечения не закончился. Три пера, понимаешь?
А чё тут непонятного? Конечно, схожу сдам за него.
Они ж ведь ключ мне дали для нашей с Надькой любви.
Подумаешь – стакан крови. Весной мне такого добра не жалко.
Надька и не такого стóила.
Мужской туалет на третьем этаже общаги, помимо прямого своего назначения, заставлял студенческую массу очнуться от аморфной спячки.
Масса расклеивающая листовки, не такая уж и аморфная масса.
Не думаю, что это делал кто-то один, просто это вошло в моду.
Однако, органам, при всех их сексотах, тут поживиться было нечем – в сортире клеили заголовки статей, вырезанные из центральной прессы.
Вместе с тем, оказавшись на внутренней стороне двери в кабинку с унитазом, эти заголовки приобретали вдруг некий подспудный смысл и заставляли взглянуть на них под иным углом, не предусмотренным редакцией печатного органа.
Сидя на корточках на краю унитаза, по другому воспринимаешь вполне обыденные:
На заботу партии ответим делом Каждым звеном цепь крепка Все те же 45 минут Качество – прежде всего По ускоренному графику Никакой амнистии бракоделам! Во имя мира и процветанияТуалетный юмор выплёскивался даже и на кафель стенки над писсуарами.
Я, как обычно, проскочил мимо первого с заголовком:
Воды севера потекут на юги тормознулся у второго с двумя заголовками:
Биатлон – спорт мужественных Наша цель – коммунизмЗаканчивая мочеиспускание, я ощутил вдруг странное жжение, опустил взгляд и проследил как из прорези мочеточного канала лениво выползла непонятная мутная капля.
Я похолодел.
Неужто?.. Да, нет, не может быть!..
Но факт остаётся фактом, что за три дня до этого, по дурацкому стечению обстоятельств, свет в комнатах вырубили в тот момент, когда в нашей не было никого кроме одной четверокурсницы, которую я и уложил на ближайшую койку.
Чисто машинально.
Рефлекс сработал.
Она во мне никогда ничего не вызывала. Говорю же – стечение обстоятельств.
И с ней я почувствовал не больше, чем партнёры Люси Манчини из «Крёстного отца» до того, как её поправили хирургическим вмешательством.
Типа, как в колокол.
Зуд и жжение не унимались. Всю полигамию пришлось отменить на неопределённый срок.
Двойка посоветовал проконсультироваться у доктора Гриши.
Тот понимающе покивал и сообщил, что в общаге уже отмечены несколько случаев заражения гонореей.
В смысле триппер?
Да. Симптомы очень похожи, но чтобы знать наверняка необходим лабораторный анализ семени.
Ни хрена себе! Но я же не умею, в жизни не дрочил.
Гриша вызвался помочь.
Мы заперлись в одной из комнат – он, я и Света, ну, на всякий, типа, на подхвате.
Гриша достал из большого мягкого портфеля стеклянную пробирку с пробкой и дал её мне – для сбора материала.
Я спустил до колен джинсы с трусами и сел на стул.
Гриша опустился на койку напротив, Света рядом с ним.
Он принялся гонять мою крайнюю плоть вверх-вниз.
Мы все трое с напряжённым вниманием уставились на торчащий член, по которому металась кисть Гриши.
Через пару минут Гриша начал взволнованно глотать слюну и объявил, что член слишком сух – нужно смочить.
Меня порадовало присутствие Светы – хоть какой-то сдерживающий фактор, и я сказал, что ладно, ничего, я сам как-нибудь, только пробирку заберу.
Я застегнул джинсы и Гриша дал мне из портфеля хорошее средство – «рефадин» в капсулах.
Памятуя посулы Марии вылечить меня в случае венерического заболевания, я позвонил ей и она мне назначила придти в тот же вечер.
Когда я объяснил, что у меня гонорея и нужно добыть семя для анализа, она раскрыла постель и начала раздеваться.
Я снова объяснил ей, что у меня гонорея, но она сказала, что это ничего.
Тогда я тоже начал раздеваться, но предупредил, что соберу семя в пробирку. Она согласилась.
Возможно, та её пружина предохраняет не только от беременности, но и от триппера тоже.
Я просто положил пробирку на тумбочку рядом с приёмником и мы приступили.
Таис Афинская дала Александру Македонскому какое-то снадобье, чтоб они смогли заниматься этим всю ночь.
Не могу сказать, что всю нашу ночь с Марией у меня была непрестанная эрекция.
После её очередных «Ещё! Ещё!» мы отдыхали, а потом приступали вновь, потому что я не мог кончить до самого наступления рассвета.
Может меня сдерживало соседство откупоренной ампулы?
Не знаю, я не специалист.
Уже при свете льющегося от балконной двери утра я сопроводил её «Ещё! Ещё!» своими стонами и выдернулся.
– Нет! Нет!– крикнула она вслед.– В меня!
Но было поздно.
С чувством исполнения долга, я излился в лабораторную пробирку и накрепко захлопнул её крышечкой.
Марии явно это не понравилось, но таков был уговор.
Наивно радуясь, что дело сделано, я поспешил с пробиркой к Грише и горделиво показал, с таким трудом добытую, влагу за стеклом.
Он снял свой белый докторский халат, взял большой мягкий портфель и мы покинули его рабочий кабинет.
В тот день во многих местах Нежина можно было наблюдать этот портфель, сопровождаемый животрепещущими движеньями ягодиц Гриши с одной стороны и моей удручённо-встревоженной походкой с другой.
Не отставала и пробирка, затаившись в заднем кармане моих джинсов с непроанализированным семенем.
Мне кажется, Гриша искренне хотел помочь.
Просто день оказался таким, что кож-вен не работал, в какой-то лаборатории кто-то уехал, в другой что-то кончилось и так далее.
Часам к двум мы вчетвером – он, портфель, я и пробирка – оказались даже зачем-то на вокзале и решили, что хватит; симптомы и без анализа сходятся.
Пробирку я выбросил в трубообразную серую урну рядом с большим белым бюстом Ленина на полпути между вокзалом и высокой платформой. Там, где ещё, у стены багажного отделения, стояла телефонная будка в жёлто-красной масляной краске.
Выбрасывать было жалко – как-то, типа, сроднились, да и досталась она такой дорогой ценой, но и таскать её дальше с собой не находилось причин.
Я поехал в общагу, а потом снова вернулся на вокзал. Неделя заканчивалась и мне нужно было показаться в Конотопе, чтобы родители не переживали.
До электрички оставалось ещё минут десять и меня вдруг что-то так и потянуло к бюсту Ленина.
То, что я там увидел, меня буквально ошарашило.
Из жерла серой урны упруго и неудержимо выпирала густая зелёная поросль.
Не сразу получилось догадаться, что это должно быть туда всунули ветки обстриженные с кустов вокруг постамента с бюстом Ленина.
Подошла электричка и, шагая по платформе к вагону, я напоследок гордо оглянулся – кусты кустами, но до чего в этом семени ядрёная сила!
Если, конечно, абстрагироваться от излишних подробностей.
«Рефадин» от Гриши придал моей моче ярко бардовую окраску и больше ничего.
Благодаря капсулам я ссал жизнерадостно-бардовым и, превозмогая зуд и жжение, проклинал свою несдержанность с Люси Манчини.
Мария тоже умыла руки, вероломно обидевшись, что я предпочёл какую-то стекляшку её природной вазе.
Меня исцелила Ира.
Просто отвела к своей знакомой пожилой женщине в какую-то детскую больницу барачного типа.
Женщина в белом завела меня за ширму в коридоре, чтоб скрыть от взоров очереди.
Я расстегнулся, чуть прогнулся и получил укол в ягодицу. И всё. Больше ничего не потребовалось.
И наступило лето.
Как я провёл лето.
Как и любое ничем не примечательное лето – пристойно, прилежно, трудолюбиво.
Прежде всего я стал селекционером – так за бугром называют мичуринцев.
Среди грядок вскопанных в конце огорода на Декабристов 13 стали расти и крепнуть дружные всходы конопли.
Посевным материалом послужили семена из награбленных у соседа кустов. Хотя называть их «кустами» язык не поворачивается. Они больше смахивают на раскидистые саженцы молодых деревьев.
Деревца дружно разрастались и буйно устремлялись вверх, превращаясь в плотную стену, которую, разумеется, необходимо прореживать в ходе селекционной выбраковки.
С улицы эту стену не видно, но от соседей ничего не утаишь.
Соседка справа спросила мою мать о назначении выращиваемой культуры.
Мать ответила, что конопля обильно производит семечки – такие маленькие, круглые – и на Базаре их просто с руками рвут любители канареек, на корм своим пернатым певуньям.
Ах, до чего изобретательна материнская любовь!
Я б в жизнь не догадался прогнать такую дуру; наплёл бы что-нибудь о компрессах и ножных ваннах от варикоза с отложением солей.
А это было бы ошибкой, потому что на Посёлке канареек никто не держит, а ветеранов труда с подорванным здоровьем сколько угодно.
Излишняя реклама может нанести урон деловой деятельности.
Кстати, вопрос задавала жена ограбленного соседа, который помимо пенсии пристроился ещё и сторожем в ПМС.
( … и в этом нет моей вины, что сокращённое название Путевой Машинной Станции совпадает с аббревиатурой предменструального синдрома…)
Особых угрызений совести я не испытывал – на его грядке после грабительского налёта осталось вполне достаточно, чтоб он дотянул до следующего сезона.
( … это лишь теперь, ретроспективно, возникает мысль о возможности наличия у него своих клиентов с канарейками…)
К тому времени минуло уже несколько лет, как мать моя перетрудоустроилась из КЭМЗа в Рембазу, где занималась комплектацией не знаю чего для вертолётов.
Физически работа её не изнуряла и, вернувшись домой после рабочего дня, она частенько делилась новостями об отношениях в коллективе комплектовки, где трудились одни только женщины за исключением начальника и мастера.
На работе она исполняла роль конфликтотушителя и забавлялась игрой в комплименты. То есть, сказав кому-либо очередную приятность, она её засчитывала себе как очко.
( … нужна хорошая школа, чтобы одаривая комплиментами не скатиться в повторение уже сказанного…)
Иногда начальник комплектовки крутил головой, приговаривая:
– Вот ведь жидовка! И тут умудрилась.
А мать моя радостно смеялась ему в ответ, смеялась и дома, пересказывая свой новый зачётный комплимент.
Мой брат Саша работал в ПМС – ездил с бригадой менять шпалы и трамбовать под ними гальку вибратором типа «штопка» на перегонах железнодорожных магистралей.
Только он один из всех рабочих бригады имел среднетехническое образование с железнодорожным уклоном.
Наша сестра Наташа, пока нет работы, водила мою дочь Леночку в детский сад-комбинат и обратно.
Меня же, по ходатайству отца в отделе кадров Рембазы, до конца лета временно приняли туда в строительный цех.
В Рембазе я ломал и строил какие-то стены вместе с тремя постоянными рабочими.
Самым трудным было дождаться пока подвезут цементный раствор.
Заработок составлял фиг да ни фига, но и работа – где сядешь, там и встанешь.
От нечего делать я снова оброс бородой и рабочие Рембазы окрестили меня Фиделем Кастро. Отцу моему это нравилось, скорее всего оттого, что Фидель был его одногодком.
Когда кончалось курево я ходил стрелять у отца.
Он работал слесарем в цеху с культурным режимом, где курить можно лишь в отведённых для этого местах, типа открытой беседки во дворе.
Отец пользовался в цеху уважением за свои золотые руки и за готовность показать как что делается.
Когда видишь, что человек и сам мается и работу мучает, можно втихаря посмеяться, да и пойти дальше. Мой отец не таков, он не терпит безграмотности.
Постоит в сторонке, болезненно дёргая щекой, подойдёт, возьмёт инструмент – покажет.
– Ну, что ж тут такого заумного?
Поэтому его и уважали и не обижались, что он бурчит:
– Всё-то у вас си́кось-нáкось! Чему вас только учат?
Многие рабочие Рембазы пришли туда из близлежащего села Поповки и в «бурсах» не обучались.
Поповка настолько интегрировалась с Рембазой, что в селе попадались изгороди с применением вертолётных лопастей. Списанных, конечно.
Но одно дело, если лопасть примотана проволокой и совсем другой коленкор, когда она аккуратно приболтована на креплении подсказанном дядей Колей.
В необлицованной половине хаты на Декабристов 13 проживала пенсионерка тётя Зина.
Она заплетала полуседые волосы в крепкие девичьи косы и подвязывала их крендельками. На крыльце её, у двери, большую часть года висела жёлто-высохшая круговая коса с вплетёнными в неё луковицами.
В жизнь двора хаты тётя Зина не вмешивалась и всем улыбалась.
Весной, по указке отца, мы с братом вскапывали её часть огорода.
Когда-то она очень дружила с Ольгой и затаила на меня обиду из-за развода, но всё равно улыбалась.
Жилплощади в нашей, облицованной, половине хаты хватало всем – три комнаты, кухня, веранда плюс летняя комната во дворе, под одной крышей с сараем.
Среди обитателей этой площади одна только пятилетняя Леночка была некурящей.
Все, за исключение Наташи с её «Столичными» по 40 коп., смолили «Беломор-канал» за 22 коп.
Сестра однажды подсчитала, что в семье на курево за месяц уходит 25-30 руб.
Лето кончилось и перед моим первым отъездом на четвёртый курс англофака, мать моя спросила, может я всё же привезу и познакомлю с ней нежинскую Иру?
Об Ире она знала от Наташи и из последующих расспросов у меня. Она её даже и видела – на общей фотографии с борзнянской свадьбы.
Снимок был сделан в фотоателье райцентра, где гости и родственники молодых стояли в три ряда на скамейках нисходящей высоты, позади жениха и невесты на стульях.
Мать попросила показать которая там Ира, а я ответил:
– Сама найди.
На снимке рядом со мной стоят три девушки, а Ира в диагонально противоположном углу. Палец матери тронул её лицо.
– Она?
Я чувствовал, что ей почему-то ужасно не хочется, чтобы это оказалась она, но я не мог соврать матери:
– Как ты угадала?
– Не знаю.
( … первым произведением в прозе на украинском языке явилась повесть «Конотопская ведьма» Григория Квитки-Основьяненко, написанная в 1833 году.
Спроси «почему?» и тебе любой ответит «не знаю»…)
Поэтому в сентябре, вслед за безмятежным летом 1977-го, последовало знакомство твоей матери и бабки.
Конечно, Иру я и до этого привозил в Конотоп, знакомил с местным высшим светом.
Мы побывали в Лунатике, где в честь её приезда прошли показательные гладиаторские бои на паркете, мне даже пришлось, на всякий, загородить её собою возле сцены.
Потом Лялька повёл нас на хату своего кента, у которого в шкатулке сделанной из человеческого черепа он хранил травку «инвалидка», по имени поставщика.
Кент проживал на четвёртом этаже со своей кошкой и швырял её обо что попадя.
Не все дрессируют животных лаской.
Зато ночью он иногда просыпался от нежного прикосновения её клыков к своему кадыку.
Она не прокусывала кожу, а просто давала понять кто правит балом по ночам.
Когда мы собирались уходить, Ира обнаружила пропажу своих перчаток. Кент клялся что не видел, я от стыда стал строить предположения, что перчатки забыты в Лунатике, но Лялька настоял на продолжении поисков и те всё-таки нашлись позади зеркала в прихожей.
Эти кошки порой хуже сорок-воровок.
Света в подъезде, конечно, не было и я шёл первым, нащупывая ступеньки ногами и даже не держался за перила, как бравый оловянный солдатик; или одноглазый поводырь шараги слепцов из фильма «Уленшпигель», потому что в кромешной тьме у меня на плече лежала рука Иры, а Лялькина у неё.
Так мы и спускались.
В тот раз мы ночевали у Чепы, который уже стал примаком, жил в добротной хате, где в гараже стояли два мотоцикла «ява» – один его, второй для подрастающего брата жены.
Нам предоставили целую спальню и, выходя, Чепа с женой многозначительно повесили на спинку кровати махровое полотенце.
Когда мы легли и из «спидолы» раздались звуки вступления к моему любимому «Since I’m loving you» от «Led Zeppelin», я понял, что ничего лучшего не смог бы предоставить даже и Лас-Вегас.
В другой раз мы даже побывали на Декабристов 13 – в дневное, конечно, время, когда там никого – и после шампанского и косяка настолько расшалились, что всполошившаяся тётя Зина начала тарабанить во входную дверь, ей за стеной показалось, что здесь вообще полный hardcore.
С моими сестрой и братом Ира познакомилась в Лунатике, а Леночку знала по фотографиям из фотосессии вокруг голубятни Раба, которые я потом наклеил на обои над своей койкой в общаге.
Кроме Иры, приехавшей в целях знакомства с моими родителями, в Конотоп я привёз ещё Славика.
Моя сестра и он насторожённо обмеряли друг друга внимательными взглядами, но обнюхиваться не стали.
И это правильно, потому что Славика я привёз с другой целью – постоять на стрёме.
( … «нет более страшной силы, чем сила привычки…» – сказал в одном из 58-ми томов своих произведений В. И. Ленин; а цитируя беляка-полковника из кинофильма «Чапаев»:
– И в этом большевистский вождь прав…)
Вот у меня, например, солидная плантация конопли, которой хватит до следующего сезона и даже ещё останется, несмотря на хвостопадов Славика и Двойку.
И у меня же привычка грабить чужие плантации.
Кто победит – расчёт или привычка?
Делайте ставки, господа!
( … с Лениным иногда не поспоришь…)
Но что ещё, кроме привычки, ломает все расчёты?
Что нас вдаль ведёт? Что толкает к новому, неизведанному?
Надежда – «а вдруг повезёт?»
Вера – «ведь есть же, где-то же есть!..»
Любовь к познанию и переменам…
Проезжая трамваем «тройка» вдоль улицы Первомайской, я всё лето отслеживал рост конопли во дворе Батюка и верил, надеялся, мечтал – а вдруг окажется такой же сорт, как тогда у Рабентуса?
Батюк когда-то был легендой и образцом для юношества не только Посёлка, но и города.
Все знали Батюка, которому плевать на всех гаишников с милицией впридачу. Им его не догнать и не оштрафовать за езду на мотоцикле без шлема, в одних трепещущих под ветром патлах.
Кто сказал, что пьяный? А ты догони, проверь!
Облаву на него устроили на Зеленчаке, так он скакнул на своей «яве» меж тополей и укатил по одной трамвайной рельсе.
Слово «байкер» притащилось в Конотоп намного позже – у нас был Батюк.
И вдруг весть, сотрясшая хлопцев как Вавилонскую башню – Батюк погиб!
– Да, не – живой! В хирургическом.
А скорость была всего 60, правда, автобус навстречу тоже ехал, когда Батюк втаранился бесшлемной головой ему в радиатор.
– Ото ж, хлопцы! Шлём нужная вещь – потом мозги соскребать не надо; всё в шлёме аккуратно остаётся.
Батюк выжил, вот только сшитое из лоскутков лицо стало клетчатым.
Мотоцикл у него отобрали и права тоже. С тех пор так и не выдают.
В знак протеста он облысел.
Устроился куда-то грузчиком. Вобщем, Батюк уже не легенда.
Правда, мопед купил. Обделал его по самое «не балýйся» – ветровое стекло, зеркала заднего вида, висюльки там всякие; все дела. Седло под длинным белым мехом.
И, что примечательно, на мопед без шлёма не садится.
Мотоциклетный шлём, и тоже белый.
Теперь спрашивается – вот пойду я бомбанýть его коноплю, а он вдруг выскочит – откуда мне знать что у него под тем белым шлёмом осталось?
Так что, Славика я тоже привёз, раз уж мéста на всех хватает.
Когда уже хорошо стемнело, мы с ним вышли.
Раз пошли на дело – я и Рабинович…Ира очень нервничала и попросила запереть её в летней комнате.
– В чём проблема? Изнутри запрись.
– Нет – ты.
Ну, запер снаружи и ключ ей обратно через форточку отдал – неизвестно ж когда вернёмся…
( … всё-таки, много чего я никогда, наверно, так и не смогу понять…)
Когда мы вернулись с добычей, Ира её продегустировала.
Нет, она даже сигарет не курила, но по запаху травки определяла – «даст», или нет.
С точностью до 80%.
Вобщем «батюковка» оказалась из оставшихся 20%; я у себя на плантации такую б не сажал.
А в Нежине, рядом с мостом через Остёр, что у базарной площади, Славик тоже выявил плантацию.
Позвал меня, показал – пышные такие красотули, как в убранстве из страусиных перьев.
Но весь участок высоким забором обнесен, не то, что в Графском парке.
Ну, пошли мы; а куда денешься – привычка…
Значит, через забор я перелез и, призрачной походкой краснокожего, приблизился к однолетним деревцам.
Хата в стороне стоит, не мешает; свет лишь в одном окошке.
Ну, пусть человек свою телепрограмму смотрит, я не против.
Но как только я шелестнýл пышными красотками, смотрю – а по земле от хаты такие пульсирующие толчки докатываются «ты-дын! ты-дын!»; и свет окна закрылся силуэтом этой галопирующей собаки Баскервилей.
Всё решилось в доли мгновенья, причём без меня – инстинктом, заложенным в наш спинной мозг бесчисленными поколениями загрызенных насмерть предков.
Мне оставалось только наблюдать, как забор скакнул мне навстречу и моя правая толчковая лягнула его верхнюю рейку.
Где-то невообразимо далеко внизу, возле мерцающей в ночной тьме узкой прожилки Остра, толчком волкодава сотрясся неразличимый уже забор.
Я покинул верхние слои стратосферы, но на полпути к луне опомнился, что запаса воздуха в лёгких не хватит для возвращения на родную землю.
Так я не стал «Аполлоном-14»…
Славика спасло только то, что он успел отбежать от точки моего приземления.
Потому что среди предков, формировавших наш спинной мозг, немало кого и расплющили.
Четвёртый курс в колхоз не посылали, мы проходили школьную практику, но уже не в городских, а в сельских школах.
На этот раз вместо отзыва школьного учителя – какие мы замечательные будущие педагоги – которым завершалась практика на третьем курсе, каждую сборную группу практикантов отдавали под надзор кого-то из преподавателей с кафедры английского языка для оценки нашей профпригодности по результатам практики.
Око за око, так сказать, ведь мы их тоже оценивали на протяжении четырёх лет.
Когда нас, первокурсников, разделили на группы обучения, куратором моей стала Лидия Панова, влюблённая безответной любовью незамужней женщины в замдекана Близнюка, который, в свою очередь, безответно любил свою красавицу-жену.
При помощи своей должности он трудоустроил свою молодую жену преподавательницей англофака сразу, как только та получила диплом об окончании НГПИ, но она его бросила и уехала с кем-то другим в Киев.
Панова, с её гормональными усиками, широкими очками и толстым слоем марафета на лице, не имела шансов окрутить Близнюка, хотя девочки моей группы за неё болели, а сама она затевала с ним разговоры на английском языке, когда Близнюк имел неосторожность пройти под её балконом в пятиэтажке институтских преподавателей в Графском парке, по ту сторону Старого корпуса и здания музпеда.
Куратором второй группы была Нонна, тоже в очках, но моложе Пановой и без косметической штукатурки.
Однажды на каком-то субботнике Вирич подослал меня к ней со стаканом белого вина, типа, не хотите ли ситра – жажду утолить?
Она улыбнулась мне приятной улыбкой и – отказалась.
Нонна всем приятно улыбалась, но никого не арканила.
Куратор третьей группы опять-таки носила очки, была блондинкой и полнейшей дурой. Английским она владела в пределах упражнений учебника Гальперина для первого курса и неосознанно любила Сашу Брюнчугина – мальчика своей группы.
К такому выводу меня привела её привычка на каждом общем собрании факультета склонять его имя.
Типа, как тот римский сенатор, с его неизменным призывом разрушить Карфаген.
Местный мальчик из зажиточной семьи, никому не грубит, пару раз в месяц появляется на занятиях. Чего ещё надо?
Она буквально всех заколебала своим гласом вопиющей в пустыне.
На четвёртом уже курсе в большой четвёртой аудитории опять вышла к кафедре:
– Полюбуйтесь! Брюнчугин даже на общее собрание не изволил явиться!
И тут даже ветер снаружи не выдержал и с размаху захлопнул раскрытые по случаю наступившей весны рамы высоких окон. Чуть стёкла не вылетели.
Она аж пригнулась и позабыла что там дальше идёт про Карфаген.
И, наконец, куратор без очков, куратор не женского пола, куратор четвёртой группы – Рома Гуревич.
Он тоже еврей, как остальные, известные мне Гуревичи, или тот же Близнюк, только постарше и полысее.
И он вечно чем-то занят и с кем-то говорит, и пылко жестикулирует.
Один раз я пересдавал ему зачёт в Старом, разумеется, корпусе.
Я проследил как он вышел из Нового корпуса в нужном мне направлении, вернулся к Старому и стал дожидаться его подхода.
Через десять минут я забеспокоился и прочесал двести метров асфальтной дорожки между Старым и Новым корпусом.
Он ещё только дошёл до угла Нового, постоянно останавливаясь и оживлённо дебатируя с каждым встречным-поперечным преподавателем.
Я вернулся на исходную позицию, но теперь уже сел на скамье под берёзами.
Ещё через двадцать минут он, наконец, завиднелся возле большого печального бюста Гоголя.
Есть середина пути!
А куда денешься, если у тебя несданный зачёт?
Шестьдесят две минуты ушло у Ромы, чтоб преодолеть эти грёбанные двести метров, но, думаю, это не предел его возможностей.
За это я и дал ему кличку «кипучий бездельник».
Официальным его прозвищем было «Рома-Фонетист».
Среди преподавателей он отличался самым чистым произношением звука «th» за что и начитывал магнитофонные плёнки с текстами про Паркеров, чтобы студенты их слушали и повторяли в кабинках лингафонной лаборатории.
Не зря же его звали «Фонетист».
Кроме фонетики была ещё масса других предметов, различных и нужных.
К примеру, Сравнительная Лексикосемантографоструктуросиология – язык сломаешь, пока экзамен сдашь.
Эту самую Лексикос.. ну, вобщем – …логию нам преподавала потомственная преподавательница.
На ней эта династия обрывалась, потому что она была девственницей-пенсионеркой и целомудренно застёгивала свой преподавательский плащ огромной булавкой под самое горло.
Заменить её никто не мог – она по этому предмету даже учебник написала.
Тощая такая брошюрка со смазанным типографским шрифтом, автор… Фамилия такая… на свистящий, кажется, звук, или, всё-таки, на шипящий?.. вобщем, фамилия короче, чем название предмета.
Если она на лекции начинала позволять себе лишнее, ну, ходить там, по проходам между длинных столов-парт, типа – а как тут мои сравнительно-шрифто-смазанные перлы конспектируются? – то ничего не стоило поставить её на место.
Расстёгиваешь рубаху на груди, на две-три пуговицы, и слегка пощипываешь волосы на солнечном сплетении.
Всё.
Шипящая свистопляска кончилась – до звонка сидит как миленькая за преподавательским столом и упорно пялиться в свой план лекции, которую наизусть знает.
Обожаю девственниц.
Жомнир говорил, что после даже самого краткого разговора с нею его тянет принять ванну, но о вкусах не спорят.
Не помню, пошёл ли я в душ после экзамена по этой самой сравнительной – как её? – на котором тоже пришлось себе грудь чесать.
Но это всё предметы по специальности, а были ж ещё и общие, на которые являлись преподаватели с других факультетов и кафедр.
И каждый мнил себя доном Корлеоне и вымогал уважения; типа, своей лекцией он сделал мне предложение, от которого я не смогу отказаться и, вернувшись в общагу, погружусь в штудирование преподанного предмета.
Ага, как только – так сразу.
Единственным, кто вызвал во мне симпатию был Самородницкий, по какой-то из философий. Он на экзамене закурил. Открыто так, вальяжно и вместе с тем культурно – достал пепельницу с крышкой и туда стряхивал.
На его экзамен я пришёл из общаги и погнал какую-то околёсицу, совершенно от фонаря, возможно даже из другой философии, но он вдруг заинтересовался и поставил мне четвёрку. Сказал, что мне нужно сменить факультет и что он мною займётся, но вскоре уехал в Израиль.
Таким образом, практику я проходил в школе при сахарном заводе на станции Носовка – двадцать с чем-то минут от Нежина киевской электричкой и руководителем практикантов поставлен был Жомнир.
Рано утром мы отправлялись туда с высокой платформы вокзала – сборная из десяти разногруппных студентов и он в своём широком преповском плаще и берете в сочетании с аксессуаром из портфеля с ввалившимися боками.
( … каждый одевается под свой имидж.
Берет, плащ, портфель – читай «преподаватель».
Можешь представить сантехника в таком же прикиде? То-то же…)
Мне мать накануне практики пошила куртку. Покроем как энцефалитка у геологов, но из толстой брезентухи зелёного цвета.
Мне она понравилась, особенно цвет – робингудовский такой.
Самым ярким впечатлением от практики стала встреча по футболу между командами сахарного завода и локомотивного депо станции Фастов.
Игра в рамках чемпионата на кубок профкома Юго-Западной железной дороги проходила на пришкольном футбольном поле.
Я вышел посмотреть на перемене и – приторчал.
Стоял сентябрьский, подогретый солнцем денёк. По зелёной траве поля десятка два мужиков гонялись за одним мячом, а отдельный мужик гонялся за ними и свистел заливистыми трелями.
Зрителей было раз-два и – обчёлся: во-первых, нахмуренный мужик в рабочей робе, во-вторых, я.
Он считался «во-первых» потому, что первым тут стоял и стоял упорнее – мне понадобилось ненадолго отойти за деревья на краю поля, чтобы забить косяк.
Вернувшись, я не стал приближаться ко второму зрителю, чтоб понапрасну не дразнить его обоняние; просто стоял на расстоянии двух пенальти и наслаждался игрой чемпионата.
Оса укусом в шею обломала мне кайф.
Я отшатнулся, дёрнулся и в паре метров за спиной увидел Игоря Рекуна, что подкрадывался с коварной усмешкой.
Я не стал скрывать ни косяка, ни дыма.
– Игорёк, если хочешь что-то спросить, говори прямо и спереди.
Улыбка стёрлась, мол, нет, ничего, и он ушёл в школу, где прозвенел очередной звонок.
Юный велосипедист доставил местным мужикам на поле допинг и они, погурголив с горлá, передавали бутылки друг другу, чтобы взбодрённо ринуться дальше.
Правый полузащитник команды гостей передал пас своему центральному нападающему. Тот прошёл до угла штрафной и несильным, но точным ударом отправил мяч в нижний левый угол ворот.
– Гол!– закричал нападающий и вся команда гостей.
– Нету!– заорали местные мужики.
Отбегая на свою половину поля, нападающий наткнулся на стенку из трёх местных.
– Гола не было!– рыкнули они на него.
– А я ничего и не говорю!– ответил он, оббегая вокруг выстроившейся стенки с нескрываемо довольной улыбкой.
Говорить и доказывать не имело смысла – в воротах отсутствовала сетка, а судья в момент гола хлестал из поднесённой местными бутылки, задрав её донышком к солнцу.
Я подошёл ко второму зрителю и спросил напрямик:
– Чё, был гол, или нет?
Рабочий молча хмуро кивнул.
Я порадовался, что хоть и немая, но есть, таки, правда на свете.
Судья назначил свободный от ворот местных.
Матч за первенство в чемпионате на кубок профкома Юго-Западной железной дороги закончился вничью, со счётом 0:0.
Жомнир предупредил, что он, как руководитель практики, не может поставить мне больше тройки за хроническое ненаписание планов-конспектов к урокам.
А я не мог себя заставить даже списать эти планы у Игорька; у меня физически не получается рассаживать кукол вдоль крышки пианино.
Я сказал, что пусть он не переживает и ставит что хочет.
Мне это действительно было абсолютно… без разницы.
Когда рядом с факультетским расписанием на третьем этаже Старого корпуса вывесили результаты практики четвёртого курса, моя тройка оказалась единственной.
Жомнир всполошился, стал доказывать деканше, что это неправильно и он не знал что я всего один такой.
Она неприступно ответила, что думать надо до заседания кафедры.
Деканша косила под Алису Фрейндлих из «Служебного романа», просто ей Мягков не подвернулся, вот и зациклилась на неприступном официозе, поскольку была в разводе из-за половой несовместимости, а девушки англофака не выдают непроверенную инфу.
Ладно, хватит о посторонних.
Местом твоего зачатия послужил четвёртый этаж общаги, причём место это приготовила сама Ира, поскольку в той комнате проживали девушки, а я на физмате знал только ту пару санитарок-поварих из стройотряда, но они жили в городе.
Перед этим я в очередной раз влюбился в Иру, но сперва прекратил полигамию.
А как же? Ведь только Ире я обязан спасительным уколом от триппера.
Так что на четвёртый курс я приехал осознавшим и перекованным, о чём сухо оповестил Свету при её поползновениях к прежней фамильярности.
Мы стали шапочным знакомством.
И Марии я вернул книжку Бабеля, правда, зачем-то выбрав для этого поздний час.
Она открыла дверь на лестничную площадку в незастёгнутом халате поверх ночной сорочки.
Если предположить возможность сдвигов времени, то в тот момент в её постели вполне мог лежать я и думать когда уже этому придурку дойдёт, что он не вовремя.
Я не стал развивать эту теорию, а просто сдал книгу, поблагодарил и ушёл.
И с тех пор моя любовь принадлежала только Ире. Безраздельно.
Тем более, что я опять в неё влюбился.
Встретив её в филфаковском крыле на третьем этаже Старого корпуса, я уговорил Иру не ходить на пару и после звонка мы украдкой прошли по широкому пустому коридору к боковой лестничной клетке.
Там мы свернули не вниз, а вверх, хотя четвёртого этажа в Старом корпусе нет и подъём преграждает перегородка с запертой дверью на чердак.
Поднявшись до середины ступеней, мы целовались.
( … её классическая грудь под вязаным зелёным свитером оттенка речных водорослей – под стать её русалочьей причёске; шёлковая юбка на крепких бёдрах – абстрактно тонкие белые гроздья на чёрном фоне – от портнихи Марии Антоновны, матери Ляльки; высокие австрийские сапоги на танкетке; её глаза, улыбка; стройный белый лотарингский крест переплёта в высоком окне у неё за спиной, которое смотрит в лазурную синь неба яркую, как на полотнах эпохи Возрождения; всплеск крыльев белых голубей за крестом – всё сложилось в картину, которую я буду видеть и вспоминать всю жизнь…)
Но мне мало одних только воспоминаний, я хотел оставить её себе, или самому остаться с ней, среди этой до отчаянье невыразимой красоты.
Поцелуи не помогли остановить мгновенье.
И тут уже не остаётся иного выхода, кроме как снова влюбиться.
Тем же вечером на лестнице в общаге Ира дала мне ключ от комнаты физматовок, чтоб я открыл и зашёл, а она придёт минуту погодя, в целях конспирации.
Мы не включили свет.
Это была койка у окна с видом на невидимый за темнотою берег Остра.
С Ирой предохранение лежало на мне, то есть, я следил за тем, чтоб вовремя убраться во избежание абортов под наркозом или без.
Но в тот вечер…
…ещё немного!.. я ведь контролирую!.. рано ещё!.. ещё чуть-чуть!.. одну капелюшечку!.. у-у!.. опаньки!.. поздно… поезд ушёл…
Ты была в том поезде среди толпы точно таких же попутчиков, но оказалась чуть-чуть пошустрее.
Ну, а дальше – плавный переход к отработанной уже однажды технологии: как благородный человек – я обязан жениться.
Когда Ира ещё училась в школе, то на мосту через Остёр нашла колечко. Обычное жёлтое колечко, какими торгуют киоски среди прочей бижутерии.
Ира принесла его домой и её мама, Гаина Михайловна, огорчилась и опечалилась, но ничего не сказала дочери.
Был ли брак Иры с разведённым мною мезальянсом?
Несомненно и неоспоримо.
Достаточно сопоставить родительские пары:
комплектовщица Рембазы – преподавательница немецкого языка Нежинского ордена Трудового Красного знамени государственного педагогического института имени Николая Васильевича Гоголя;
слесарь Рембазы – заместитель директора Нежинского хлебокомбината.
Однако, фактор наличия тебя, пусть даже ещё нерождённой, смягчал кастовые предрассудки, которые, кстати, давно уж были упразднены советским строем.
И всё-таки, даже в эпоху развитого социализма всё восставало и противилось нашему браку.
Начать с того, что в нашу с Ирой предсвадебную поездку в Киев мне пришлось ехать с колом в анусе.
Киев понадобился, чтобы отоварить талоны из ЗАГСа в салонах для новобрачных.
Мне, со штампом о разводе в паспорте, никаких скидок на обручальное кольцо не полагалось, но моя сестра Наташа пообещала одолжить мне узкое золотое колечко, которое зачем-то носила на большом пальце руки.
Что касается кола, то снаружи он не торчал, но причинял невыносимую острую боль внутри, превращая мою походку в шаркающее волочение ног полупаралитического старца или же молодого запорожца, снятого с упомянутого орудия казни по чуть запоздалой амнистии.
Добейте меня, паны-братья!
Бедная Ира! О таком ли спутнике в салон для новобрачных мечтает любая девушка в своих заветных грёзах?
Отнюдь и ещё раз отнюдь!
Мне же вынесенные в той поездке мýки служат наглядным напоминанием истины от Гераклита: в одну и ту же речку не ходи – надерут задницу.
Увы, премудрости былого нас ничему не учат, пока не сядем на ежа собственной голой …, как выразились запорожцы в письме к турецкому султану.
Тем не менее в Киеве невеста была укомплектована, а мне куплены коричневые туфли голландской фирмы «Topman».
Они оказались на размер больше, но условия эпохи дефицита приучают не выпускать синицу из рук и через месяц я подарил их тестю – пришлись как раз впору.
Вот для кого я волочил тот кол.
Вскоре мне полегчало и мы приступили к поискам костюма жениху.
Мы прочесали универмаги крупных станций между Нежином и Киевом – Носовка, Кобыжчи, Бобровица – безрезультатно.
Отыскался он лишь в Чернигове – вдали от электрофицированных магистралей – и сидел вполне прилично.
За неделю до свадьбы я оставил общагу и перешёл жить в трёхкомнатную квартиру родителей Иры.
Старший из их четверых детей, Игорь, служил майором непонятных войск в Киеве; следующая за ним, Виктория, жила в Чернигове и работала в тамошнем музее.
Затем шла Тоня, которая, по распределению после НГПИ, учила русскому языку и литературе детишек в закарпатской деревушке, покуда местный хлопец Иван с бандеровскими замашками не добился от неё взаимности.
Не в силах преодолеть языковый барьер, он постучал в дверь юной учительницы и немо наставил на неё двустволку.
В смысле, будь моей, или ничьей не будешь.
Братья Ивана успели его обезоружить, но глубина чувств влюблённого тронула Тоню и это дало ей шанс выжить среди красот природы Закарпатья.
Она вышла за него замуж, родила двух детей, вернулась в Нежин и со всей своей дружной молодой семьёй жила в одной из двух узких спален трёхкомнатной квартиры родителей.
Родителям оставался раскладной диван в проходной гостиной, напротив широкого окна с тюлевой занавеской, отделявшей подоконник и пару цветочных горшков на нём от вплотную придвинутого стола с телевизором.
За ней же (занавеской) скрывались спинки стульев затиснутых между столом и подоконником, чтоб попусту не занимали места покуда не понадобятся.
Стулья были в комплекте со столом, который, если убрать с него утюг, беспорядочную стопку центральных газет, телевизор и клеёнку, мог раздвигаться для праздничного застолья.
По будням не поместившиеся под столом стулья стояли по углам гостиной, покрытые домашними одеждами, всё теми же газетами и всякой всячиной, что кладётся на пару минут и забывается там на пару месяцев.
Ещё в гостиной был шкаф с зеркалом в дверце и лакированный сервант с посудой, на которым, приопёршись на обои, стояла рамка с «Неизвестной» Крамского, презрительно взиравшей из-под своего страусиного пера на всю эту белиберду и «Сватовство майора», повешенное на противоположной стене.
Балкона в квартире не было по причине её расположения на первом этаже, но имелась «ниша» – кладовка с дверью из ДСП, в проходе между гостиной и спальней Тониной семьи.
Меня с Ирой поместили во вторую, более узкую спальню с большим фанерным шифонером времён ХХ-го съезда КПСС и таким же трюмо-ветераном в промежутке между дверью и окном.
Вдоль стены с таким же почти ковром, как у моих родителей, стояла двуспальная кровать для молодожёнов.
Оставалось только пожениться.
Вечером накануне бракосочетания Гаина Михайловна предложила свои услуги для глажки брюк моего свадебного костюма. Гладила она, по её словам, виртуозно.
Во время немецкой оккупации молодую девушку Гаину из глухого украинского села увезли в Германию и она там более двух лет работала как «гастарбайтер» в зажиточной немецкой семье, где и овладела этим искусством.
Странно тасуется колода передачи знаний, но именно от неё я узнал, что
брюки гладить нужно с четырёх сторон.
Я чётко усвоил это знание и пользовался им всю свою дальнейшую жизнь, но в тот момент во мне проснулся непокорённый дух юных пионеров-партизан и я отклонил предложение своей завтрашней тёщи. Мне, мол, тоже не впервой гладить брюки через кусок влажной марли.
Закончив глажку, я повесил их на стул в гостиной и ушёл спать.
Утром меня разбудил плач Иры.
Я вышел в гостиную и, под угрюмо-траурное молчание Гаины Михайловны, на одной из брючин висевших на спинке стула брюк различил несомненный отпечаток утюга.
Бедная Ира!
Ожёг, пусть и без чётких очертаний, явно менял дымчастый оттенок тёмно-серых брюк во что-то зеленоватое.
Я готов был поклясться, что накануне ничего такого не было, но пропалина приходилась на одну из двух проглаженных мною сторон.
Мне стоило немалого труда уговорить Иру не отменять поездку в ЗАГС – нам через слишком многое пришлось пройти, чтобы теперь пойти на попятную.
Я торжественно поклялся ей, что буду прятать брючину в складки её длинного подвенечного платья.
И почему это невесты перед свадьбой всегда плачут?
Бедная Ира!
В ЗАГСе пришлось очень долго ждать, потому что этот сволочь Славик, свидетель со стороны жениха, явился лишь после того, как мой брат Саша поставил подпись вместо него.
Хорошо хоть паспорт не проверили.
Да, мои брат и сестра приехали из Конотопа на бракосочетание, а пятичасовой электричкой отбыли обратно.
И вот он – головокружительный миг обмена кольцами в знак любви и верности.
Палец невесты окольцован – жёлтое с бледным – золото поверх алебастрово белой кожи..
И вот уж не как невеста, а жена, берёт она с блюдца кольцо предназначенное для меня.
Мой палец вдвигается… вдвигается палец…
Колечко от Наташи застряло, сука, на суставе, хотя в предварительных пробах вроде, типа, налазило ж…
Я вполголоса обещаю молодой жене, что, ладно, потом всуну как надо, и сжимаю руку в кулак для маскировки недонатянутого кольца.
Обручальное кольцо-О! Не простое украшенье…Бедная Ира!
Но что ей оставалось делать? Зарождающийся материнский инстинкт не позволял оставить тебя незаконнорóжденной.
Зато мой брат Саша на фотографиях из ЗАГСа вышел очень хорошо – смотрится как молодой сицилианский мафиозо.
Затем молодые со свидетелями (Славик уже подменил Сашу) по давней нежинской традиции поехали прокатиться на такси.
Мы заехали бибикнуть на привокзальной площади – автомобильный мост над железнодорожными путями уже был завершён; потом до городской черты по шоссе на Прилуки, где открыли бутылку шампанского, и вернулись на улицу Красных партизан, дом 26, квартира 11.
Свадьбу гуляли скромно, по семейному – за исключением двух свидетелей, все свои.
Телевизор сослали в угол, раздвижной стол накрыли пиршественными яствами – в основном салат оливье, которого Гаина Михайловна нарезала целый эмалированный таз – и напитками из сказочных концовок: «…мёд-пиво пил…»
Правда, без мёда.
Гаина Михайловна, как всякая правильно эрудированная женщина, давно прибрала мужа к рукам, скрутила в бараний рог и вила из него верёвки, пользуясь паническим страхом мужиков пред перспективой стать рогатиком.
( … ходи по струнке и ограничивайся двумя стаканами пива в праздник, раз тебе их не наставили пока что…)
Так что пиво на столе присутствовало.
Тоня и Ваня по очереди держали малютку-дочку в своей спальне, а их трёхлетний Игорёк тоже сидел за столом.
Потом и малютку принесли в гостиную, а молодые со свидетелями сменили её в спальне, которая, хоть и узкая, но позволяла потанцевать вчетвером под магнитофон принéсенный из общаги.
Когда мы с Ирой удалились в свою спальню для первой брачной ночи, я включил транзисторный радиоприёмник на столике перед трюмо.
В ногах постели на побелённой стене висел ночник-бра, лампочка которого создавала полумрак с переливами красноватого света, словно светильник факел в средневековом замке.
Одеяло оказалось слишком толстым и мы отбросили его, сплетаясь в уже узаконенных супружеских объятиях.
Всё шло не так уж плохо, но потом дверь в спальню распахнулась и мой тесть выключил транзистор.
Я не стал прятать свою наготу, просто остановился сидя. Ира тоже замерла.
В безмолвном мерцании факела из ниши между ковром и шифонером, Иван Алексеевич, не поднимая глаз, вышел из спальни.
Владетельный принц трёхкомнатного замка.
Откуда я знал, что ему это громко? Мог бы просто крикнуть с дивана.
Ладно, начнём сначала.
Потом три дня пришлось есть оливье, но пол-таза всё равно прокисло.
А кто бы сомневался? Попробуй такую прорву съесть без выпивки.
Так, в общих чертах, заключаются мезальянсные браки.
Тесть, вобщем-то, мне нравился и я прощал ему отсутствие нормальных инструментов на полках ниши и его неверие в мои способности починить ветхий от древности утюг.
К тому же, когда трёхлетний Игорёк вытащил из кармана моих джинсов пригоршню конопляного семени и разложил на табурете в кухне, тесть не стал усугублять разоблачение излишними вопросами, а уж он-то, по должности своей, разбирался в сортах зерна.
Сын брянского крестьянина, 18-летним новобранцем он попал в Харьковскую мясорубку, когда, очнувшись после поражения под Москвой, германский вермахт показал, что знает своё дело, искрошив несколько советских армий.
Оглушённый мощью и потрясённый зрелищем артиллерийского расстрела, Ваня в толпе десятков тысяч прочих уцелевших был увезён в лагерь для военнопленных на территории Германии.
Между воюющими тогда сторонами имелась негласная договорённость – возмещать друг другу расходы на содержание пленных через нейтральные банки.
Одна лишь страна Советов оставалась в стороне от этой договорённости, поскольку всякий попавший в плен красноармеец автоматически становился предателем родины.
Отсюда разница в хавке для пленных различной национальности.
Чтобы хоть чем-то кормить пленных красноармейцев, с оккупированных советских территорий в лагеря иногда приходили эшелоны с награбленными сельхозпродуктами.
В одном из вагонов такого эшелона оказалось несколько мешков чёрных семечек.
Немцы не могли угадать назначение этого продукта – он не описан ни в одной кулинарной книге.
Когда военнопленные показали как пользоваться семечками, рациональные немцы так и не смогли взять в толк, что важен не конечный результат – раскусывание мизерного зёрнышка, а сам процесс – грызи и плюй в предвкушении.
Так эти мешки и валялись, нерационально загромождая складское помещение, покуда один охранник не сообразил как их применить.
Он организовал спортивное мероприятие – забеги на сто метров. Победитель получал пакет семечек.
Под крики охранников-болельщиков, молодой и рослый, хотя и отощавший, Ваня прибежал первым и получил приз.
Во втором забеге он снова был недосягаем, но охранник сказал, что хватит с него и отдал семечки пришедшему вторым.
Мой тесть обиделся и перестал принимать участие в последующих соревнованиях, но мне рассказывал, что те семечки были самыми вкусными в его жизни.
Пленные бегали не только на 100 метров, но и из лагеря тоже.
Их ловили, привозили обратно и показательно казнили, что не останавливало последующих беглецов.
И это понятно, ведь иногда чувствуешь, что да пошло оно всё, и что тебе уже всё пó хуй.
Когда у Вани подкатил такой момент, он, учитывая опыт предыдущих товарищей, не пошёл на восток, а свернул на запад и потому оказался во Франции.
Около года семья французского фермера прятала его в сарае от немецких патрулей, а в отсутствие патрулей он помогал по хозяйству.
Потом американцы открыли второй фронт и освободили его. Но они не остановились на достигнутом, а продвигались всё дальше и дальше, пока не освободили украинскую девушку Гаину от работы в зажиточной немецкой семье.
Затем Сталин потребовал от своих союзников вернуть всех советских граждан освобождённых из немецкого плена и американцы не стали спорить.
Ваню и Гаину, среди множества таких же как они, отвезли во французский портовый город, где они, кстати, и познакомились, а оттуда пароходом в город Ленинград.
Судьба благоволила им – подавляющее большинство побывавших в Германии пленных повезли на восток в железнодорожных составах, а на границе с СССР, где у путей меняется ширина профиля между рельсами, их перегружали в эшелоны товарных вагонов и гнали составы по необъятным просторам нашей родины в лагеря ГУЛАГа, в Сибирь и на Крайний Север.
За что?
Заранее.
Чтобы воспоминаниями о пережитом в немецком плену, они не подпортили б, часом, картину старательно слагаемую в умах и памяти советского народа.
Ничто не забыто, никто не забыт…При условии, что воспоминания правильно процензурированы.
Даже у меня, воспитанного на ярких примерах из советской литературы и кинематографа, рухнуло немало стереотипов, когда я случайно услыхал разговор тёщи по телефону с её подругой, тоже прошедшей ад немецкого плена:
– …а помнишь, как на 23 февраля мы купили шампанское и пошли поздравить наших ребят-лётчиков?
Та-дах!!!
Оказывается, не только Штирлиц пил спиртное в этот день, но и пленённые советские асы тоже…
В Ленинграде Ваня и Гаина оформили свой брак и тут же завербовались на работу в одну из советских центральноазиатский республик.
И это правильно, там они смогли пересидеть последующие отловы бывших военнопленных и прочих повидавших несоветскую жизнь.
В советских лагерях им не пришлось бы угощаться семечками. Наша лагерная система самая гуманная в мире и не продляет твои муки унизительными призами за спортивные достижения.
Прочтя в центральной прессе о ликвидации последствий культа Сталина, они переехали на Украину, где, для начала, осели в сельской местности, а там уж доросли и до Нежина…
( … когда-то мой отец пытался объяснить мне, что продвижение жизни вперёд происходит по спирали. Я так его и не понял, хотя для наглядности он рисовал в воздухе круги указательным пальцем.
Судьба Ивана Алексеевича может послужить доводом в пользу этой теории.
В своей жизни мы ходим по кругу одних и тех же событий, но они, из-за спиралевидности жизненного процесса, обрастают новыми признаками и подробностями, поэтому мы и не распознаём их повторения, двигаясь мимо и – дальше.
Не знаю проводил ли мой тесть какие-то параллели между выигранными им семечками и своей должностью на нежинском хлебокомбинате.
Ведь суть одна – распоряжение зерном.
Хотя зачем ему такая геометрия…)
На четвёртом курсе я стал почти примерным студентом – посещаемость занятий возросла у меня неимоверно.
Не мог же я оставаться в квартире, когда Ира идёт в институт.
На лекциях я углублялся в долгую историю Иосифа и его братьев. Она становилась намного выпуклее и неторопливей после выкуренного косяка.
По звонку после последней пары я спускался в раздевалку на первом этаже, дожидался Иру и помогал ей одеть пальто в рукава.
Затем среди шума и гама одевающихся студентов я отыскивал белую пушинку на своём пальто, снимал её, одевал его и мы шли домой…
Эта белая паутинная пушинка появлялась на пальто всякий раз, если я выкуривал косяк в учебном заведении.
Да, вместо кожуха я ходил уже в демисезонном тёмно-верблюжьем пальто, которое купил ещё у Алёши Очерета, когда тот был на последнем курсе.
Феномен пушинки я про себя окрестил термином «бог шельму метит».
Иногда, в виде эксперимента, я воздерживался от косяка и она не появлялась.
Так что прежде, чем одеть пальто я осматривал его в поисках белой метки.
Она ни разу не подвела.
Моя любовь к Ире всё углублялась. Иногда она просила не смотреть на неё так упорно, особенно на людях, а я всё ещё надеялся остановить мгновенье.
Он смотрел на неё, как смотрит пёс на хрустальную вазу…Изредка мы приходили в общагу, чтобы чинно расписать пулю в 72-й комнате.
Из-за того, что Ира в положении, за преферансом мы уже не курили. Только Двойка иногда, с выучкой корнета лейб-гвардии просил её разрешения и дымил на зависть мне и Славику, пока Ира, сидя на койке у окна, кромсала ножницами взятую у меня «беломорину».
Она не делала секрета из своей беременности и ещё на втором месяце заказала у Лялькиной матери просторный элегантный сарафан из коричневой материи.
Однажды уже по весне, она вышла из общаги первой, пока я в вестибюле задержался с Двойкой.
Когда я вышел, Ира стояла возле угла здания и скандалила со студентом в окне этажа биофака.
Не поняв смысла сарафана, борзый второкурсник попытался подцепить незнакомку.
Я потребовал от него извинений даме и получил наглый отказ.
Пока я подымался к нему в комнату ко мне присоединился Двойка, но в комнате их оказалось трое.
Последовала неразборчивая драка с переменным успехом, из соседних комнат к ним подбегало подкрепление.
Мне запомнился момент, когда я стою на чьей-то койке, а один из противников подставляет своё лицо, чтоб получить в него удар ногой, но я сдержался – слишком уж явно он этого хотел.
Впоследствии я лежал на полу заваленный телами трёх противоборцев, которые старались меня обездвижить, а где-то в углу Двойка всё ещё отбивался от наседавших.
И тут дверь распахнулась – на пороге встала Ира с неизвестно где взятой линейкой в руках и громко объявила:
– Всех перережу!
Меня настолько поразила абсурдность ситуации – пиратский крик Иры, эта деревянная линейка и ты у неё в животе – что я захохотал.
Все присутствующие последовали моему примеру.
Не получается всерьёз драться с кем только что смеялся заодно.
Мне помогли подняться и мы ушли.
Невозможность остановить мгновенье заставила меня поменять приоритеты.
Моей задачей стало охранять её. Охранять от суматохи в раздевалке. От её подружек со змеиными жалами:
– Привет. Ой, ты как-то подурнела сегодня.
Охранять от её страхов перед будущим – фельдшерица Кердун в роддоме такая грубая, все на неё жалуются. И от затаившегося в ней самой непонятного, но отрицательного резус-фактора.
Охранять от всего этого мира, готового в любой момент нанести удар откуда не ждёшь. Поэтому я затаился и следил за ним.
Такая моя позиция привела к отчуждению от общаги, от курса, от института.
Только с Жомниром я продолжал общаться. Он стал научным руководителем моей курсовой работы «Ирония в рассказе В. С. Моэма «The Judgement Seat».
Кроме того он был нужен мне, чтобы в этом недоброжелательном мире отгородить место для нас с Ирой. Он обещал «засватать» мои переводы в какое-нибудь из книжных издательств в Киеве, где у него есть связи.
Для сборника понадобится 20-25 рассказов.
Я продолжал приходить к нему домой и он в шутку говорил, что его жена, Мария Антоновна, в меня влюбилась.
Они жили в трёхкомнатной квартире на пятом этаже по улице Шевченко, потому что их дети уже повзрослели и отделились. Сыновья – в Россию, а дочка – замуж.
Жили они только в двух комнатах, третью Жомнир превратил в архивный кабинет – стол, стул и стеллажи до потолка из толстых досок, заваленные кипами папок с завязками, стопками книг и просто бумагами, и окно в стене напротив двери.
Мне это нравилось.
Ещё мне понравился рассказ Иры о бесчеловечности Жомнира.
Его семья тогда ещё жила в пятиэтажке родителей Иры и во время ремонта квартиры он поделил площадь полов на количество членов семьи, покрасил причитающуюся ему квадратуру, поставил кисть в банку с водой, пожелал остальным трудовых успехов и – умыл руки.
Жена Жомнира, Мария Антоновна, бесшумная женщина с седыми до чистой белизны волосами, дала мне книгу стихов Цветаевой и заставила её полюбить.
Прежде я считал, что поэтессы способны лишь кружева плести, в смысле, выдавать дамское рукоделье за высокую поэзию.
Марина не такая, она умеет, когда надо, насиловать слова.
Я вспомнил её в тамбуре электрички, когда ехал из Конотопа.
Туда я продолжал ездить, хотя и не так часто. Из чувства долга перед Леночкой.
Она всегда была хорошим ребёнком и я её даже любил.
Просто как-то не умею я играть и сюсюкать с детишками. Больше, чем на десять минут меня не хватает.
В тамбуре я покурил и вдруг ни с того, ни с сего начал ощупывать лацкан своего верблюжьего пальто. В его уголке пряталась длинная портновская игла целиком вонзённая между слоями материи.
Достать её оказалось непросто. Тоже самое повторилось и со вторым лацканом.
( … вонзённая игла – точь-в-точь как в той ранней поэме Цветаевой…)
Я выбросил иглы в прорези над стеклом двери грохочущей к Нежину электрички.
Откуда они взялись? Воткнула мать, как в той поэме? Или купил их вместе с пальто у Алёши?
И что заставило меня найти их?
( … на некоторые вопросы я так и не смогу узнать ответа.
Никогда…)
Тёщу беспокоили мои визиты к Жомниру. Она переживала чем меня там угощают – лишь бы не варёной колбасой.
По-видимому, она боялась, что колбасой можно перепрограммировать человека, сделать из него зомби, как в фильме «Матрица».
Она не знала, что я – робот нового поколения, которые зомбируются через печатный текст.
А ничего, Гаина Михайловна, что Жомнир скормил мне книгу Гессе, в прозе которого один абзац может тянуться страницы полторы?
( … о том, что печатный текст через зомбированного меня воздействует на окружающую действительность мне стало известно из личного опыта.
Например, в туалете квартиры родителей Иры для гигиены нарезан журнал «За рулём».
Сидя на унитазе, я прочитываю статью о большегрузных автомобилях, прежде, чем употребить её в качестве туалетной бумаги.
Выхожу из дому – опаньки!
Улицу Красных партизан невозможно перейти – запружена потоком КАМАЗов и БЕЛАЗов.
Потом мне, конечно, вкручивают, будто на московской трассе ремонтировали дорожное покрытие и направили движение в объезд, через Нежин.
Так они с этим ремонтом ждали пока схожу прочесть нарезку из журнала «За рулём»?..)
Отношения с Гаиной Михайловной у меня сложились по классической схеме «зять – тёща», но с поправкой на интеллигентность относящихся.
Сперва всё шло нормально, но через пару недель она вдруг начала застёгивать булавкой отложной воротник своего халата.
Халат домашний, с глубоким вырезом, но я этого даже как-то и не замечал.
Но теперь деваться некуда – между булавкой и верхней пуговицей образовалась широкая прореха, а любая прореха притягивает взгляд.
Я не стал интересоваться у предыдущего зятя случался ли такой симптом раньше и с какой периодичностью. Просто пришлось держать взгляд на привязи.
Хотя что там увидишь? Женщина давно привяла.
Однажды мы с ней остались наедине во всей квартире. За окном вечерело.
Я сидел на диване, она стояла опёршись спиной на шкаф с зеркалом и рассказывала мне как её везли эшелоном в Германию. Её и много других молодых девушек.
Под стук колёс вагон пошатывало на стыках рельсов. Страшила неизвестность того, что будет дальше и очень хотелось пить. Некоторые девушки плакали.
Эшелон остановился в поле. Охранники распахнули двери вагонов и что-то кричали – она ещё не знала немецкого.
Неподалёку в ложбине протекал ручей. Им жестами показали, что можно к воде. Они радостно бросились к ручью; пили, умывали лица.
Вдруг раздались крики и застрочил автомат – одна из девушек хотела убежать и её убили.
Обратно к вагонам их всех провели мимо убитой.
Она лежала на спине с открытыми глазами и была такая красивая.
В комнате сгустились сумерки, Гаина Михайловна стояла приложив ладони к дверце шкафа за спиной, опустив голову над убитой красавицей. Сейчас она была там и чувствовала себя той молодой Гаиной.
Мне жалко было убитую и жалко Гаину Михайловну, пережившую этот ужас. Хотелось что-то сделать или сказать, но я не знал что именно, поэтому встал с дивана и молча щёлкнул выключателем.
Свет люстры всё разбил – вместо испуганной девушки Гаины у шкафа стояла пожилая женщина с нелепой прорехой под воротником и злым взглядом из-под крашенной пряди волос.
А нечего чары ломать.
Так я оказался классически неприемлемым зятем.
Лично я особого антагонизма к тёще не испытывал, но не могу не отметить, что у бабушки твоей порою чувства брали верх над разумом.
Она была непримиримой антисемиткой.
Наверное, сказывались годы проведённые в зажиточной немецкой семье. Люди склонны подражать чувствам окружающих.
Снятый из деканов англофака Антонюк, тот самый, что вечерами партизанил с карандашом против фамилий Близнюка и Гуревича, так и остался в её глазах героем.
Её возмущало, что кругом одни евреи и возмущало безразличие мужа к её возмущениям против эскалации сионизма.
Развернёт перед носом газету и, когда уже никто не помнит о чём с ним говорила, отвечает:
– А? Ну, да…
И опять уткнулся. Опора в жизни называется.
В своей борьбе с сионизмом она даже ходила на приём к недавно назначенному ректору – открыть глаза на вопиющее размножение колен Израилевых по всем факультетам.
( … до смешного доходит – пойти к ректору НГПИ, одесскому еврею Арвату, – жаловаться на засилье нежинских евреев в институте!
Eine lächerlich Wasserkunst!.. или как там у Рильке?..)
Но жизнь не стояла на месте, живот у Иры рос.
По нему уже начали пробегать волны от твоих коленок и пяток.
Довольно крепкие были пятки – мой нос это помнит.
И вот однажды Ира испуганным голосом сказала мне позвать её маму. Та пришла в спальню.
– Что это, мама?
На безупречно гладкой статуэтной коже, внизу, под совсем уже большим животом наметились неровные бороздки.
– Затяжки.
– Это пройдёт после родов?
Гаина Михайловна, хмуро опустив голову, промолчала.
Началась экзаменационная сессия. Иру почти не спрашивали, сразу говорили дать зачётку.
Вечером 14 июня у Иры отошли воды и мы с ней пошли в роддом.
Там удивились, что роженица явилась пешком, отдали мне её одежду, а саму Иру увели в предродовую палату.
Там я уже не мог её охранять.
Одежду я отнёс домой и пошёл обратно.
Метров за двести от роддома у тротуара виднелся большой КАМАЗ-фургон с потушенными фарами. Только поверх кабинки светились, словно в гребне дракона, три горящие красноватой злобою глаза.
При моём приближении КАМАЗ вдруг прыгнул вперёд и из длинной лужи на мостовой грянула, поверх бордюра, волна грязной пены.
Я успел подпрыгнуть; пена с шипением уползла восвояси. Я приземлился на мокрый тротуар.
Убирайся, дракон, в своё логово – некогда с тобой возиться, сегодня у меня миссия поважнее.
КАМАЗ уфырчал в сторону Красных партизан.
В приёмной мне сказали, что нет ещё и что роды состоятся утром.
Роддом находился в длинном одноэтажном здании, вход с торца.
Сбоку от здания стояла шатрообразная беседка, как в стройбате, но пошире и без выемки-урны в центре.
Я зашёл в беседку, сел на брусья скамьи вдоль её круглой стенки и начал ждать.
В пустой узкой спальне без Иры мне делать нечего .
От ворот к приёмной прошла пара – мужчина вёл беременную. Обратно он ушёл один. Значит, не только мы так. Наверно, день такой.
Высоко над роддомом светила полная луна. Я выкурил косяк и она превратилась в далёкий выход из длинного туннеля с пульсирующими стенками.
Распахнутое настежь окно родильной палаты смотрело на беседку.
Что это родильная я догадался, когда там вспыхнул свет зачернённый мелкой металлической сеткой от комаров и раздались крики роженицы.
Это кричала не Ира, не её голос, наверное, та, что пришла второй.
Когда свет погас, я, на всякий, сходил в приёмную. А вдруг роды меняют голос?
Мне сказали, что нет ещё.
Косяков я больше не курил, тот первый остался единственным.
Когда снова раздались крики, я узнал родной голос – точно Ира!
Но в приёмной мне сказали, что нет ещё.
Они послали меня к окну предродовой, с обратной стороны здания.
Ира приподнялась к подоконнику и через полуприспущенные от боли веки недоверчиво смотрела, что я ещё тут. Она сказала мне уходить, что роды будут в девять.
Она не понимала, что я её охраняю от этого мира с его КАМАЗАМи-драконами и грубыми фельшерицами.
– Кердун на смене?
– Нет.
Я вернулся в беседку. Сидел обхватив себя руками от холода.
В белёсых предрассветных сумерках круг пола беседки пересёк вдруг непонятный тёмный шар с белым цилиндром спереди.
Только когда он скрылся в траве, я догадался, что это ёжик, чья мордочка застряла в стаканчике из-под мороженого.
Лучи солнца протянулись к белым облакам. Скоро согреюсь.
Из центра крыши ринулась вниз отвесная нить паутины с тяжёлым пауком на конце.
Едва тот коснулся пола, пространство беседки рассёк пропорхнувший поперёк воробей.
( … видеть я умею знаки; жаль не знаю как читать.
Ёжик, паук, птица.
Трое волхвов?..)
В родильной опять кто-то начал кричать. Когда крики стихли две женщины за сеткой позвали меня подойти.
Одна из них держала младенца в воздетых руках. Между ножек что-то болталось.
«Сын!»– успел я подумать.
– Поздравляем с дочкой!
«Пупок»,– поправил я сам себя.
Тёща встретила меня улыбкой и поздравлениями – она позвонила в роддом по телефону.
Я занял деньги у Тони и побежал на базар.
Тоня дала мне 25 руб., более мелких у неё не нашлось.
Я метался по базару, скупая букеты роз. Розы, мне только розы. Пока не кончились 25 руб.
Тогда я снова поспешил к роддому, таща этот шар из букетов.
Одноногий инвалид на костылях рядом с пятиэтажкой тёщи радостно мне улыбнулся – он знал куда я спешу.
Сестре в приёмной роддома пришлось позвать на помощь ещё двух, чтоб занести цветы в коридор.
Ира потом рассказывала, что она всё ещё лежала в том коридоре на каталке и розы разложили по всей простыне, но ненадолго, потому что в палату цветы нельзя.
Потом букеты поделили между медсёстрами и акушерками, и те забрали по домам.
Один достался и фельдшерице Кердун, которая с утра заступила на смену.
Неважно! Главное – что ты родилась.
…миллион, миллион, миллион алых роз…( … египтологи до сих пор спорят зачем прекрасным женским лицам сфинксов приделывали висячую бороду…)
Разгадку показала Ира.
То есть, сначала она показала мне в окно тебя. Белая ткань туго обвивала тебя с головой, оставляя лишь кружок лица с накрепко зажмуренными глазами.
Такая же ткань угловато топорщилась поверх волос Иры, а половину её лица прятала широкая повязка, как у грабителей банков, только белая.
Она отнесла тебя куда-то, снова вернулась к стеклу окна и сказала, что глаза у тебя синие-пресиние, просто ты уже спишь после кормления.
Чтобы сказать это, она отвязала верхние тесёмки повязки, а нижние остались и повязка повисла под подбородком.
( … прекрасное лицо, под ним бородка! Сфинксы только что покормили своих детёнышей – вот что изображали египтяне…)
Увидев тебя зажмуренную в роддоме, я понял, что теперь мне надо охранять не только Иру, но вас обеих.
По возвращении на Красных партизан 26, я ужаснулся от вида двери в нашу узкую спальню. Просто-таки обляпана грязью; из одного сгустка даже свисала волосина.
Я нагрел воды и вымыл дверь с обеих сторон, а потом и оконную раму.
Чистота послужит линией обороны, как охранительный меловой круг Хомы Брута от Вия и прочей нежити.
Когда Тоня передала мне коляску своих детей, чтоб тебе было где спать, то её я тоже вымыл во дворе под окном спальни и понял, что я прав, когда из сборчатых складок верха выгреб кусок засохшего детского кала.
Нет, я никому ничего не сказал, тут никто ни при чём – это у нас с миром разборка, один на один.
В институте у Иры оставался ещё один госэкзамен. Если пропустить, то придётся ждать целый год и сдавать со следующим выпускным курсом.
Однако, ты родилась удачно – сразу после предыдущего экзамена, так что для вашего пребывания в роддоме оставалась неделя отведённая для подготовки да ещё три дня, потому что на курсе четыре группы и они сдают не в один день, а друг за другом.
На шестой день Ира вышла в комнату для посетителей и сказала, что у тебя уже всё в порядке; опасность желтухи из-за разнорезусных родителей миновала, и можно хоть сейчас домой, если выпишут.
Я развил бурную деятельность; побежал к заведующей родильным отделением, доказывал ей необходимость немедленной выписки в связи с госэкзаменом.
Она начала колебаться, но сказала, что нужно распоряжение от какого-то ещё роддомного начальства, которое сидит аж в каком-то переулке улицы Шевченко.
Я попросил велосипед у незнакомой медсестры – он ждал конца работы прислонившись к стенке здания – и погнал туда.
На автобусных остановках, под бездонным небом с галактическими облаками в недосягаемой вышине, накапливались уже ряды ожидающих. Велосипед проносился мимо них, как метла Маргариты.
Когда я спрыгивал с него у затаившегося в переулке учреждения, ведьмацкий сучонок лягнул меня задним колесом в пах и беззвучно, но радостно заигогокал.
Я вбежал в кабинет, где две женщины дожидались окончания рабочего дня.
Опять начались переговоры и уговоры. Они куда-то позвонили и заявили наотрез – без БЦЖ никакой выписки; завтра сделают прививку и – пожалуйста.
Обратно я ехал помедленней, удручённо вправляя часто спадавшую цепь, вернул велосипед и зашёл в комнату посетителей, где оказалась Тоня.
Я с жаром начал убеждать её, что мы запросто можем похитить Иру и ребёнка, вот только за вещами сбегаю.
Тоня начала обмахивать меня мягким пояском вязаной кофты – жестом «окстись, окаянный!» – и я перестал её пугать, хотя прекрасно понимал, что если не вытащить сейчас Иру отсюда, я непременно её потеряю.
В комнату пришла Ира и вместе с Тоней стала объяснять мне, что один день не играет никакой роли.
Наступил вечер, я проводил Тоню до квартиры родителей, но оставаться в спальне даже с вымытой дверью не мог.
Я снова пошёл к роддому, однако не стал заходить в беседку.
Опять выслушивать крики и вой рожениц у меня не хватило бы сил. Поэтому я отправился в дозор.
Как последний в поле воин-охранитель из дружины дядьки Черномора.
Шёл я замедленной походкой, потому что впереди была ещё целая ночь.
Она оказалась такой тёмной, что проходя мимо пятиэтажки Жомнира я угодил правой ногой в глубокую лужу-выбоину на тротуаре.
Надо же! От дракона увернулся, но рядом с логовом Лавана так опростоволосился.
Я пошёл дальше и под водонапорной колонкой через дорогу от запертых ворот нежинского консервного комбината помыл ногу и выстирал носок.
Из-за поворота к заводу «Прогресс» выдребезжала кавалькада ярко освещённых изнутри, но совершенно пустых автобусов.
Я накрепко выжал носок и одел его обратно.
Так, в одном сухом, втором влажном носке, я пришёл на вокзал.
Дозорному нельзя останавливаться.
Я сделал круг по полутёмному кассовому залу, потом по залу ожидания возле запертого ресторана. Поднялся на второй этаж.
Никогда прежде я не замечал как по ночам меняются глаза людей. Не у всех. Но у некоторых они становятся неестественно остекленелыми.
Таких моё появление пугало и они пытались скрыть свой стеклянный блеск, но я без труда их различал среди ничего не подозревающих пассажиров полудремлющих в ночной тиши вокзала.
Знайте – дозор здесь!
На автомобильном мосту меня застиг дождь. Тихий летний дождь.
Я не собирался идти в Прилуки, поэтому пошёл обратно на Красных партизан.
Дождь не усиливался и не переставал. Мы так и шли вдвоём – не спеша.
Дверь открыл Иван Алексеевич, в прихожей за его спиной виднелась Гаина Михайловна.
– Ты где бродишь? Дождь идёт.
– Он тёплый.
– Может побить тебя?
– Не стоит.
В спальне я сбросил всю мокрую одежду и лёг голым.
Как и во все предыдущие ночи я расправил ночнушку Иры во всю длину и обнял вокруг, чтобы хоть так охранять.
Много позже я узнал, что семья решила будто в ту ночь я ходил на блядки.
Вечером следующего дня я принёс тебя из роддома, завёрнутую в стёганное атласное одеяло и какие-то кружева с тюлью.
Ира шла рядом, с букетом цветов, которые заранее купила Тоня.
Но не розы.
Наутро Ира сдала последний госэкзамен.
Я ждал её под колоннами у входа и, обняв за талию, помог спуститься по крутым ступеням.
На ней была жёлтая вязаная кофта с рукавами на три-четверти.
Староста моей группы, Лида, смотрела со стороны нам вслед и растроганно улыбалась.
Та жёлтая кофта мне нравилась и попалась случайно, когда в универмаг на главной площади завезли товар и Ира послала меня посмотреть что дают.
Как всегда в таких случаях, туда набилась толпа народу.
Кофта оказалась последней и как раз Ириного размера. Пока я радовался удаче, её ухватили какая-то девушка с матерью. Явно из села.
Девушка примеряла и вопросительно посмотрела на мать, которая держала снятую ею куртку.
В универмаг я ходил со Славиком. Мы встали сбоку и начали комментировать.
– Так ничего, только рукава слишком уж короткие.
– Ну, давай ещё чего-нибудь посмотрим.
Мать покачала головой и девушка неохотно сняла кофту.
Я тут же схватил и послал Славика выбить чек.
Ире даже понравилось, что рукава именно на три-четверти.
Всё это было ещё до тебя.
А за твоё рождение, по старинному красивому славянскому обычаю с меня полагался «магарыч».
В ресторане «Чайка» на площади, Славик, Двойка и я распили пару графинчиков водки.
На официантке было платье в чёрно-белую полоску и Двойке понравилось как я её назвал – «строката сукня».
Он потребовал тост.
– Это не просто рождение, это начало новой жизни, а жизнь есть переход из одной формы в другую,– сказал я.– Выпьем же за то, чтоб отныне и впредь мы наполняли лишь прекрасные формы.
Двойка начал выступать, что насчёт форм это я спёр у Томаса Манна. Он тоже читал «Иосифа и его братьев».
Следующий тост я поднял за девочку с прекрасными синими глазами, то есть за тебя.
Двойка сделал умный вид и начал толкать про какие-то каузальные гены – он же с биофака – и что цвет через месяц изменится на карий, возможно, тёмно-карий.
Сучара биофачный со своими каузальными генами!
Перед выдачей дипломов и распределений, выпускников всех факультетов собрали в актовом зале Нового корпуса. Малость потрандели про честь НГПИ, которую надо держать там, где окажемся по распределению.
Потом на сцену поднялся чернявый незнакомец и сказал, что каждому из нас на входе в зал выдали лист бумаги и карандаш.
Следует признать, что не всё ещё хорошо и правильно в наших школах и сейчас нужно написать о том, что нам, выпускникам, не понравилось во время школьных практик, или даже когда мы сами ещё учились. Когда какой-нибудь педагог неправильно повёл себя, на наш взгляд, или высказывался неправильно. Начинать такими словами «А ещё помню как…», а дальше оно само пойдёт.
Он закончил свой инструктаж и мне стало ясно насколько я отстал от жизни.
В КГБ перешли на конвейерное производство шестёрок. Сотни сексотов в один присест!
И без каких-либо наживок в виде разведшколы.
(… в каждом из нас сидит запуганный зверёк и логично мыслит: «не напишу – а вдруг диплом не выдадут или зашлют в дыру дальше некуда?
Ладно, напишу: «один раз – не пидарас».
А именно с этого раза и начинается. Потом, в той дыре, подойдут и сочинение это покажут, ещё чевой-то продиктуют…)
Ладно, бляди, напишу!
В спинку каждого столика в актовом зале вделана такая, типа, досочка из пластмассы. Отстёгивешь в переднем кресле и – пиши на ней.
Я отстегнул и написал.
«А ещё помню как в четвёртом классе моя классная руководительница, Серафима Сергеевна, сказала: «Молодец, Сергейка! Ты больше всех принёс макулатуры!» и меня переполнила гордость и радость.»
( … этот заключительный донос в КГБ я подписал своим настоящим именем и горжусь им поныне…)
Великое открытие Карла Маркса по поводу возникновения прибавочной стоимости осталось, к сожалению, половинчатым.
Он верно отметил, что часть рабочего времени работник пашет на себя, а другую часть на хозяина, но это далеко не всё – главный подвох в том, что невозможно определить на кого конкретно он пашет в ту или иную долю той или иной секунды.
И эта недооткрытая Марксом истина приложима не только к способам производства, но и к любой другой сфере человеческой деятельности.
(Успели записать? Ну, дописывайте, пока я открою вторую бутылку…)
Отсюда вытекает, что в мире нет плохих людей, но не существует и хороших. Добро от зла отделяет неуловимая доля секунды.
По-твоему, он – хороший человек? Наивненький ты мой! Да просто ты ему подвернулся в правильную долю секунды. На полмгновенья раньше или позже и этот вампир оставил бы тебя бездыханным трупом с насухо высосанной кровяной системой и обглоданными лимфатическими узлами!
Или те же ведьмы, которых пачками жгли на кострах освещая мрак средневековья. Мракобесы не понимали, что горят вовсе не те и совсем не в ту секунду.
И так всегда – на костре, на колу, на гильотине, на электрическом стуле, в петле, у стенки; да как угодно! – казнят всегда невинных.
Это – не те; те – не эти.
Но даже и те, в миг злодеяния, всего лишь исполняли приказ.
Чей? На кого пахал?
Да знай я ответ, разве б я тут жил?
Ясно одно – от исполнителя до дона мафии тянется цепочка из нескольких звеньев, отследить которую, практически, невозможно. Потому что, перефразируя излюбленное выражение моего дяди Вади, которое он вынес с уроков истории в средней школе, – «зомби моего зомби – не мой зомби».
Услышав твой душераздирающий крик из спальни, я поспешил туда и успел как раз вовремя. Ты надрывалась в коляске под распахнутой форточкой окна, а твоя бабушка склонялась над тобой и льстиво уговаривала:
– Ангелочек! Ангелочек!
И ты буквально разрывалась от крика.
– Гаина Михайловна! Это не ангелочек, а девочка!
В ответном взгляде тёщи мелькнул отблеск злобы пославшего её, но аргументировано опровергнуть моё утверждение она не могла и молча вышла.
Я точно знал, что уговаривать ребёнка с неокрепшей психикой, ещё плохо ориентирующегося в мире – неправильно. Да ещё при открытой форточке! Типа, лети туда, где хорошо, где порхают такие же ангелочки!
Я начал убеждать тебя, что ты девочка Лилечка, а никакой не ангелочек.
Ты всё ещё плакала, но уже не так истошно – душа не пыталась вырваться из тела…
Но что же не так?
Я переложил тебя на постель и раскрыл пелёнку. Ты плакала, выгибаясь младенческим тельцем.
Причина обнаружилась на подошвах крошечных ступней – их покрывал белесый паутинный налёт той же фактуры, как у пушинок метивших моё пальто.
Я снял его с обеих ножек.
Изумлённо распахнув свои синие глаза, ты умолкла.
Я снова запеленал тебя и отнёс в коляску. Ты уснула.
Твои пелёнки гладил я, чтоб всё держать под бдительным контролем.
И я же развешивал стирку на общих верёвках во дворе.
Они солнцеобразно расходились от центрального столба, как спицы от маточины в колесе.
Под ними я узнал, что в этом мире у меня есть союзники.
В одиночку вряд ли бы я решил проблему о том, как правильнее развешивать пелёнки – изнанкой или лицом на верёвку?
Одну я повесил так, вторую эдак. И тут с небес, на столб по центру, спустился белый голубь и протестующе взворковал…
Спасибо, друг! Буду знать!
С тех пор пелёнки я развешивал исключительно лицевой стороной к верёвке.
Жомнир вдруг утратил интерес к моим переводам Моэма; перестал жизнерадостно грозиться повезти их в Киев на «засватання», начал вяло пояснять, что нужно учитывать коньюктуру. На будущий год исполняется столетие со дня рождения другого английского писателя. Было бы легче. А Моэм, вообще-то, голубой…
Ну, допустим, переводя рассказ про самоубийцу пианиста я и сам слегка догадался о его голубизне. Однако, в какой сточной канаве был бы сейчас этот мир без голубого Чайковского?
Или Моэм, или ничего!
Александр Васильевич пожал плечами.
В гостиной на Красных партизан, я, в присутствии Гаины Михайловны, пожаловался Ире о двурушничестве Жомнира. Они обе знали о моих неясных намерениях стать литературным переводчиком.
Ира заохала, а тёща, без комментариев, вышла и вернулась с пудреницей.
Она открыла её, припудрила лицо перед зеркалом шкафа и так же молча унесла обратно.
Всё.
Вечером в дверь квартиры позвонил Жомнир и пригласил меня выйти во двор.
У дверей подъезда стоял его велосипед. Под тёмной листвой густых вишен, позади общих бельевых верёвок, уже собирались сумерки и ползли к развешанным стиркам.
От предыдущей пятиэтажки № 24 группа «Eagles» выдавала «Отель Калифорния»:
Warm smell of colitas rising up in the air…Тогда я ещё не знал до чего трагически жуткий финал в этой песне, а просто балдел от гитарной партии…
Жомнир явно завидовал окружающей атмосфере, но перешёл к делу – мои переводы уже не черновик, но всё ещё «серовик». Он не настаивает на смене автора, но пусть это станет беловиком.
Он уехал, а я уважительно восхитился мастерству старой школы.
Пускай они понятия не имеют о программировании через текст и наивно верят в чары варёной колбасы, но всего одним припудриванием взять Жомнира за жабры!..
Ай, да тёща!
Пелёнки я гладил не только из охранных соображений, но и чтоб время скоротать.
Ира, как мать с ребёнком, освобождалась от отработки за диплом. Меня распределили куда-то в Закарпатье, но я не очень-то вникал куда, потому что работать в школе не собирался нигде и никогда.
Гаина Михайловна – раз уж я такой храбрый – подала идею последовать примеру комсомольцев былых поколений – они безоглядно отправлялись строить новые города, которых и на карте ещё нет. Вот, кстати, статья в газете, что возле Одессы строится город-порт Южный.
Было принято решение, что я отправлюсь туда, когда тебе исполнится один месяц, потому что Ире пока одной трудно.
Вот я и коротал предстартовый месяц пелёнками и прогулками с коляской, в которой спала ты.
Только мне настрого запретили опускать верх с наброшенной тюлью, чтоб не сглазили. А когда ты пройдёшь медосмотр в конце месяца, тюль можно снять и ограничиваться обычной булавкой против сглаза.
Из Конотопа приехал мой брат Саша и ты совершила свой первый выезд в Графский парк.
С нами пошли ещё Славик и Ира. Мы со Славиком раскумарились возле озера, а брат мой таким не баловался.
Возвращались мы через калитку возле здания музпеда, где надо переступать железную полосу приваренную высоко на землёй и коляской там не проехать.
Я томно попросил Славика помочь перенести, но как только он протянул руки ухватить коляску спереди, Саша вдруг вызверился и без обиняков гаркнул на Славика:
– Пошёл отсюда!
Славик послушно стушевался и тебя перенесли мы с Сашей.
Мне было приятно и гордостно, что у меня такой брат, а у тебя заботливый дядя – не уступил племянницу Славику.
Второй твой выезд туда же состоялся по приезду из Киева брата Иры.
Игорь был с женой и она его постоянно шпыняла, а он примирительным тоном пытался сглаживать острые углы.
Мне тогда подумалось, что у неё, наверно, ПМС, но в дальнейшем выяснилось, что ПМС этот у неё пожизненно.
Во время прогулки она то и дело раскрывала свой зонт и тут же начинался дождик.
На десятый раз Ире тоже дошло в чём причина и следствие. Она попросила жену Игоря больше не раскрывать зонт.
Та обрадовалась, что её заметили и оценили, и на обратном пути дождя уже не было.
Семейным прозвищем Ивана Алексеевича было «князь» и такое обращение его тешило.
Ну, ещё бы – из крестьянских мальчиков да в князья!
Хотя по внешности ему оно подходило, особенно когда раскроет газету – весь такой сытно вальяжный, в белой майке и синих штанах от спортивки.
Вобщем, баловали его этим прозвищем и было за что; ведь он – добытчик.
В эпоху дефицита не только свадебные костюмы дефицит, но также и некоторые виды продуктов. А тесть мой их добывал. Однажды привёз даже целый мешок гречки.
Привёз и поставил на кухне, у батареи центрального отопления под подоконником.
В левом углу от окна газовая плита, в правом колонка титан для нагрева воды, а как раз посередине этот мешок гречки.
И правильно – есть чем гордиться; люди специально в Москву за гречкой ездят, а тут вон целый мешок.
( … это как предмет гордости, охотничий трофей, типа бивней на стене, или меча от рыбы, или … эти, ветвистые… вобщем, тоже на стену вешают…)
Ну, погордись ты неделю, пусть – две, а то уж скоро месяц, как этот мешок обходить приходится, уже и тёща ворчит, а в ответ.
– А? Ну, да…
И опять уткнулся.
Но тут мне подвернулась одна из прочитанных им газет, а в ней статья на археологическую тему. Саму статью я не стал читать, мне просто заголовок понравился. Броский такой. Мне даже туалет общаги вспомнился.
Сложил я эту газету определённым образом, чтоб один заголовок только виднелся, отнёс вечером на кухню и нежно так – голубоватым жестом – разместил его поверх мешка с гречкой.
Потом вернулся к двери, потушил свет и ушёл спать, оставив в темноте мешок с заголовком ГРОБНИЦА КНЯЗЯ.
Утром мешка не было.
Всё-таки, как зять, я – классический «отэ́ падло».
За день до отъезда я съездил в Конотоп, чтоб повидать Леночку, которая отдыхала в пионерлагере на Сейму.
Она там подтвердила, что я ей папа и отрядная воспитательница позволила нам покинуть территорию.
В сосновом лесу Леночка подобрала серое перо неизвестной птицы и я сунул его ей в волосы и дальше оно там само держалось.
( … индейцы не дураки – такие перья делают человека частью свободного мира, возникает сопричастность, контакт и взаимопонимание…)
Когда мы возвращались в лагерную цивилизацию, вовремя подбежавший порыв ветра встрепенул ей волосы и унёс перо.
Она даже не заметила.
~ ~ ~
~~~парад планет
В день отъезда всё висело на волоске, точнее на паутинке.
Я это заметил, когда вышел в подъезд раскумариться. В квартире я вообще не курил.
Паутинка свисала от верхней перекладины рассохшейся дверной рамы входа и на конце её болталась обгорелая спичка.
Долго ли продержится?
Горелые спички в щель над рамой всегда засовывал я, потому что в подъезде урны не было.
После того как Тонин Игорёк изобличил мою связь с коноплей, мне было без разницы что в моём дыму унюшат проходящие мимо соседи.
Сколько выдержит паутинка?
Я выглянул из тени подъезда во двор.
В расплавленном от зноя небе проплывала эскадрилья чёрных воронов. Они не шевелили крыльями – слишком жарко – и, зависнув в парении на северо-восток, даже чёрные перья на концах своих крыльев держали врастопырку, чтобы их обвевало.
Успею ли?
Ира провожала меня на электричку до Киева. Когда мы подымались в автобус, с какого-то балкона соседней пятиэтажки мне вслед взрыднула Пугачёва:
Приезжай хоть на денёк!..Вещей у меня немного было – портфель с книгой рассказов Моэма на английском языке (в мягкой розовой обложке, издательство «Просвещение»); англо-английский словарь Hornby; тонкая школьная тетрадка с началом перевода рассказа «Дождь» (черновой карандашный вариант с исправлениями); паспорт, трудовая книжка, военный билет и принадлежности для бритья.
В синей спортивной сумке с плечевым ремнём уложена смена белья, джинсы и пошитая матерью зелёная куртка.
В электричке я забросил их на вагонную полку из тонких трубок и вышел обратно на перрон. Ира нервничала, что двери захлопнутся и электричка уедет без меня. Я поднялся на одну ступеньку и стоял там, ухватившись за никелированный поручень.
– Дома на подоконнике я что-то оставил – пусть так и будет до моего приезда.
– Что?
– Сама увидишь. Я приеду за вами ровно через месяц.
– Как туда доедешь, сразу позвони.
Это был последний вагон.
На перрон прибежала какая-то старуха, о чём-то спрашивала, но я не слушал и не слышал – смотрел на Иру, пока динамики в вагоне не прокричали «Осторожно! Двери закрываются!» и те отрезали меня от неё.
Электричка потянула, прибавила ходу и застучала по рельсам в сторону Киева.
Накануне вечером мы с Ирой выходили за покупками, но универмаг оказался уже закрытым, хорошо хоть киоск рядом с ним работал.
Там сидела дебелая цыганка средних лет и я купил у неё новый прибор для бритья, помазок, зеркальце и два платочка.
По полю каждого бежали ряды волнистых тонких линий, типа, море, а в центре – кружочек.
У одного в кружочке маленький парусник-яхта, а у другого – якорь.
Платочек с парусником я увожу с собой, а тот что с якорем оставлен на подоконнике.
Когда я приеду, приложу их – кружок к кружку. Кораблик на якорь.
Это будет ритуал возвращения.
А поздно вечером Гаина Михайловна вдруг начала сомневаться и говорить, что никуда не надо ехать, а купленный в предварительной кассе билет ещё не поздно сдать обратно.
Я ошалел – как обратно?
В разговоре ещё участвовали Тоня и Ира, а тестя срочно вызвали на хлебокомбинат.
Не подымая глаз от клеёнки на столе, тёща невнятно говорила про какое-то сложное положение, вон и Ваня не смог пробиться.
Муж Тони, Ваня, за неделю до этого отправился было в Закарпатье, но через день, не доехав, вернулся из Киева – я так и не понял почему – и теперь он отсиживался в спальне со своими детьми.
На тот момент я уже понимал, что в мире идёт непрестанная битва – но между кем и кем?
Конечно, всё это прикрывается поверхностным слоем обыденной жизни, но сквозь него я уже начал подмечать прогалы, нестыковки, тайные сигналы; начал улавливать, когда люди проговариваются о чём-то запредельном для обычной жизни.
Точно – люди?..
Ну, я не знаю как ещё назвать.
Проговариваются? О чём?
О том, чего не бывает в жизни к которой нас приучают… Ваню отрядили, как эмиссара, он не пробился… а вы за кого?.. ЧП на хлебокомбинате – часть вселенской битвы…
Кто за кого? Кто на кого?..
За чёрным окном гостиной грянула гроза. Шум воды перемежался раскатами грома. Сверкали вспышки молний. Столб ослепительного свет ударил в трансформаторную будку во дворе. Вокруг воцарил мрак.
Тоня ушла в свою спальню – успокоить детей и Ваню.
Она вернулась оттуда с горящей свечой.
В её мерцающем свете я увидел, что говорю с матерями. С теми самыми, которых так вскользь и с опаской упомянул Гёте.
Три матери – старая, но могучая, средняя и – начинающая; Ира. Она мне не союзник, она одна из них. Мне нужно их убедить, иначе ничего не выйдет.
С бушующей за стёклами грозой и моргающей свечой на столе, я всё же получил «добро» от матерей.
В заключение Гаина Михайловна сказала:
– Если что-то не так… совсем… в крайнем случае… обращайся к главному.
Ночью я видел вещий сон.
В помещении из бледно-серых стен я, затаившись, лежал на каталке под холодным флуоресцентным светом из потолка, а вокруг стояли кто-то в белых халатах.
Стоящий у меня над головой проговорил:
– Если убрать жир, то может и получится…
И я знал, что тот в белом халате, который это сказал – это тоже я.
Бросив неприметный взгляд на свой живот лежащего на каталке, я сквозь прозрачность кожи увидел тонкое напластование желтоватого жира…
Я вышел в тамбур и забил косяк. В небе за пыльным стеклом дверей плыла стая морских коньков, подвернув хвосты колечком себе под брюшка; по росту – от большого к маленькому.
Тоже любят строй, как те белые слоники.
Электричка спешила дальше, но не могла убежать от них.
В тамбур вышел мужик с рядочком медалей на пиджаке. Ветеран войны. Вот кто знал с кем и за что…
Мы завели дружелюбную болтовню ни о чём.
На остановке с перрона зашёл человек со связкой длинных реек. Он разделил нас ими и прошёл в вагон.
Ветеран вдруг испуганно уставился в верхний угол тамбура позади меня.
Я знал, что там ничего нет, но раз он разглядел, значит есть и я зашёл в вагон под полку с моими вещами, потому что приближался Киев.
На вокзале я отнёс вещи в прохладный подземный зал автоматических камер хранения, а затем из правого угла привокзальной площади спустился по крутой и длинной лестнице к столовой, которую ещё нам с Ольгой показал Лёха Кузько.
Внизу лестницы я закурил косяк, но перестал затягиваться, когда мне навстречу притопал от столовой взвод милиционеров.
Так и пришлось пройти сквозь строй с косяком в руках.
После столовой я вернулся на вокзал и начал обходить его.
Стеклянноглазых было меньше, чем в ночь обхода нежинского вокзала, но иногда попадались и сразу делали вид, что они тут просто так.
Я поднялся даже на третий этаж, где комната матери и ребёнка, и объяснил дежурной в коридоре, что через месяц буду тут проездом с женой и дочерью-младенцем, вот и ознакамливаюсь с условиями.
Вобщем, ничего тут у вас – чисто. Спасибо.
Возле туалетов на первом этаже молодой милиционер с тёмно-фиолетовым фингалом под глазом старательно не смотрел на меня, хотя мы оба знали что фингал ему навешен за то, что я прошёл сквозь их строй и что он, потерпевший во вселенской битве, этого мне не простит.
Потом я долго стоял в зале ожидания на втором этаже перед прилавком «Союзпечать», со стопкам различных газет, журналами, почтовыми конвертами.
Но всё это время я смотрел только на одну открытку. Там было синее-синее небо.
Мне пришлось долго ждать, пока не раздались шаги за спиной.
Я не оборачивался.
Шаги остановились. На синий цвет легла монетка размером с радужку.
Я повернулся и, не оглядываясь, ушёл – теперь никакие каузальные гены не сменят цвет твоих глаз на карий.
Только тут ко мне прорвался голос вокзальных репродукторов:
– Поезд Киев-Одесса отправляется от третьей платформы. Просим провожающих покинуть вагоны.
В ту пору никакие, даже самые смелые, умы в безудержных полётах своих фантазий и не помышляли об установке камер наблюдения в общественных местах.
Что же, в таком случае, стало причиной непонятной сцены случившейся вечером того же дня в очереди пассажиров ожидающих автобус «Полёт» на остановке у киевского автовокзала междугороднего сообщения?
Ответ один – бдительность таксиста.
( … под «причиной» тут подразумевается привычное понимание данного термина при описании реалий окружающей действительности посредством подстановки какой-либо из давно известных и ортодоксально согласованных причинно-следственных связей.
Сам же я в тот момент был слишком поглощён попытками увязать открывшуюся мне прерывистую цепь трансцендентальных символов и знаков различной значимости с тем, чтобы выйти на новый уровень понимания мира и моей роли в нём …)
Итак, вернёмся к водителю такси на стоянке у подземного перехода к залу автоматических камер хранения при киевском железнодорожном вокзале поездов дальнего следования.
В 17:06 из перехода поднялся молодой человек лет двадцати пяти-семи, рост один метр семьдесят восемь сантиметров, шатен, волосы прямые, с подстриженными усами.
На нём был серый пиджак и серые брюки, несовпадающего с пиджаком оттенка. Под пиджаком виднелась летняя рубаха синего цвета.
Шатен был явно чем-то расстроен и, сев в такси, предложил водителю спуститься вместо него в подземный зал и принести портфель и сумку из указанной камеры, шифр которой он назовёт.
Водитель, естественно, отказался.
Шатен впал в задумчивость, крутя в пальцах обгорелую спичку, затем вздохнул, сломал спичку, стиснув её в пальцах правой руки, попросил немного подождать и скрылся в подземном переходе.
Через пять минут он появился снова и попросил отвезти его на автовокзал.
По прибытии в указанное место, он расплатился, повесил сумку на левое плечо, взял портфель в ту же руку и, захлопнув дверцу, типа, неприметно протёр её никелированную ручку полой своего пиджака, чтоб уничтожить, по всем канонам криминальных фильмов, свои отпечатки пальцев; после чего скрылся в здании автовокзала.
Что оставалось делать водителю?
Он позвонил оперативному работнику, в штате которого числился секретным сотрудником с псевдонимом «Трактор».
Чему стала свидетелем очередь пассажиров, в которую встал и я, вернувшись из здания автовокзала после посещения там мужского туалета и пятиминутной остановки в вестибюле для разглядывания многометрового плаката «Летайте самолётами Аэрофлота!» с улыбающейся стюардессой в пилотке?
Неподалёку от остановки резко остановилась чисто вымытая машина «жигули» ярко-красного цвета. Из неё вышел темноволосый мужчина в тёмных очках, подошёл ко мне и, протянув ключ зажигания на связке с другими ключами, сказал:
– Садись в машину, сейчас поедем.
Я молча отвернулся.
Мужчина проследовал в здание автовокзала.
Вскоре из-за правого угла здания появились два молодых человека – один в форме милиционера, второй в гражданке – и заняли позицию сбоку очереди.
Из-за левого угла вышел тот же мужчина в тёмных очках со спутником невысокого роста, в кепке.
Мужчина остановился с другой стороны очереди, а человек в кепке – явный ханыга и алкаш – смешавшись с очередью, приблизился ко мне.
Он стал тереться об меня сзади. Очередь непонимающе оглядывалась. Я безучастно стоял с сумкой на одном плече и портфелем в другой руке.
Неприглядную сцену прекратило появление автобуса с надписью «Полёт» на борту.
По пути в Борисполь я не отвечал на недоуменные взгляды попутчиков, возвращаясь умственным взором к тому, чего не подсмотрела тогда ещё не установленная камера наблюдения в пустом мужском туалете автовокзала.
Я подошёл к наклонному корыту общего писсуара и высыпал туда горчично-коричневый порошок всей «дури», что была при мне. Упаковочный лист бумаги я смял и бросил в урну.
Всё по канонам криминальных фильмов с участием Бельмондо в главной роли.
( … так что меня можно программировать не только текстом, но и через фильмы тоже.
В дальнейшей жизни, вплоть до текущего момента, я не курил ни «дури», ни анаши, ни «дряни» ни иже с ними …)
В аэропорту Борисполя я сдал багаж в неавтоматическую камеру хранения – пускай проверят и убедятся, что нет смысле тереть об меня своих ханыг-провокаторов.
Билет до Одессы на пролетающий из Москвы самолёт стоил 17 руб., что не превышало остававшейся у меня для прожития до аванса на стройках города-порта Южный суммы в 20 руб.
Одесский аэропорт я в темноте не разглядел и оттуда автобусом доехал до автовокзала, который оказался абсолютной копией киевского и где все кассы были уже заперты, но камера хранения ещё работала и в зале ожидания имелись скамьи для ночёвки сидя.
Конечно же, я чувствовал себя победителем, поскольку, несмотря ни на что, сумел прорваться через Киев. Головокружение от успеха заверяло меня в полной своей неуязвимости.
Возвращение к реальному положению вещей оказалось не слишком приятным, когда к заднему выходу потянулась разрозненная шеренга пассажиров на первый утренний автобус, минуя, друг за другом, то место, где в полудрёме сидел я, откинув, с демонстративной наглостью победителя, голову на беззащитно открытой всем и вся шее поверх спинки скамьи.
Боль от иглы правее кадыка заставила меня ухватится за кожу в районе сонной артерии.
Разумеется, никакой иглы там не оказалось, но ощущение глубоко вонзённой или, скорее, впопыхах выдернутой оттуда иглы долго не проходило.
Ближайшие полчаса я морщился и потирал пустую шею.
В кассе мне ответили, что в Южный отсюда рейсов нет, туда ходят автобусы местного сообщения и мне нужно на автостанцию номер три у Нового базара.
Добравшись туда и стоя перед расписанием, где в разные часы повторялась строка «Южный», «Южный», «Южный» – я решил, что до отъезда должен прогуляться по Одессе, ведь это ж – боже ж ты чёрт побери мой!! – Одесса-мама!
Ё-моё! Я – в Одессе!
В конце небольшого зала стояли всего пара секций автоматических камер хранения. Все ячейки оказались запертыми, за исключением одной в верхнем ряду.
Я положил туда вещи, набрал шифр, опустил в щель 15 копеек и захлопнул дверцу. Она не запиралась, вот почему и камера свободна.
Я достал портфель, вынул документы и рассовал по внутренним карманам пиджака, потом поставил портфель обратно и потихоньку прикрыл дверцу, чтобы та не распахивалась.
На гребне подкатывающей эйфории я вышел из автостанции в Одессу.
Не каждому выпадает в жизни испытать полное счастье.
Я – счастливчик; более того – могу указать время и место испытанного мною абсолютного счастья. Это те несколько часов моего первого выхода в Одессу.
Улицы, по которым я шёл, наполнялись радостными бликами солнца.
Я был частью всего вокруг и всё было частью меня в этом незнакомом городе, где каждый узнавал меня и все так давно меня ждали.
Мне передавалось о чём думают люди и я мысленно отвечал им.
Вот идёт навстречу женщина, радуясь собственной красоте.
Что ж, есть чему! Ах, хороша!
И она победно расцветает.
Но у меня есть Ира.
Женщина грустнеет и потупясь проходит мимо.
Скучающему кавказцу средних лет я подбрасываю мысль: «Э, Джавад! Помню твой удар кинжалом!»
И плечи его горестно осели, он, дёрнув усом, заугрюмился от нежданно всплывшего воспоминания про вероломный выпад неизвестного ему Джавада.
Ладно, не будем о грустном!
Мимо спешит быстроногая стайка пионерского звена в алых галстуках и белых рубашках. Спешат на торжества по случаю прибытия меня.
Я захожу в большой книжный магазин, сделать выбор на будущее. Общаюсь с продавцами и посетителями не раскрывая рта.
Прохожу по знаменитой лестнице с памятником Ришелье, который не кардинал.
В зелёной роще неподалёку опять пионеры, но другое звено и мне уже приходится подать голос – слишком уж увлеклись наблюдением обыденных вагонов с товарами для порта.
– Пионеры! Кораблю красивее вагонов! – кричу я им.
Они, оглянувшись, улыбаются – узнали меня.
Таксист отвозит меня в ресторан «Братислава», который днём столовая; показывает откуда надо заходить по будням, но сегодня праздник – мой приезд; и он тоже знает, что это долгожданный я.
Помыв руки и освежив лицо под краном в туалете, я подымаюсь на верхний этаж.
Официантка приносит суп. На скатерти заглаженная утюгом складка. Я провожу по ней ладонью – складка исчезает.
Ну, ещё бы – после стольких пелёнок могу разглаживать простым возложеньем рук.
Я приступаю есть рыбный суп по рецептам портового города. Зал пуст.
Неподалёку возвышение с колонками и усилителями ресторанной группы.
Что бы такое послушать? Ну, пусть будет «Smokie».
Я щёлкаю пальцами. Тишина.
Что такое? Я не всемогущий?!! Или по другому включается?
И тут меня охватывает сокрушительное, как нежданный удар, чувство просчёта. Где-то допущен непоправимый просчёт. Где-то я ошибся.
Не могу есть суп. Рис превратился в мелко дроблёные ракушки и те осели на дно тарелки слоем мелких перламутровых осколков.
Где-то я ошибся. Что-то я забыл. Но что?
Я начинаю ходить от стола к столу. Подошедшей официантке объясняю, что я не могу есть, я что-то забыл.
– Что?
– Я забыл пиджак в туалете,– говорю я первое, что взбрело на ум.
И в этот миг дверь в зал приоткрывается и аккуратненький пенсионер объявляет, что меня зовут в раздевалку.
Я спускаюсь вниз – к барьеру раздевалки, где женщина с одесским выговором отдаёт мне пиджак, который тот старичок принёс ей из туалета.
– А ведь полные карманы были…– с укором говорит мне она.
Я подымаюсь наверх заплатить за суп из перламутра.
Это как в той настольной игре, когда подымаешься всё выше и выше по извилистой дорожке из цифр, а потом стремительно скатываешься в трубу прочерченную до самого низа.
Я выкатываюсь на улицу из ресторана «Братислава», где сознательно оставил в туалете свой пиджак, потому что в нём документы и деньги, а я вступал и был принят в новый сверкающий мир, где деньги и документы ни к чему.
По пути на автостанцию я замечаю длинную прореху у себя на брюках. На бедре. От правого кармана. И дальше уже иду прикрывая её пиджаком с пустыми карманами – без даров от нового мира, которые не сумел сохранить.
В автоматической камере хранения моих вещей не оказалось.
На последний рубль я покупаю билет до Южного и вместе с копейками сдачи прячу в задний карман.
Автобус битком; пассажиры стоят в проходе. Моя соседка по сиденью, неслышно вздыхая, трёт несводимое пятно на своей юбке.
Я знаю, что её запятнанность – моя вина, как и то, что душный автобус останавливается у каждого светофора – на каждом горит красный.
Потом он долго стоит на перекопанной траншеями улице, пропуская нескончаемую дружину недовольных пионеров, что плетутся в пыли вдоль земляных куч.
Моя вина – испорчен праздник.
На остановках за городом пассажиры мало-помалу покидают автобус; я тоже выхожу на предпоследней – неправильно явиться в Южный с такой прорехой, как раненый копьём в ногу Спартак.
На окраине посёлка я уважительно здороваюсь с пацаном лет двенадцати и прошу иголку с ниткой.
Он понимающе отводит меня в укромный бурьян позади забора из крупных каменных кубиков с широкими швами раствора кладки, уходит и возвращается с другом, у которого есть игла на длинной чёрной нитке.
Пацаны садятся на забор спиной ко мне, я снимаю брюки и начинаю зашивать лопнувший шов.
По ту сторону забора визжат колёса, грохочут моторы машин по непростым дорогам нескончаемой вселенской битвы.
Пацаны сидят, как будто вовсе не при чём и это не за их спиною, в бурьянах, член РВС штопает рану на бедре.
С благодарностью возвращаю им иглу с ниткой.
Оставшись один, я достаю «Беломор», закуриваю, и целиком вгоняю остаток обгоревшей спички в землю.
Как она взвыла!
Истошно отчаянным голосом – та пегая корова под деревом неподалёку.
Да не знал же я, что всё настолько тесно связано!
И я пошёл сквозь плотные заросли ивняка, над которым зависла в вышине большущая, как аист, птица в сопровожденьи неподвижного эскорта из птиц поменьше.
Так вот он – главный.
Бог ты или дьявол мне уж не понять, всё чересчур смешалось, слишком сплелось и спуталось в этом мире.
И – вот он я, и у меня нет ничего, лишь документы, блокнотик, ручка и платочек с корабликом. Давай же заключать договор, ведь, кажется, так положено?
Я вынимаю ручку и автобусный билет.
Как составлять подобный договор мне не известно, поэтому я просто ставлю подпись пониже ряда цифр выбитых кассовым аппаратом автостанции.
Ручку кладу в карман, а билет на листья гибкой ивовой развилки.
Я оборачиваюсь спиною к договору – играем по-честному, без подглядки.
Резкий порыв ветра взвихрил кусты, но когда я обернулся билет оставался всё на той же развилке, только был перевёрнут на обратную – чистую сторону.
Так вот какая у тебя подпись? Чётко – такую не подделать!
Я вышел из ивняка к высокому кирпичному корпусу, похожему на центральный склад завода КПВРЗ, и начал спрашивать где тут отдел кадров.
Мне сказали, что всё уже закрыто, но после второй смены пойдёт автобус в город, надо подождать. Я долго ждал, потом долго ехал сквозь ночь маленьким автобусом ПАЗ.
Попутчики, по двое-трое, покидали салон на тускло освещённых улицах, пока водитель не сказал, чтобы и я сошёл на углу большой пустынной площади.
Впереди мерцали фонари неширокой улицы и я пошёл вдоль заборов, потом свернул влево. На следующем раздорожьи я снова выбрал левый поворот.
У себя за спиной я услышал цоканье когтей по асфальту. Судя по звуку, это была очень большая собака, но я совсем не боялся и не оглядывался, а просто шёл дальше.
Впереди открылась та же самая площадь и, не доходя до неё метров двадцать, я остановился.
Да, точно – здесь мой пост.
Жёлтый свет истекал от фонарного столба, но я стоял так, чтобы он не доставал мне до ног.
От тёмной пятиэтажки слева через дорогу, крадучись, перебежала кошка во двор одноэтажного дома и там радостно забряцал цепью пёс, к которому явилась на свидание кошка.
Порой перепадает и рабам.
Ночь шла, а я недвижно стоял, делая вид, что не при чём и не имею отношения к этому скрежету за чертой горизонта, где стопорилось движение вселенского механизма из-за моей промашки.
Когда сзади подъехал самосвал, я не уступил дорогу, а лишь вскинул вверх правую руку – ведь это мой пост.
У сидящих в кабине не было голов, непроглядно чёрная тьма отрезала их им по плечи освещённые фонарём со столба.
Спустившийся из кабинки водитель оказался с головой и даже в кепке. Он бережно отвёл меня в сторону.
Я не оказывал сопротивления.
Самосвал уехал, увозя второго с аспидно-чёрной тьмой на плечах.
На дороге прочертились чёрным следы его покрышек. Так оставлять нельзя, по этим указующим знакам последует тьма.
Я принялся затирать следы подошвами своих туфлей.
Надолго ли их хватит?
Подымался ветер, от площади прибежала потереться мне об ногу распахнутая газета.
Я различил заголовок «Гробница князя». Долго же ты добиралась.
Она прощально шелестнула и поскользила дальше по асфальту.
Небо стало сереть. Усталая, но довольная кошка осторожно вернулась через дорогу к пятиэтажке продолжать свою великосветскую барскую жизнь в благородном сословии; вслед ей раздавался скулёж отчаянья и умоляющее звяканье цепи.
Наступил рассвет, но я так и стоял на посту, пока далеко на площади не появилась женщина в белом платье. Она прошла влево, к невидному от моего поста краю площади.
Вскоре вслед за ней появилась старуха в чёрном и пошла туда же, толкая перед собой детскую коляску. Но я знал, что в коляске нет никакого ребёнка. Там у неё яйца – белые круглые яйца.
Гроздьями.
И я понял, что теперь мне можно оставить этот пост и вышел на площадь.
Я шёл по пустым улицам, пока не свернул в дверь проходной какой-то фабрики.
В тесной дежурке я попросил воды у высокого старика в очках, чёрной робе и кепке.
Он дал мне стакан воды и мы с ним оба внимательно следили проглочу ли я чёрную соринку, что плавала на поверхности.
Я выпил до дна. Соринка осталась на стенке.
Чёрный старик сказал мне как пройти в Бюро по трудоустройству.
Бюро оказалось запертым, но потом пришла женщина с ключом и открыла. Я сказал, что ищу работу, а она ответила, что нужно подождать ещё одну работницу, которая скоро придёт.
Недалеко от Бюро нашлось открытое молочное кафе.
На остававшиеся копейки я купил большую бутылку молока, но выпил только половину. Над высоким стаканом из тонкого стекла я произнёс последнюю фразу Ромео:
– Пью за тебя, любовь!
И потом выпил.
Когда я вернулся в Бюро, вторая работница тоже уже пришла.
Намётанным глазом я сразу определил, что она – это смерть, а та, что пришла первой – любовь.
Смерть просмотрела мои документы и недовольно объявила, что я уже бывал в разводе, а любовь улыбнулась и сказала – ну, и что?
Потом она вышла в другую комнату позвонить, а я остался с недовольной смертью, чем-то похожей на Ольгу. Возможно крашенными волосами, только длиннее.
Вернувшаяся любовь сказала, что для меня нашлось место в одесском шахтоуправлении, мне надо пойти на площадь Полярников и встретиться с главным инженером и ещё передать ему, чтобы он прислал ей машину, а то она забыла сказать.
Машину для Марии. Хорошо?
Главный инженер сказал, что в самом управлении мест нет, а есть только работа крепильщика на шахте, но у меня высшее образование.
Я заверил, что оно не помешает и он повёз меня загород в кузове грузовика.
Вместе со мной в кузове ехал высокий белый, но обшарпанный холодильник и две чёрные цепи, как от бензопилы, но намного длиннее.
Они походили на змей и от тряски всё ближе подбирались ко мне по доскам пола кузова.
В посёлке Вапнярка мы заехали на территорию производственного вида.
Инженер сказал мне сбросить цепи и я швырнул проклятых змеищ через борт в глубокую лужу, хотя там было и сухое место.
– Ты что творишь?!– крикнул главный, но я видел, что ему понравилась эта расправа.
Водитель поволок утопленниц в раскрытую дверь склада.
В другом месте посёлка мы сгрузили холодильник в один из дачных домиков обнесённых невысоким общим забором-оградкой. Главный воткнул его шнур в розетку для пробы и тот довольно заурчал.
– Чуть не забыл, Мария просила прислать ей машину,– сказал я, хотя на самом деле всё время помнил, просто выбирал правильный момент.
Главный показал как пройти к водопроводному крану на улице. Я пошёл туда, скинул пиджак и вымыл руки по локоть, лицо и шею.
С одной стороны от меня стояли два милиционера в офицерских погонах, с другой двое военных в общевойсковой форме и терпеливо ждали пока я плескаюсь, потому что я с главным и после воды из этого крана никакая игла не прокусит мне шею.
Я отошёл, утираясь сразу промокшим крошечным платочком.
Грузовик снова выехал на шоссе и повёз меня дальше.
Дорога пошла резко вниз и справа открылось пустое пространство. Необозримое поле.
Я не понимал что это такое, но через секунду оно пришло в движение и длинные невысокие волны с белыми гребешками побежали к берегу.
Так это же море!
Я достал блокнотик и, сверяясь с часами на руке, вписал рядом с задней обложкой:
«20 июля 1979 г. 13 : 30 :15 Ира Сергей Лилиана»Шоссе пошло вгору. Наверху подъёма грузовик свернул влево на грунтовку и через окраину посёлка выехал в поля, где дорога пролегала вдоль лесополосы, а через два километра, после длинного пологого спуска подвела к двум-трём строениям барачного типа, миновала их и ещё через сотню метров закончилась в широком котловане с пещерой-туннелем в одной из стен, куда уходили рельсы узкоколейки мимо домика конторы шахты «Дофиновка».
В затенённой комнате стояли три старые кресла с деревянными подлокотниками.
В одном, спиной к шторам окна, сидел мастер шахты; лет сорока пяти, лысеватый, с усами.
Из кресла напротив главный инженер со смехом рассказывал, как я сбросил цепных змей в воду.
Мастер не разделил веселья по поводу моего промаха.
Инженер послушно стих и по его настороженной уважительности к сидящему напротив было видно, кто тут на самом деле главный.
Я сидел справа от мастера и, по его слову, протянул ему свой паспорт, малость стесняясь замызганности страниц.
Он раскрыл книжицу и, не прикасаясь к страничкам, провёл над ними правой ладонью. Бумага на моих глазах просветлела и наполнилась жизнью, словно только что из типографии, даже слегка лучилась прозрачным сиянием.
Мы с главным инженером заворожённо наблюдали, нам не дано творить чудес.
Теперь яснее ясного – кто здесь главнее.
Похоже, я, таки, дошёл до самогó.
Он давно покинул облака и принял вид мастера на неприметной шахте.
Его имя? Нельзя поминать всуе, могу лишь поделиться, что отчеством он «Яковлевич».
Я сказал, что все мои вещи пропали на автостанции и у меня совсем нет денег, а мне нужно позвонить жене – она волнуется.
Главный инженер тут же протянул мне синюю пятирублёвку и сказал, что жить я буду в общежитии, что у въезда в котлован.
Мне не требовалось объяснений, что и общежитие и шахта – это просто видимость и нужно постоянно быть начеку, поэтому я снял с купюры тёмную пушинку-метку и, избавляясь, нежно положил её на подлокотник кресла.
Помимо исполнения своих непосредственных обязанностей – сперва крепильщика, а затем помощника камнерезной машины, не считая сопутствующих заданий – я пребывал в напряжённом поиске ответа: что же скрывается за всей этой видимостью?
Искал я его также и в Одессе, куда нередко наезжал, чтобы звонить в Нежин по междугороднему телефону из переговорного пункта на улице Пушкинской.
Откуда деньги? Занимал в общежитии до аванса или зарплаты у Славика Аксянова, или у его жены Люды.
В, якобы, общежитии, из, якобы, переоборудованной, якобы, фермы насчитывалось четыре жилые комнаты по сторонам длинного – из конца в конец – коридора.
Одну из комнат занимала бездетная молодая семья Аксяновых, в другой жила бессарабская семья с годовалым ребёнком, в третьей пожилой одиночка-электрик и в четвёртой, откуда вынесли рацию, но оставили решётку, поселился я.
Первым делом я снял решётку и выставил её в бурьян под окном, побелил стены и целый вечер бил на них несметное полчище вампиров-комаров скрученной в трубочку газетой.
Наутро Славик, с побитым видом, спросил что это я там делал весь вечер после ремонта.
– Сафари,– кратко ответил я, не вдаваясь в подробности – вид у него и без того был слишком жалким.
Остальные двери в коридоре были заперты, кроме первой направо от входа, где находился душ.
Работников шахты по утрам привозил грузовик из Вапнярки и Новой Дофиновки.
Подъезжая они гикали и свистели в кузове как черти, но сами себя называли махновцами.
Раз в два дня они, пáрами, наполняли большой бак душа водой, которую натаскивали из неприметной будки, скрывавшей за своими стенами глубокий колодец с ведром на цепи вокруг железного вала.
Электрические тэны нагревали воду задолго до конца рабочей смены.
В стороне от барака-общежития, на поросшем бурьяном склоне стоял обитый жестью одноместный туалет типа «сортир».
Дверь в нем отсутствовала, поэтому приближаться следовало с шумом и подавать голос, чтоб не застукать никого в позе орла на насесте.
Из туалета открывался великолепный вид на водную гладь лимана и крутой противоположный берег.
( … есть такое понятие – «поток сознания». Суть его заключается в том, что человек способен мысленно комментировать всё происходящее вокруг, либо думать о чём-то постороннем, не имеющем ничего, на первый взгляд, общего с происходящим.
Создателем «потока» считается ирландец Джеймс Джойс, хотя сам он валит всё на постороннего – французского писателя, у которого, якобы, перенял его.
Гораздо раньше, хотя и не в таких масштабах, этот поток встречается у несостоявшейся тёщи князя Мышкина в романе Достоевского «Идиот».
Похоже, это одно из тех открытий, которые приходится открывать неоднократно и в разных местах; в данном конкретном случае о том, что человек способен обмениваться мыслями сам с собой…
Происходившее со мной в Одессе в то сумасшедшее лето, которое на поверку оказалось самым прекрасным летом моей жизни, никак нельзя назвать «потоком сознания».
Какой там поток? Это был водопад!
Я обменивался мыслями не только сам с собою, но и с каждым встречным поперечным, от мелкого камешка на пыльной обочине дороги и до ночных звёзд влажно мерцающих в вышине.
– Вы видели такое?
А звёзды равнодушно отвечали:
– Видали и похлеще…
И продолжали перемаргиваться дальше, как миллионы миллионов лет до нашей эры.
И меня ничуть не напрягало это – эта постоянная и напряжённая работа мысли.
В конце концов, возможности человеческого мозга задействованы всего лишь на 10%, так пусть разомнётся, сметёт паутину и пыль скопившиеся в остальных процентах.
Разумеется, в рабочее время интенсивность моего мозгового шторма несколько снижалась – окружающая среда на рабочем месте казалась более статичной и устоявшейся, по сравнению с ежесекундными изменениями обстоятельств на улицах города.
Однако с гордостью могу сказать, что и на глубине 38 метров под поверхностью земли степень напряжённости моего умственного труда значительно превышала десятипроцентный стандарт …)
Шахта «Дофиновка» добывала кубик – в виде каменных блоков 20х20х40 см нарезанных из залегающих под землёй пластов известняка.
Для этой цели из котлована круто, но не вертикально, под 38-метровую толщу других напластований уходил центральный тоннель, от которого в глубине расходились штольни – тоже тоннели, но пониже и поуже – как ветви от ствола дерева.
В конце каждой такой ветви-штольни стояла камнерезная машина, которая и нарезала кубики в стене перед своим носом.
Такова общая картина.
А в деталях – моего наставника в крепильном деле звали Ростиславом, однако, на это имя он не откликался – до того привык, что все зовут его Чарликом.
Первым делом он меня повёл в штольню машины № 3, потому что на ней работал Капитонович, которого Чарлик звал исключительно по отчеству и побаивался.
Сам-то он всего лишь мелкий бес, а Капитонович – крутой чертяка отбывший срок в десять лет.
В руках мы с Чарликом держали фонари, которые перед спуском в шахту даёт всем ламповщица Люда в зарядочной наверху.
Без фонаря оказываешься во тьме кромешной, и, не видя под ногами тонких рельс узкоколейки поверх изредка подложенных шпал, так навернёшься, что мало не покажется.
Поэтому в шахте все носят пластмассовые каски и каждое утро перед спуском ставят подпись в журнале, якобы с ними проводился инструктаж по технике безопасности и они теперь знают на что идут.
Температура в шахте всегда плюсовая, даже зимой, в штольнях постоянный штиль и сурдокамерная тишина, если рядом никто не разговаривает и не работают какие-нибудь механизмы.
Мы долго шли по узкому коридору, у которого одна стена сплошной камень в засечках от камнерезной пилы, а другую загораживает кладка из обломков кубика сложенных насухую. Кладка довольно высокая, но до потолка не достаёт.
В шахте потолок называется кровлей, но об этом чуть позже.
Впереди показался жёлтый свет пары плотно облепленных пылью лампочек, свисающих из длинного белого провода на стене.
Камнерезная машина была сдвинута к другой стене и на её открытом сиденьи сидел и ждал нас Капитонович в тишине и безветрии.
Он работал без напарника, потому что мечтал о заработке в 300 руб. за месяц.
Каменная стена перед машиной – 2,5х2,5 м – уже была расквадрачена бороздами «зарисовки»; глубокие параллельные пропилы от одной боковой стены до другой и от потолка до пола образовывали торцы будущих кубиков.
Теперь в какую-нибудь щель надо вогнать толстый лом и выломить брус кубика. Потом ещё парочку, а остальные можно выламывать ударами кувалды.
Капитонович ждал нас, потому что за минувшие пару дней машина ушла далеко вперёд от места, где кончается узкоколейка.
Мы с Чарликом продляем железную дорогу двумя парами 3-метровых рельс и теперь можно ближе подгонять вагонетки для укладки наломанных кубиков.
В шахте вагонетки называют не так, как на заводе, именуя их «вагонками» или «капелевками».
( … возможно в честь белогвардейского генерала Каппеля, но достоверно не знаю …)
Если вагонка сходит с рельс про неё говорят, что она «забýрилась» и её приходится подымать обратно двум-трём рабочим вручную, это называется способом «пердячего пара».
Потом из котлована спустится маленький рудничный локомотив и увезёт загруженные кубиком вагонки на-горá, попутно прицепляя те, что дожидаются на выходах из других штолен.
Напиленные в стене кубики обламываются не идеально, поэтому перед следующей «зарисовкой» особо выдающиеся куски сшибаются всё тою же кувалдой.
Эти обломки, а также брак – обломившиеся слишком коротко или расщеплённые из-за трещин в породе кубики – служат материалом для продолжения кладки вдоль одной из стен.
Без этой кладки-перегородки некуда было б девать песок.
Откуда тут песок?
Когда машина, мешая вой электромотора с лязгом цепной пилы, делает пропил в стене, от цепи бьёт длинная струя песка, а не опилок. Щит из металла и стекла прикрывает машиниста от летящего песка, но не от пыли.
Песок наваливается, как бархан, вокруг машины и, если не перебросáть его совковой лопатой в «карман» между кладкой и стеной штольни, для узкоколейки не остаётся места.
После трудовой победы по укладке рельс, Чарлик снимает каску с головы и садится в неё сверху, как на горшок – так удобней, чем сидеть на полу, на песке или бутовых обломках.
Он закуривает «Приму» и осторожно спрашивает Капитоновича откуда на правой стене эти большие красные пятна в породе.
Капитонович с расстановкой поясняет, что когда тут было море, то на нём горел пароход, так в породе и остался.
Чарлик подхалимски хихикает, а я стараюсь не думать, что десять лет дают за убийство, потому что Капитонович мне нравится.
Перед уходом мы крепим кровлю. Для этого, под самым потолком боковой стены, Капитонович пропиливает ряд коротких горизонтальных щелей. Когда перепонки между щелями сломаны ломом, образуется глубокая ниша 20х20 см. Точно такая же делается на противоположной стене. Теперь в одну из них мы с Чарликом запихиваем конец не слишком толстого бревна, до упора. Второй конец мы подымаем к противоположной нише и заводим внутрь, но не до конца, чтоб не вытащить бревно из первой.
Это бревно называется «площак».
Площак мы подпираем двумя брёвнами покороче – «стояками» – впритык к боковым стенам. Крепление кровли шахты готово.
Откуда брёвна?
Ну, метров на тридцать ушли в темноту штольни и вытащили из предыдущих креплений. Откуда ж ещё?
За три месяца моей работы в шахте «Дофиновка» туда поступило ровно три новых бревна.
Я лично обдирал с них кору приспособой под названием «струг», а потом Славик Аксянов увёз их на вагонке в шахту.
Так что кровля в штольнях держалась на сэкономленных материалах.
Иногда кровля начинала «капать» или «дождить».
Это когда она трещит и трескается и от неё отрываются и падают вниз куски породы. Типа обвала, но не наглухо.
Чарлика у меня на глазах привалило, когда вытаскивал очередной площак. Но ему повезло, он лежал на песке между стеной и кладкой, под самым потолком, и отделившаяся от кровли плита не имела места для разгона. Просто мягко так легла ему на грудь.
Не очень большая, полметра на полметра и толщиной всего сантиметров десять.
Он тут сразу вспомнил про Алика-армянина. Когда у того над головой «задождило», тот метров шестнадцать пятился назад. Бегом, конечно. Просто развернуться времени не оставалось. Кровля трещит и валится, догоняет.
Так задом наперёд и бежал, выкрикивая при этом:
– Ебал шахту! Ебал деньги!
Но кто? – вот в чём вопрос.
Так что «кровля» шахты это вовсе не крыша.
Кроме действующих штолен, в шахте есть ещё и заброшенные, это где пласт хорошего камня выработан и дальше углубляться смысла нет.
Ход в такие штольни замуровывают бракованным кубиком, который называется «бут», но его кладут уже не насухо, а на растворе, чтоб сквозняки не получались.
Правда, не все выработанные штольни замурованы.
Однажды мастер показал мне аварийный выход. Через такой же вот не замурованный ход штольня вывела в бывший стволовой тоннель, где когда-то вагонки таскали лошадьми, и тот тоннель выходит тоже в котлован, только повыше нынешнего.
Так и у того тоннеля тоже имеются свои штольни.
Когда Чарлик в отпуск ушёл и я остался в крепильщиках один, то из тех штолен площаки добывал.
Однажды возвращаюсь на новую половину шахты, в штольню четвёртой машины, весь из себя такой гордый – ну, как же! – в одиночку бревно припёр; ещё и острю тупым концом:
– Для вас по спецзаказу из Рио-де-Жанейро!
Бревно с плеча сбросил, а оно – хрясь! – и ровно надвое; слишком древний материал.
Потом ещё про меня сплетни стали распускать, будто я по заброшенным штольням без фонаря шастаю.
Это из-за того, что когда чей-нибудь фонарь горит, я свой выключаю. Даже не знаю зачем; всё равно ж после смены Люда его на зарядку поставит.
От фонаря чёрный провод уходит в брезентовую сумочку с лямкой, чтоб носить на плече. В сумочке аккумуляторная коробка фонаря и на ней цифра 16. Это – мой.
В заброшенных штольнях я его включал и один раз в его свете увидел неземную красоту.
Даже не понял что это оно такое белое сверкает под кровлей.
Описать не берусь – чисто белая, клочкасто-лапчатая инопланетная структура, или из глубин океана, куда батискафы не доныривают, и в ней, типа, мелкие бриллианты под лучами фонаря переливаются.
Красиво, аж жуть берёт.
А у меня в руке топор для проверки площаков на гнилость. Я топором сверху махнул и белое на пол упало.
Смотрю – а вместо красоты большой плевок.
Тут только догадался – это плесень была.
Потом ещё такие же гирлянды попадались, но уже только коричневые – в наказание, что красоту убил.
Потом Чарлик вернулся из отпуска и на шахту поступил Вася. Он стал крепильщиком, а меня перевели в помощники машиниста камнерезной машины.
Ну, тут не так романтично и шума намного больше, а нос и рот надо завязывать от пыли. Зато – ба! – знакомые всё лица! Лом, лопата и кувалда.
Но всё это на первый взгляд непосвящённого.
Что же на самом деле производила шахта «Дофиновка» под негласным началом Самого Главного, он же Яковлевич?
Да, разное. Кому что.
Инженера шахты Пугачёва, с его пирамидально правильным носом, который появлялся внизу раз в месяц, а наверху и того меньше, интересовало только золото. Вернее золотой песок.
Прицыкнет клыком в золотой коронке и у машиниста негромко спрашивает:
– Что, есть песочек сегодня?
После этого я начал в конце каждой смены вытряхивать песок из карманов робы – меня на золото не купишь! Тем более, что не знаю как превращать песок в презренный металл.
Толик со второй машины, когда увидел от чего я избавляюсь, очень удивился.
Но из него там точно золото изготовляли, а потом под видом алюминиевых отливок штабелевали в бурьяне рядом с общежитием.
Точь-в-точь как слитки банковского золотого запаса, только алюминиевого цвета, для маскировки, конечно же.
Мастер мне почти прямым текстом об этом и сказал, когда мы с ним проходили мимо:
– Такая ценность, а никто не догадается поднять. Валяются тут.
А откуда и зачем на шахте по добыче камня алюминиевые слитки?
Что до кубиков, то это были души.
Пятая машина, где машинистом Гитлер, он же Адольф – ну, так его все звали – производила души людей.
Ваня, с первой, всё обижался, что в котловане, когда вытащат наверх его вагонки, то много кубика бракуют, а от Адольфа проходит всё подряд, хотя чуть ли не половина вывезенного на-горá с пятой машины – полный «бут».
Но, если вдуматься, так оно и есть – многие человеческие души с изъянами бывают.
И что парадоксально, его тёзка – Гитлер – столько душ загубил, а этот их тут штампует, пусть и с большим процентом брака, да ещё над Ваней посмеивается.
Для кого пилят души остальными машинами я могу только догадываться.
Архангелам? Демонам? Титанам?
Именно это больше всего меня и удручало – моё невежество.
Да, я чувствовал свою избранность, но оставался до слёз безграмотным избранным. Продвижение к пониманию шло наощупь, по наитию.
Иногда случались озарения, как в том случае, когда после смены я поехал на грузовике в Новую Дофиновку за съестным на завтрашний обед.
В кузове среди остальных находилась пожилая работница шахты с косынкой на голове. Грузовик как раз отъезжал от общежития и тут в дверях показалась бессарабка с ребёнком на руках.
– Ой, какая деточка-красавичка!– произнося эти слова, пожилая женщина в кузове распустила косынку у себя на голове и снова её завязала, но как-то уже по иному.
Домой я вернулся через поля вдоль лесополосы.
Я зашёл в свою комнату, но отдыхать не получалось – годовалая девочка бессарабской семьи захлёбывалась визжащим криком, а её мать, не зная как унять ребёнка, носила её по коридору – из конца в конец, качала на руках, приговаривала «а-а-á!», но ничего не помогало.
Я плохо переношу детский плач, но общежитие не электричка, где можно перейти в другой вагон.
И вдруг мне вспомнилась как попутчица по кузову перевязала свою косынку на другой манер, нахваливая этого, тогда ещё молчавшего ребёнка.
Я вышел в коридор и молча, но упорно глядя на мать, вынул платок из кармана, расправил его и снова сложил, но уже на другую сторону, после чего вышел к колодцу.
Когда я вернулся, женщина стояла в коридоре и с благодарностью смотрела на меня; девочка у неё на руках была совершенно спокойна – на голове у неё появилась косынка завязанная узелком на лбу.
Бинго!
Но случались и осечки.
Петух, гулявший рядом с общежитием, не понял моих благих намерений и презрительно отвернулся от предложенных ему крупинок синьки, которую кто-то забыл на лавке перед входом.
Предложенная добавка к рациону птицы основывалась на добрых побуждениях и свежеприобретённом опыте – в тот день открылось мне, что сочетание синего и чёрного есть знаком силы: петуха с чёрным оперением синька сделала бы сверх-петухом.
А в том, что меня, как избранного, оберегают, я убедился, когда ко мне подкрадывался, явно не с лучшими намерениями, стеклянноглазый.
Есть три разновидности стеклянноглазых.
Те, у кого стеклянность сочетается с ярко выраженной прозрачностью – безвредны.
Они, конечно, одержимы, но используются всего лишь как орудия для получения информации – что тут и как – не более того.
Куда течёт эта инфá, кто получатель?
Когдатошние жители Олимпа в своих нынешних оболочках.
Вторые, у которых муть в стекле, работают сами на себя – ищут где бы «кровцы испить», или как-то иначе подзарядиться из тебя.
– Там будет подземный переход для людей, но и нам тоже можно, – сказала мне одна из таких, приняв, как видно, за своего, когда в незнакомом и плохо освещённом районе ночной Одессы я спросил у неё как пройти к автовокзалу – излюбленной их кормушке.
Именно такие поджидали меня с разодранным бедром за дверью «Братиславы» и торопили женщину из раздевалки, чтоб меньше говорила, да поскорее выпускала б дичь – меня.
При прохождении медицинской комиссии для трудоустройства (задним числом, недели через две) кровь на анализ брали у меня в Вапнярке.
Захожу, а в кабинете кроме медсестры ещё сидит какая-то дама в штатском на кушетке; глаза с такой же вот мутью, а между губ, из уголка, свисает длинная гибкая трубочка.
Медсестра мне поясняет – это всего лишь зонд и дама тут не помеха..
Будто я по глазам не вижу, что это за дама и зачем она тут.
Медсестра, как водится, мне палец проколола и стиснула, а кровь, вместо того, чтоб каплей проступить, ударила вдруг высоким фонтанчиком, толщиной с иголку, как при сцеживании молока из груди женщины.
Я такого в жизни не видал, да и не только я – у дамы той аж челюсть распахнулась и этот, типа, зонд вывалился. Прям как алкаш, что подставлял стопочку, а ему туда плеснули всю трёхлитровую банку.
Столько добра пропадает!
Насчёт добычи крови клыками – это бабушкины сказки.
Они подпитываются неприметно, по неизвестной мне технологии, но эффективно.
Нацелившийся на меня стеклянноглазый водил «волгу» и, пока его начальник зашёл в общежитие договориться с инженером о погрузке кубика, начал подкрадываться, когда я, поднявшись из шахты на обед, мыл руки под рукомойником на столбе неподалёку.
Меня он не знал, поскольку был тут посторонний и проездом, и держал в руке наизготовку свой артефакт – особым способом изогнутую проволоку алюминиевого цвета, сантиметров двадцати.
Увидев в его глазах стеклянисто мутную шторку и то, как мягко он ко мне подкрадывается, я понял, что мне каюк.
Ему оставалось лишь протянуть руку со своим крючком, но тут из бурьянов выпрыгнул серый котёнок и тернýлся загривком о брючину моей чёрной робы.
Стеклянноглазый моментально утратил ко мне весь интерес, убрал свою проволоку и вернулся к машине.
Незнакомый котёнок-спаситель вновь скрылся в траве.
Но чаще приходится полагаться только лишь на свою осмотрительность.
Как на том узком пляже под обрывом Чабанки.
Я хотел поплавать в море и даже зашёл уже в спокойно набегающие волны, но остановился – между морем и мной, на двух выступающих из воды валунах – стояли два рыбака в плавках с удочками в руках.
Между ними оставалось достаточно места, чтобы проплыть вперёд, но я-то понимал, что удилища это шлагбаум запирающий путь в море.
Улучив момент, когда оба они одновременно вскинули свои удочки, я нырнул и поплыл прочь от пляжа.
Плыл я долго; иногда отдыхал лёжа на воде и удивляясь – почему это мой отец говорил будто солёная вода моря поддерживает пловца? Никакой разницы.
Потом я снова плыл на спине, покуда не почувствовал прикосновение к плечу.
Я оглянулся и увидел медузу в воде, светловато-прозрачную и широкую как тазик.
Я обплыл её, но мне стали попадаться ещё и ещё – обплывая вокруг одной, упираешься в следующую.
Приподнявшись из воды, я посмотрел вперёд и увидел, что тут их целое стадо и они превратили спокойные залитые солнцем волны в какой-то медузий кисель своими полупрозрачными телами.
Тогда я развернулся и поплыл обратно к далёкому уже берегу.
Пляж Чабанки покрывает разноцветная галька, но попадаются и песчаные полосы. На одной такой полосе возле кромки воды я хотел написать слово «ИРА», но волны не позволяли – набегали и заравнивали мокрый песок; я никак не успевал выписать все три буквы подряд и только раскровянил палец крохотными осколками ракушек в песке, пока сдался.
А самый первый раз я зашёл в море на пляже Новой Дофиновки.
Туда я пошёл после работы, вдоль лимана.
Вода в нём мелкая и прозрачная. Я шёл пока не увидел в воде автомобильные покрышки, которые сбросил с берега какой-то придурок.
Сняв брюки, я зашёл в воду и вытащил их обратно, но за поворотом лимана увидел, что дальше в нём вообще свалка – жизни не хватит всё повытаскивать, а уже вечер.
Потом начались заросли камышей и показалось шоссе, за которым – море.
А если от шахты идти к Новой Дофиновке по грунтовке, то иногда видишь как над полями висят громадные корабли.
Корабли эти, конечно, в море стоят, но море сливается с небом, поэтому смотришь – поле, а над ним корабль, а ещё выше красный шар заходящего солнца.
Корабли эти настолько большие, что в порту, наверное, не помещаются, вот и стоят прямо в море с небом.
Со Славиком Аксяновым у меня сперва были нормальные отношения, хотя я видел, что в прошлой жизни он служил нацистским офицером в лагере смерти, а в нынешней чересчур любит привлекать к себе внимание пустыми базарами.
Но я ему даже помогал доски пилить для топчана.
От Чабанки до шахты тоже два километра и тоже по грунтовке через поле, но без лесополосы. И в том поле за мной всегда мухи увязывались – целым роем.
Летят и не отстают. А я не хотел привести за собою «хвост» и тем самым выдать местоположение шахты; и нашёл-таки способ сбрасывать мух с хвоста.
Перед общежитием стояло длинное здание бывшей фермы. Его-то я и использовал как дезинфекционный шлюз космического корабля и заходил в это здание с одного конца – мухи, роем, следом – и шёл на выход в другом конце.
Они, от запаха навоза засохшего ещё в эпоху старины глубокой, впадали в растерянность и бросались кто куда в активном поиске дерьма, а я выходил на воздух с купленными в Чабанке продуктами без единой жужжалки за спиной.
Славик попросил разрешения взять доски с пола в старой ферме, чтоб сделать себе с женой топчан, потому что ожидал приезда тёщи.
Потом мы с ним пошли и ломом повыдёргивали тех досок сколько надо. Ничего, крепкие оказались, только прибиты слишком длинными гвоздями.
И тут он начал советоваться о размерах будущего топчана.
А у меня на тот момент уже имелась целая, хорошо разработанная нумерологическая система.
С отдельными цифрами вообще полная ясность, что 22 – «смерть», 24 – «жена», 10 – «секс» и так далее, ну, а дальше комбинируй смотря по ситуации.
С учётом назначения изделия, я ему предложил оптимальный вариант – 2 метра 10 сантиметров. В смысле 10 на двоих, самое оно для молодой семьи.
А он упёрся – хочу 2 метра 30 сантиметров!
Ну, тебе видней, чего ты там хочешь.
Он откуда-то притащил «козёл», на котором дрова пилят.
Доску на «козла»; рулеткой отметку, и – поехали! Потом остановились перекурить.
Тут проходит мимо его жена, Люда, пальцем на «козла» показывает и Славику, возмущённо так, заявляет:
– Если ты думаешь, что я на это лягу, то не надейся!!!
Так я окончательно убедился, что она частица иного мира.
Какая нормальная женщина «козла» не видала?
Плюс к тому, она умела мысли читать.
Я один раз в ихнюю комнату зашёл – Славик борщ наяривал и телевизор смотрел.
От борща я отказался, сел у двери и жду пока доест.
А у него за спиной холодильник, а на холодильнике зеркало лицом вниз положено, а у зеркала сзади на рамке две пластмассовые ножки, чтобы стояло, когда не в лежачем положении.
С того стула, где я сижу, такая открывается картина – Славик ест глазами телевизор, а сам борщ уминает, а из волос его две зелёные ножки в форме лирообразных рогов торчат.
Тут я и подумал про себя, в уме то есть: «Так ты не только нацист, а ещё и рогатик!»
Люда эти мысли прочитала, сразу к холодильнику подошла и ножки те опустила.
Доедал он уже без рогов.
Вобщем, когда Славик тот топчан системы «аэродром» в комнату свою уволок, у них на этом станке игральном нестыковка какая-то обнаружилась – через три дня он его из общежития выволок и ножовкой укорачивал.
Называется подгонка методом тыка.
А когда его тёща приехала, он вообще звереть начал.
Приходил ко мне в комнату и рожи корчил. Мне-то цель его гримас без объяснений понятна – хотел, чтобы я с ума сошёл.
Один раз Ваня, машинист с первой машины, позвал меня разделить с ним трапезу в штольне.
Его жена работала в столовой военного училища, где обучались негры из стран пробудившейся Африки.
Так эти негры спросонку не слишком-то голодные, судя по тому сколько провизии она оттуда домой приносила.
Ваня когда снял крышку с той алюминиевой кастрюли, так там доверху всё рёбра с мясом.
Мы втроём – Ваня с помощником и я – насилу ту гекатомбу съели и костей получилась целая куча.
А тут Славик за какой-то запчастью пришёл, увидел груду обглоданных костей – его аж перекосило от зависти, наверно, тёщин борщик вспомнился.
Поздно вечером, когда жители общежития наслаждались прохладой на лавке у входа, он на меня буром попёр. Даже один слиток из золотого запаса в бурьянах выхватил. Двумя руками над головой вскинул и – в меня запустил.
Красивое зрелище получилось – полная луна льёт свой свет на дугообразную траекторию, по которой слиток летит и поблескивает белым, якобы, алюминиевым цветом.
(Может я всё-таки ошибался и на шахте добывали платину?)
Теперь уже мне пришлось ретироваться задом наперёд по способу армянина Алика.
Жена Люда увела Славика с арены показательных выступлений.
В следующее своё посещение Одессы я зашёл в юридическую консультацию – вывеска на глаза попалась. Спросил, без обнародования имён и географических координат, какие у них рекомендации, если сосед по общежитию донимает.
– Обратитесь в комсомольскую организацию предприятия.
И эти не от мира сего.
Я же ж говорю – они на каждом шагу.
Но, если Самый главный это Яковлевич, то кто же тогда главный инженер?
Догадаться не сложно – кто антипод Творца?
Князь тьмы и повелитель всех нечистых, кто ж ещё.
Это заметно даже по их взаимоотношениям – уважительный, но вооружённый нейтралитет.
Помню стоят в стволовом тоннеле, корректно так разговаривают. Мастер в чёрной робе, а главный инженер в летней рубашечке, широкий носовой платок поверх воротника заломил – чтоб пыль не садилась, вот только вместо пробкового колонизаторского шлема – пластмассовая каска, а так полный «я тут хозяин».
Хотя, конечно, под землёй его вотчина.
( … ты скажешь: неужели возможен контакт между столь диаметральными противоположностями?
Не забывай – на дворе стоял двадцатый век, вторая его половина, когда всё настолько переплелось и перепуталось, что простая геометрия уже не помогала …)
Я занял позицию сочувствующего мастеру, он нравился мне и без чудес; с меня, собственно, и одного хватило.
Кстати, главный после Главного тоже свои верительные грамоты предъявил.
Однажды в обеденный перерыв приехал провести профсоюзное собрание. Расположились под деревьями рядом с общежитием.
Сел он на стул, ещё и туфли с носками скинул: а где, мол, копыта? Нетути!
Но меня-то иллюзорностями не провести.
Чертяки-махновцы в траве разлеглись в своих чёрных робах.
Один я в белой нейлоновой рубахе, которую в шахте под куртку одевал и каждый день стирал моясь под душем.
( … нейлон отлично стирается: раз-два и – чистый, а сохнет и того быстрее …)
Каску я тоже снял, типа, ты бескопытность тут демонстрируешь, так полюбуйся на мою безрогость.
Все остальные в касках, особенно Славик Аксянов.
Минут десять в таком раскладе попрофсоюзились и вдруг – петух закукарекал.
Батюшки-светы!
Главный секундально – носки в карман, туфли на ноги, на грунтовку выскочил, а там уже, как из-под земли, чёрный мотоциклист нарисовался в кожаном ребристом шлеме, как у шахтёров первых пятилеток.
И – усвистали в сторону Новой Дофиновки.
Не ясно, что ли? Кто бежит при петушином крике?
С ним у меня не то, чтобы противостояния, но трения случались.
Один раз когда у заднего хода общежития ссыпали самосвал угля на зиму и я весь тот антрацит в кочегарку перебросил. А он по окончанию работы приехал из Вапнярки и так высокомерно спрашивает:
– Ну, что тебе заплатить? Троячки хватит?
Меня тут заело – полдня под солнцем карячился, а он, как ханыге какому-то три рубля предлагает.
Ты, конечно, князь тьмы, но и я избранный, пусть хоть и не посвящённый.
– Нет, пусть мне заплатят по расценкам.
– По расценкам ты и этого не получишь.
Я ему не поверил, на следующий день взял отгул и поехал в шахтуправление. Мне показали где сидит главный бухгалтер Вицман.
Только я шагнул в кабинет – у него зазвонил телефон.
Он трубку снял:
– Вас слушают.
( … именно так, слово в слово – «вас слушают».
Чисто, гладко, описательно. Ни с какого боку не уколупнут.
Вот что значит Вицман!..)
Я изложил ему суть дела, он сразу понял и достал толстую книгу в мягкой серой обложке «Единые нормы и расценки»; нашёл где там про погрузку-выгрузку сыпучего угля сказано и дал мне почитать.
Там чёрным по белому стоит, что даже если бы тот уголь я разгружал за Полярным кругом, по самым высоким северным коэффициентам, и каждую лопату угля, прежде чем заброшу в кочегарку, три раза обносил бы вокруг общежития, то по расценкам тем мне полагается 1 руб. 20 коп.
( … и открылось мне, не ведавшему истины доселе, что в ножки поклониться надлежит мастерам, прорабам, инженерам и прочему т. д., за их приписки и туфту в нарядах на выполнение работ.
Без них рабочий класс давно бы вымер вместе с семьями.
Кормильцы они и благодетели.
Вот только какая падла те расценки составляла? Я б с ним по-братски лопатой поделился …)
А в другой раз выплату аванса задержали и я к главному инженеру на дом пошёл, в Одессу.
По случаю субботы отгул не понадобился.
Он возле Горбатого моста окопался в собственном доме с женой и сыном пятиклассником.
Угостил меня томатным соком домашнего приготовления.
Ага…
Всё, как положено – красная, густая, солоноватая жидкость.
А куда денешься? Маргарита тоже пила.
Зато чёрный чай я до сих пор по его рецепту завариваю, как он объяснял.
В тот вечер он ещё воспоминанием поделился про трудовую деятельность в Заполярье, где он после работы клал пару кирпичей на электроплитку и сверху жену свою усаживал для приведения в рабочее состояние на ночь.
Один раз нечистые путч затеяли, хотели поменять расклад устройства мира.
Накануне инженер Пугачов приехал и в общежитии одну из запертых дверей открыл, под видом раздачи продовольственных продуктов до зарплаты.
Я по коридору проходил, Славик Аксянов мне кричит:
– Иди и ты получай!
В комнате человек пять махновцев и на столе ящик с пачками «Примы». Пугачов им по 5-10 пачек раздаёт.
Продукты, да? Боеприпасами снабжает!
– Спасибо, но я «Беломор» курю.
На выходе я ещё услышал, как Славик Аксянов чертяк подбадривает:
– Ничего! Молодость всё спишет!
На следующий день в Одессе не работал ни один светофор. Весь день творился полный бедлам. Троллейбусы прыгали как угорелые.
Стрельбы, конечно, не было; ведь путч шёл на ином уровне, но, по моим оценкам, провалился, потому что я успел купить «Атлас мира» в мягкой нежно-зелёной обложке.
В Одессе той поры самым устойчивым и общеупотребительным выражением одобрения было «то, шо любишь!».
– Как вам Сонечкин жених?
– То, шо любишь!
А вместо «нет» говорили «хуй маме!», но поскольку вокруг была Одесса-мама это звучало даже патриотично.
– Так «Черноморец» выиграл, или что?
– Хуй маме!
В сквере на Дерибасовской деревья непонятные, как будто сами с себя кору сбросили, а вечером на танцплощадке там духовой оркестр играл, почти как при Иоганне Штраусе, но редко.
А в каком-то парке, но уже днём, я прыгнул в бассейн с пятиметровой вышки. При полёте аж в ушах свистело.
Чуть погодя два парня прыгнули, держась за руки, но они ногами вниз летели; один в чёрных носках.
Так они мой след заметали.
В переговорном на Пушкинской меня не слабо подкололи.
Я заказ сделал, подождал, потом на тротуар вышел и стою возле открытой двери. Только я закурил, в динамик кричат:
– Нежин! Кто-нибудь ожидает Нежин?!
Я папиросу в урну, вбегаю обратно:
– Я! Я ожидаю!
А телефонистка в микрофон:
– Ну, вот и ждите!
Весь зал так и грохнул.
Это тоже меня от чего-то уберегали.
Мужик там один стоял. Его номер соединили:
– Челябинск на линии! Зайдите в пятую кабину!
А мужик так разочарованно:
– Э-э!..
И пошёл куда сказано.
Вот это – просвещённый! По одному лишь номеру кабины знает наперёд чем разговор закончится.
С Одессой я тогда хорошо познакомился. В основном пешком.
Нашёл публичную библиотеку № 2.
И Привоз нашёл, где грузчики в синих халатах толкают перед собой вокзальные тележки и кричат «ноги! ноги!», чтоб им дорогу уступали.
Там, на Привозе, старая цыганка на меня заклятье наложила по своим обрядам, когда я ел гроздь винограда.
Не знаю за что, но ей виднее.
«Фабрика желудочного сока» – я и не представлял, что такие предприятия бывают.
Когда я проходил через дворы пятиэтажек, забивающие «козла» мужики сильнее грохали костяшками об стол – отпугивали кошек, чтоб те мне тротуар не перебегали.
Союзники.
В Одессу я ездил автобусом, только пару раз пешком – там всего километров двадцать.
И один раз от Вапнярки до Новой Дофиновки прошёл вдоль берега моря; по обрыву.
Там в одном месте какая-то военная установка за колючей проволокой. Часовой закричал оттуда, что ходить нельзя, стал документы спрашивать.
Я ему через проволоку платочек показал, с корабликом в кружочке.
Он понял, что уровень иной.
– Ладно, иди куда шёл.
С того обрыва вид моря очень красивый. Спокойное, почти гладкое. Под солнцем отблёскивает.
Иногда набегал ветер, чтоб рябью по воде изображать различные виды галактик, спиралевидные в основном; он их срисовывал с облаков над морем.
В трамвае на пляж Аркадии я увидел Серого, который в стройбате из себя пахана стоил. Меня только удивило – четыре года прошло, а он такой молоденький и почему-то в чёрной матросской форме, бескозырка с ленточками.
Я поближе встал и тихонько спрашиваю:
– Серый – это ты?
Он не отозвался, хотя точно слышал.
А в другой раз это оказался мой отец. Возле газетного киоска.
На отца он совсем не был похож, я его только по голосу и узнал. Именно этим голосом он изображал душегуба, которого начальник лагеря довёл до нового убийства.
Когда он ко мне обратился, я прикинулся, что чересчур рассматриваю портрет психиатра Бурденко на обложке журнала «Огонёк», который висел за стеклом, так что ему киоскёр отвечал.
( … такие встречи кого угодно доведут задаться вопросом: что происходит?
Но тут без монады не разобраться.
Монада – это такая прибамбаса из философии, которую каждый понимает по-своему.
Для кого-то это – единичность, а для другого – совокупность единичностей.
Например, когда парень девушку спрашивает:
– Скажи! Я для тебя один из многих, или из многих один?
Тут второй «один» и есть та самая монада, а может и наоборот.
В одной индийской библии есть яркая такая картинка: ребёнок по траве ползёт, а на шаг впереди него пацанёнок бежит, перед которым мужчина шагает – вот-вот догонит скрюченного старика, а потом опять трава.
Картинка называется «Круг жизни». В смысле, из ничего в ничего.
Вот все вместе они и есть монада, потому что один и тот же человек.
Теперь остаётся лишь предположить, что монады могут складываться по разным признакам; например, тембр голоса; и всё становится на свои места.
Смотря каким концом к тебе монада развёрнута: отсюда – отец, с того края – бомж у киоска с Бурденко разговаривает.
Конечно, это малость посложнее, чем вызубрить наизусть: «когда споткнёшься на левую ногу – всё будет как надо; споткнулся на правую – лучше и не пробуй, заворачивай обратно», зато многое объясняет …)
Один одесский преферансист был в молодости частью преступного мира. Затем он перековался и сотрудничал с телестудией Одессы в качестве комментатора свежих криминальных новостей.
Ещё он даже книжку написал о впечатлениях полученных в своём бандитском прошлом. Так в ней он утверждает, что год твоего рождения и особенно лето, в Одессе проходило в необычайно бурной криминогенной обстановке.
Редкий случай, когда печатный текст не смог меня убедить. В то лето я сам был там и ничего такого не заметил.
Что говорит в пользу теории существования параллельных миров. Каждый из нас двоих жил в своём параллельном мире, от которого и получал впечатления.
За все мои неоднократные обходы и проходы по Одессе мною были отмечены всего два случая взаимопроникновения наших параллельных миров.
Первый случился утром в автобусе Гвардейское – Одесса, когда молодой парень на втором сиденьи справа сделал замечание водителю по поводу незначительного изменения маршрута в черте города.
По прибытии к Новому базару водитель прибежал в салон с извинениями и несколько даже подобострастными объяснениями перед парнем.
Он был прощён при содействии сидевшей рядом с парнем молодой спутницы.
Второй случай имел место в здании железнодорожного вокзала, где я обратился к милиционеру с вопросом о количестве населения в городе Одесса.
Он меня послал за ответом в отделение милиции на первом этаже.
Дежурный лейтенант, услыхав тот же вопрос, сказал мне малость подождать.
Послушно облокотившись на разделяющую нас стойку, я наблюдал как красные червячки его губ похотливо охватывают, стискивают и перебирают цилиндрик незажжённой сигареты, пока у меня за спиной раздавались вскрики, удары и вопли.
Мельком обернувшись, я отметил распахнутую дверь в камеру напротив, где женщина в косынке и чёрном халате уборщицы вырубала ханыгу в одних только красных трусах, кажется шваброй.
Больше я туда не смотрел до самого конца экзекуции, тем более что на мне под брюками были точно такие же трусы.
Получив полагающееся ему по службе наслаждение, лейтенант всё-таки закурил и сказал, что миллиона пока нет; может тысяч так шестьсот.
Вот почему после очередного обхода я выбрал для ночёвки круглый сквер перед вокзалом. Он оказался совершенно безлюдным, поскольку вход в него проложен через неосвещённый подземный переход.
Выбрав скамейку подальше от фонарного столба, я лёг; а когда вспомнил, что Эдгара По зарезали в Центральном парке города Нью-Йорк ради $40 – только что полученного им гонорара, то полувытащил из нагрудного кармана рубахи аванс, полученный на площади Полярников – типа, кокетливый платочек из трёхрублёвок для самовоспитания храбрости.
Машины вокруг сквера почти перестали ездить, но лежать было жёстко.
Однако, я принципиально не разжмуривал глаз, потому что ночь – она для сна.
И я не спал, когда услышал осторожные шаги вдоль закруглённой аллейки.
Он подошёл и на протяжении минуты смотрел на меня – усатого, в синей рубахе с коротким рукавом, из кармана которой торчали деньги, прежде чем так же тихо удалиться.
Я из принципа не посмотрел кто.
Утром я очнулся на скамейке достаточно озябший и задубевший, но, в отличие от Эдгара По, живой. Я засунул деньги поглубже и встал.
Взмахивая крыльями, в рассветном небе с карканьем пролетела группа вóронов. По виду те же самые, что планировали над Нежином в северо-восточном направлении.
Долго же добирались.
От крыла одного из них отделилось перо и, зигзагообразно кувыркаясь, начало падать в сквер.
Запрокинув голову, я следил за траекторией пера и шёл на сближение, невзирая на вскопанные грядки с чахлыми цветами.
Подставив ладонь под перо, я поймал его, вернулся обратно на тротуар аллеи и нежно опустил в урну со словами:
– Не при мне пожалуйста.
( … малоизвестный немецкий поэт первой половины ХХ-го века однажды посетовал, что поэт он никудышный, иначе не допустил бы мировой бойни.
Мало кто из маститых подымаются до подобного понимания ответственности поэта за судьбы мира. Они инертно цепляются за общепринятые обряды и ритуалы своего времени, а ведь если вдуматься …)
Впрочем, только лишь думать – мало, надо ещё и придумывать; как сказал где-то Валентин Батрак, он же Лялька.
Когда вышел оговóренный срок и пришло время ехать за тобой и Ирой, то привозить вас было, фактически, некуда.
Однако, мною дано было слово приехать через месяц и выбора не оставалось; а заодно и объясню причины отсрочки переезда.
Денег не было не только у меня, но и у всех, кого я спрашивал, и тогда явилась идея сдать обручальное кольцо в ломбард.
Пока я его нашёл, он уже успел открыться и очередь начиналась от входной двери.
Ломбард – это длинная комната с барьерами-стойками вдоль трёх стен, а над ними окошечки в листовом стекле, а одно даже с решёткой. К нему-то, самому дальнему, и толпилась очередь.
Когда ломбард закрывался на обед и всех попросили выйти на улицу, я был в очереди четвёртым.
В нагрудном кармане рубашки у меня лежало кольцо, которое накануне вечером я насилу снял с пальца даже при помощи мыла и рукомойника на дереве рядом с общежитием.
Во время этих мучений я вспоминал кинобудку Парка КПВРЗ и сочувствовал Ольге.
Простояв ещё час после обеда, я с волнением отдал кольцо в окошко с решёткой, потому что та, которая передо мной стояла, ушла ни с чем – её серёжки оказались не из золота.
С моим такого не случилось и я получил 30 руб. и квитанцию ломбарда.
На следующее утро я приехал на Новый базар и купил синюю пластмассовую сетку, а в неё четыре килограмма абрикосов, немного твердоватых, правда.
Потом я зашёл в цветочный ряд и сказал, что мне нужны три красные розы.
Для цветочницы это прозвучало как условный пароль и она, из укромного места, достала небольшие тёмно-красные розы, ровно три, на длинных стеблях.
– Эти?
– Да.
Оттуда я поехал в аэропорт, не намного лучше ставропольского, и до обеда простоял в очереди, а когда касса закрылась, так и остался стоять, словно статуя с тремя красными розами в руке, только абрикосы поставил на пол под окошечком.
За час перерыва четыре кило и руку оборвут.
После приобретения билета до вылета оставалось пять часов, а я уже устал жить с занятыми руками. Я отнёс цветы и фрукты к автоматическим камерам хранения, но положить их внутрь не смог – жалко стало, они там задохнуться без воздуха и света.
Осматривая небольшой коридор, я обнаружил комнату уборщиц и попросил разрешения оставить розы с абрикосами у них.
Они их приняли, а я вышел в город, но далеко не отходил.
В шесть часов я пришёл за розами. Уборщицы дружно мыли коридор и одна из них сказала, что надо подождать – так будет лучше. Я настоял на незамедлительном получении, потому что у меня вылет через полчаса.
Уборщица усмехнулась, но не стала спорить и отдала мне розы торчавшие из жестяного ведра с водой, только предупредила, что они попробовали абрикосы.
С билетом я прошёл в длинную открытую беседку и вместе с другими пассажирами ждал до полуночи, потому что репродуктор каждые полчаса объявлял, что вылет на Киев откладывается.
Попутчики тоже попробовали абрикосы и им понравились.
В начале первого под холодным бризом с моря и резким светом дуговых ламп со взлётной полосы, две стюардессы пересчитали нас на трапе, чтобы получилось не больше 27 человек, потому что нас подсаживали в другой самолёт.
Вот что значит спорить с уборщицей.
При взлёте я всё думал и переживал, чтобы без меня не привезли асфальт.
На том профсоюзном собрании главный инженер объявил, что строители не успели завершить работы – у них пошли «диезные дела».
Для незнакомых с нотной грамотой он приложил два пальца правой руки к двум на левой, крест-накрест, изобразив решётку.
Поэтому заканчивать придётся тем, кто будет жить.
Речь шла о здании позади общежития, тоже бывшей ферме, которое тоже переделывалось в общежитие, но уже не из одиночных комнат, а из квартир по две в одной.
На переезд в незавершёнку записалась семья Аксяновых и я, а бессарабцы не захотели.
Комнаты в будущем общежитии оказались просторными и высокими.
Я выбрал те, что смотрели на лиман.
Правда, в них надо ещё оштукатурить стены из цементных плит и вставить оконные стёкла; и дверей пока что тоже не было, как и пола.
Для пола один раз привезли кучу чёрного горячего асфальта. Аксянов с помощником на тачке завозил асфальт к себе в квартиру, а я двумя вёдрами в свою.
Они успели покрыть пол в одной из комнат, а я только в половине, зато качественнее.
Вот почему, пока самолёт набирал высоту, я не хотел, чтоб без меня привозили асфальт.
Потом я начал смотреть в иллюминатор.
В безоблачном небе луны не было, но зато светили звёзды – множество далёких звёзд. Внизу тоже светились огоньки городов и посёлков, такие же маленькие, как звёзды в небе.
Я подумал: не заблудился бы лётчик среди всех этих звёзд.
Потом далеко внизу под крылом самолёта я различил огоньки фонарей повторявших расположение звёзд одного из двух известных мне созвездий – точь-в-точь: Малая Медведица – и успокоился: с ориентиром из путеводной Полярной звезды невозможно же сбиться с курса.
В шесть утра я сошёл с поезда Киев-Москва на нежинском вокзале и первым автобусом приехал на Красных партизан.
Дверь открыл Иван Алексеевич и начал удивляться, что я так исхудал.
Я отнёс синюю пластмассовую сетку с абрикосами на кухню, а сам с красными розами пошёл в спальню мимо дивана в гостиной, на котором начинала уже шевелиться тёща.
Вы ещё спали.
Я положил розы на стол перед трюмо и заглянул за тюлевую занавеску окна – на подоконнике платочка с якорем не было.
Ладно, потом спрошу.
Я разделся, лёг и обнял Иру в длинной белой ночнушке.
– Ой! Это ты?
– Да.
– Ой! Ты что такой тощий?!
– Тише, ребёнка разбудишь.
Потом Ира рассказала, что её сестра Вита тоже ездила в Одессу к родственникам.
Она хотела проведать меня на шахте, доехала до Новой Дофиновки, но жительница посёлка, Наталья Курило, отсоветовала продолжать путь – слишком дорога негодная.
– Да, она у нас в конторе сидит.
– Она жаловалась, что ты вообще никого слушать не хочешь, только мастера.
– Ей откуда знать, она наверху сидит.
– Значит, знает. А как там?
– Там – класс… Море такое – вообще… Корабли над полем…
– Совсем как кощей стал… Ты там был с кем-нибудь?
– Ты что?!
– Тихо, ребёнка разбудишь! Ну… ты так делал… раньше никогда так не делал…
– А-а… У камнерезной машины перенял. Её диски так движутся.
– Какая у тебя там должность?
– Длинная – помощник машиниста камнерезной машины. Но сам себя я покороче называю – фалличный ассоциатор.
– Это что?
– Из древне-греческого. Долго рассказывать.
– А жилищные условия там как?
– Две комнаты будут. Большие. Толик со второй машины говорил, они хорошо расположены. Зимой ветер задувать не будет. Он с другой стороны. А под окнами – лиман.
– Ну, ты худющий!
– Тише, ребёнка разбудишь.
Но ты всё равно проснулась.
– Слушай, а платочек где, что я на подоконнике оставил?
– Какой платочек? Я не видела.
Вобщем-то, всё верно. Чтобы увидеть надо знать что ищешь. Вон и я в первую минуту море не признал…
( … так кораблик и не нашёл своё пристанище, а потом и вовсе пропал.
Может где-то до сих пор бороздит просторы вселенной …)
Конечно, не слишком-то приятно было услышать, когда Ира сказала, что в роддоме ей сказали, что её девственная плева не была прорвана и тебе пришлось сделать это с обратной стороны.
Я, со своей стороны, никаких перемен не ощутил после такой неортодоксальной утраты девственности.
Особого чувства вины я тоже не испытывал, потому что всегда старался как мог. К тому же, истории известен по крайней мере один случай, когда рожала дева.
Что касается случая в нашем, не святом семействе, то это результат программирования через роман француза Эрве Базена, который я читал ещё в отрочестве.
Там, правда, до родов дело не дошло, но, всё равно, мне не всё можно давать читать.
Я съездил в Конотоп за тёплыми вещами – кожух, резиновые сапоги. Отец отдал мне свой чёрный флотский бушлат с пуговицами в два ряда.
Я даже гитару взял, потому что ехал обосновываться всерьёз и надолго.
В Конотопе тоже все охали, что от меня только половина осталась, но я себя великолепно чувствовал.
Моя мать зашила вещи в белую холстину. Получился большой и плотный тюк.
Но нужно было сделать ещё одно дело. Сделать и – унести ноги. Сделать и залечь на дно в шахте «Дофиновка».
( … на протяжении всех этих пяти с чем-то лет я знал что за всё надо платить; ничто не даётся даром.
И речь идёт не о деньгах за плитку, или ком запаренной анаши; это – само собой. Я имею в виду плату по большому счёту за «пушнину», за все приходы и улёты.
И чем ближе к финальной черте в корыте общего писсуара на киевском автовокзале, тем явственнее я осознавал, что мне известно даже кто именно платит непомерно высокую, дороже всяких денег, цену за мой кайф.
У меня не было ни желания, ни возможности разделить это знание с кем-либо – настолько это полный бред и ахинея.
Вот почему я глушил его и прятал даже от самого себя, но оно неумолимым фактом всплывало снова и снова – причём не только по укурке – что я в неоплатном долгу перед многострадальным народом Камбоджи, парящимся в субэкваториальном климате юго-восточной Азии.
И нет мне прощения.
Ничто не берётся ниоткуда, это – непреложная истина.
Тактильные ощущения первого моего улёта в кочегарке стройбата установили неразрывную связь между кайфом и получением по мозгам. Впоследствии эти ощущения сгладились, но кайф продолжал поступать.
Вопрос: если не я, то кто же получает по мозгам?
К концу 5-(с-чем-то)-летнего срока употребления пришёл ответ.
Отряды красных кхмеров, захватывая очередную деревню, убивали жителей-крестьян, таких же камбоджийцев, как и сами.
Для экономии патронов они убивали их ударами бамбуковых палок по черепу. Затем они переворачивали трупы на спину и фотографировали мёртвые лица, как для паспорта.
На этих снимках правый глаз зажмурен, а левый выпучен. Многорядные ленты таких снимков – мертвецы с кошачьим выражением лица – регулярно помещались в центральных газетах.
Я их видел.
Мне было за что испытывать чувство вины.
Конечно, с учётом событий сопровождавших мой первый вылет в Одессу, красные кхмеры вышибали крестьянские мозги уже не для меня, но продолжали вышибать, чтоб кто-то кайфовал.
В Одессе я оказался в самой гуще вселенской битвы неизвестно кого неизвестно с кем.
В ходе непостижимых перипетий я стал кому-то союзником, а кому-то врагом, оставаясь в полном неведении – кому?
Ясно одно – те, с кем я волею судеб оказался по разные стороны баррикад, не преминут меня выследить и свести счёты.
Недаром, сходя – ни свет, ни заря– в Нежине с поезда Киев-Москва, я отметил как в одном вагоне открылось окно и стеклянноглазый – по виду явно из монады главного инженера – выплюнул длинную струю слюны на перрон.
Это – несомненная отметина для других боевиков их тёмного легиона, что именно здесь они смогут напасть на мой дальнейший след, а проследить отсюда мои последующие передвижения до Конотопа труда им не составит.
И там они неизбежно выйдут на плантацию конопли в конце огорода хаты моих родителей на Посёлке.
С неисчислимыми и невообразимыми последствиями самого ужасного свойства.
Мой долг перед союзниками и недобитыми крестьянами жалких деревушек в мокрых джунглях юго-восточной Азии подсказывал единственно верное решение.
В сарае на Декабристов 13 я взял штыковую лопату и направился к плантации на крайней грядке …)
Они стояли махрово-гордые своим почти трёхметровым ростом.
Налитые, пронзительно пахучие.
( … простите меня вы тоже хотите жить но так надо иначе произойдёт непоправимое это не месть за моё опоздание на одесский поезд это необходимость я делаю то что должен простите …)
И они падали – одна за другой, одна рядом с другой, одна на другую – от ударов штыка вглубь, отделяющих от корней, обрывающих жизнь…
Я сложил их в высокую груду, снова пошёл в сарай и вернулся с канистрой бензина. Высоко поднялось трескучее пламя, поплыл густой белый дым.
Всполошившаяся тётя Зина позвала мою мать, та встревоженно поспешила в огород.
– Серёжа!.. Что ты… Зачем… Как это…
Не отрывая глаз от огня я ответил на застрявший вопрос:
– Так надо!
Она ушла и вместо неё пришёл мой брат Саша.
– Серёга, ты что это делаешь?
– Так надо!
Мой брат всегда верил, будто я знаю что делаю, даже когда я и сам не знал.
Он перестал меня спрашивать, а просто стоял рядом и мы вместе смотрели на огонь, который обращал густую зелень сваленных на груду стволов и веток в чёрные обугленные палки и белый мелкий пепел.
В Одессу я прилетел затемно, зато успел на 6-часовой автобус от Нового базара проходящий через Новую Дофиновку.
За городом на меня начал наваливаться необоримый сон и я проспал свою остановку, а проснулся только метров через триста. По моей просьбе водитель остановил автобус наверху подъёма и я пересёк лесополосу.
В огороде крайнего дома среди редеющих сумерков уже минувшей ночи пожилой мужик в одном исподнем и баба в белой ночной сорочке зачем-то обметали грядки вениками. Двигались они как-то странно, словно роботы. В глазах мужика застыла остекленелость, а глаз бабы я не видел – она их прятала.
Необъяснимая картина в такую рань, но меня уже трудно было чем-либо удивить.
За моё 4-дневное отсутствие асфальт не привозили, а старую розовую побелку на здании общежития зачем-то забрызгали синими пятнами и разводами, типа, маскировочный камуфляж.
Но почему синькой?
Я снова втянулся в трудовые будни.
Погода поменялась, потому что возвращаясь как-то из Одессы я обнаружил, что в кармане у меня осталась одна лишь трёхкопеечная монета позеленевшей меди.
«Ну, это не деньги,»– подумал я и швырнул монету через плечо между деревьев лесополосы.
Ровно три дня после этого с моря дул холодный ветер, опровергая моё пренебрежительное мнение о трёх копейках и заставляя чётко уяснить смысл выражения «бросать деньги на ветер».
Умер электрик-одиночка, не дойдя из Чабанки до общежития. Его нашли на третий день.
Я всегда знал, что это опасный отрезок пути; летом там постоянно летают круглые шарообразные пушинки, похожие на морские мины, но, конечно, белые.
Наверное, он не успел увернуться.
Его хоронили на обрыве между шоссе и морем. На кладбище посёлка.
Капитонович нёс впереди деревянный крест, словно знамя наизготовку, а сам обвязался узким длинным рушником, как на свадьбе.
Что с них взять? Они людских обычаев не знают, просто слыхали звон.
В отцовском бушлате моряка с жёлтыми пуговицами я изображал колоритную фигуру, типа, мы – из Кронштадта, но тоже помог засыпáть могилу.
Потом мы на автобусе вернулись в общежитие, где работницы шахты приготовили поминальную тризну из своих домашних припасов.
Я облопался не меньше, чем на полевом стане у Чомбе.
В общежитие снова привезли рацию и мне пришлось переехать в комнату покинутую электриком. Потом ко мне подселили Васю, нового крепильщика.
Я поначалу засомневался какого он пола, когда случайно заметил красно-бурые следы на простыни его койки, как от менструации.
Он он стал объяснять, что ему под одеяло закатился помидор, который он во сне раздавил ногами, хотя я его ни о чём и не спрашивал.
Просто остров Беллами какой-то.
Однако, до чего простые объяснения порой находятся для непостижимых, на первый взгляд, фактов.
Осень вступила в свои права. Я застеклил окно в одной из комнат нашей будущей квартиры, но асфальт пока ещё и не привозили.
Так всё и шло до того дня, когда главный инженер приехал из Вапнярки и сказал, что на меня объявлен всесоюзный розыск – в шахтуправление пришло письмо из НГПИ, будто тут скрывается беглец от работы по распределению.
– Так что пиши заявление.
– Какое?
– С просьбой уволить тебя по собственному желанию.
– У меня такого желания нет.
– После этого письма оставить тебя тут мы не можем.
Поскольку я и дальше упорствовал в отсутствии желания увольняться, был найден компромисс – увольнение по имеющейся в кодексе трудового законодательства статье «по соглашению сторон».
Так, вместо избранного, я стал всего лишь стороною.
Напоследок я гулял по Одессе в кожухе нараспашку, как махновец из крестьянской армии Нестора Ивановича, и в резиновых сапогах, которым не страшны лужи от недавних дождей.
Потом в общежитии я упаковал их в тюк с остальной одеждой, завернув в неё инструменты, которыми уже тихо начал обрастать – молоток, топор, пила, утюг, кипятильник и белый эмалированный чайник.
Когда я привозил чайник из Одессы, то пришлось всю дорогу от Новой Дофиновки до общежития петь ему песни, чтоб он не очень боялся.
Вечер был поздний и слишком тёмный, как в заброшенных штольнях без фонаря. Приходилось по памяти вписываться в повороты грунтовки, нащупывая её ногами.
Тюк я отправил багажом с железнодорожного вокзала. Потом вернулся в общежитие, где оставались недавно купленный портфель, болгарская спортивная сумка «Аэробика» и гитара, чтобы наутро ехать в аэропорт.
В нашу комнату заглянул Славик Аксянов. Мы съели полную сковороду жареной картошки под «Болеро» Равеля из радиоприёмника Васи.
Я сказал Славику, чтоб он навесил дверь на будку туалета над лиманом. Она валяется там в бурьянах, я видел.
Он пообещал исполнить мою последнюю просьбу.
Однако, я, на всякий, сказал, что если не сделает – я буду являться ему, как тень отца Гамлета.
В его глазах мелькнул неподдельный испуг.
Кто бы мог подумать, что они тоже боятся привидений!
Ира сказала, что когда из Закарпатья пришёл сигнал о моей неявке по распределению, Гаину Михайловну вызвали к ректору с требованием открыть моё местопребывание.
Припёртая к стенке свидетельским показанием ректора Арвата, что летом он встречал меня в Одессе, она вынуждена была сдать меня вплоть до шахты «Дофиновка».
Теперь ей грозили неприятности на работе, а у меня отнимут диплом, если только министерство просвещение не аннулирует моё распределение.
Пришлось мне срочно ехать в Киев до остановки метро им. Карла Маркса и вверх по улице напротив площади Октябрьской революции до серокаменного дома в ряду ему подобных, но с вывеской министерства, чтобы подняться на второй этаж по лестнице из белого мрамора.
Завотделом министерства Баранов (фамилии иногда соответствуют сути учреждения), выглядел лет на пять старше меня, но куда более отёсанным, заточенным и отшлифованным.
Единственное, к чему можно было придраться – одинокий волосок на плече его пиджака, под которым виднелся тонкий шерстяной жилет, а под ним галстук в полоску на рубашке в мелкую тетрадочную клеточку – непробиваемые латы.
Он объяснил, что государство четыре года тратило средства, давая мне бесплатное образование; пробил час возместить бесплатность работой в Закарпатьи, либо – диплом на бочку.
Свою защиту я построил на страстном желании трудиться на ниве просвещения и именно на склонах Карпатских гор, но как же семья?
Он предложил мне забрать тебя и Иру с собою.
А как же вторая, вернее, первая дочь?
Наличие Леночки оказалось для него сюрпризом. Он, по инерции, хотел и её отправить со всеми вместе.
Мне пришлось показать паспорт, что она от предыдущего брака и с горечью признать отсутствие данных о местонахождении её матери.
Это был шах и мат.
С подобными казусами гроссмейстер Баранов ещё не сталкивался и, попав в цугцванг, вынужденно признал, что у меня слишком лихо закрученный сюжет.
Я получу свободный диплом, если представлю справку от уличкома в Конотопе, что Леночка действительно проживает на Декабристов 13.
Тем временем в Нежин прибыл тюк отправленный мною из Одессы.
Больше, чем инструменты, Ивана Алексеевича обрадовало ситечко для заварочного чайника. Он давно мечтал о таком, но в магазинах их днём с огнём не сыщешь.
Мы с Ирой уже начинали обсуждать в какую строительную организацию Нежина поступить мне на работу для наискорейшего получения квартиры, как она вдруг сказала, что мне сначала надо провериться. Так советует её мама.
Но ведь при поступлении на работу везде проходят медкомиссию, даже без маминых советов.
Пришлось мне уяснить, что возникла необходимость в специальной проверке – на нормальность.
Моё поведение вселяло опасения и в будущем могло дискредитировать добропорядочную семью её родителей в глазах общественности.
Во-первых, я недавно гулял в драных туфлях, а ещё я собираю ниточки с пола вокруг твоей коляски, самые элементарные вопросы вызывают у меня слишком долгую задумчивость, а когда она была в роддоме, я явился среди ночи и заявил, что дождь – тёплый.
К тому же, Иру потрясло известие из Конотопа о моём изуверском всесожжении плантации конопли, что, хотя и не включалось в список отклонений, говорило о многом.
Крыть мне было нечем – она права по всем пунктам.
Незадолго перед этим, пользуясь ясным и тихим осенним днём, я вышел на прогулку в туфлях. Не драных – нет! – но крепко поношенных по тротуарам Одессы и просёлочным дорогам прилегающего к ней Коминтерновского района.
Прогулка навеяла элегическое настроение.
Вспоминались далёкие галактики на глади моря под обрывистыми берегами Вапнярки, нескончаемо длинная улица Дорога Котовского и совсем короткая им. Шолом Алейхема, по которым носили меня эти кожаные коричневые туфли с продольной вставкой на носу.
Они словно космический корабль по возвращении из экспедиции на другой край вселенной – ещё живы, но уже не модны…
Когда я снимал их в прихожей, Гаина Михайловна заметила, что пора переходить на ботинки, или сапоги.
Меня порадовала такая заботливая внимательность со стороны тёщи.
Не поспоришь и с заторможенностью моих ответов. Всякий обращённый ко мне вопрос с гулом запускал в моём уме компьютер – о существовании которых я тогда не догадывался – для вычисления комбинатóрных вариаций возможного ответа и выбора из них такого, что не утратит свою валидность даже и в необозримом будущем.
( … идиот! Всего-то и требовалось:
– А? Да …)
Ну, а насчёт ниточек и линиях стерильной обороны вокруг твоей коляски я тебе уже рассказывал.
Но в то время я даже и не думал спорить и что-либо доказывать – тем более, что за дождь и коноплю у меня нет оправданий – так что просто пошёл туда, куда меня повела Ира.
Это оказался коридор второго этажа незнакомого мне здания с широкими досками крашеного пола.
Было людно. На стене висел лист ватмана с рисунком в стиле журнала «Весёлые картинки», где чайник, обращаясь к мочалке, говорил:
– Ты зачем сказала блюдцу, что я дуршлаг?
Скорее всего дар от кого-то из меценатствующих посетителей.
Молодой человек в офицерском бушлате, но без знаков различия, радостно рассматривал эту картину.
Фуражку он носил сдвинутой набекрень, но немного чересчур по озорному.
Ира зашла в какой-то кабинет изложить жалобы.
Потом позвали и меня, но разговор не получился. Врач сказал, что в подобных случаях он не компетентен и меня надо везти в Чернигов.
( … в точности, как говорил мой отец:
– Сидят, деньги получают, а обратишься – я не Копенгаген, я не Копенгаген!..)
Черниговская психбольница находится за четыре километра от города. Остановка так и называется: «4-й километр».
Это большой комплекс зданий в современном стиле крупноблочной архитектуры. Вот только от города далеко.
Обширная территория обнесена бетонным забором, но ворота недалеко от остановки.
Мы прошли во двор обложенных красноватой плиткой зданий различной высоты; некоторые из них соединялись переходами, или зданиями пониже.
Иру заметно угнетал этот Bau Stile.
Сказать по чести, работы архитектора Корбюзье мне тоже больше нравятся.
Я сопроводил погрустневшую Иру до нужного отделения.
В небольшом кабинете с одним окном нас приняла темноволосая женщина в белом халате – Тамара… отчество не помню, а врать не хочу.
Она предложила нам сесть вдвоём на диване, а сама села в кресло напротив.
Чуть в стороне, за столом у окна, сидел мужчина спортивного сложения в белом халате.
Когда на вопрос Тамары – какая мне нравится музыка? – он стал подсказывать: «эстрада, конечно!», я понял, что он тут не просто для обеспечения безопасности Тамары в случае невменяемости моих отклонений от нормы.
Пришлось честно признаться, что таких у меня две – Элла Фицджеральд и Иоганн Себастьян Бах.
Когда речь заходит о чём-то действительно знáчимом, я дуру не гоню.
Тамара сказала Ире, что такие отклонения не слишком опасны, но если Ира хочет и я не возражаю, то меня можно оставить для наблюдения.
Я не возражал, только сказал, что в субботу у моего брата свадьба, на которую мы с Ирой приглашены и, если Тамара позволит, я явлюсь сюда сам в понедельник. Даю слово.
Тамара согласилась и проводила нас в коридор.
Из-за стеклянной двери в конце его доносился приглушённый шум многоголосого скопления людей.
К тому времени мой брат давно уже перешёл из ПМС в ХАЗ и работал на каком-то сложном фрезерно-шлифовальном станке.
ХАЗ был не сам ХАЗ, а только филиал Харьковского авиационного завода. Самолётов там не собирали, а изготовляли детали всевозможных конфигураций, упаковывали их в ящики и отсылали в ХАЗ, или другие его филиалы.
Конотопский филиал в Конотопе называли просто ХАЗом и стремились устроиться туда из-за высоких заработков.
Саша получал там 200 руб. в месяц! Остальные поменьше, потому что сверхточный станок был только один.
Ещё одно преимущество ХАЗа – его местонахождение на Посёлке – можно ходить домой обедать.
Недостаток в том, что работать приходилось более 8 часов в день.
Нет, трудовое законодательство там не нарушали, ровно в пять Саша уходил домой, но работа настигала его и там.
Он жаловался мне, что даже когда смотрит футбол по телевизору, то составляет в уме рабочие планы – какие детали начнёт завтра делать с утра, а какие после обеда.
Мне было жалко брата, но я ничем не мог ему помочь.
С зарплатой в 200 руб. на Посёлке можно смело обзаводиться семьёй.
Сашина избранница, Люда, работала в «Оптике» на Зеленчаке, а сама тоже была с Посёлка и к тому же завидной невестой: две отдельные хаты – папина и мамина.
У молодых сразу решается жилищный вопрос и остаётся только жить припеваючи.
Так мой брат стал примаком.
В подарок молодым Ира хотела купить постельное бельё, но оно уже несколько месяцев как исчезло из магазинов. Это объяснялось тем, что на следующий год Москва принимала всемирную Олимпиаду и постельное бельё понадобится для застилки кроватей в Олимпийской Деревне.
( … забегая вперёд, скажу, что и два года спустя постельное бельё оставалось одним из дефицитов.
Не представляю, что они там с ним делали в этой Олимпийской деревне …)
Тогда Ира купила симпатичный кувшин прозрачно-красного стекла с набором стаканов, мудро рассудив, что бельё быстро изнашивается, а кувшин – если не разбить – простоит в серванте и до золотой свадьбы.
Поскольку свадебная суббота совпадала с днём рождения нашей мамы, я решил подарить ей цветы.
Гаина Михайловна сказала: какие могут быть цветы 24 ноября?
Но я всё равно пошёл на базар.
На мосту через Остёр я увидел мужчину с букетом в руках, стоявшего в сопровождении двух дам.
Вид у всех троих не имел ничего общего с торговлей, но я почувствовал, что это неспроста, подошёл и спросил – не продаст ли он мне цветы?
Изумлению тёщи не было границ, а я чувствовал, что где-то в Одессе, или параллельных ей мирах сделал что-то правильное и благодарные союзники это не забыли.
На свадьбу мы с Ирой поехали трёхчасовой электричкой.
Событие проходило в трёхкомнатной хате на улице Сосновской, где цветы тоже вызвали удивление.
Все ещё больше удивились, что вручил я их не невесте. Тут Саша вспомнил какой это день и успокоил гостей.
Дальше всё шло как на обычной Поселковой свадьбе примака.
Небольшое отличие состоит лишь в том, что на ней я бросил курить.
Сосед за столом начал мне доказывать о невозможности избавиться от этой привычки, тем более на вечеринке любого рода.
Я потушил недокуренную сигарету и – всё.
( … на данный момент я тоже некурящий …)
Утром следующего дня на Декабристов 13 Ира объявила о предстоящей мне поездке на 4-й километр от Чернигова.
Последовал бурный обмен мнениями с моими родителями. Они категорически воспротивились и требовали, чтобы я отказался от этой поездки.
Мне никак не удавалось объяснить присутствующим, что я обещал быть там в понедельник.
Как выжить в мире где не можешь положиться даже на собственное слово?
Тут Ира перешла на сторону моих родителей и дальше они продолжали убеждать меня втроём.
Только Леночка молчала, сидя в уголке дивана.
– Что?! Выучила на свою голову?!– шумнул мой отец на мою мать. Потом он обратился ко мне.
– Всё для тебя делали. Теперь ты сделай как тебе говорят. Или родители тебе не такие? Чем это? Скажи!
– А и скажу!– ответил я и пристукнул кулаком по столу.– Почему ты перестал писать стихи?
Отец смутился, пряча глаза от жены и невестки. Даже в глубоких морщинах на лбу пролегла небывалая прежде застенчивость.
– Ну… я молодой был… тогда война была…
( … вот жизнь, а? Начнёшь гнать дуру, а нарываешься на чистосердечное признание…
А нынче на поэзии у него поставлен крест. Перешёл к ораторской карьере.
Долгими зимними вечерами, одев валенки, выходит под фонарь на столбе возле хаты Колесниковых – на сходку соседей своего возраста.
Стоят на утоптанном снегу, перетирают новости из вчерашней программы «Время», порою схлёстываются в дебатах – стоящий мужик Муамар Каддафи, или такой же клоун как Ясир Арафат?..)
В виде компромисса решили, что до отъезда в Чернигов я с матерью схожу к местному психиатру Тарасенко, от которого (жестоко прищурив глаз сообщил мой отец) никто не уходил.
Потом я проводил Иру на электричку и по пути она снова уговаривала меня не ездить на 4-й километр.
Но моё слово Тамаре уже вылетело – не поймаешь.
В большом и светлом здании конотопского Медицинского центра, недалеко от стадиона «Авангард», под каждой дверью стояли люди и только к психиатру Тарасенко очередь отсутствовала.
Когда мы с матерью зашли в кабинет, он объяснил это несознательностью населения, а вот у них, за океаном, каждый четвёртый ходит на приём.
Тарасенко работал не один, а с напарницей в непривычно обставленном кабинете.
Странность заключалась в расположении стола. Он находился почти по центру, развёрнутый своими дверцами и ящиками ко входу в кабинет. Мне предложили сесть за него.
Мать села на стул у стены, а медработники остались стоять по сторонам от стола.
Мне не понравилась такая диспозиция призванная для раздувания во мне мании величия – сидишь, как председатель Мао, а эти в белом стоят вокруг, типа, золотые рыбки на посылках. Поэтому я чуть отодвинул стул назад, развернул на 90 градусов и, сидя на нём, вытянул ноги, положив одну на другую в позе ковбоя на привале.
Тут Тарасенко с напарницей, как по команде, кинулись хлопать дверцами стола, выдёргивать и с треском задвигать его ящики.
Ноги я, конечно, подтянул, но стул не покинул, хотя и насторожился.
Убедившись, что я не выскочил за дверь и не попытался вскарабкаться на жалюзи окна, Тарасенко прекратил тест и объявил, что я здоров, как бык.
– Вот ему и скажите!– воскликнула, всхлипывая, моя мать.– Хочет в Чернигов ехать в психбольницу.
– Зачем?
– Его жена посылает.
– Она что – врач?
– Нет!
– Тогда зачем? Мало кого куда посылают. Он ей раб, что ли?
– Да! Да! Раб!
( … так-то вот, Иосиф Яковлевич, по кличке Прекрасный, тебя в рабство продавали твои братья, а как бы тебе понравилось, если б сдала родная мать?..)
Тарасенко ещё раз, уже как рабу, предписал мне никуда не ехать и мы покинули кабинет.
По пути к трамвайной остановке моя мать спросила:
– Ну, что – убедился?
– Это ничего не меняет.
– Если с тобой что-то сделают, я её убью,– сказала моя мать и заплакала.
– Мама,– ответил я,– что за книжку ты недавно прочитала?
Разумеется, я прекрасно знал, что мать моя давным-давно уж не читает книг, но надо же как-то поддержать разговор.
Из-за приёма со сдачей в рабство и нестыковки в расписаниях движения поездов, на 4-й километр под Черниговом я добрался уже поздним вечером.
Однако, обусловленный понедельник ещё не истёк и я стал бить в железо ворот, чем вызвал недовольные крики охраны в проходной.
Там включили свет и спросили чего надо. Имя Тамары послужило паролем.
Подошли ещё два санитара в синих байковых халатах и меня отвели в приёмное отделение.
Там я сдал свою одежду и получил взамен пижаму и пару кирзовых сапог.
Левый ничего, но правый очень жал. Наверное, в отместку, что потревожил в поздний час.
Затем через холод и темноту меня отвели в пятое отделение и сдали тамошнему дежурному медбрату.
Он завёл меня в широченный коридор, где по причине позднего часа светились только несколько дежурных плафонов, отблёскивая в тёмном стекле дальнего окна в противоположном конца коридора.
Вдоль стен его шли двери палат – тоже остеклённые.
Дежурный завёл меня в одну из них, указал свободную койку и вышел.
В скудном свете сквозь стекло входной двери, я различил полдюжины коек, на которых лежали укрытые фигуры, и белые тумбочки.
Раздевшись, я лёг, подавляя невольный страх.
По-видимому, моё появление заставило обитателей палаты затаиться, но постепенно они оттаяли.
Кто-то невидимый спросил меня из угла я ли это; на него зашикали и он умолк.
Я воздержался от ответа. Из коридора за стеклянной дверью донёсся далёкий вопль и тоже смолк.
Я лежал – укрытая фигура, как и все – и радовался, что всё-таки успел в понедельник, и чувствовал приливы настороженности, понимая среди кого я нахожусь.
– А что, Костя, хотел бы сейчас домашней колбаски?– спросил один из невидимых фигур своего невидимого друга.
Мне стало смешно до чёртиков. Как быстро меня вычислили!
Уезжая в прошлый раз из Чернигова с Ирой, мы купили кольцо спиралевидно закрученной домашней колбасы. Вкусная.
Они подхватили и продолжили экспертное обсуждение той самой колбасы, а я давился смехом и выфыркивал его через нос, стиснув зубами уголок подушки, чтобы меня не приняли за психа.
В какой-то момент я не сумел сдержаться и они испуганно затихли.
Утро начиналось с шарканье тапочек в широком коридоре.
С ярмом из вафельного полотенца на шее, я вышел туда в сапогах и, следуя основному потоку движения, нашёл умывальник и туалет.
На завтрак была хавка, как хавка.
Когда из города приехали врачи, Тамара заглянула в огромный коридор и окликнула меня по фамилии.
Я приблизился с извинениями за поздний приезд. Она меня простила и ушла.
Коридорное общество было смешанным, многолюдным, многообразным и пребывало в состоянии шумного броуновского движения. Абсолютно бессистемного.
В сапогах кроме меня оказался лишь один, с по-зэковски обритой головой.
Он в основном валялся возле белых радиаторов центрального отопления под окнами в дальнем конце; иногда прижимался к заду другого пациента, что валялся там же, но тот вяло его отталкивал.
Вокруг бродили другие, в шлёпанцах, погружённые в свой внутренний мир, временами выныривая из него с непонятными для посторонних возгласами.
Только инвалид на низенькой тележке не бродил, а ездил, отталкиваясь от пола руками.
Он явно руководил частью общества способного понимать указания и распоряжения, у них шла тусовка в стиле чёрного рынка.
Два-три щёголя держались вместе, прогуливаясь сквозь общую суматоху. Темноволосый косил на пахана с интеллектуальным уклоном.
Юноша среднеазиатской наружности пригласил меня поиграть в шашки за столиком в дальнем углу.
Каждый его глаз двигался отдельно от другого, как бывает когда полушария мозга не вмешиваются в суверенные внутренние дела соседнего и каждое управляет своим глазом.
В шашки играть он не умел и когда на доске у него осталась всего одна, я предложил ничью и больше не играл.
Не играл я и в карты со щёголями.
У окна между запертой дверью во двор и застеклённой дверью в коридорчик врачебных кабинетов, сидела белая фигура медсестры и ни во что не вмешивалась. Она подымалась с места только после обеда – сопроводить столик на колёсиках, привозимый из коридорчика.
В толпе пациентов раздавался радостный крик:
– Лекарства!
Они сбегались вокруг столика, хватая кому что нравится из таблеток разного цвета и величины.
Впоследствии у многих стекленели глаза, а обмен на чёрном рынке оживлялся.
Для заполнения свободного времени я пошёл путём Ленина и Дина Рида – мерить камеру шагами из конца в конец.
Только коридор не одиночка: приходилось уклоняться от столкновений, тем более, что ходил я скорым шагом.
Я выписывал длинный эллипс от двух окон в одном конце коридора до окна и запертой двери в другом его конце.
Некоторые обратили внимание.
Щёголь-блондин начал выбивать ритм индейских барабанов по обложке толстой книги, которую постоянно носил подмышкой, в такт топанью моих сапог по полу.
– Чё ты дуру гонишь? Оно тебе надо?– крикнул мне темноволосый щёголь.
– Попробуй – приколешься!– крикнул я в ответ, уносясь к противоположному концу.
Один из участников броуновского движения под стенами вдруг раскусил в чём суть. Он радостно вскрикнул и тоже начал выписывать эллипсы орбиты, правда не вдоль, а поперёк коридора.
– Огольцов заразил Баранова!– закричал какой-то «шестёрка» к медсестре на стуле.
Но та ни во что не вмешивалась.
Ходить было больно, потому что правый оказался «испанским сапогом» из арсенала пыток инквизиции – на два размера меньше.
Я продержался всего день, а на второй решил, что хватит из себя Русалочку строить и обратился к медсестре; она дала мне пару таких же шлёпанцев как и у всех, только драные.
Зато движение по орбите стало безболезненным.
Коготок увяз – всей птичке пропасть.
Начинаешь что-то поправлять и следом вылазит другое нестерпимое неудобство.
Пуговица на поясе пижамных штанов постоянно расстёгивалась – слишком петля раздолбана.
Мне надоело поддерживать штаны рукой и я вновь вывел медсестру из состояния невмешательства просьбой об игле и нитке.
Как только ремонт был завершён, из коридорчика врачей появилась ещё одна медсестра и огласила список идущих в клуб. Я оказался в числе десятка оглашённых.
Мы долго шли гуськом за медсестрой – караван в пижамах; только на замыкающем была чёрная роба рабочего.
После лестницы начался длинный коридор – переход в другое здание.
За окнами виднелось предзимнее пожухлое поле с далёкими чёрно-жёлтыми щитами-стрелками, что указывают самолётам путь к аэродрому.
На подоконниках стояли кактусы в горшочках и лежала писаная от руки инструкция для слишком сердобольных: «кактусы не поливать!»
Клуб оказался классическим – сцена, зал с креслами, наглядная агитация на стенах: «хлеб – всему голова!», « экономика должна быть экономной», «будет хлеб – будет и песня!», а также цитаты более мелким шрифтом.
Наш замыкающий тормознулся у первой же цитаты от входа и прикипел к ней, задрав голову и иногда почёсывая кепку, для чего ему приходилось разнимать руки навеки сцепленные за спиной.
Я сел в последний ряд. Над сценой включились софиты и на неё вышел человек в белом халате, чем-то недовольный, с баяном.
Ещё две медсестры завели в дверь зала следующий караван – десяток женщин в серых халатах поверх казённо-белого исподнего белья.
Две-три из них сели на креслах посреди зала. К ним тут же присоседились щёголи из нашего каравана.
Баянист заиграл и в проходе перед сценой начались танцы.
По центральному проходу женщина лет сорока скорым шагом пронесла милую улыбку в конец зала и пригласила меня на белый танец.
– Извините, вальс не для меня.
Она ушла опустив голову.
Утрата. Утрата.
Несмотря на «Дунайские волны» вальс никто и не танцевал, а просто кому что взбредёт, но парами.
Две пары поднялись на сцену – в одной из них был юноша с асинхронными глазами, но теперь оба его взгляда были устремлены на высокий мягкий пух серой мохеровой шапочки его партнёрши – медсестры в белом халате.
Кто из них приглашал?
Женщин увели первыми, затем и наш караван.
Замыкающий нас рабочий оторвался от цитаты в настенном плакате и занял своё место в строю, так и не послабив зэковской сцепки рук.
Помимо прогулок по коридорной орбите и участия в клубном балу, я ещё и читал.
Попросил ту толстую из подмышки блондина, по которой он барабанил, и он охотно мне дал почитать.
Это оказался перевод с грузинского рассказов Тамаза Чиладзе.
Мне очень понравились, а в оригинале, наверное, ещё лучше.
На следующий день я сидел у окна рядом с запертой дверью во двор, где тихо спускался первый снег, и то смотрел на него, то читал уже следующую, когда-то читанную «Судья и палач» Дюренматта.
За спиной у меня скрежетал и суетился весь этот современный мир в срезе и преломлении пятым отделением четвёртого километра.
Он мне уже надоел.
Но дочитать я не успел – снаружи в окно постучали. На тонком покрове мягкого снега стояла Ира и улыбалась мне. Тихие снежинки опускались вокруг её лица, охваченного плотной шапочкой из чёрных ниток.
Так красиво.
Медсестра принесла мою одежду и я зашёл в палату переодеться. Увидев меня в гражданке, коридор был огорошен, что я так скоро покидаю их.
Прячась за броуновским движением, кто-то со злостью крикнул, что так нельзя; но я уверен – то был не Баранов, он – жизнерадостный.
Взвинченный близостью освобождения, я по-ораторски сделал шаг вперёд и выкрикнул, что благодарен всем за всё и обещаю помнить.
В ответ вспыхнул стихийный митинг, но я уже вышел в коридор.
По пути к Тамаре в одном из кабинетов я увидел одинокую старуху в халате и платке.
Она ползала на четвереньках, выстраивая в две линии на полу большие, как кирпич, кубики.
Тамара сказала Ире, что моё лечение ещё не начиналось, но раз она так настаивает пусть забирает и не слишком переживает – такие отклонения как у меня не редкость среди докторов наук.
Это она так её утешала.
( … на меня этот капкан не сработал – к тому времени я уже нашёл эффективный способ держать свою мегаломанию в узде; а вот Ира, по-моему, поверила.
Во всяком случае, два годя спустя на мой день рождения она подарила мне книгу сочинений Валентина Плеханова, того самого, что завёз марксизм в Россию.
На обратной стороне толстой обложки она написала пожелание мне стать таким же умным, как и он, потому что она ждёт этого.
Ждала, как минимум, два года, хотя у Фрейда сказано про полтора…)
Обращаясь ко мне, Тамара прописала мне средство возвращения в себя – каждый день по вечерам смотреть информационную программу «Время».
В результате на протяжении нескольких лет я неукоснительно исполнял её рецепт и мог уже с точностью в три дня предсказывать авиакатастрофы и прибытие в Москву делегации компартии Парагвая с кратким рабочим визитом.
Потом мне это надоело и я перестал под предлогом, что горбатого могила исправит, вот тогда уже и стану как все.
( … как прекрасен этот мир, если не заглядывать ему в корень!
«…состоялся симпозиум под эгидой ЮНЕСКО…»
Когда узнаёшь, что «эгида» – это шкура козла, а «симпозиум» – коллективная попойка; особо остро осознаёшь, что в групповой пьянке под козлиной шкурой только Юнески и не хватало…)
Как прекрасен этот мир, посмотри-и Как прекра-а-асен этот мир…~ ~ ~
~~~супружеская жизнь
СМП-615, он же строительно-монтажный поезд под тем же номером, находится примерно там, где я когда-то жевал траву, оголодав в велосипедной поездке на Сейм, только по другую сторону дороги.
В момент велопробега там Конотопа ещё не было, а был лишь конотопский район, но город рос и это место стало частью его – городским районом именуемым «На Семи Ветрах».
Конотопчанам не занимать поэтического видения мира.
В начале декабря, после краткого визита в пригород Чернигова, я пришёл в СМП-615, поскольку туда нет ни трамвайных, ни автобусных маршрутов – это же у чёрта на куличках, На Семи Ветрах.
При разговоре со мной начальник отдела кадров корчил рожи почище Славика Аксянова. В какой-то момент он даже схватил со стола широкую деревянную линейку и прикрыл её свой левый глаз.
Боялся меня сглазить?
Предположить, что это его так с похмелья корёжило не получается – шла вторая половина дня.
Тем не менее, на работу он меня принял и объяснил, что строительной организации от каждого построенного ею жилого дома полагается 10% его квартир, которые распределяются среди работников СМП в порядке установленной очереди.
Сейчас, например, ведётся строительство 110-квартирного дома, а в очереди на улучшение своих жилищных условий насчитывается 23 желающих.
Я написал заявление и стал 24-м в очереди.
Меня не пугало даже то обстоятельство, что после сдачи 110-квартирного я стану в очереди тринадцатым. Зато ещё через один-два дома мне точно достанется квартира для своей семьи.
Тогда я ещё не знал, что не всё так арифметически просто, а начальник отдела кадров не успел мне этого объяснить – он поменял место работы и на эту должность пришёл моложавый пенсионер из вооружённых сил.
С этим всё было предельно ясно и субординатно – отставной майор Петухов держал выражения лица под контролем.
Впрочем, не очень-то и важно какими оказались начальники отдела кадров, потому что главными людьми в моей жизни на предстоящие шесть лет стала бригада каменщиков.
В СМП-615 насчитывалась всего одна такая бригада; все остальные: штукатуры, сварщики, плотники, сантехники – приходили на возводимые объекты уже после нас.
Рабочие растворно-бетонного узла, крановщики, водителя, грузчики, являясь вспомогательным звеном, работали на нас; ну, и ещё куда пошлют.
Даже инженерно-технические работники и бухгалтерия были вторичны, по сравнению с нами.
Именно мы приходили в глубокие котлованы и заполняли их кладкой многотонных бетонных блоков при содействии автокрановщика Гавкалова.
Затем начиналась эпопея роста стен и «начинки» здания методом «кирпич на кирпич», в чём помогали крановщики башенного крана – Микола, другой Коля и Виталя.
Менялись крановщики, менялись сварщики, но мы оставались, ибо кто, если не мы изменит пространство?
Там где прежде находилась лишь заполненная воздухом пустота для пролёта ворон, пролегли лестничные марши, по которым жильцы подымаются к своим домашним очагам на недосягаемые прежде высоты.
Ворóнам пришлось пересмотреть свои маршруты.
Конечно, многоквартирные жилые дома результат труда всех перечисленных, а также и не упомянутых структур СМП, но остриём продвижения к осуществлению вековечной мечты человечества о нормальных жилищных условиях являлись мы – каменщики.
Непросто быть остриём.
Ни стены кабинетов, ни стёкла кабин, ни шпангоуты бортов не укроют тебя от капризов и взбрыков погодных условий.
Вся твоя защита – спецовка и башмаки; зимой добавится бушлат и шапка; всё остальное – не укрытое ими – становится добычей палящего солнца, секущих дождей, безжалостных вихрей и трескучих морозов.
Не всякий выдержит, не каждому дано день за днём оставаться каменщиком.
Много с кем довелось мне работать и в СМП-615, и за его пределами, но именно эти двенадцать для меня навсегда останутся «нашей бригадой»:
Микола Хижняк – бригадир;
два Петра – Лысун и Кирпа – каменщики;
два Григория – Григорий и Гриня, он же Мелехов (после показа экранизации «Тихого Дона» по центральному телевидению) – каменщики;
две Адреевны – Любовь и Анна – каменщицы;
Лида и Вита – каменщицы;
строповщицы – Катерина и Вера Шарапова; и
Сергей Огольцов – каменщик.
В Конотопе легко отличить дома построенные нашей бригадой; все они – полосатые.
Начиная этаж, круговой пояс мы ложили из красного кирпича (6х12х25см) с клеймом «КК» на ребре – «конотопский кирпичный».
«З» – «завод» – отсутствовала, вместо неё стояли палочки: «I» – выработан в первую смену, «II» – вторая смена, и так далее.
Подняв пояс на высоту, где начинаются окна, кладку столбиков между оконными проёмами и откосы балконных дверей мы продолжали уже белым силикатным кирпичом (9х12х25см).
Столбики соединялись бетонными перемычками, которые подносит башенный кран, и поверх перемычек выкладывалась, заключительная сплошная полоса красного кирпича.
Глядя со стороны – ещё один этаж готов (красно-бело-красный), но быстро лишь сказка сказывается…
Теперь нужно сделать «начинку», поднять внутренние стены: несущую осевую «капиталку» и поперечные – между квартирами разных подъездов; сложить из гипсовых плит (8х40х80см) перегородки разделяющие каждую квартиру на коридоры и комнаты, и поставить раздельные санузлы из красного кирпича на ребро (и только из красного, потому что силикатный, как и гипс, боится влаги.)
Вот теперь этаж можно перекрывать бетонными плитами, которые подносит башенный кран на стальных тросах с крючками, которые Катерина и Вера Шарапова внизу, на земле, завели в четыре петли верхней плиты в штабеле таких же плит длиною в 5,6 метров и шириною 1,2 метров, или в 1 метр ровно.
Разница в ширине плит нужна, чтобы точно уложиться в расстояние между стенами лестничной клетки одного подъезда и другого. Перекрывать наглухо стены лестничной клетки нельзя – именно в них выложены вентиляционные каналы кухонь.
А если завезены плиты только одной ширины и варьировать нечем?
( … в эпоху плановой экономики и дефицитов выбирать не приходится – завозишь что подвернётся, пока хоть это есть …)
Тоже не беда!
Имеется лом, кувалда, два Петра, два Григория, один Серёга и бригадир Микола – сменяя друг друга, доведут плиту до нужной ширины.
Перекрытие этажа – ответственные момент, первые год-полтора мне такая честь не выпадала.
Кран опускает плиту, соединяя две несущие стены – наружную и внутреннюю ( «капиталку»). Бригадир и доверенный каменщик ложатся на плиту животами и свешивают головы ниже неё – проверить как она вписывается в ряд предыдущих, ведь их бетонные брюха станут потолком квартиры. Если потребуется, то кран приподымет плиту снова и в месте её опирания на стену будет добавлен раствор, или наоборот счищен.
Ведь тут людям жить!
Наконец, придирчивые взгляды двух свешенных голов удовлетворены её соответствием общей ровности перекрытия и бригадир кричит долгожданное слово:
– Поедя́т!
Это так он переиначил слово «пойдёт!»
Кран ослабляет натяжение тросов, крючки высвобождаются из дыр с петлями в двух концах уложенной плиты, стрела крана приподымается и разворачивается, унося свой массивный крюк с висячими на нём четырьмя тросами-стропами «паука».
Погромыхивая ажурно-железной башней, он катит по рельсам подкранового пути к штабелю плит, где на верхней уже стоят в ожидании Вера и Катерина, чтобы растащить крючки строп по дырам с петлями на её концах.
Технология выверенная десятилетиями.
Рабочие СМП-615 собирались на привокзальной площади к половине восьмого в ожидании, когда от угла мощного двухэтажного здания Вокзала выплеснет поток рабочих и служащих прибывающих первой утренней электричкой из Бахмача, Халимоново, Хутора Халимоново и Куколки.
Теперь, уже все вместе, мы начинали ожидать свой автобус.
Мы образовывали широкий круг, но не для хоровода, а стоя на месте обменивались новостями, приколами, или глазели вокруг и комментировали жизнь привокзальной площади.
Движения автотранспорта на ней, практически, не наблюдалось, а стояли круги других организаций; но наш самый широкий и весёлый.
( … в кругу есть что-то семейное, зачаток общности; в нём ты видишь больше лиц, чем в строю …)
Наконец, из улицы Клубная показывался наш автобус – «наша чаечка» (по имени тех «чаек» что встречают правительственные делегации в Шереметьевском аэропорту).
Он не спеша пересекал трамвайные пути и, въехав на площадь, миновал одноэтажное строение вокзальной милиции у дальнего угла вокзала и столб со знаком стоянки такси, которые, почему-то, под ним никогда показывались.
Завершая свой неторопливый круг почёта по площади, автобус останавливался возле нашего круга и распахивал двери.
Отсюда он повезёт нас мимо Лунатика, мимо двенадцатой школы, мимо трамвайного парка На Семь Ветров, где наша бригада сойдёт возле 110-квартирного, а автобус поедет дальше, увозя в СМП остальных его работников.
Но не все рабочие нашей бригады приезжали автобусом; большая часть её жила в 50-квартирном и в бараках общежития, тоже На Семи Ветрах, и они приходили пешком.
Мы переодевались в вагончике из длинных окрашенных коричневой краской досок.
В небольшом тамбуре-прихожей толпилась груда опёртых на стену лопат в засохшем цементном растворе вперемешку с покорёженными жестяными вёдрами, из которых торчат рукояти наших кельм и кирочек, и белёсая леска железных отвесов.
За тамбуром открывалась низкая комната с одним окном, столом и узкими шкафчиками для одежды в обоих концах комнаты. Большую часть её занимал короб из азбесто-цементных листов, в котором прятались тэны-нагреватели электрического отопления.
Женщины переодевались в вагончике мастера.
Тот, в отличие от нашего, стоял не на земле, а на высоких колёсах и потому нуждался в приставном крыльце. И в нём было два окна, и он разделялся на два отсека: один для мастера и пухлых пачек чертежей, второй – женский.
Ночью в отсеке мастера спали два сторожа-пенсионера поочерёдно сменявшие друг друга.
Один из них, с боевой фамилией Рогов, носил гимнастёрку с орденскими планками, офицерский ремень, галифе и хромовые сапоги, а на голове суконную фуражку по моде тридцатых годов, как у маршала Жукова на Халкин-Голе, когда тот ещё был комбригом.
Из-под её длинного суконного козырька виднелось изношенное в походах лицо римского легионера-ветерана и обида на кого-то из руководителей собеса.
Источником обиды стала случайно услышанная реплика начальника своему заместителю по поводу Рогова:
– Ладно, потерпи, их уже немного осталось.
Второй сторож одевался в цивильное, а прежде носил форму милиционера и устраивал садистский тест поддатым мужикам; если смогут выговорить «Джавахарлал Неру» – отпускал, а если нет – в вытрезвитель.
( … Конотоп есть Конотоп, тут и простому милиционеру известно кто был первым президентом Индии …)
Во время своего дежурства бывший милиционер закрывал окно в отсеке мастера изнутри листом картона. Иначе он не мог заснуть.
В молодости он служил в частях направленных на борьбу с бандеровцами и в закарпатских казармах окна на ночь закрывали щитами из толстых досок, чтоб сон военнослужащих не потревожили бандитские гранаты через стекло.
После переодевания вся бригада сходилась в мужском вагончике каменщиков на обмен новостями Семи Ветров, барачных общежитий и самого Поезда.
Правда иногда Григорий начинал катить на Гриню, что в 8:00 тот обязан стоять на линии, звенеть кельмой и мантулить кирпич на кирпич.
Гриня в ответ хихикал и говорил:
– А как же!
Покуда не подвезут раствор и кран не подаст его на линию, делать там каменщику нечего.
Раствор привезёт самосвал. Он задерёт свой кузов над рядами пустых растворных ящиков из листового железа и раствор поползёт по крутому наклону, но полностью не вывалится.
Хорошо, если половина.
Во-первых, по пути от РВУ раствор осел и уплотнился – в ящики скатилась лишь выжатая из раствора вода, во-вторых, железо кузова покрыто коркой от налипшего, застывшего, примёрзшего раствора из предыдущих привозов.
Надо подняться на отвисший задний борт, который качается под ногами в своих петлях; упереть для устойчивости одну ногу в боковой борт и, стоя второй ногой на узкой кромке заднего, качающегося, борта, подрезáть лопатой застрявший в кузове раствор, чтоб он пластами соскальзывал в кучу на ящиках.
Когда подрезанный пласт с шуршащим шумом поползёт и свалиться, кузов дрогнет и бурно зашатается от облегчения.
Тут важно сохранить равновесие.
Самосвал уезжает оставив горку раствора на 4-5 ящиках.
Это неправильно – каждому каменщику полагается отдельный ящик.
Катерина и Вера Шарапова лопатами восстанавливают справедливость.
Хотя у ящика имеется четыре петли для крючков, его цепляют только за две, по диагонали, чтобы кран в один подъём подал раствор сразу двум каменщикам.
Больше не получается – на «пауке» только четыре крючка.
А тем временем каменщики подняли из вагончика на линию свои инструменты.
Та часть стены, на которой предстоит работать бригаде, называется «захватка». Из конца в конец захватки зачаливается «шнýрка» – толстая леска местами испачканная присохшим раствором, с хвостатыми узлами в тех местах, где неосторожный удар кельмой перебил её, туго натянутую вдоль укладываемых кирпичей, вызывая восклицания остальных каменщиков:
– Какая опять падла?..
Шнýрка нужна для соблюдения общей горизонтальности кладки.
Справа от каменщика кран оставляет ящик с раствором, он же «банка».
Объём ящика-банки невелик – всего четверть тонны. Когда раствор из банки выработан, порожняя тара краном же отправляется к строповщицам для наполнения из оставшейся кучи.
Если раствор в ящике утрачивает свою эластичность, для её восстановления нужно просто добавить воды, принесённой помятым жестяным ведром из многотонной ёмкости неподалёку от линии, и перемешать его с ней совковой лопатой.
Поэтому из каждого ящика торчит черенок лопаты.
Правда, основное её назначение – перебрасывать раствор из ящика на кладку. Затем лопата возвращается в ящик, каменщик берёт свою кельму – размером с большой кухонный нож, но формой как лопатка – и разравнивает ею раствор поверх предыдущего ряда кирпичей для укладки следующего.
Слева от каменщика стоит поддон кирпичей, 300-400 штук, уложенных в плотные ряды друг на друге. Выхватив кирпич с поддона, каменщик кладёт его на раствор и постукиванием окованной железом рукоятки кельмы подгоняет его до соответствия с линией натянутой шнýрки, если это лицевой ряд, либо с уже положенным лицевым рядом, если кладётся ряд задний.
Если по ходу кладки потребуется кирпич особого размера – половинка, трёхчетвёрка или «чекушка» – каменщик пускает в ход кирочку – кайло в миниатюре – обрубая лишнее.
Когда кирпич на поддоне закончится, крановщик подаст следующий поддон, зацепленный внизу Катериной и Верой.
Такая вот ритмическая смена движений: наклон – бросок; наклон – удар; а с учётом пребывания на открытом воздухе – получается чистой воды аэробика с приправой из тяжёлой атлетики.
Упорядочено и последовательно зацикленное движение, можно даже сказать спиралевидное.
Уяснила?
Ну, а теперь можешь наплевать и забыть, потому что стройка это не цирк с ровным песочком арены.
Стройка – опасная зона, где в непредвиденных местах затаились торчащие куски арматуры, под ногой обламывается крепкий с виду кусок доски, с крыши падает ведро кипящей смолы (и хорошо, если истошный крик «беги!» заставит без раздумий метнуться в сторону: а не разевать варежку кверху: а чего это там?); под стеной врезается в землю чугунный радиатор отопления – вернувшийся с зоны блатной швырнул его с четвёртого этажа, просто так, не глядя – «на кого бог пошлёт».
По большому счёту, стройка – это жизнь. И тут, как в жизни, надо не только жить, но и – извини за патетику – выживать.
Да и каменщики не роботы, а люди.
А люди, если хорошенько окрысятся, то кого угодно выживут… хотя, о чём это я?..
Ах, да – стройка!
На стройке каменщику мало остаётся времени для толкования изотерических посланий от посвящённых избранным, для дешифровки знаков начертанных вязью облаков.
Дождись перекура и – пожалуйста! Вплетай какой угодно символ в куда душе угодно…
Покуда бригадир Хижняк не поднял шнýрку на следующий ряд и не прокричал вдоль линии «захватки»:
– Гоним-гоним!
А Пётр Лысун скажет:
– Чё? Опять вперёд? А где перёд?
Вот тут хватай лопату и живи дальше.
( … в позапрошлом веке на границе с Англией, а может с Шотландией, один фермер неслáбо зарабатывал на исцелениях. Причём без всякого шарлатанства.
Целил он душевнобольных. При условии, чтоб их близких при этом и близко не было.
Привозят к нему такого, скажем, страждущего, который заколебал уже всех домочадцев особым видением мира, в котором он – чайник:
– Ах, осторожней, я фарфоровый! Разобьёте!
И наутро фермер выводит его в поле с разнокалиберными представителями от других сервизов – хрустальные фужеры, там, солонки без крышечки; бижутерия тоже попадается – и аккуратно запрягает всё компанию в плуг.
А затем, разумеется, пашет поле.
К вечеру дня 88% стеклотары вспоминали о своём происхождении и делали ему замечания, что с человеком нельзя так обращаться.
> Самые упорные скороварки на второй день начинали прикидываться людьми и фермер возвращал семье и обществу вполне восстановленных членов.
За плату, конечно; плюс бонус – поле вспаханное надурня́к …)
Ира не верила в трудотерапию на свежем воздухе, она больше полагалась на народные средства.
В ту зиму она повезла меня в ичнянский район черниговской области к колдуну.
В село мы приехали вечером – зимой быстро темнеет. До отправления автобуса обратно оставалось полчаса и местные дети на улице, с какой-то даже гордостью, указали нам дом колдуна.
Дверь в добротную хату открыла обычная сельская баба.
На кухне оказалась ещё пара посетителей, но не из автобуса; я бы их запомнил. Следовательно, откуда-то неподалёку.
Молодая пара, с виду супруги.
Сидят, он борщ ест, а она, типа, присматривает.
Время малость не совсем для борща, но я не вмешиваюсь – может это так колдун прописал.
Баба провела Иру в следующую комнату и через две минуты оттуда вышел колдун.
Черноволосый, лет под пятьдесят в рубахе хаки от общевойсковой парадки.
Мы с ним посмотрели друг на друга и он вернулся к Ире. Вскоре она вышла вся взволнованная и мы пошли на автобус.
По пути в Нежин Ира поделилась, что я такой из-за того, что мне давали «дання» и случилась передозировка, но сегодня меня лечить бесполезно, потому что не та «кватера» – то есть луна находится не в той, как надо фазе.
Больше мне у колдуна делать нечего – меня должен подменить какой-нибудь единокровный родственник.
Так что потом вместо меня с Ирой пару раз ездила моя сестра Наташа.
( … всем известно: что «дання» это приворотное зелье; применяется женским полом, чтоб в них влюблялись.
Избранной жертве предлагают угоститься чем-то съестным, куда подмешана кровь от менструации приворачивающей.
Всё-таки, эксперименты на людях они первыми начали ставить …)
У меня нет веры во всякие там суеверия, но когда звякаешь кельмой о кирпич, или раствор лопатишь, то голова остаётся, в основном, свободной и в ней чего только не переворачивается.
( … если, чисто гипотетически, допустить, что дання имело, таки, место, тогда – кто, где, когда?
Не помню на котором году работы в СМП, в голове всплыли два предположения:
1) кефир, который принесла мне Мария, когда я принципиально лежал в нежинской городской больнице;
2) варёная колбаса, которую мне скормила однокурсница Валя со сросшимися на переносице чёрными бровями, по ходу нашей совместной школьной практики на станции Носовка, хоть мне не очень-то и есть хотелось.
Однако, поскольку я ни на одну из них не запал, гипотеза с треском проваливается, а ичнянский колдун остаётся с носом и уходит на скамейку шарлатанов …)
Когда Гаина Михайловна, потупя взгляд, осторожно спросила как ко мне относятся в бригаде, я прекрасно видел куда она клонит – как, в смысле, меня там терпят с моей подмоченной репутацией?
Вобщем-то, да, не каждый коллектив потерпит в своих рядах кого-то с высшим образованием на должности не соответствующей диплому.
Именно этим объясняется крик души крепильщика Васи на шахте «Дофиновка» :
– Ты своим дипломом позоришь нашу шахту!
То есть, делаешь из неё какой-то непонятный сброд.
В СМП-615 репутацию мне подмочила кассирша Комос. Она знала, что я учился в Нежине и знала даже на кого.
Её дочь Алла когда-то имела затяжные серьёзные отношения с моим братом Сашей, и я однажды приходил к ним в гости; но потом Алла постригла свои дивные длинные волосы, а Саша пошёл в приймы к Люде.
Кассирша Комос выдавала нам зарплату.
Для этого автобус привозил нас со стройки на базу, в СМП-615, и в вестибюле на первом этаже административного корпуса мы получали деньги из квадратного окошечка в стене.
Но сначала надо было стоять во взволнованной очереди, а потом сгибаться и засовывать голову в проём окошечка, чтобы там расписаться в ведомости.
Вот эта заключительная поза мне как раз и не нравилась. Голова твоя где-то там, непонятно где, а зад торчит снаружи на милость и усмотрение взволнованной очереди.
Когда я дошёл до окошка, то не стал сгибаться, а просто придвинул ведомость к себе – на край подоконничка – и расписался.
Тем более, что Комос видела, что это я уже на подходе.
Тут-то она и закричала из-за стекла:
– Серёжа! А где голова?
– Меня гильотинировали.
– Чего?! Да что ты из себя строишь? Думаешь диплом получил, так и – всё? Ты ведь с Ольгой к нам в гости приходил. Мы вместе самогон пили!
Вот чего я не люблю, так это панибратства, поэтому так прямо и сказал кассирше Комос:
– Вы ошибаетесь. У вас в гостях мы пили спирт и берёзовый сок, а самогона не было.
Вобщем, поставил её на место; но зарплату она мне выдала и даже хватило вернуть Тоне те 25 руб., которые она мне одолжила на цветы, когда вы в роддоме были.
До этого всё никак не получалось.
Вобщем, из-за болтливой развязности кассирши мне так и не удалось скрыть от бригады свою дипломированность.
Но особой дискриминации ко мне не применяли, а года через четыре я даже привинтил на спецовку значок-«поплавок», который выдаётся вместе с дипломом.
Думаю: а чего он валяется в серванте? Взял и привинтил.
Летом, конечно.
Очень даже неплохо смотрелось – нежно-голубая эмаль значка с золотистой книжечкой на чёрной выгоревшей спецовке х/б.
Месяца полтора так и ходил, а потом утром открываю шкафчик – спецовка на месте, а от значка только дырочка осталась.
Но это не наши, тогда на объект много кого нагнали.
Так что тёще, в следующий свой приезд, я дал вполне предсказуемый ответ:
– Гаина Михайловна, в нашей бригаде десять человек ко мне относятся хорошо, а один положительно.
– Откуда ты знаешь?
– Анкетирование провёл. Устное, по отдельности.
– Так прямо и спрашивал «как вы ко мне относитесь?»
( … интересно, а откуда бы я эти цифры взял? Кстати, некоторые потом тоже спрашивали:
– А ты ко мне как?..)
Да, жизнь перевернулась: прежде я на выходные ездил из Нежина в Конотоп, а теперь из Конотопа в Нежин.
В пятницу, после работы, электричкой в Нежин; в понедельник утренней, шестичасовой – обратно.
Три раза утреннюю я проспал и начал возвращаться вечером по воскресеньям – опасался, что опоздания повлияют на моё место в очереди на квартиру.
( … когда в Америке существовало рабство негров, некоторые их семьи оказались разделёнными.
Допустим, муж на плантации у одного хозяина, а жена за несколько миль у другого. По праздникам муж её навещал.
Такая жена называлась «broad wife».
Я когда узнал, то пожалел, что английский знаю, очень меня это, почему-то, расстроило …)
Из-за того, что в Нежине нет трамваев, автобусы, пользуясь своей незаменимостью, совершенно распоясались.
На столбах возле их остановок висят жестяные таблички с указанием точного времени, когда автобус номер имярек должен тут появиться. Так на эти таблички лучше не смотреть – одно расстройство. По расписанию на жестянке уже три пятых номера должны были пройти, а ты ещё и одного не дождался.
Потом покажется вдали, даря надежду – наконец-то! – и пройдёт мимо не останавливаясь, потому что и так битком.
Но в тот вечер нам с Ирой повезло. Только мы вышли на остановку, тут сразу и автобус подошёл.
Был вечер субботы, а вышли мы потому, что позвонил Двойка и пригласил к себе на преферанс.
На последнем курсе он жил уже не в общаге, а где-то на квартире, вот мы и условились встретиться на главной площади.
Туда всего-то две остановки, так что не подвернись тот автобус, мы бы и пешком дошли.
Ира держалась бы за мою руку, чтоб не скользить в сапогах по снегу, а снег при этом ярко бы белел кругами в конусах света фонарных ламп.
Одеваясь в спальне перед выходом, Ира попросила меня подать пояс от её платья – длинную матерчатую полоску.
Спальня узкая и, чтобы не протискиваться между постелью и коляской, я просто бросил ей пояс. Но один его конец держал в руке, на всякий, если она не поймает.
Но она именно в этот момент наклонилась застегнуть замок на сапогах и второй конец пояса охлестнул её согнутую спину.
Меня поразило до чего точь-в-точь как в кинофильме «Цыган», когда Будулай перед уходом на фронт хлестнул кнутом свою жену.
Типа, у них такой обычай перед долгой разлукой.
Ира даже и не заметила, а я утешился мыслью, что я не цыган, и сейчас не война.
Когда автобус торопливо въехал на площадь, на остановке народу уже скопилась столько, что и в два не влезут.
Я сошёл первым и подал Ире руку – поддержать.
Она едва успела спуститься, как толпа ломанулась в двери автобуса, но я успел отгородить Иру спиной.
И тут раздался вскрик какой-то девушки – её чуть не сшибли с ног, но она успела ухватиться за борт автобуса у двери, чтоб не упасть, а стадо так и пёрло по ступенькам внутрь.
Мне, как человеку не только благородному, но и галантному, это показалось абсолютно неправильным, тем более в присутствии моей жены, и я, со своей стороны потока, крикнул девушке за всех:
– Извините!
Кто-то в толпе не захотел уступать мне в галантности и он решил, что это я толкнул, а может ему было всё равно кого – лишь бы наказать, но, крутанувшись из давки, он нанёс мне удар по скуле.
И тогда я громко сказал – мне даже показалось, что толчея вокруг на миг забыла про автобус и обернулась на мои слова; даже полная луна в небе как-то внимательно застыла, когда я выговорил:
– При всём своём непротивленстве, такое не могу стерпеть.
И я ответил ударом на удар.
Наверное, он был там не один, или взъярённые ожиданием хлопцы вмиг обернулись сворой, потому что на меня посыпались удары со всех сторон – нашли на ком сорвать.
Я смог лишь закрывать лицо и голову согнутыми в локтях руками, но, по-моему, моё тело всё это делало само по себе, без моего участия. Мне оставалось только слышать невразумительные крики.
Кто, кому, о чём?
Когда донеслось рычание заводящегося мотора, я почему-то был уже с обратной стороны автобуса в перекрёстном свете фонарей окружающих площадь, но всё ещё на ногах, только без шапки.
Наверное, распсиховавшихся оказалось слишком много и они помешали друг другу сбить меня на укатанный снег площади.
Свора разбежалась, чтобы успеть вскочить в захлопывающиеся с той стороны двери.
Автобус уехал и я вернулся на остановку, где, среди десятка так и не втиснувшихся, стояла Ира с моей кроличьей шапкой в руках.
В стороне, у тёмного киоска виднелся Двойка, что пришёл нас встречать.
Он отвёл нас на свою квартиру, которую снимал в частном доме вместе с Петюней Рафаловским и я расписал с ними «пулю».
Потом они вышли провожать нас с Ирой.
На узком тротуаре идти получалось лишь по двое. Ира и Двойка шли впереди: он в длинном кожухе и мохнатой шапке-малахай, она в пальто прямого кроя и круглой шапочке; а я с Петюней сзади.
Мне было нестерпимо горько из-за того, что она идёт не со мной; но что оставалось делать – устраивать сцену? Оттаскивать Иру от Двойки?
А кто я такой?
Побитый стадом Ахуля в демисезонном пальто от Алёши Очерета?
На такого не всякая позарится, пусть даже она тебе и жена.
В побоище на площади мне так и не сумели нанести повреждений, но до чего же больно было идти рядом с Петюней!
Он и Двойка проводили нас до остановки, а потом ещё, аж до моста через Остёр, где мы всё-таки смогли расстаться.
На прощанье Двойка, пряча от меня взгляд и часто затягиваясь сигаретой, рассказал как недавно имел одну из своих биофачных прошмандовок и та закинула ему ноги на пояс, а он таскал её по комнате, ухватив руками за титьки.
Меня буквально оглушила эта самореклама самца-победителя. Я бы таким не стал делиться даже при его прошмандовках.
Мразь.
Когда мы шли на Красных партизан, Ира не держалась за мою руку и всё больше отмалчивалась. Пришлось и мне заткнуться.
Вот и извиняйся после этого перед незнакомыми девушками.
Руководство СМП-615 изыскало способ хотя бы отчасти сгладить факт наличия в нём каменщика с высшим образованием.
Меня назначили в заседатели товарищеского суда.
Такой суд рассматривает правонарушения не входящие в свод статей уголовного кодекса, или предусмотренные, но не слишком наказуемые: если хулиганство, то мелкое, а кража, опять-таки, по мелочам.
Товарищеский суд это скорее мера морального воздействия, чем сурового воздаяния по всей строгости закона.
Должность заседателя не оплачивается и она выборная. Однако, не всегда удаётся провести чёткую грань между избранием и назначением.
Когда на профсоюзном собрании звучит вопрос «кто за?», то для присутствующих это не вопрос, а просто сигнал поднять руку.
Классический пример вторичного рефлекса, не хуже, чем у собаки Павлова.
Точно такая же рефлексология и на комсомольских собраниях.
Правда, в СМП-615, за мою там бытность, состоялось только одно комсомольское собрание, да и то по причине проверяющего из горкома комсомола.
Вряд ли он сам стремился, скорее всего послали посмотреть каким ключом бьёт задорная молодая жизнь Поезда в возрасте до 28 лет.
Его настолько удручило всякое отсутствие полемики даже по самым актуальным вопросам современности, что под конец катастрофически скоропостижно катящегося к своему завершению собрания, он обратился к нему с вопросом:
– Да что ж вы такие пассивные?
Тут уже мне пришлось встать с места и ответить риторическим вопросом на вопрос:
– А кого, интересно, начнут вести активные, когда пассивных не останется?
Всё-таки диплом обязывает к определённой линии поведения.
Проверяющий оказался неподкованным для такого вопроса и собрание благополучно закрылось.
Вот руководство и решило, что оно проявит дань уважения системе высшего образования нашей страны, если меня, как носителя диплома о таком образовании, воткнёт заседателем в товарищеский суд.
Этому суду, помимо председателя, требуются два заседателя, сроком на один год – до следующего отчётно-выборного профсоюзного собрания.
Пожалуй, на этой должности я проявил себя латентным тираном, предлагая слишком драконовские меры пресечения.
Например, месяц одиночных (sic!) исправительных работ для штукатура Трепетилихи в производственном корпусе на территории СМП.
Тогда как для неё, считай, и день пропал, если за смену плюс в автобусе от вокзала и обратно она двоих-троих не забалакает до комы!
Конечно, от производственного корпуса до сторожки у ворот всего метров 200.
В сторожке днём сидит Свайциха и у той язык тоже кошками не обволóчен, но суд мне не внял и вынес приговор снять Трепетилиху на три месяца с должности бригадира; а это срезáло ей зарплату по десятке в месяц.
Она ещё дёшево отделалась, поскольку её правонарушение могло иметь политический резонанс.
Судебное разбирательство выяснило, что дело было так:
Трепетилиха высунулась из окна 110-квартирного, где уже шли отделочные работы и увидела, что работница бухгалтерии СМП-615 идёт домой.
Ну, а почему не идти? Живёт она На Семи Ветрах – идти не далеко, а время уже полпятого.
Её ошибка в том, что она ответила на вопрос торчащей из окна Трепетилихи:
– А шо ты там ото несёшь?
– Рыбу.
Слово «рыба» послужило детонатором.
Трепетилиха всколонтырилась, собрала баб своей бригады и, с протяжными интонациями, оповестила их о несправедливом распределении жизненных благ, несмотря на эпоху развитóго социализма.
– Они в конторе там сидят! В добре, в тепле! У каждой сучки нагреватель под сракой! А мы тут на холоде загибаемся! А рыбу – им?!! Всё, бабоньки, собирайте мастерки и тёрки! Да ещё нагло так: «рыбу я несу!» А у нас семей нет?!
Дело в том, что наш автобус-«чаечка» иногда привозил продукты от ОРСа.
Один раз свежие булочки на 110-квартирный, а на 100-квартирный минеральную воду в бутылках по 0,5 литра.
Что и когда возилось в административно-бытовой корпус СМП-615 мне неизвестно, но бабы бригады Трепетилихи на следующее утро тоже не работали, а это, как ни крути – забастовка.
Не знаю рыбу им подвезли, или другой эквивалент, но отделочные работы продолжились, а Трепетилиха пошла под суд.
Наш, товарищеский.
Не отреагировать на факт простоя с политическим оттенком руководство не могло, тем более, что заместитель главного технолога носил галстук с изображением серпа и молота.
А это о многом говорит.
Да, на моём шарфике тоже красовался Кремль поверх пяти олимпийских колец и надпись «Москва-80», но мне выбирать было не из чего; тогда как расцветки галстуков в Универмаге дефицитом не страдали – имелись там и в клеточку, и в полоску, и даже в горошек.
По зрелому размышлению, мне кажется, что отклонив моё предложение о переводе Трепетилихи на базу, народный суд принял мудрое решение.
Держать её там равносильно игре с огнём на пороховой бочке. Не приведи, господи, чего-то там бы завезли, а ей не досталось – она и базу разнесла б.
Есть женщины в русских селеньях…Без ложной скромности отмечу, что в сёлах конотопского района есть бабы и покруче, чей потенциал возможно измерить только в мегатоннах, а то и по шкале Рихтера.
– Шо за народ пошёл! Навалились всем селом! Еле-еле одгавкалась.
Сварщика Володю Шевцова я вообще хотел в ссылку отправить.
Очень профессиональный сварщик, двадцать лет проработал на заводе КЭМЗ, и в нём чувствовалась какая-то наследственная интеллигентность.
Может оттого он и спивался.
При взгляде на его тронутые сединой кудри, у меня, почему-то, всплывали ассоциации с городом на Неве. Такой вот какой-то флёр интеллигентный у Володи… что-то от белых ночей… петергофских фонтанов…
Но чемергéсил он по чёрному, особенно с получки.
На заседании суда председатель так и заявил:
– На вокзале после работы сходим, так Володя, пока до первого светофора дойдёт – уже готовый.
Ну, это он снаивничал: от вокзала до светофора на Переезде – два гастронома, не считая павильона «Встреча».
Тогда-то я и предложил отправить Володю в ссылку. В какую-нибудь сельскую местность, где светофоры не висят, с их сатанинским подмигиванием, и у Володи не останется повода пить до упаду.
Суд отклонил подобную бесчеловечность, а сам Володя на меня обиделся, хотя виду не подавал.
А жаль, он так интеллигентно матерился:
– Идите Вас на хуй, пожалуйста.
Так и веет набережными культурной столицы.
СМП-615 базировался в Конотопе, но имел свои филиалы и в других местах: пару грузчиков в Киеве; стройбригаду с автокраном в Бахмаче; бригаду с трактором «Беларусь» в Ворожбе…
По третьему делу проходил мастер-прораб бахмацкой бригады.
Там закончили какой-то строительный объект и одолженный в других организациях бульдозер делал зачистку – равнял прилегающую площадь.
Прораб заметил, что груда земли скапливается на бракованной панели перекрытия, которая осталась после строительства. Вот он и перебросил эту панель во двор какого-то знакомого, или родственника для перекрытия погреба вырытого в земле.
Объект благополучно завершили, а прораба кто-то заложил: расхищение социалистической собственности.
На заседании суда у меня к преступнику был всего один вопрос:
– Что стало бы с треснувшей панелью, если бы ею не перекрыли погреб?
Он недовольно пожал плечами и ответил:
– А что может стать? Осталась бы под грунтом.
Я потребовал объявить прорабу благодарность за вклад в повышение общего благосостояния советского народа.
Неважно, кто кому родственник, но мы – единая семья.
И этот мой вердикт не прокатил.
На следующем отчётно-выборном профсоюзном собрании никто и не заикнулся выбирать меня в товарищеский суд.
Как будто у меня того диплома в жизни не было.
Когда тебе исполнился один год, ты приезжала в Конотоп. На неделю, или две – не надолго.
В то лето шли частые грозы. После одной из них я повёз тебя в коляске на прогулку.
Моя мать и Ира долго были против, а мне не хотелось сидеть в доме и ждать следующего ливня.
Наконец, Ира позволила и они легли спать дальше – в дождь на сон тянет.
На дороге встречалось множество больших луж, но мы с тобой всё равно дали круг чуть ли не по всему Посёлку – от конечной трамвая до Богдана Хмельницкого и обратно по Профессийной.
Ты была тепло одета и спала под поднятым верхом и застёгнутым фартуком коляски.
Только уже в конце Профессийной, когда с обода переднего колеса соскочило кольцо резины, ты проснулась, села и схватила кольцо, которое я положил поверх застёгнутого фартука.
Ты схватила его обеими руками, как рулевое колесо, но я отобрал эту мокрую резину.
Ты чуть захныкала, однако, не надолго.
До Декабристов оставалось уже недалеко и мы доехали на одной паре колёс коляски.
Кстати, твой дед Коля так и не научился выговаривать слово «коляска». Он называл её тележкой.
Наверное, это стереотип впечатанный в гены рязанских крестьян. На колясках ездили одни лишь баре, а наши обходились телегами.
Через пару дней погода разгулялась и я вывез тебя на поле рядом с конечной трамвая.
Я достал тебя из средства передвижения и поставил на зелёную траву. Стояла ты не слишком твёрдо и опиралась рукой на коляску.
Я лёг рядом в траву.
Зелёное поле уходило вверх, в синее небо, и над ним пели жаворонки. Громко. Звонко.
Ты так и стояла. Пока на красных колготках не проступило тёмное пятно влаги.
Пришлось увозить тебя на переодевание.
В другой раз я взял запасные колготки и повёз тебя на пруд Шаповаловки, куда мы с Кубой гоняли на великах. Недалеко, километров пять.
Ты спала всё дорогу.
Шаповаловский пруд большой. Я поставил коляску на низком песчаном берегу – посмотреть как ты среагируешь на незнакомый мир. Ведь прудов ты ещё не видала.
Это как первый выход из космического корабля на неведомую планету.
Ты проснулась и села. Я стоял позади поднятого верха, чтоб не мешаться в первые впечатления.
Ты повернулась влево – из коляски видна была лишь ширь пруда подёрнутая мелкой рябью; направо тоже оказалась непонятная, невиданная за всю жизнь субстанция – и ты разревелась.
Ну ещё бы! Проснуться неизвестно где и совсем одной.
Мне пришлось показаться и мы покатили обратно.
На Декабристов 13 от калитки к стойке крыльца веранды была натянута бельевая верёвка. На ней висело высохшее бельё, а ты сидела в коляске рядом.
Моя мать стояла перед ней с тазиком – вышла снять стирку.
Ты вдруг ухватилась за что-то висевшее рядом и поднялась в коляске во весь свой рост.
Моя мать сказала мне убрать ребёнка, а ты, в ответ, отпустила бельё и вскинула обе руки, словно в танце. Вот как я умею!
В глазах моей матери мелькнуло что-то такое тёмное и жуткое, что я инстинктивно отдёрнул тебя.
Вернее, я потянул на себя ручку коляски и тем самым выдернул её дно у тебя из под ног.
Ты кувыркнулась через бортик на землю двора, хорошо, что мягкую, хорошо, что на спину.
Я тут же подхватил орущую тебя на руки, но мимо сарая уже неслась пантерьими прыжками Ира – колотить меня кулаками по голове и по плечам, потому что руки мои были заняты тобою.
Обратно в Нежин мы везли тебя переполненной электричкой. Народу набилось столько, что в проходе стояли.
Когда я относил твой пластмассовый горшок с крышкой в тамбурный туалет, пришлось держать его над головой, как поднос официанта в переполненном трактире.
( … У меня в памяти есть два набора картинок – апокалиптические и душещемящие.
Первые – это где мрак и вой, холодный ужас и бегущие толпы; вторые смотреть приятно, но они оставляют томление по несбыточному, или несбывшемуся.
Типа той, где в раскрытую дверь автобуса, остановившегося повыше Вапнярки, виден бетонный столбик с голубой жестянкой 379, а рядом уходит вверх просёлок, между подвижных смыкающихся берегов-колосьев поля и пацан лет десяти прощально взмахивает рукой, а ветер встрёпывает его волосы пшеничного цвета.
Вобщем, хочу сказать, что все картинки где есть ты, у меня во втором наборе …)
После возвращения из Одессы я жил в постоянной агонии страха перед тем, что неизбежно должно произойти, а возможно уже и случилось.
Страх сопровождался муками ревности не к кому-то конкретно, а к тому, что отнимет у меня мою Иру.
Этот страх и муки я скрывал, как нечто постыдное, но они постоянно сопровождали меня.
Мне легчало лишь когда Ира была рядом, когда я пахал на стройке и когда работал над переводом рассказов.
Но и в таких случаях сокрушающая тревога, которая давила меня постоянно, не исчезала совершенно, а только отступала на второй план.
Физическая боль милосерднее – часть мозга, куда направлены её сигналы, через какое-то время отключается и боль уже не доходит.
Я не предпринимал попыток исправить своё положение; во-первых, оттого, что не умею анализировать и составлять план действий, а так и живу, молча терпя нестерпимое.
Во-вторых, альтернатива этой агонии не уступает ей своей жутью.
Нашу бригаду перебросили на остановку «Присеймовье», строить 2-квартирный дом для обходчиков рядом с железнодорожным мостом через Сейм.
Полмесяца мы трудились там.
В один из обеденных перерывов я расстелил свою снятую спецовку на траву, рядом с иссушённой солнцем тропинкой в мелких трещинах, вдоль которой суетились муравьи, и лёг сверху.
Для заполнения обеденных перерывов я читал журнал «Всесвит», который получал по подписке.
Толстый ежемесячник с переводами на украинский из всемирной литературы всех времён и народов.
Скоро чтение мне надоело и я опустил голову на страницу раскрытого журнала.
Вокруг шёл солнечный день заполненный деловитой летней жизнью.
Муравьи что-то таскали по растресканной тропинке, трава покачивалась от редких порывов прохладительного ветерка и по ней трепетала резная тень листвы деревьев. Воздух гудел от непрерывного жужжания слепней, пчёл и просто мух.
Время от времени ветерок лениво приподымал страницу рядом с той, на которой лежала моя голова, и тогда всё вокруг застилалось белым и размытыми пятнами букв поднесённых слишком близко к зрачку.
За вздыбленной страницей уже не видны быки моста через реку с длинным пустым островком из песка намытого бурлящим течением.
И рыбак с длинной удочкой на краю островка тоже пропадал за белой запоной.
Потом страница опадала и оказывалось, что рыбак уже вошёл в течение по щиколотки своих резиновых сапог. Леска вдруг согнула хлыст удочки и он выхватил из бурных струй трепыхающийся блеск рыбы. Снял и бросил добычу зáспину, где та продолжила биться на песке. Он снова закинул и, следя за поплавком, не заметил, что речная чайка бочком подкрадывается к биению рыбы.
Птица, схватив добычу, взлетела. Рыбак не увидел этого, как и и того, что со стороны моста на чайку спикировала другая такая же. Они сшиблись в воздушном бою и рыба упала с пятиметровой высоты обратно в воду.
Ничего этого рыбак не видел, он упорно следил за поплавком.
Видел только я, но меня ничто не трогало; я даже не придерживал страницу, чтоб не мешала досмотреть. Я смотрел и видел, что всё это – Ничто.
Вся эта бурлящая, переполненная событиями жизнь – лишь серия картинок поверх Ничего.
Я смотрел, а мог и не смотреть – ничего Ничего не меняло. Всё утопало в Ничего.
Даже всегдашняя боль отступила, её затопило Ничего, от которого мне ничего не надо.
Я лежал, как тот протянувшийся островок, вокруг которого журчит и плещет течение жизни, но он знает, что всё это одно и то же полное Ничего.
Это очень страшное знание. Как с таким жить?
Как жить, когда ничего не хочешь и ничего не ждёшь?
Так что выбор у меня был невелик – или Ира и с нею агония, либо Ничего.
В Конотоп Ира приезжала и без тебя. Например, на Владину свадьбу в начале зимы.
Он женился на Алле, у которой уже был ребёнок и которая работала в большой столовой.
И свадьбу устроили в той же столовой на окраине города, где останавливается дизель-поезд на Дубовязовку.
«Живая музыка» включала в себя крепко облысевшего Чепу и, пока ещё, кучерявого Чубу. Временами, по просьбе гостей, Владя тоже начинал петь с экс-Орфеями.
Всё было вкусно, громко и весело.
Но это было на второй день её приезда, а вечером первого дня у меня случились два открытия.
Во-первых, о скрытых ресурсах человеческого организма.
Поздно вечером мы с Ирой вышли через веранду в пристроенную комнату. Зимой она не отапливается и туда просто сносят всякие домашние вещи.
На плечи Ира набросила какую-то из курток с вешалки в кухне. Ей всегда нравилось что-то примерять.
В комнате среди прочего стояли два старых кресла, ещё с Объекта, с деревянными подлокотниками под жёлтым лаком и мы занялись любовью.
В такие моменты я не думаю ни о каких агониях…
Мне показалось, что кончили мы вместе, но Ира, с полузакрытыми глазами, стала стонать:
– Ещё!.. Ещё!..
До сих пор я твёрдо знал, что после оргазма нужно отлежаться хотя бы полчаса.
– Ещё!..
И я снова встал и мы снова продолжили над свежевыплеснутым семенем на досках пола.
Это невозможно, но, оказывается, так бывает.
Второе открытие – о белых пятнах в области сознания – случилось, когда мы с Ирой вернулись в гостиную.
Отец мой уже ушёл в спальню, а моя мать, которая в тот вечер совсем расклеилась, сидела на диване раскинув руки на сиденье, не глядя на включённый телевизор.
На экран смотрела только Леночка из пока что не разложенного кресла-кровати.
Свет горел только в гостиной и здесь же негромко бубнил телевизор.
Моя мать немного поохала и попросила меня с Ирой отвести её в спальню, а то сил больше нет.
Мы взяли её под руки с двух сторон и помогли подняться.
Всё так же охая и шаркая тапками по полу, она, при нашей поддержке, двинулась к двери в тёмную кухню.
Так, втроём, мы миновали середину комнаты под люстрой с пятью белыми плафонами, из которых только один рисовал круг желтоватого электрического света на потолке.
Когда до двери оставалось метра два, круг света вдруг исчез и я оказался посреди темноты, но это была не кромешная тьма, потому что я видел, что занимаюсь этим со своей матерью в основной позе нецивилизованных приматов. Ужас встряхнул меня как электрическим разрядом и я опять оказался в гостиной.
До прохода на кухню оставался ещё метр пути.
Я испуганно взглянул на Иру поверх белого платка на голове моей матери.
Ира, сдвинув брови, старательно смотрела не на меня, а на опущенный профиль моей матери и, типа, ничего не заметила.
Это было видением, но более длительным, чем та секунда бега через греческую ночь.
Я попросил Иру остановиться, выскочил на кухню и включил там свет. Мы отвели мою мать в спальню и посадили на кровать, где что-то сонно пробормотал мой отец.
Мы вернулись в гостиную. Я разложил кресло-кровать для Леночки и раздвинул диван для нас.
Скоро в хате настало сонное царство.
Только мне по вискам стучало тиканье настенных часов над телевизором.
Оно тоже не знало что это было и за что мне такое.
Принимая тетрадки с рукописями моих переводов, Жомнир, как и прежде, вскидывал кустистую бровь и начинал читать, вставляя карандашные пометки между широко расставленных строк, хотя и соглашался, что и его варианты – не то.
– Твоя беда, Сергей, что мова не родной тебе язык. Ты не впитал её с молоком матери.
Я не стал доказывать, что первые месяцы жизни меня прикармливали молоком гуцульских коров.
Он вышел в свою архивную камеру и вернулся с небольшой книжкой.
– Рассказы Гуцало… Вот как надо писать.
Жомнир начал вычитывать оттуда отдельные предложения, прищёлкивая языком в конце особо «красномовных», потом отдал книжечку мне – учиться.
( … я прочёл этот сборник и другие книжечки Гуцало.
Что поделать, если меня не цепляют описания перезвона утренней росы на огуречной рассаде?
(За что, кстати, Есенина я тоже не люблю, хотя он и рязанский.)
К тому же, после «Зачарованной Десны» Гончара в эту тематику соваться стыдно – тут ты обречён на жалкое крохоборство.
А когда Гуцало попытался писать о жизни в городе, то съехал до уровня фейлетонов журнала «Перець».
Не спорю, в одном из рассказов он замечает красноватую кирпичную пыль на чёрных телогрейках каменщиков, но эта деталь у него ни к чему не пристёгнута. Болтается как вялый энтот в необъятной энтой.
Детали должны работать на конструкцию в целом.
Созвездие Южного Креста и отсвет лампы фонаря в рыжих волосах доктора на пустой палубе исподволь готовят читателя, что в «Дожде» Моэм расскажет о столкновении проституции и священослужительства …)
Но Жомниру виднее и я начал восполнять недостатки молочного питания в моём младенчестве и ликвидировать свою неаттестованность по украинской литературе.
На обложке тонкой тетрадки я написал «Укр. Лит-ра» и прочитал все книги на украинском с двух длинных полок в библиотеке Клуба КПВРЗ, записывая в тетрадку имена авторов и названия их творений.
Тут и Леся Украинка со своей мамой Олёной Пчёлкой, и Панас Мирный с его волами, и великий Кобзар, и Вовчок, и Франко, и Янковский (кумир Жомнира) и много кого ещё в алфавитном порядке.
Про некоторых даже сам Жомнир знал лишь по обзорным лекциям в конспектах своих студенческих лет.
( … просеяв всё это сквозь решето и сито внимательного чтения, могу сказать, что, в плане художественной ценности, большинство из авторов не потянули сотворить что-либо выше уровня «Мороз крепчал…» из не одноимённого рассказа Чехова про писательницу-надомницу.
Украинская народная пословица гласит «где нет соловья, будешь слушать и воробья».
Коль скоро во всех странах Европы есть писатели, то давайте и у себя заведём.
Заведённые так и остались всего лишь пересказчиками европейских мод, за что честь им и хвала – родная мова начинает печататься на бумаге; но это уже политика, а я говорю о литературе.
Из украинской литературы только трое не ударят лицом в грязь пред мировыми стандартами:
а) Поэт Кандыба, он же Олесь, который годами ходил по колено в крови на киевской бойне и при этом писал мировые стихи.
б) Писатель Василь Стефáник.
в) Писатель Лесь Мартóвич.
Мастер знает что хочет сказать и умеет сказать это. Остальные просто динькают валдайскими колокольчиками в попытке изобразить новомодные вальсы Штрауса, которые тот создаёт к восторгу и восхищению приличной европейской публики.
Но мы всё равно их нагоним и – перегоним! Допишем и – перепишем!
Праця ця – цяця!..)
Так что после работы мне было чем заниматься.
Из электрички тоже получился неплохой рабочий кабинет. Полтора часа – это огромный кус времени. Поэтому по пятницам я выходил на работу с портфелем, а после работы, в вагоне электрички, доставал из него тонкую тетрадь, ручку и томик рассказов Моэма на английском языке.
Склонясь над чёрными значками шрифта в плотных строчках страницы, я погружался в густую ласковую ночь экзотических южных морей, где аромат цветущих джунглей разносится за много миль от островов и, вынырнув оттуда с парой корявых строк для тетрадки, я укладывал добычу в арифметические клеточки, чтоб снова пойти на погружение, и там опять брести по песку пляжа вдоль белопенного, даже в темноте, прибоя и заторможено взглядывал через стекло окна… Приостёрный?.. Так быстро?
Следующая Нежин.
Это было вкусное время.
Раскладывать тетрадь и книгу поверх портфеля – неудобно, но и проблеме письменного стола нашлось элегантное решение.
По пятницам после работы, я вынимал из своего шкафчика кусок фанеры, что служит полкой для головных уборов.
Кусок фанеры 50х60см подмышкой не бросается в глаза и не мешает заходить в автобус, или вагон электрички.
По прибытии в Нежин письменный стол отлично умещался в ячейке автоматической камеры хранения, а портфель ехал на Красных партизан, в узкую спальню под стол с тюлевой скатертью, на котором стояло старое трюмо.
Расходы на хранение фанеры в ячейке составляли 30 коп.; 15 коп. – чтобы установить шифр внутри дверцы и захлопнуть её, 15 коп. – чтобы открыть, набрав шифр с наружной стороны.
Один раз на обратном пути дверь ячейки заклинило. В таких случаях её вскрывает дежурная по вокзалу особым ключом и в присутствии милиционера.
Он предварительно спросил какие вещи я туда поставил.
Чтобы не напрягать мужика, я даже и не заикнулся про письменный стол, но он отказывался верить и в кусок фанеры.
Когда дежурная открыла ячейку, а я, вытащив эти свои 50х60см, отошёл, он ещё долго заглядывал в пыльную пустоту ячейки.
Как говорит наш бригадир, Микола Хижняк – «зазирав, як сорока у кiстку».
А иногда в портфеле я привозил ещё и вещи в стирку, потому что Ира так сказала.
Мне это приятно было, мы как бы становились семьёй, пусть хоть и в тёщиной стиральной машинке.
А вот первый семейный праздник у нас не удался.
Тебе исполнился ровно год и я пригласил Иру сходить в ресторан, она отказалась, потому что Гаина Михайловна была против хождений по ресторанам.
Вообще-то, Ира немного колебалась – пойти, или нет? Но я так и не смог её уговорить из-за своего косноязычия.
Чаще всего оно на меня нападает в бытовых ситуациях – никак не умею объяснять того, что и само собой понятно:
– Да, ну, пойдём, чё ты.
Тогда как стоящая рядом тёща аргументировано доказывает, что для выхода в ресторан нужно готовиться два дня.
– Ну, чё ты, пойдём, да.
А сказать, что это же у дочки самый первый день рождения в жизни и что такое не повторится уже никогда, и что экспромты иногда бывают даже лучше спланированных мероприятий – на такое у меня язык не поворачивается.
Это только на отвлечённые темы я за словом в карман не лезу.
Когда Брежнев в первый и последний раз проезжал через Конотоп на поезде, там на месяц раньше срока поставили жестяный щит выше самого Вокзала, а на нём гигантски дорогой Леонид Ильич – Ум, Честь и Совесть – при всех своих золотых звёздах Героя Советского Союза на пиджаке.
Вот глянет в окна проходящего поезда из трёх вагонов и убедится как тоталитарно Его тут любят.
Вокзал за два часа заранее оцепили милиционерами за триста метров во все стороны, хоть сам поезд пройдёт без остановки.
Меня забыли предупредить и я шёл с Посёлка вдоль путей, пока сержант милиции не остановил и не сказал, что на Вокзал нельзя.
Ладно, говорю, мне Вокзал без надобности, я на Переезд иду – вон по той служебной дорожке обогну, чтобы джинсы об мазутные рельсы не пачкать.
Хлопцу в милицейской форме Брежнев был точно так же до фени, как и мне. Однако, с учётом сопутствующих обстоятельств – человек без формы пытается что-то доказать человеку в форме, у которого, к тому же, приказ – он задал мне абсолютно обоснованный вопрос:
– Ты что – больной?
И тогда, гордо приосанившись, я выдал:
– Я неизлечимо болен жизнью!
Во сказанул – аж самому понравилось!
Сержант, от восхищения, не нашёлся чем ответить, но всё равно не пропустил.
Так что семейный праздник я отмечал в одиночку, хотя Ира и Гаина Михайловна дуэтом предрекали, что ничего хорошего из этого не выйдет.
И, таки, не вышло.
В «Полесье» мне насилу дали стопку водки – последняя, говорят, а коньяк продаётся только бутылкой. Но я же не алкаш, чтоб в одиночку поллитра коньяка на грудь принять.
Ограничился стопкой водки под размышления о том, что меньше надо спорить с матерями и что в условиях матриархата между моей тёщей и неприветливой официанткой наверняка имеется система сообщающихся сосудов.
«Чайка» от Красных партизан подальше отстоит и там мне удалось купить бутылку шампанского, которое я закусил салатом из петрушки.
А на обратном пути шампанское ударило мне в мочевой пузырь.
В те времена – в надежде избежать неизбежное – я старался всё делать правильно.
Это, типа, для страховка – не может же жена изменить праведнику …или как?
Гарантий, конечно, никаких, но, если не вдумываться, вселяет робкую надежду.
Мочиться на тротуар – неправильно, поэтому я пошёл в туалет на базаре.
Ворота базара оказались давно уже запертыми и мне пришлось перелезть через них.
Это тоже не совсем правильно, но в темноте не очень заметно.
К тому моменту, когда в углу безлюдного и тёмного базара я подошёл к железной двери в туалет, на ней уже стояла надпись мелом «Ремонт».
А шампанскому стало настолько невмоготу, что пришлось излить негодование по поводу диктатуры сообщающихся сосудов на ту же дверь, но надпись я не затронул.
Ну, и кто бы сомневался, что спускаясь по трубам ворот я был встречен нарядом милиции.
Добро пожаловать на родную землю.
Конечно, они не поверили, что кто-то пойдёт искать туалет, когда вокруг столько тротуара в темноте.
Меня отвезли в вытрезвитель.
Тамошний врач для проверки моей стадии опьянения предложил выполнить несколько приседания.
– Пятки вместе – носки врозь?– уточнил я, просто чтоб пообщаться.
Но этот капилляр усложнил задачу и пришлось приседать со сдвинутыми ступнями.
Врач спросил сколько и чего я выпил, получил чёткую информацию, пожал плечами и передал меня лейтенанту.
Тот спросил меня о месте работы и, узнав что я не местный, взял номер моей тёщи и позвонил Гаине Михайловне для опознания моего голоса по телефону.
Потом мне просто указали на дверь, отказавшись хоть немного подвезти, а то вообще прикроют, если много буду варнякать.
Так, несмотря на жёсткое противодействие женского начала и его приспешников, твой первый день рождения всё-таки стал неповторимым и единственным случаем, когда я попадал в вытрезвитель.
Развитие наших с Ирой отношений шло постепенно и совершенно предсказуемо.
На первых порах, когда я приезжал после рабочей недели в Нежин и взволнованно нажимал кнопку звонка, Ира сразу же открывала мне дверь, я обнимал её в прихожей и мы целовались.
Она даже смазывала глицерином мои запястья с потрескавшейся от мороза кожей.
– Ну, какой же ты дурачок!– говорила она и мне было очень приятно, хотя и больно.
На следующем этапе мы перестали целоваться.
Ещё позднее вместо объятий обходились дежурными:
– Как ты?
– Нормально.
И это правильно – что-то же надо говорить.
Отношения на этом не остановились и дверь мне начали открывать её родители.
Тесть, в основном.
Иногда мне уже приходилось звонить в дверь дважды.
В зимы, когда состояние кожи моих рук не вызывало интереса, я перестал их обмораживать. Опытнее стал должно быть, или кожа поняла, что глицерина ей всё равно не дождаться.
При нашем последнем поцелуе в прихожей я сразу понял, что что-то не так. Отняв губы, Ира как-то по виноватому изогнула шею и от неё пахнýло пóтом лисицы.
Я никогда не нюхал лисьих самок, но моментально определил – лисою пахнет.
Позднее в тот приезд она мне рассказала, что была дома одна, в дверь позвонили и это оказался какой-то её одноклассник, он на кухне упал перед нею ниц, обнимал и целовал её колени, но она велела ему уйти и ничего не было.
У меня, конечно, случился очередной приступ агонии, но я до онемения зажал зубами неправильно стучащее сердце и стал жить дальше.
Из прихожей я направлялся в ванную, помыть руки, а оттуда в гостиную – сказать всем «добрый вечер» и сесть за большой стол придвинутый к подоконнику.
Посреди стола стоял телевизор, но на клеёнке оставалось достаточно места для тарелки, вилки и хлебницы, чтобы я поужинал.
Экран я не загораживали и никому не мешал; разве что эстетически – демонстрацией своего жующего профиля слева от телевизора.
Потом я относил посуду на кухню и мыл её. А заодно и ту, что осталась от обеда и общего ужина в этот день.
Мыть посуду я не стыдился даже когда на кухню заходил Ваня, Тонин муж. Наоборот, я был горд, что Гаина Михайловна мне доверяет, после пары придирчивых проверок качества результата на первых порах.
Посуду я мыл в большой миске, поставив её в раковину. Воду для мытья приходилось нагревать в чайнике на газовой плите, потому что в титане греть слишком долго и надо дрова нести из подвала.
Цивилизация тогда ещё не докатилась до моющих средств с тому подобным, так что я использовал большой кусок марли, которую намыливал хозяйственным мылом.
Ну, а полоскал, конечно, под краном. Всё по технологии, которую показала Гаина Михайловна.
Мне даже нравилось мыть посуду, особенно в той части процесса, когда под чайником на плите газ горит синим пламенем.
Ещё мне доверяли выбивать ковёр с пола в гостиной.
Он был очень потёртый, так что и бить не жалко.
Иногда Ира выходила во двор, где я его мутузил, и говорила, что хватит уже, а то соседи по дому тоже люди и их уже жалко.
А Гаина Михайловна однажды сказала, что по методу моего выбивания сразу виден переводчик.
Не представляю, где она видела переводчиков выбивающих ковёр.
Иногда я сам вызывался что-нибудь сделать.
Один раз Гаина Михайловна очень переживала, что её сын Игорь попал в Киеве в госпиталь по болезни, а она не может поехать и узнать как он и я предложил, что съезжу.
Игорь очень удивился и никак не мог поверить, что в Киеве у меня нет других целей кроме как навестить его.
Четыре часа в электричке ради разговора с шурином, с которым не знаю о чём говорить.
Если б я ему сказал, что у меня имелся, таки, свой интерес и за эти четыре часа я наконец-то прочитал «Путешествие из Петербурга в Москву» Радищева ему полегчало бы?
Потом пришлось долго рассказывать тёще как выглядит её сын, а выглядел он вполне нормально, но как монах.
В этом офицерском госпитале всем выдают длинные синие халаты, а фуражки не забирают; дивное получается сочетание в одежде, особенно если смотреть как пара пациентов гуляет вдоль аллеи – синие рясы и кокарды надо лбом.
Особый орден: монахи-фуражканцы.
Но наибольшее доверие мне оказали при покраске полов квартиры красной краской.
Не в один присест, конечно, потому что и во время ремонта где-то надо жить.
Так, за пару приездов.
А кухню и прихожую Иван Алексеевич красил в моё отсутствие.
Он мне очень помог, когда я решил сделать книжные полки в виде широкой этажерки, которая полностью бы разбиралась; для нашей будущей семейной библиотеки.
В ней уже собрались десять томов Словаря Украинской Мовы. Его продавали только подписчикам, но многие потом не захотели деньги тратить и магазин выставлял тома отказников на продажу. А на четырёхтомник Квитки-Основьяненко я успел подписаться.
Кроме того имелись книги на английском и просто разнобой из книжных магазинов.
В СМП-615 подходящего материала для полок не оказалось и тогда я попросил тестя, чтоб в мастерской его хлебокомбината мне прострогали рейки по списку с размерами.
Он когда привёз их в связке и поставил в прихожей, то начал мне доказывать, что ничего не выйдет; потом ещё и Иру позвал, говорит:
– Сама посмотри – разве из такого полки получатся?
Действительно, они казались слишком тонкими, но, прежде чем дать заказ, я долго обдумывал, чтоб полки получились лёгкими и прочными.
Те заготовки я, конечно, отвёз на Декабристов 13 – в Нежине нет ни условий, ни инструмента для такого дела.
И когда я нарезал шипы на рейках, выдолбил гнёзда и посадил на казеиновый клей, а потом ещё прошкурил и лаком покрыл, то полки даже моему отцу понравились.
Вот только Ира, когда в Конотоп приезжала никак не отреагировала – ну, полки, как полки.
А Иван Алексеевич не виноват, что ошибся в прогнозах – ему, наверно, рабочий в той строгальной мастерской сказал, что невозможно из такого полки делать, вот он и начал повторять.
Но потом мой маршрут в доме родителей Иры стал ещё короче.
Один раз тесть мне долго не открывал и, заходя в в прихожую, я услышал шум скандала.
В семьях они случаются.
Вон Ваня на повышенных тонах звучит в гостиной; Тоня с заплаканным лицом промелькнула на кухню и обратно; ещё голоса вмешиваются. Ира выглянула из-за двери:
– Я хлеб поставила, остальное сам положи.
И скрылась опять – пререкаться с Ваней.
Ради моего появления театр боевых действий передвинулся в спальню Тониной семьи.
В гостиной только слышалось, что Ваня там в углу занял круговую оборону, а тёща, тесть и золовка, то по отдельности, то хором выкрикивают ему у кого что наболело.
К словам я не прислушивался, но различил, что Ваня отвечает короткими очередями, по бандеровски.
Иногда атакующие выбегали в гостиную – вспомнить чего ещё не высказали, и снова броситься в гущу боя.
За исключением Тони, которая спальню не покидала, а монотонно долбила там своё.
Я хоть туда не заглядывал, но всё и так понятно было – семейные скандалы не блещут разнообразием диспозиции.
И всё это бурлило на фоне воплей бунтующих дехкан в Центральной Азии, потому что по телевизору шёл сериал «Человек меняет кожу», где они метались от одного края экрана к другому. Отсюда и голоса.
Потом они настолько обнаглели, что выскочили из телевизора и продолжили свою беготню по клеёнке стола. Воспользовались моментом, пока зрители отвлеклись на личные разборки в спальне.
Но мне-то известно, что от этого телевизора чего угодно можно ожидать.
Однажды в воскресенье тёща приготовила суп из голой кости и мою тарелку рядом с ним поставила, а там тогда какой-то мафиозный клан заставил судью с собой покончить.
Вот он пулю себе в висок пустил и мозги мне прямо в тарелку – плюх!
А тёща рядом стоит для контроля – проявлю ли я правильное уважение к её стряпне.
Куда денешься? Пришлось хлебать с пылу, с жару.
Но никто не уйдёт от возмездия и теперь, безнаказанно пользуясь моментом, что мы с ним один на один, я – щёлк! – и на другой канал его.
Оказалось самое оно – скрипичный квартет камерной музыки.
Но тут тесть из спальни выскочил на подзарядку. И чует – что-то оно его не стимулирует, как ожидалось.
Ему не сразу дошло, что это виолончель.
Но причём виолончель к Центральной Азии?
А когда понял – на прежний канал перебросил.
Дехкане ему оттуда дружным хором:
– Ала-ла-а!!!
Он вдохнул, как живящий глоток, и, с пополненным боезапасом – снова ринулся в бой.
Вот с тех пор, после прихожей и ванной, я прямиком на кухню. Сам себе положу и ужинаю.
В холодильник не заглядываю, чтобы Гаина Михайловна потом Ире тихие выговоры не делала.
По ходу ужина и ты на кухню прибегаешь, начинаешь что-то говорить на своём, пока ещё не очень понятном языке…
Впрочем, это я опять вперёд забежал.
Чтобы удержать Иру, мою Иру, чтобы она оставалась моей и только моей, я ступил на путь праведной жизни.
( … кодекс праведника в киоске на купишь, но он мне и не нужен был.
Любой человек и без кодексов знает когда он правильно поступил, а когда нет.
Даже если твоему неправильному поступку есть тонны оправданий и обоснований, или даже писаных законов, и даже если все вокруг поддержат: «молодец! хорошо и делаешь!», ты всё же знаешь, про себя, что так совсем не надо, и в этом будешь прав, потому что себя не обманешь – уж ты-то знаешь, что правильно, а что нет.
Они похвалят и разойдутся, а тебе жить дальше и стараться забыть о том, что сделал, или глушить это ещё бóльшими неправильностями.
В моём стремлении к праведности имел место личный интерес: если я всё делаю правильно, то и по отношению ко мне не может случиться что-то неправильное; так слишком несправедливо.
Вот на что я рассчитывал.
Эту надежду и упование я тогда и не пытался даже определить словами, а просто очень старался всё и во всём делать правильно …)
Вот почему у каменщика Петра Лысуна на кладку санузла уходило на 2-3 часа меньше, чем у меня; нет деревянных закладных? Ничего – гоним дальше, при установке двери плотники чего-нибудь схимичат.
Можно сказать «поедят!» и оставить «пузо» в перегородке, всё равно после нас придут штукатуры и заровняют толстым намётом раствора.
Но это неправильно.
Поэтому моей специализацией в бригаде были гипсовые перегородки, а у Петра – санузлы.
Что, впрочем, не догма – всегда случаются моменты для «гоним-гоним!» и вынужденных рокировок.
Но и этого мало. Помимо праведной стези в текущей жизни, я пытался исправить свои проступки в жизни прошлой. А тут уже без покаяния не обойтись.
Когда я пришёл в общагу, бывший первокурсник Сергейка из Яблунивки уже доучивался свой четвёртый года на англофаке, но жил по-прежнему в 72-й комнате.
Я вернул ему толстый англо-русский словарь под редакцией Мюллера.
– О! А это откуда?
– Я у тебя его украл.
После секундного замешательства все бывшие в комнате разразились громким хохотом, к которому невольно присоединился и я.
( … что тут весёлого?
В рассказе «Джейн» Моэм поясняет – нет ничего смешнее правды.
В библиотеке Клуба КПВРЗ никто не смеялся, когда я вернул пару украденных оттуда книг и объяснил, что одной не хватает, но я готов возместить. Извините.
Они простили меня без возмещения и даже не аннулировали мой читательский формуляр …)
Через две недели мой отец стал выговаривать мне, что я себя веду как будто не того. Он ожесточённо крутанул выставленным из кулака указательным пальцем возле своего правого виска.
Я перевёл его жест на язык Писания:
– Пойдите и возьмите Его, ибо Он не в себе.
– Опять херню сморозил! Заучился! Тебя за этим в институт посылали?
Тогда я понизил планку и перешёл на украинский фольклёр.
– А когда батькова хата сгорит – в какой стрехе воробьям прятаться?
Отец мой не понял юмора, эту притчу он не знал, и в последующие неделю-две куда-то запропастились спички от газовой плиты на веранде; но потом всё устаканилось и вернулось на круги своя.
– Мне перед людьми стыдно! В трамвай зайдёшь и – застыл как статуя, только в окно смотришь.
– Так что мне в том трамвае чечётку бить?
– Нет! Просто будь как все: «привет!», «здорово!», «как дела?». Не будь же ты отщепенцем!
Но тут в программе «Время» показали работника архивного отдела Центральной библиотеки им. Ленина в Москве, который в сером халате пришёл с повинной, что на протяжении ряда лет крал ценные издания с места работы.
Мне стало ясно, что я не один такой «не того».
Но его-то что довело до праведничества?
– Шубовидная форма шизофрении.
Нежданно зайдя на кухню услыхал я как мой отец пересказывает моей матери диагноз, которым, как видно, Тамара поделилась с Ирой на четвёртом километре.
А вот ичнянский колдун, после двух визитов к нему моей сестры Наташи, сказал, что дело сделано и я – здоров.
Иру это очень обрадовало, а меня нет.
Жить стало скучно. Затих гудевший мощью поток сознания, в котором нужно было выбирать фарватер, как плотогонам при спуске по бурлящей пене водопадистых карпатских рек.
Я всё ещё мог видеть прорывы невозможного в мире повседневности – где все, как все – но видел уже как бы через ту пыльную решётку из романа Булгакова, которая отменяет пиратские бригантины среди неведомых морей.
Пропал накáл и полнокровное биение сопричастности.
( … одно дело, если ты в натуре несёшься на плоту с прыгающими под ногами брёвнами, и совсем другое, если это всего лишь компьютерная игра и в любой момент можно нажать паузу, когда закипает чайник …)
– Верните мне мою шизофрению,– с искренней грустью сказал я Наташе, но было поздно.
На нежинском перроне, возле того угла вокзального здания, где висят круглые часы на торчащей из стены штанге, мы с Ирой ждали электричку в Конотоп.
На ней была жёлтая кофта с рукавами в три-четверти. И день тоже был солнечный, летний. Ира улыбнулась мне и сказала:
– Когда я стану плохой, ты меня такую помни, когда я люблю тебя.
– Что ты болтаешь? Ты не можешь стать плохой.
– Не спорь. Я знаю.
– Как ты можешь знать?
– Знаю. Я – ведьма.
Глаза её погрустнели и в них закралась лёгкая косинка. Такая же лёгкая, как и моё разочарование: а мне-то думалось, что она – влюблённый дьявол, как из той книги, которую я украл для Новоселицкого.
– Не переживай,– сказал я.– Я ведь тоже ведьмак.
Хотя какой я ведьмак, самое бóльшее – чернокнижник.
На эту мысль меня натолкнул цвет обложки «Феноменологии духа» Гегеля, которую я купил в Одессе и читал в вагончике во время обеденных перерывов.
Ну, ладно, «читал» – слишком громко сказано. Больше страницы за один обед осилить я не мог – необоримо засыпал.
Интересно, переводчик понимал что он переводит, или переводил «недоумевающим умом»?
В том магазине мне эту книгу не хотели продавать. Две продавщицы мялись, переглядывались.
В ту пору мне без слов понятно было, что они ждали не меня – за этой книгой должен был придти другой чернокнижник; а теперь я уже не знаю что и думать.
Какая разница кто что покупает в мире, где все, как все?
Лишь бы план продаж выполнить.
Гегеля я держал в шкафчике. Они у нас без замков, но оттуда ничего не пропадало, если не считать значка и книжки одного московского литератора, которую мне и читать-то не хотелось; просто из чувства долга.
Жаль только, что та книга была из тёщиного серванта.
Тогда-то я и принёс «Феноменологию», в виде эксперимента.
Нет; пришлось дочитывать до самого конца.
В конце оказалось, что это вообще не Гегель писал, а какой-то Розенкранц записывал его лекции, а потом публиковал свои конспекты, чтоб переводили на русский, чтобы мне слаще дремалось в вагончике.
И на том спасибо.
( … иногда сам себя спрашиваю: а изначальный лектор вообще-то понимал о чём толкует, или просто зарабатывал на жизнь тем, что изобрёл заковыристый способ жонглировать «вещью в себе», «вещью на себе» и прочими вещами в различных позициях?..)
Но одно место я досконально понял – там где идёт рассуждение, что германскому каменщику для выполнения дневной нормы надо съесть полфунта сала и фунт хлеба, тогда как французский и одной гроздью винограда обходится.
Летом на Декабристов 13 началась реконструкция.
Мой отец решил сделать ход в пристроенную комнату прямиком из гостиной, а дверь с веранды заложить. Зимой туда будет доходить тепло от печки и можно жить.
Заодно и всей хате сделали капитальный ремонт.
После перестройки я переехал в комнату, а к Наташе приехала её подруга из Шостки. Они раньше вместе учились в техникуме.
Потом подруга вышла замуж, развелась, но не жалела, потому что умеет шить джинсы как «Levi’s» просто материал не совсем тот, но всё равно хорошо зарабатывала.
Невысокого роста, смуглая такая, но волосы крашенные и очень даже симпатичная фигура.
Но я, конечно, держал себя в узде и глазам воли не давал; и Наташу не спрашивал – это у её подруги отпуск, или как?
Вернувшись с работы, я садился за стол и читал со словарём книги на английском языке или газету британских коммунистов «Morning Star», которую продавали в киосках по 13 коп., а после ужина работал над переводами, так что с гостьей особого общения не поддерживал.
Не знаю, откуда Ира узнала про пополнение на Декабристов 13, но она вдруг начала меня расспрашивать про Наташину подругу, а потом сказала, что сама хочет переехать в Конотоп, и чтоб я поговорил с моими родителями.
В Конотоп я вернулся как на крыльях и сразу же позвал отца с матерью во двор.
Они сели на лавочку под деревом, а я на ступеньку крыльца веранды и рассказал о желании Иры переехать сюда.
Я был совершенно не готов к тому, что произошло дальше.
Моя мать скрестила руки на груди и сказала, что Иру она не примет, потому что вдвоём им тут не ужиться.
Я слышал её слова, но не понимал – как же так? – моя мать всегда была за меня, а теперь сидит на лавочке скрестив руки и говорит, что Иру сюда не пустит.
Я обратился за помощью к отцу – он пожал плечами:
– А что я? Хата на неё записана, она тут хозяйка.
Во дворе давно уже было темно, но в свете лампочки из веранды я видел насколько непримиримо спокойно сидит моя мать – её ничем не уговоришь.
Отец ушёл в дом, а я так и сидел на ступеньке и тупо молчал.
Звякнула калитка и вошла Наташина подруга, но одна, без Наташи.
– А что это вы такие?– и она присела на лавочку рядом с моей матерью.
Та сразу оживилась и начала говорить, что завтра они вчетвером – мои родители, Наташа и Леночка – поедут на Сейм в рембазовский лагерь отдыха на всю неделю, но холодильник полный и всё, что надо, сами себе сготовите.
Подруга поддакивала и повернулась так, чтобы свет из веранды рельефно обрисовывал её большие груди обтянутые мягкой водолазкой.
Даже ошарашенный результатом переговоров с родителями, я понял, что обречён, и что если меня оставить один на один с такой грудью, без никого во всей хате, никакая узда не выдержит. Себя-то я знаю – за целую неделю мою праведность не спасёт даже совпадение её имени с именем моей матери.
И чем ни был заполнен холодильник, но преуготованный к закланию агнец невинный – это я.
На следующий день после работы я не пошёл, как обычно, вдоль путей и заводской стены, а сел на поселковый трамвай и доехал до тринадцатой школы.
Оттуда я двинулся вдоль по Нежинской, заходя во дворы хат с одним и тем же вопросом:
– Где тут можно найти квартиру?
В тридцать каком-то номере мне сказали, что в хате под берёзой напротив Нежинского магазина, кажется, сдают.
Берёза нашлась где сказано и до того старинная, что кирпичная хата под ней смотрелась совсем маленькой, хотя на самом деле состояла из двух комнат и кухни, не считая полутёмного коридора-веранды.
Хозяйка хаты, одинокая пенсионерка Прасковья Хвост, с подозрением осмотрела меня, но показала комнатушку два на три метра, окно которой выходило на широкий ствол берёзы в запущенном палисаднике.
Треть комнаты занимала железная кровать довоенного образца. Вход был из кухни, а вместо двери в нём висела пара шторок; направо из той же кухни, за такими же шторками находилась хозяйкина комната.
Для меня очень важно было уйти с Декабристов в тот же день и мы условились за 20 руб. в месяц.
( … впоследствии Лида из нашей бригады мне говорила, что На Семи Ветрах можно найти квартиру и за 18 руб., но я даже смотреть не ходил …)
Придя на улицу Декабристов, я одолжил у соседа Колесникова возок, поставил его у калитки, а уж потом зашёл во двор.
Галя сидела в кресле гостиной и смотрела телевизор.
Я вежливо поздоровался, сказал, что не голоден и прошёл в свою комнату – снимать книги с полок и разбирать этажерку.
Окна комнаты не открываются в них сделаны только форточки и, чтобы всякий раз не переобуваться в домашники на веранде, через гостиную и кухню я простелил развёрнутые листы «Morning Star».
Молодая женщина непонимающе следила за моими манипуляциями из своего кресла.
По этому газетному тротуару я перетаскал книги и запчасти этажерки в ожидающий на улице возок.
Всё уместилось, только ехать пришлось медленно – положенные сверху лакированные полки скользили друг по дружке.
В хате на Нежинской к домохозяйке успела присоединиться ещё какая-то старуха и они, притихнув, наблюдали как подпольщик заносит стопки нелегальной литературы на свою новую явочную квартиру.
Я вернул возок хозяину, собрал постельное и кое-что из одежды – одесский портфель уже стоял наготове – и очень вежливо попрощался с Галей, оставляя её наедине с телевизором, потому что я умею побеждать с достоинством.
( … в принципе это не её вина, что угодила в самую гущу семейной распри; зато потом она смогла выйти замуж за хлопца с Посёлка, хотя и не насовсем, но это уже её личная история …)
~~~
~~~против течения
Домохозяйка любила цитировать своего покойного мужа и часто бухáла со своим подругами ветеранками; но не на кухне, а за шторками своей комнаты, а я сидел в своей и ни во что не вмешивался – красиво жить не запретишь.
С Декабристами 13 я полностью не порывал – пришлось попросить моего отца, чтобы сделал мне в Рембазе стойку и трубочку с креплениями, а моя мать пошила из дешёвого материала стенки и получился ситцевый гардероб, как когда-то в прихожей на Объекте.
Но с той поры передовые технологии шагнули далеко вперёд и я накрыл его лёгким куском толстого пенопласта, которым утепляют вагоны на заводе КПВРЗ.
Явочной моя квартира так и не стала – конспираторы не появлялись. Поэтому я стал считать её кельей монаха-затворника, но мне она нравилась, особенно черно-белая кора могучей берёзы за окном; иногда я отвлекался от переводов и просто смотрел на неё.
Моя мать в сопровождении отца приходила увидеть как я обустроился.
Она и Прасковья смерили друг друга непримиримыми взглядами на кухне. Потом мои родители повздыхали, стоя под висящей из потолка голой лампочкой на провóдке.
Я отвечал односложно, но вежливо и они ушли.
В начале осени посреди недели приехала Ира из Нежина. Она нашла нашу стройку На Семи Ветрах, я переоделся в вагончике и мы пошли в город.
Мне всегда нравился её романтически широкий плащ ниже колен.
Мы сходили в гости к Ляльке. Его жена, Валентина, с облегчением обрадовалась, что у нас всё хорошо.
Пару раз, когда у нас с Ирой случались размолвки и она приезжала потом из Нежина, то просила Валентину съездить за мной на Посёлок. И в результате мы с Ирой мирились на диване с жёстким ковром в гостиной Валентины и Ляльки.
Хотя «размолвки» слишком громко сказано, просто иногда на Иру находило настроение покричать.
Почему я такой некрасивый?!
Это когда мы сходили на какую-то комедию четвёртого творческого объединения с голубоватым оттенком.
Или – никому они не нужны, эти твои переводы!
Но ссор между нами не получалось, потому что я её косноязычно уговаривал, что это же не наша роль, мы чужие слова повторяем.
Тупо так выходит; сам-то, вроде, и понимаю, а высказать не могу.
Только один раз я себя неправильно повёл, когда привёз получку из СМП-615 и положил возле трюмо.
Ира спросила сколько там и начала кричать, что разве это деньги? Ей таких денег не надо!
Тогда я взял эту тощую стопочку, но мелочиться не стал, а порвал ровно надвое и выбросил в форточку.
Пока Ира во двор выскакивала, я себе места не находил и проклинал свою глупую несдержанность.
В следующий мой приезд Ира с какой-то стыдливостью сказала, что банк принимает склеенные купюры.
( … и это правильно, ведь банку тоже деньги нужны, а 70 руб. на дороге не валяются; разве что под форточкой первого этажа, да и то в порванном состоянии …)
Меня конкретно удивило плохое качество бумаги применяемой для печатания денег. Допустим, нарезать из газеты такое же количество бумажек – труднее было бы порвать, чем ту получку.
Буквально сами собой раз и – надвое…
Потом мы ещё зашли в новый Дом Культуры завода КПВРЗ, рядом с Базаром.
Говорят на строительство затрачено шесть миллионов рублей. Директором в нём Бомштейн стал – перешёл из Лунатика.
Там на втором этаже бар и танцзал со столиками.
Когда мы пришли ко мне на квартиру, Прасковья как раз выпроваживала свою оргию вековух. Я представил её и Иру друг другу на кухне.
Домохозяйка внимательно её осмотрела и, по-моему, ей тоже плащ Иры понравился.
Она её даже вдруг поцеловала, а потом и меня заодно и ушла спать к себе за шторки.
Ира хоть и состроила гримаску непонимания, но не посмела воспротивиться, а мне так и всё равно.
Однажды мы с ней ехали в электричке и меня начал клеить сидевший напротив голубой.
Ира так разъярилась! Даже пререкаться с ним начала.
А мне просто смешно, я ж к ним безразличен; меня вон папа Саши Чалова в щёчку целовал, а теперь вот полуподвыпившая Хвост.
Какая разница?
Но за всю свою жизнь мне не доводилось ощутить более сладостного, вожделеюще нежного и, вместе с тем, столь жадно льнущего и облегающего влагалища, чем в ту ночь; даже и с Ирой у меня такое было в первый и последний раз.
Что стало решающим фактором?
Обстановка монастырской кельи, или двойной поцелуй от Прасковьи Хвост?
( … на некоторые вопросы я так и не смогу узнать ответа.
Никогда …)
Осенью меня послали в командировку на станцию Ворожба, где шло строительство 3-этажного Дома Связи.
Коробка и крыша уже готовы были и мне там досталась кладка перегородок.
И там же я ещё раз убедился, что организм человека во много раз умнее, чем он сам.
Между вторым и третьим этажами здания две лестничные клетки, в одной успели уже положить наборные ступени, а во второй нет.
Подымаясь в первый раз, я не знал об этом, смотрю – впереди ступенек нет, только наклонный швеллер под будущий пролёт до площадки проложен.
Спускаться и идти на другой конец здания, где лестница готова полностью, я поленился и решил подняться по швеллеру. Ширины в 10 см вполне достаточно.
Я повернулся боком и, встав лицом к стене, сделал пару острожных шагов вверх.
Тут мне и открылась моя ошибка – швеллер положен слишком близко к стене и мой центр тяжести совпадает с её гранью, чуть отклонюсь и, по законам физики, рухну вниз с ускорением свободного падения на груды кирпичного боя и криво торчащие прутья арматуры.
Однако, начав восхождения по швеллеру, я уже не мог сделать такие же два шага обратно – стена не позволяла даже лицо развернуть вспять, настолько зашкаливал центр тяжести.
Я прижался к стене из красного кирпича как к чему-то самому родному и близкому и увидел незабываемую картину.
Кисти моих рук превратились в крохотных осьминогов; каждый палец жил особой жизнью, изгибался во всех направлениях и отыскивал расселины между кирпичинами.
Когда руки вцеплялись как надо, я подтягивался и осторожно протаскивал ступни ног вверх по наклонному швеллеру.
Так мы и выбрались. Но я до сих пор уверен, что если б швы кладки в той стене были заполнены раствором правильно, как полагается, а не «гоним-гоним!», то фиг бы меня спасли даже внутренние резервы организма.
Из последовавшего прилива волны адреналина я понял за что скалолазы любят горы, но я бы так не рисковал.
В ту зиму всю Профессийную перекопали; по слухам для прокладки канализации, но получился длинный котлован в полкилометра и глубиной метра в четыре, местами его пересекал толстый подземный кабель телефонной связи, который оказался вдруг висящим в воздухе поперёк котлована. А глубоко внизу, на дне, даже бульдозер работал и туда заезжали КАМАЗы с гравием.
Только вдоль бетонной стены завода КПВРЗ оставался метровый выступ с тропкой протоптанной по холмистым грудам грунта.
По этой тропке я и шёл с целлофановым пакетом: вверх-вниз, вверх-вниз.
Когда я увидал идущую впереди девочку в пальто из ткани в крупную жёлтую и серую клетку, то понял – дальше мне нельзя. Это не мой путь.
Тут, к счастью, подвернулся телефонный кабель провисающий над котлованом до его другой стены. Я свернул на него и пошёл, не замедляя походки. Мне даже не мешало, что в одной руке пакет.
Но метра через два случилась обычная история.
Я начал усомняться – разве я канатоходец, чтобы ходить по кабелям?
( … из-за такого же вот сомнения Симон, он же Камень, вместо прогулки по воде начал в неё проваливаться …)
Кабель затрепетал, стал ходить ходуном, всё увеличивая амплитуду; я взмахнул руками и полетел вниз.
Хорошо, что пролетая мимо, я успел уцепиться руками за кабель.
Повисев пару секунд, я отпустился и, как парашютист, спрыгнул на дно котлована.
Там я склонился над распростёртым лицом проститутки в широкополой шляпе с красным подбоем.
Она смотрела вверх мимо меня.
Откуда здесь проститутка на снегу? Зачем тут я?
С ней понятно – при падении вылетела из целлофана.
А я тут тоже правильно – мой путь закончился на том кабеле; отсюда начинается другой…
И я пошёл по дну котлована в далёкий его конец, чтобы выйти по спуску для КАМАЗов и поехать на работу, а после неё сойти с «чаечки» у автовокзала, купить билет и вбежать, размахивая им, в уже зафырчавший автобус:
– У меня билет! У меня билет!
Потому что Ира мне рассказала про свою загородную поездку в Заячьи Сосны, чтобы блюсти мне верность несмотря на шампанское в бардачке.
Потому что – что мне ещё остаётся?
Так я поехал в Ромны.
В Ромнах было совсем темно и холодно, но я нашёл гостиницу.
Дежурная не знала куда определить постояльца с тощим целлофаном в руках и выделила мне четырёхместный номер одному. Хотя могла бы присоединить к тем двум командировочным, что пришли следом за мной с автобуса.
Номер оказался комнатой-пеналом на четверых, пустым и свежепокрашенным поверх двадцати предыдущих ремонтов. На спинках коек висели толстые махровые полотенца и радио на стене пело романсы про утро холодное, утро седое.
Делать мне было нечего, я выключил радио и свет, лёг и смотрел в темноту, пока не уснул.
Утро, вопреки прогнозу романсов, оказалось солнечным и ярким и я быстро нашёл психбольницу.
Целлофан я оставил на снегу газона под большим деревом и, без поклажи, вошёл в распахнутые ворота, не пряча свободных рук.
Когда сторожа поняли, что я никого не навещаю, а хочу сам тут остаться, меня отвели в небольшой кабинет.
Молодой человек, похожий на лейтенанта милиции, но в белом халате, спросил зачем я пришёл.
– Мне нужна справка, что я не сумашедший.
Я прекрасно сознавал, что этими словами полностью сжигаю все корабли за собой и теперь меня точно прикроют.
– А кто говорит, что вы сумасшедший?
– Ну, в трамвае…
Он оживился и начал выспрашивать какую мне желательно печать на справку – круглую, или треугольную?
– Это неважно, лишь бы с подписью.
Тогда он вызвал молодую врачиху и пожилую нянечку, чтобы меня отвели в душ, а потом в пятое отделение.
Перед душем нянечка парикмахерской машинкой состригла мне наголо волосы в паху.
Я стеснялся, но не противился – в чужой монастырь со своим уставом не лезут.
После душа врачиха взяла у меня интервью. Для закрепления успеха, я прогнал пару дур; она только ахала и торопливо строчила в толстой тетради.
Когда мы вышли во двор, я сказал, что оставил целлофан за воротами. Нянечка отказывалась верить, но сходила и с изумлением принесла пакет.
( … а что удивляться? У кого хватит духу стянуть целлофан поставленный, как приманка, у ворот областной психбольницы?.. )
Врачиха его проверила и позволила взять с собой вместе с тетрадкой, ручкой и книгой на английском языке, где женский портрет на всё обложку.
Пятое отделение ромненской психбольницы находится на высоте третьего этажа. Строительство велось по сталинским проектам и лестничные марши смонтированы не впритык, а образуют колодец в лестничной клетке. Поперёк колодца натянута железная сетка – на случай, если кто-то сиганёт, то чтоб его постигла б неудача.
Лестница заканчивается широкой площадкой перед запертой дверью с парой деревянных скамей по бокам.
За дверью, как и положено, начинается коридор.
Начавшись вертикально зарешечённым окном и кабинетом с табличкой «главврач», он уходит вправо под прямым углом к далёкой глухой стене с краном и раковиной.
В стенах по обе стороны коридора прямоугольные входы в палаты, которые сперва кажутся пещерами из-за отсутствия дверей.
Свет внешнего мира проникает в них через решётку и стёкла окон и только потом добирается до коридора; так что в пасмурную погоду в нём приходится включать электрические лампочки.
Они скорее подчёркивают, чем разгоняют сумрак.
На полпути к дальней стене не хватает одной палаты, вместо неё коридор тут превращается в небольшой холл с двумя зарешечёнными окнами.
В углу рядом с правым окном стоит высокое трюмо, а в перегородке возвращающейся от окна к коридору белая дверь с табличкой «манипуляционный кабинет».
Левое окно загорожено высоким ящиком, на котором стоит выключенный телевизор, а перед ним, вплотную к перегородке, госпитальная кушетка и ещё одна белая дверь – «старшая медсестра».
Пол коридора выложен квадратиками коричневато тёмной керамической плитки, которая не нарушает своей гаммой общую сумеречность и которая необыкновенно чиста – привилегированные больные моют её дважды в день мокрыми тряпками на швабрах.
Для выяснения насколько я опасен, меня сначала поместили в палату наблюдения напротив холла.
В коридоре, рядом с бездверным входом в палату, в кресле обтянутом коричневым дерматином, из-под которого поблёскивали тонкие ножки, сидел пожилой, но крепкий мужик в белом халате и белой шапочке – медбрат.
Одним ухом он обращён был в палату, а лицом посматривал вдоль коридора с редкими прохожими в пижамах и ещё одним медбратом, что маячил у дальних палат в таком же точно кресле и о чём-то там беседовал с молодым человеком в пижаме и сапогах, который сидел перед ним на корточках, свесив руки поверх колен.
Центровой медбрат завёл меня в палату и бряцнул своей связкой ключей по спинке первой от входа койки, где лежал белобрысый хлопец в ярко-красной пижаме и мастурбировал, накрывшись простынёй.
Из угла напротив грянул театрально сатанинский хохот, но тут же осёкся.
Медбрат высмотрел мне третью от окна койку и я смиренно лёг.
Между мной и окном лежал плотно укутанный синим халатом молодой человек с обритой головой и вглядывался в потолок.
Вскоре он повернул ко мне внимательный взгляд из синеватых кругов под глазами и спросил не зовут ли моего брата Сашей и есть ли у меня сестра.
Затем он стиснул голову в ладонях и стал рассказывать, что учился в техникуме с ними, но однажды вечером отец послал его собрать коров, когда на Подлипное наполз мохнатый от мороза серый туман и простудил его голову без шапки, которая с тех пор так вот и болит.
Краткими окриками он отшугнул одного-двух сопалатников, что подходили к спинке моей койки с неразборчиво прибабахнутыми вопросами, потом сказал, что его тоже зовут Саша, отвернулся и уснул.
Сопалатники начали приставать к белобрысому, чтоб он спел и тот визгливо завёл свежий шлягер:
Спасите, спасите, спасите разбитое сердце моё, Найдите, найдите, найдите, найдите, найдите её…Через два часа, убедившись, что я не буйствую, меня позвала медсестра из коридора и отвела в девятую палату, поближе к кабинету с табличкой «главврач».
Девятая смотрелась намного уютнее – всего пять коек; только белый столик в углу у входа малость загораживал дверной проём; впрочем, когда двери нет это не слишком-то мешает.
А зоосадные вопли из соседних палат вскоре тоже становятся привычными звуками и перестаёшь обращать внимание.
Вечером в коридоре раздался крик «на кухню!» и к выходу прошла группа привилегированных во главе с медбратом.
Через полчаса они вернулись и торопливо прошагали обратно, ускоряемые тяжестью двух котлов-термосов с завинченными крышками. Ещё через несколько минут из конца коридора донеслось:
– Рабочие, на ужин!
В столовую всегда первым делом звали рабочих, которые после завтрака и обеда куда-то уходили и вместо пижам одеты были в чёрные спецовки.
Потом кричали:
– Вторая смена, на ужин!
И, в последнюю очередь:
– Третья смена, на ужин!
В конце коридора в левой стене шли три запертые двери – душ, раздатка и столовая. На них табличек не было, но все знали где что.
В комнате душа стояли вёдра и швабры для мытья полов, их брали оттуда под надзором медбрата, но, несмотря на контроль, один больной ухитрился там повеситься.
Правда, со второй попытки.
Перед приёмом пищи отпирались и раздатка, куда заносили котлы, и столовая для больных.
Раздатка была очень узкой из-за больших стеллажей, на которых лежали целлофаны с передачами от посетителей.
Дважды в неделю, во второй половине дня по коридору раздавался крик:
– Передача! У кого передача?! В столовую!
Те, кто знал, что в раздатке хранится передача от родственников, которую он не доел во время свидания, отправлялся в столовую, чтобы доесть.
Некоторые об этом не знали, или знать не желали, но внимательные сопалатники им об этом напоминали, и даже отводили их в столовую, чтобы помочь съесть передачу.
К рабочим я не относился и ел во вторую смену.
Мы выстраивались в шумливую, разнообразно одетую, но одинаково голодную очередь вдоль стены у двери, которую загораживал медбрат, пока внутри сметают со столов после предыдущих.
Медбрат заодно следил, чтоб кто-то не зашёл по второму разу. Наконец, он говорил «давай!» и мы с шумом вливались через непривычно узкую дверь в комнату с тремя окнами и длинными, как в трапезной, столами.
Они стояли в три ряда от стены до стены и узкий проход посередине делил их нáшестеро.
Мы садились за них, переступая через прибитые к полу лавки.
Среди оживлённого шума и раскованных жестикуляций мы ждали пока вечно дежурный белобрысый мастурбант принесёт широкий фанерный поднос с алюминиевыми мисками, ложками и хлебом.
Те, кому досталось – начинали есть, а остальные смотрели и ждали дальше, пока чмо-раздатчик, тоже из больных, наполняет за окошком следующий поднос.
Мы съедали всё и начинали ждать поднос уставленный кружками с тягучим кисло-сладким киселём, чью пенку я так ненавидел в детстве.
Один раз я проспал в палате и мне пришлось есть с третьей сменой.
Тяжкое зрелище.
Там люди обращаются со своими лицами как с пластилином, выкорёживая что попало.
Зато я узнал кто издаёт крики бабуина, когда я лежу в своей палате, и кто отвечает ему рёвом раненного слона.
Членораздельных разговоров в третью смену не ведут.
Иногда, правда, кто-то из второсменников замешивался в третью партию и вовсе не из любви к живой природе – они успевали съесть пайку соседа, пока тот корчил рожи оконной решётке.
Саша, знавший моего брата Сашу, односторонне дружил с контингентом третьей смены и часто ел с ними как раз для обуздания таких полоумных, но хитрых нахлебников.
Эти трапезы были самым шумным временем суток в пятом отделении.
Если кто-то начинал чересчур шуметь в неурочный час, к нему сбегались пара медбратьев и, огрев связкой ключей по голове, фиксировали.
То есть, распинали в лежачем положении, привязывая его запястья и щиколотки к железным уголкам вдоль сетки койки с помощью полос белой ткани, явно из бывших, пожелтевших от употребления простыней.
Поев, все расходились по своим палатам или прогуливались неспешными парами по коричневой плитке коридорного пола.
Не скажу, что мы там голодали – хавка, как хавка.
Один раз на ужин раздали даже по два оладья. Пусть хоть холодные и без хлеба, они были смазаны каплей какого-то джема.
Отдельной строкой стоит непостижимый пир горой, случившийся однажды в холле поздно вечером – откуда-то появились два бельевых таза с колбасой: в одном ливерка, в другом кровянка и кто сколько хотел, столько и брал. За исключением пары третьесменников, на которых тоже вдруг напало просветление – банковавший на пиршестве толстяк-больной отгонял их от тазиков.
Дискриминация случается где угодно.
Но главную усладу в жизнь отделения вносила статная льноволосая медсестра в наволочке от подушки, через которую угловато бугрились куски сахара рафинада.
Эту наволочку она заносила в кабинет «старшая медсестра» и каждый день, кто догадывался зайти и попросить, получал несколько кусочков не прессованного, а настоящего рафинада.
Я, например, догадывался по два раза на дню.
Есть сахар приходилось неприметно, потому что те, кому не хватало ума обратиться к первоисточнику в наволочке, догадывались просить у меня.
Я пытался соврать, будто кончился, но вспомнив, что это неправильно, делился из второго кармана пижамы.
Раз в двадцать дней в холл посреди коридора приходила черноволосая женщина с тонким носом и, конечно же, в белом халате.
Сразу чувствовалось, что она из породы стеклянноглазых, но я с этим уже завязал и поэтому принимал версию больных-старожилов, будто это бывшая цирковая акробатка.
Акробатка машинкой состригала нам щетину с лиц, а ножницами делала причёску, если не попросишь, чтоб и голову тоже «под ноль».
Культурную жизнь обеспечивал телевизор – час до и час после программы «Время», с перерывом на процедуры.
Он собирал человек десять зрителей, что притаскивали табуреты и стулья из своих палат; медбрат от палаты наблюдения тоже придвигался поближе.
На ночь в палатах включали свет. Наверное, чтоб никто ничего себе не сделал, или соседу.
Спать при свете неудобно, потому что если даже и гуляешь во сне на воле, то и там чувствуется эта неугасимая лампочка.
В коридоре свет горел не так ярко, чтобы дежурные медбратья могли нормально отдыхать в своих креслах.
Часам к двум ночи в девятую палату захаживал молодой хлопец – показать как ловко он жонглирует парой варёных яиц из передачи.
Иногда он показывал небольшую, но мастерски исполненную жанровую картинку, где голый мужик сосредоточенно бежал за девкой в одних сапогах и кокошнике; та на бегу взмахивала длинной туго заплéтенной косой и испуганно оглядывалась на метровый член целеустремлённого преследователя.
Судя по всему – копия с оригинала первой половины XIX столетия.
Уводить хлопца приходил щуплый мужик с неуловимыми глазами.
По его неоднократному рассказу, в психушку он попал за стёкла в сельсовете, которые нечаянно разбил палкой; все, сколько было.
Он целовал хлопца в темечко под неотросшими волосами, называл «мнемормышем» и уводил обратно в свою палату.
Он всех молодых хлопцев целовал в темечко, даже совсем чокнутых, и каждому говорил «мнемормыш», я никогда раньше такого слова не слыхал, но звучит ласково, как «тюленёнок».
Медбратья объявляли подъём стуча своими связками ключей по спинкам коек, чтобы к приходу заведующей и медсестёр жизнь уже текла обычным руслом.
Первым делом все стекались в туалет.
2 унитаза на 80 человек слишком мало!
2 унитаза на 80 человек слишком мало, поэтому очередь начиналась ещё в коридоре, а внутри она продолжалась вдоль стен двух комнат – прихожей и, собственноо, туалета.
В первой из них со мной впервые в жизни случился обморок. Совершенно ни с того, ни с чего.
В глазах потемнело и я сполз спиной по стене на пол и сидел там в сгустившейся вокруг темноте, однако, полностью не отключился и слышал эхо дальних голосов, которые объясняли друг другу, что это у меня обморок.
Потом стало светлеть, я открыл глаза и вернулся в очередь.
ля тех, кому совсем невтерпёж, за два метра не доходя до унитазов на плитках пола поставлен жестяный таз с ручками. Когда он наполнялся, говно руками вылавливали в отдельное ведро, чтобы затем вылить в унитаз, а оставшуюся мочу сливали в трап в углу.
Засидеться не получалось, потому что, выждав определённую квоту времени, ближайшая очередь начинала роптать, а когда нарекания учащались, какой-нибудь глухонемой из конца очереди сдёргивал тебя с унитаза без объяснения причин.
Туалет запирали перед началом завтрака и до окончания обеда, потом дверь его открывали на непродолжительное время, пока там мылся пол.
Последняя помывка приходилась на заключительные полчаса после ужина.
Рассеянный образ моей предыдущей жизни не позволил мне вышколить свой мочевой пузырь в достаточной мере, чтоб соответствовать такому расписанию.
Ощутив позывы, я впадал в панику, что не дотерплю до следующего получаса открытых дверей.
Обращаться к медбратьям, в связке которых имелся вожделенный ключ, не имело смысла; ответ один и тот же:
– Иди отсюда! Туда нельзя – там помыто.
Чтоб не получить по голове всей связкой приходилось слушаться.
Однажды, доведённый до отчаяния, я попытался помочиться в раковину в конце коридора и получил по рёбрам от больного, который часто курил там втихаря, любуясь раковиной, как фонтаном парка на ремонте.
Во время другого кризиса, преодолев стыд, я обратился к пожилой медсестре с ключами, пытаясь поделикатней объяснить свою нужду и бедственное положение.
Она долго не понимала моего бормотанья про мочевой пузырь, потом отперла дверь в душ и, указав на трап, сказала:
– Сцы тута!
Недаром их называли сёстрами милосердия.
В баню тоже водили партиями в какое-то другое здание.
Надо было встать под душ в скользкую чугунную ванну с бурой прозеленью на стенках, заново намылить оставленную на стенке ванной мочалку, а потом смыть с себя пену под не очень тёплой водой. А рядом с ванной уже стоял следующий, такой же голый, но пока сухой и подёргивался, упёршись взглядом в никуда под низким потолком.
Вафельное полотенце промокало раньше, чем успеваешь обтереться, а остаточную влагу впитывало исподнее бельё.
Днём к окнам холла лучше и не подходить.
Через стекло виднеются пара башенных кранов, медленно разворачивающих свои стрелы на далёких стройках, а с автовокзала долетают невнятные объявления счастливого пути автобусам неразборчивого направления.
Светит солнце, тает снег.
Там жизнь жизнь идёт и продолжается, а ты с этой стороны вертикальной решётки.
Суббота в пятом отделении – день приёма посетителей, в другие дни не принимают.
Когда в дверь позвонят, ближайшая медсестра выглядывает посмотреть к кому это, и кричит фамилию вдоль коридора, чтоб шёл за дверь на свидание.
Мои родители проведали меня в первую же субботу.
Я очень удивился, потому что никому ничего не сказал, уезжая в Ромны.
Оказывается, они на следующий день позвонили в СМП-615, наши сказали где я сходил накануне. На автовокзале меня тоже кто-то припомнил и – клубок распутался.
Свидание проходило на лестничной площадке перед дверью пятого отделения; на одной из длинных скамеек.
Мы сидели трое в ряд, моя мать, сдвинув серый пуховой платок на плечи, говорила:
– Как же это, сы́ночка?– и начинала плакать, а отец, чтобы её успокоить, говорил:
– Ну, началá! Началá!
Он шапку не снимал и не плакал, а смотрел на скамейку напротив, где двое других родителей кормили всякими вкусностями из целлофана своего больного – худого парня, который вообще не разговаривал, потому что его укусил энцефалитный клещ.
Я тоже ел; моя мать привезла всякие домашние пирожки и плюшки и пирожные эклер с заварным кремом из магазина «Кулинария» на Переезде.
Она знала чтó я люблю.
Ещё в целлофане было сало, но я отказался наотрез и моя мать в конце свидания отдала его медсестре, чтобы положили в раздатке – когда захочу, тогда и съем; но я принципиально не ходил в столовую, когда зазывали есть передачи.
В другие субботы приезжали мой брат и сестра. Брат был без шапки, но хмурился как и наш отец и говорил:
– Ну, чё ты, Серёга? Это ты зря.
А Наташа не плакала, она делала мне выговоры:
– Вот скажи, оно тебе надо? Молодец!
Она сказала, что Ира не приезжала, хотя она ей позвонила, чтобы она знала.
Ира и в Ромны не приехала ни разу, но я понимал, что ей надо смотреть за ребёнком.
8-го марта на столике-каталке в коридор вывезли пустые поздравительные открытки и я заполнил одну в Нежин Ире, что поздравляю и люблю.
Когда написал, то и сам ужаснулся до чего почерк дрожащий и совсем не мой.
Наверное, из-за уколов.
Заведующая отделением разговоры про музыку не вела – она меня лечила.
Мне делали уколы аминазина внутримышечно – три раза в день.
Первые дни ещё можно было терпеть, но потом на ягодицах не осталось живого места, укол попадал на укол и образовывались желваки, зад ниже поясницы покрыли плотно напухшие бугры и стало трудно делать пешие прогулки по коридору, туда и обратно.
Кожа тоже не выдерживала и начала понемногу, но постоянно кровоточить, пачкая больничные кальсоны.
Труднее всего давался заключительный – третий укол в день. Его делали в девять вечера, и когда я слышал как по коридору приближается позвякивание коробок со шприцами на столике-каталке, то зубы стискивались словно в судороге.
Столик постепенно доезжал и до нашей палаты, останавливался и к нам заходила медсестра со шприцем в руке, а после укола возвращалась за другим, для следующего больного.
Один раз она меня пропустила и я притворился спящим, чтоб ей не напоминать, а когда услыхал, что столик звякает уже от восьмой палаты, не мог поверить собственному счастью.
Через полчаса медсестра окликнула меня от входа в палату, в руке она держала шприц и победно улыбалась:
– Думал, что всё, Огольцов?
В манипуляционном кабинете они перед обходом эти шприцы по списку заряжают и, когда в коробках на столике остался один лишний, она поняла, что кто-то пропущен.
Ты вспомнила – молодец, а улыбаться-то зачем?
В этот момент она мне напомнила Свету из моего полигамийного прошлого.
Причёской, наверное.
Ещё мне кололи инсулин внутривенно, но сперва заведующая предупредила родителей, чтобы они согласились.
Бельтюков, молодой, но опытный сосед по палате, говорил, что инсулин добывают из печени быков, больше неоткуда.
Назначение этих уколов в том, чтобы доводить пациентов до комы. Это многих излечивает, кроме того процента на кого препарат действует неправильно.
Но выживших больше.
Главное вовремя успеть вывести больного из коматозного состояния.
Инсулин делали мне и Бельтюкову по утрам.
Один укол в вену на локтевом сгибе руки. Потом медсестра звала ближайшего медбрата и тот приходил с добровольцами из больных, чтоб они тряпками прификсировали нас к железу коек, только за руки, но потуже, чтоб мы не дёргались, когда нас поведут из комы обратно.
Минут через 15-20 медсестра возвращалась и садилась за белый столик заполнять какие-то журналы – вот зачем он стоял в том неудобном месте – она следила за нами как за молоком на огне, чтобы не убежало.
Мы с Бельтюковым лежали на соседних койках, привязанные, и разговаривали, глядя в потолок; он был общительный парень и смахивал на стройбатовского водителя Виталика из Симферополя, а может и не очень.
Потом наш разговор переходил в бессвязные восклицания: у Бельтюкова про засилье блядского матриархата, а у меня, что все люди братья, ну, как же вы этого не видите?
При этом голова моя заламывалась назад до отказа, чтобы посмотреть вдоль своего позвоночника, вот только подушка мешала, и медсестра бросала свои журналы, потому что – нас пора выводить из подступающей комы уколами глюкозы внутривенно.
Потом нас отвязывали и давали по стакану воды с густым раствором сахара, потому что во рту было очень горячо и всё горело.
Это не означает, что мы с Бельтюковым всякий раз кричали одно и тоже, просто такой была основная тематика наших бесконтрольных лозунгов, когда под инсулином.
По воскресеньям нам его не кололи.
Самым трудным для меня оказался укол серы. Её, вообще-то, колют алкашам в виде наказания, но, возможно, у заведующей имелись какие-то экспериментальные соображения. Она же хотела как лучше.
Это тоже укол в ягодицу, но последствия распространяются и ниже по костной ткани.
Два дня приходится волочить ногу из-за болевых ощущений, будто сустав берцовой кости мелко раздроблён.
Укол серы сломил мою волю.
Я пошкандыбал в столовую, чтобы есть сало из передачи, но когда больной чмо-раздатчик выдал мне целлофан, оттуда пахло как из моего портфеля в четвёртом классе, когда я забыл съесть бутерброд с ветчиной и она там пролежала все зимние каникулы.
Пришлось выбросить.
Отношения с другими больными у меня были ровными – я и тут оставался отщепенцем.
Тем, кто отщипнулись совсем запредельно, до меня, конечно, дела не было, а которые соображали, по мере возможностей, те уважали ради сочувствия, что мне колют инсулин.
Только молодой хлопец, Подрез, какое-то время передо мною лебезил непонятно с чего, а потом в очереди в столовую ударил в живот, непонятно зачем.
Минут через пять Бельтюков в той же очереди сделал Подрезу захват и так и удерживал.
Он ничего мне не сказал, даже и взглядом, но тут и без намёков понятно, что прификсировал Подреза, чтобы я врезал от души куда захочу.
Но я не стал – бить душевнобольных жалко, хоть и живот болит.
Куда более ощутимый удар нанесла пропажа книги на английском, на белом столике осталась только тетрадка с уже оконченным переводом.
Я очень расстроился, ведь эту книгу дал мне Жомнир, одолжив её у другой преподавательницы с кафедры английского языка – улыбчивой Нонны.
Но когда, в таком встревоженном состоянии, я обратился к заведующей, она с непонятным безразличием сказала, что никуда эта книга не денется. И оказалась права.
Через три дня мне её вернули больные, отобрав у полуотщипнутого похитителя из седьмой палаты. Дольше он не смог её утаивать.
( … я его понимаю, в Советской Союзе не умели делать такие глянцевые мягкие обложки на книгах, а тут женщина в цвете, крупным планом, на фоне пятого отделения.
Кто бы удержался?.. )
Он ни капли её не помял, только на обратной стороне обложки лёгкими прикосновениями карандаша излил своё обожание.
Слегка напоминало набросок коры головного мозга. Или нежные клубы дыма.
А может формулы какого-то научного языка из запредельного будущего.
Только я с этим уже завязал.
Больные все очень разные, по кому-то сразу скажешь, что чокнутый – он и внешностью показывает сдвиг сознания; а по другому и не подумал бы.
Вобщем, всякие бывают.
Есть общительные, как тот брюнет толстяк, который на кушетке в холле начал мне исповедоваться, что кого-то там убил; всегда жизнерадостный такой, а тут вдруг посмурнел весь.
Может и врал – убийц во втором отделении держат, где медбратья вообще звери.
Есть лгуны – у него на руке татуировка «Коля»: а он всем доказывает, что его зовут Петя, ещё и обижается при этом.
Цыба поразил меня своей эрудицией – начал рассказывать про неудачные попытки Хемингуэя, пока не догадался, что пистолетом надёжнее.
А я до этого его за полностью того держал.
Один, с виду нормальный, до того деликатным оказался – очень расстраивался, когда услышит, что мы все всегда в дурдоме.
Пожизненно.
Что тут дурдом, что там дурдом.
– Не говорите так, это – психбольница.
А мужик, которого я долго считал немым, оказалсяся очень даже любознательным; просто он долго вопросы готовит.
Месяц потребовалось, чтобы он, отмолчавшись, подошёл ко мне с глазу на глаз и спросил за самое наболевшее:
– А твоя жена была целомудренной?
Во-первых, немым такие слова неизвестны, а во-вторых, я ей в уши не заглядывал, как говорил Рабентус.
А немой, как услыхал такое – плакать начал; сам снова молчит, а слёзы капают.
В целом – довольно смурной дурдом.
Ещё больные всё-всё знают; за четыре дня предупредили, что в пятницу меня позовут на комиссию, решать будут: выпустить меня, или лечить дальше.
На комиссии сидел главврач психушки, заведующая и медсестра. Я очень боялся сказать что-нибудь не так и торопливо со всеми во всём соглашался:
– Да-да, конечно, да.
Заведующая сказала, что меня будут готовить к выписке, но не выпустят пока родственники не заберут.
Как же я испугался, что в субботу никто не приедет!
Ведь уже была одна такая – ждал, да так и не дождался.
Целый вечер я насилу сдерживал себя, чтоб не расплакаться.
Буквально давил рыдание в горле – ещё неделю уколов я не выдержу.
И утром всё время хотелось плакать, пока в коридоре не крикнули, что ко мне посетители.
Мои родители приехали вдвоём и нас позвали в кабинет заведующей.
Она сказала, что на воле мне надо продолжать лечение таблетками аминазина.
Моя мать очень её благодарила, а отец достал из кармана куртки деньги и отдал моей матери. Она подошла к заведующей и положила деньги в карман её белого халата, но та даже и не заметила.
( … как потом выяснилось, сумма составляла сорок рублей – дневной заработок бригады каменщиков из 6 человек.
В тот день на выписку пошли трое, значит она за утро заработала мою месячную зарплату.
Как говорят в Конотопе – кто на что учился …)
В автобусе из Ромнов в Конотоп моя мать осторожно мне сообщила, что мои вещи перевезены с квартиры напротив Нежинского магазина обратно на Декабристов.
Меня огорчила эта новость, но противиться не нашлось сил.
Поначалу наша бригада встретила меня с осторожностью, как человека вернувшегося из Ромнов. Однако, на стройке подобные отношения быстро сглаживаются – до конца дня никого не огрел лопатой и с этажа не прыгнул – значит, как все.
Правда, Лида заметила как я прикорнул к поддону с кирпичом и задремал на солнышке, пока раствор не подвезли – такого раньше не случалось.
И Григорий сказал Грине, что я не тот стал и в доказательство отвёл его на лестничную площадку, где над нишей для электросчётчиков я неправильно положил перемычку – один край на пять сантиметров ниже другого.
Гриня сказал, что и так поедят, всё равно за ящиком не будет видно.
Пришлось в обеденный перерыв переделывать, а раньше я бы не допустил такого.
Ну, а в целом, я стал намного покладистей.
Единственное, в чём лечение не дало результатов, что я так и не начал опускаться на четыре кости, когда выводим стену до уровня панелей между этажами.
Все это делают на четвереньках – так и удобней и безопаснее, а я хоть мучаюсь, но ниже корточек не опускаюсь.
Вита тоже иногда оставалась коленонепреклонной.
( … кое в чём так и не удаётся выбить из себя юного пионера – «лучше нахитнутся с пятого этажа, чем класть угол стоя на коленях» …)
Когда я поехал в Нежин, то следил за собой, чтоб держать глаза чуть прижмуренными, а то больно жуткий вид у меня был – нижние веки обвисли, как будто меня заставляли смотреть документальный сериал про лагеря смерти, газовые камеры и крематории.
Как у Заводного Апельсина, про которого в кочегарке стройбата я статью читал в журнале «Москва».
Потом я заметил, что у меня стал наклёвываться второй подбородок и выбросил 200-граммовую баночку с назначенными мне таблетками аминазина в сливную яму на Декабристов 13.
Моя мать увидела это и начала кричать, что пожалуется психиатру Тарасенко о моём нарушении предписаний заведующей.
– Мама, как ты не понимаешь? Эти таблетки делают меня ненормальным.
Я всегда гордился своей стройной поджаростью, хоть и сутуловат, и не хотел её терять.
Всё стало как раньше. Почти.
Стройка. Нежин.
Веки вернулись на своё место, уже не надо жмуриться.
Переводы.
Стихи.
Стихи начали возникать с началом моей строительной карьеры в СМП-615.
Вернее, появлялись не стихи, а словосочетания; какое-то привлекало чередованием звуков в нём, другое своей двусмысленностью, но не в смысле охальности, а тем, что можно по разному его истолковать.
По ходу трудового процесса, незаметно для коллег-каменщиков, я переворачивал эти слова, переиначивал, выбрасывал из головы к чёртовой матери, или чертям собачьим, но самые упорные возвращались вновь.
Тогда оставалось последнее средство – перенести слова на бумагу и забыть.
( … за шесть лет таких незваных проходимцев собралось штук 30, на двух языках, потому что каждый приходил на каком ему вздумается.
Среди них были чисто графические, срисованные с натуры, типа, «яблоко неба пронзённое шпагой луча», были и звукоподражательные – «каркаломна баркарола», философские, как про съеденного Бога, и просто ритмо-шагательные «ах, о чём мы хохочем» …)
Одно из первых я показал Ире и она сразу встрепенулась – кто это та мадонна в телогрейке?
А мне откуда знать – случайно увидел в очереди на обед в рабочей столовой.
Про стихи на «На музыку В. Косма» она ничего не спросила: сразу видно, что про неё.
А когда она сказала, что ей сказали, что это неплохое стихотворение, то я перестал ей показывать.
Наверное, из ревности к неизвестному кому-то, кому она их дала на оценку.
Когда я прочитал своему брату Саше «Интервью скифа…», его реакция была мгновенной:
– Я тебя заложу!
( … если на твоё стихотворение сразу выныривает мысль про КГБ, то это хорошая публицистика …)
Плотнику Ивану почему-то понравилась строка про капусту на жале ножа.
Полгода спустя он попросил ещё раз про капусту.
Не знаю, что он в ней нашёл.
Случалось, что до конца обеденного перерыва ещё минут пять есть, а делать нечего, тогда в вагончике женщины-каменщицы просили прочитать чего-нибудь новенькое, а потом Гриня кричал:
– Серёга! Коней огнём не подковывают, для этого подковы есть! Мерин ты перéрваный!
Он вырос в селе Красное на батуринском шоссе и сызмальства разбирался в таких вещах.
Когда количество стихов перевалило за 20, то у меня качественно поменялось отношение к ним.
Чего будут валяться? Жалко же.
И я начал рассылать их в редакции журналов и книжных издательств. Как Мартин Иден из одноимённого романа Джека Лондона.
И они возвращались ко мне, как и к нему, но с ответами на печатной машинке.
Ответы смахивали на один и тот же ответ напечатанный через лист копировальной бумаги: про несоответствие основной тематике их издания, про переполненный редакторский портфель и ни одного слова о самих стихах.
Рецензия Грини так и осталась непревзойдённой:
– Мерин ты перéрваный!
Правда, какой-то литсотрудник известил меня, что в подобном стиле писали в 30-е годы.
Может, он этим хотел указать на устарелость, а на самом деле осчастливил – у стихов есть стиль!
( … да ещё какой! В 30-е Союз Писателей ещё не успели выхолостить чистками и репрессиями, в те времена люди ещё писали, а не готовили материалы к преддверию съездов …)
Мне исподволь начало доходить, что для людей кормящихся на непыльной должности всякие там «шпаги в небе» нужны не больше, чем занозы в заднице.
Окончательным вразумлением послужил отзыв из журнала «Москва» на «усталую Аллу».
Сразу видно, что литсотрудник проявил серьёзный и вдумчивый подход при рассмотрении полученного стихотворения.
Одно из слов оказалось ему неизвестным и он даже посмотрел в словаре что оно значит.
Он забыл стереть в моём стихе свои карандашные пометки.
Слово «вожделенье» осталось подчёркнутым, а рядом добавлено его толкование – «похоть». Не знаю в каком словаре он это нашёл, но меня оно оскорбило.
Последний удар нанесла фамилия рецензента под его ответом – Пушкин!
Представив Пушкина заглядывающим в словарь на слово «вожделенье», я понял, что со стихами надо завязать и перестал задалбывать редакции своей простотой – дошло-таки, что никакой я не Мартин Иден, и фиг мне тут, а не Америка.
Сократились почтовые расходы на конверты и отправку заказных писем.
Хотя обходились они не слишком-то и дорого – копеек пятьдесят за штуку; две пачки «Беломора».
Лечение от иллюзий в Советском Союзе предоставлялось, фактически, бесплатно.
Летом ты опять приехала в Конотоп, но, конечно, уже без коляски.
Наша бригада строила тогда 50-квартирный рядом с Переездом и строповщица Катерина мне снизу покричала, что ко мне пришли.
Я спустился и вышел на тротуар за воротами.
Ты стояла рядом с Ирой, на ней был красный сарафан с белыми монгольскими узорами, а что на тебе я не помню. Зато помню как классно ты улыбалась.
Я осторожно опустил свою пластмассовую каску на твои светлые прямые волосы и она сползла тебе аж до носа, но не смогла погасить твою довольную улыбку.
Я помню эту улыбку из-под каски.
Потом вы ушли по тротуару, а я смотрел вслед и вместе со мной смотрели Катерина и Вера Шарапова, такие вдруг притихшие и погруснелые, потому что такая красота уходит – женщина в красном и ребёнок со светлыми прямыми волосами.
Тебе как раз исполнилось три года и я решил, что лучшим подарком на день рождения станет привычное лицо среди незнакомцев на Декабристов 13.
Я поехал в Нежин и, несмотря на своё косноязычие, сумел-таки упросить Тоню, чтоб отпустила со мной своего сына Игорька к тебе на день рождения, а Иван Алексеевич приедет на следующий день и увезёт его обратно.
Тоня очень смелая женщина – не побоялась моей репутации, вконец промокшей после Ромнов.
Электричка оказалась переполненной и мы с ним до самого Бахмача стояли в проходе.
Зато как вы потом обрадовались друг другу!
Столько визга!..
А на следующей неделе у меня начался отпуск и мы поехали на Сейм вчетвером – ты, Ира, я и Леночка. Мои родители взяли в Рембазе путёвку для нас в их лагерь отдыха.
Там на его территории между больших сосен стоят деревянные домики на четыре койки каждый и окна в них вкруговую, как на веранде.
Когда мы в первый раз вышли на пляж, там все обомлели – туда ещё ни разу не показывались статуи греческих богинь, да ещё с такой белоснежной кожей, как у Иры.
Ещё мы вчетвером ходили искать грибы в лесопосадке у хутора Таранский.
На полпути нам встретились пара лошадей, но испугалась только Ира – она их всегда боялась.
Лесопосадка состояла из тонкоствольных сосен стоящих параллельными рядами; длинные паутины, натянутые поперёк, делали их почти непроходимыми, но под хвоей попадались маслята.
Мы прочёсывали эти коридоры – туда и обратно.
Тебе захотелось пить и я попросил Леночку отвести тебя в лагерь – там всего метров триста по широкой тропе, потому что ужасно хотел Иру.
Ты долго не соглашалась, но, наконец, пошла, а через минуту в конце соснового коридора раздался твой рёв и Леночка объяснила, что ты совсем не слушаешься, хотя лошадей давно нет.
Вечером был сильный дождь с грозой, но ты не боялась, а наоборот хохотала, потому что я лежал на койке и ты топталась у меня по животу.
Кому-то весело, а кому и больно – в три года ты была увесистым ребёнком, но Ира прикрикнула, чтобы терпел своё дитятко.
Я ещё немного потерпел, а потом еле-еле тебя уговорил, что хватит уже.
Это было хорошее лето.
В день отъездa ты опять сводила счёты с бельевой верёвкой, которой совсем не место от калитки до стойки крыльца.
Ты взяла швабру и начала стукать ею по полувысохшим простыням стирки.
Моя мать на тебя закричала и жутко потемнела лицом, но ты уже крепко стояла на ногах, только пришлось отнять у тебя швабру.
Когда мы выходили на трамвай, то Леночка вызвалась повезти тебя до конечной на своём дамской велосипеде с багажником.
Все согласились, кроме меня, потому что у меня возникло плохое предчувствие, когда увидел какими взглядами обменялись моя мать и Леночка.
Они посмотрели не друг на друга, а друг другу под ноги, но в их спрятанных взглядах слышался диалог:
– Да?
– Сделай это!
Я не выдумываю и не передёргиваю – этот диалог состоялся до того, как случилось остальное.
Мы с Ирой тоже вышли за калитку. Я очень торопился и даже ушёл вперёд с сумками.
Не доходя до поворота, я убедился, что спешу не зря, когда услыхал твой рёв.
Ты стояла и орала широко раскрыв рот. Леночка держала свой дамский велосипед и пыталась тебя уговорить не плакать, но ты не слушала.
Рядом из земли торчал врытый в неё швеллер полуметровой высоты.
Единственная железяка на всём полукилометре от Декабристов 13 до конечной трамвая номер три.
Мне всё стало ясно и я очень сдержанно попросил Леночку ехать домой – дальше мы сами.
Подошедшая Ира начала тебя утешать, но ты проревела всю дорогу из-за такой большой шишки на лбу.
Мы ехали молча, Ира была чем-то недовольна, а я совершенно опустошён.
Как жить в мире, где бабушка благославляет свою внучку на убийство второй своей внучки, вот этой прекрасной малявки, что всхлипывает сейчас с прижатым ко лбу медным пятаком, который держит её мама?
Ира до самого Нежина оставалась недовольной, а я молчал и ничего ей не сказал.
( … теперь у Леночки двое своих детей – красивые дочери.
Вы с ней незнакомые друг другу женщины и никто ничего не помнит. Тем более она.
Человек устроен забывать о плохом.
Моя мать впоследствии стала свидетельницей Иеговы и собрала множество глянцево-радужных журналов для спасённых, или тех, кому хочется спастись.
И только я во всём виноват, но честное слово, в том лагере отдыха я не выдержал бы Леночку на своём животе – ей было уже девять лет …)
Когда я вернулся из отпуска, тротуар перед 50-квартирным оказался перерыт поперечной траншеей для врезки в магистральные коммуникации, но плотники сколотили мостик с перилами для удобства пешеходов.
Я работал лопатой на дне траншеи, когда увидел Бельтюкова на том мостике, разодетого в пижонисто-колониальном стиле. Я не хотел привлечь его внимание, но он меня узнал, несмотря на спецовку и каску – поздоровался и представил своей маме, даме в агрессивном декольте.
Потом они пошли дальше – он нервничал, а она его плотно опекала и я понял истоки его негодования на матриархат, когда он под инсулином.
Ещё я подумал, что это не последняя была у него отбывка в психбольнице, ведь он же ходит там поверху, беззащитный.
То ли дело – я, в траншее, в каске; заморятся гады меня достать.
А в Ромнах я был добровольцем и полученных там вразумлений мне выше горла хватит.
При сдаче очередного рассказа Жомнир подогрел меня толстой книгой в твёрдой обложке.
Монография про шизофрению.
Он её купил, когда его дочь страдала тем же; ещё до замужества.
Монография значит сборник статей различных авторов, но объединённых одной общей темой.
Я проштудировал предложенный от всего сердца фолиант. В конце концов, это не варёная колбаса с добавками.
( … авторы рассматривают заглавный предмет с очень и очень разнообразных позиций, соответственно специализации каждого.
Кто-то сравнивает биохимический состав крови отъявленных шизофреников в момент обострения их духовной деятельности с периодами относительного затишья. Увы, уровень аминокислот в лейкоцитах остаётся без изменений.
Другой исследователь скрупулёзно меряет всё, что подвернётся с не менее неутешительным результатом.
Третий просто садится рядом с койкой и записывает дуру гонимую прификсированным фантазёром.
Как тот шёл на троллейбус, никого не трогал, и вдруг оказался голым за исключением тряпки на бёдрах, а вокруг куча таких же тощих, палимых солнцем и почти голых, как и он, и вдруг из-за песчаного бугра выскочил отряд всадников и начал убивать их, безоружных.
Но в целом полезная монография, потому что авторы, несмотря на поголовную их зарубежность, обладают смелостью настоящих учёных, чтобы развести руками и честно сказать:
– Ну, хуй её знает, что она такое, шизофрения эта.
А подойди-ка с ласкою, Да загляни-ка в глазки ей, Откроешь клад какого не видал…На данном этапе и при используемой ныне методологии, у науки имеется всего лишь только термин – «шизофрения», всё остальное покрыто туманом неопределённости.
Главный козырный туз, он же лакмусова бумажка, это – голоса. Их встретишь в любом учебнике по психиатрии.
Если тебе слышатся голоса, а вокруг ни души, значит ты – шизофреник.
Но если эти голоса говорят тебе:
– Спаси Францию!
Значит ты – святая, Жанна Д’Арк.
В той монографии явно не хватало специалиста-теолога.
Достаточно вспомнить святую Инес, чьё тело секундально покрылось длинным мехом, который и не позволил насильникам сломать её целомудренность.
Не жизнь, а малина специалисту от науки, в которой и светилам её не ясно что она такое.
Поставить диагноз – проще, чем два пальца об асфальт.
Берём так и не определённый термин и прибавляем к нему прилагательные: шизофрения – какая? круглая… двуствольная… шубовидная… Годится! Как у святой Инес.
Тамара на 4-м километре ещё не знала про все мои подвиги.
За сожжение плантации конопли вполне могла бы мне впаять «шизофрению аутодафного вида с комплексом Торквемады», в честь того абсолютно нормального инквизитора, что пачками отправлял еретиков на костёр.
Сам термин, «шизофрения», как и большинство его научных собратьев, взят из греческого и при исследовании корней обозначает «надтреснутый ум».
«Надтреснутый ум в виде шубы».
Ну, и кто из нас шизик?!
Они думают, что если обрядились в белые халаты и козыряют терминологией, в которой сами ни хрена не смыслят, то я им поверю больше, чем ичнянскому колдуну в рубахе цвета хаки с его теревенями про «кватеру»?
Эскулапики вы мои дорогие! Да я ж из Конотопа. Мой одноклассник Володя Шерудило говорил:
– Я не могу игнорировать данных квази-псевдоиллюзий, во избежание ультра диффузии моей транскоммуникабельности.
После 8-го класса он ушёл в «бурсу», она же ГПТУ-4, не то сейчас возглавлял бы Академию Наук и сидели б вы у него в приёмной в трепетном ожидании – примет он, или нет, вас, ханориков созовских?
Короче, пока никто не знает откуда берётся шизофрения, куда девается и сколько берёт за визит, то идите вы… да не просто идите, а идите вы…
Вот именно …)
С наступлением осени я уже знал, что это последняя наша осень вместе. Мне никто этого не говорил, но я чувствовал; постоянно.
Когда я приезжал из Конотопа, мы втроём шли в детсад в узких улочках частного сектора неподалёку. По субботам он не работал и вся игровая площадка доставалась безраздельно тебе, со всеми этими его теремками, горками.
Качель на железных прутьях пронзительно вскрикивала – кратко, душераздирающе.
Ира стояла в отдалении.
Потом ты начинала бегать по жёлтым листьям на площадке от меня к ней и обратно; но даже это нас не сближало.
Мы возвращались теми же улочками без тротуаров.
Я держал тебя за руку и не сводил глаз с плавной игры круглых бёдер под лёгким платьем шагающей впереди Иры.
Тоня получила квартиру для своей семьи где-то на улице Шевченко.
Гаина Михайловна строила планы сдавать комнату кому-нибудь из военных лётчиков с аэродрома в авиагородке, что по вторникам и пятницам выли в небе своими тренировочными полётами.
Меня ни в каких планах не было, да и быть не могло – со мной Леночка; а оставить её ещё и без папы я не мог.
Наши размолвки с Ирой стали менее отчаянными, но более частыми.
Я чувствовал неуклонное продвижение к концу, когда стану совершенно уже отрезанным ломтём.
( … наверное, это же чувствовал и Достоевский, когда его везли на эшафот, а он по знакомым улицам вычислял сколько ещё осталось до казни.
Разница лишь в том, что я не мог знать сколько осталось до этих слов Иры, но знал, что услышу:
– Убирайся в свой Конотоп! И чтоб ноги твоей в Нежине не было!.. )
Когда Ира так сказала, то вместе с болью пришло и маленькое облегчение – не стало чего бояться.
Свершилось.
Я уехал в Конотоп и начал жить половинчатой жизнью.
Работал в нашей бригаде, читал, писал, разговаривал, но половина меня куда-то пропала – отрезалась цель, ради которой я всё это делал раньше.
Меня немного развеяла командировка в Киев.
От СМП-615 там оказался я один и не знаю откуда съехались остальные рабочие на реконструкцию какого-то молочного завода.
Мы жили в пассажирском вагоне загнанном в тупик на его территории. Нам выдали постельное бельё, жёлтое от ветхости, но из-за этого же ласково мягкое.
Я занимал вторую полку плацкартного купе, чтобы не сворачивать матрас.
Отовсюду звучала одна и та же песня:
Листья жёлтые по городу кружатся…Вспоминались листья на площадке безлюдного детсада.
По выходным я ездил в библиотеку Киевского Университета, в корпусе налево от памятника Тарасу Шевченко. Туда пускают и без диплома, с одним только паспортом.
В огромном тихом читальном зале с длинными столами, для каждого читателя есть своя лампа с абажурчиком. Там я читал в оригинале трактат Джона Милля «О свободе».
Вот где настоящая философия!
Он показал мне, что существует всего лишь две разновидности людей:
1) законопослушные верноподданные;
2) эксперименталисты.
А прочие расы, классы и вероисповедания лишь средство натравливать людей друг на друга.
Потом я нашёл Дом Органной музыки.
Наверно прежде в нём был католический костёл; пониже Республиканского Стадиона.
На концерт я немного опоздал и дверь оказалась запертой, пришлось тарабанить.
Мне открыли и я закричал как в ромненском автобусе:
– У меня билет! У меня билет!
– Хорошо, но потише можно? Концерт идёт.
Там зал сразу за входом, без всякого вестибюля.
– Извините.
Но он продолжал ещё что-то бубнить.
– Мне что – по второму разу извиняться?
И он утих, потому что под интеллигентским плащом на мне оказался синий вельветовый пиджак рабочих и крестьян, а над головой торчала прядь волос, как вздыбленная пружина.
Приглаживать не получалось, даже после дýша упрямая прядь, высохнув, снова вставала дыбом.
( … лет через тридцать такие взрывы из волос стали обыденной модой.
Так на меня подействовала разлука с Ирой …)
В первом отделении играли современную атональную симфонию – слушать просто мýка, кромсанье музыки; зато во втором звучал орган – фуги Баха.
Чудо случилось в январе.
Я приехал в Нежин к Жомниру и в автобусе на вокзале увидел Ивана Алексеевича. Он спросил меня что это я не приезжаю.
Сдерживая в горле ком обиды, я ответил, что Ира запретила мне.
– Да, ладно тебе – поехали!
Я всё-таки сошёл на улице Шевченко и позвонил уже от Жомнира.
Ира тоже сказала, да, приезжай.
Оставшиеся семь остановок до Красных Партизан я ехал спокойным наружно, но весь бушуя внутри.
За месяцы моего отсутствия случилось немало перемен.
Ира с тобою перешла в бывшую спальню семьи Тони, а тесть и тёща ушли в узкую спальню.
Гостиная осталась как была: «Неизвестная» всё так же высокомерно смотрела поверх серванта, а сдобная купеческая дочь жеманно рысила от сватающегося майора.
Зато у вас в спальне появилось новое трюмо уставленное толпой непонятных, но очень нужных косметических баночек.
Вплотную к зеркалу трюмо лежало широкое жёлтое кольцо из золота. На мои осторожные расспросы Ира сказала, что трюмо ей купил папа, а кольцо – мамин подарок.
И мы стали жить дальше.
Стройка. Нежин. Стройка. Нежин.
Ира работала воспитательницей в детском саду на Красных партизан, за сто метров от дома.
В её обязанности входила запись состояния здоровья детей её группы.
На трюмо лежала тонкая тетрадка с записями её почерком, с наклоном влево, по числам месяца.
Я только раз открыл ту тетрадку, а потом старался даже не смотреть на неё, чтобы не умирать от ревности.
Мне стало ясно, что больше нет никакого смысла в подвигах праведности, что от неизбежного уже не убежать – оно стало случившимся.
( … просто некоторые мысли нельзя начинать думать, а если уж начал, то лучше не додумывать до конца …)
Мне было стыдно спрашивать Иру как она жила эти месяцы и что делает между моими приездами, но увидев в тетрадке запись, что в четверг полгруппы пришли в растёрзанном простудой состоянии, я знал, что в среду Ира была на свидании, и умирал от ревности, но молчал.
Жизнь стала как пробежка по наезженному лабиринту – сюда не сверни, туда не смотри, про то не думай…
Затем Ира ввела порядок укладывать тебя рядом с собой на двуспальной кровати, а мне раскладывала кресло-кровать для сна.
Иногда она приходила ко мне в темноте, иногда – нет, и тогда я долго не спал, а всё мучился ревностью и обидой.
Всего один лишь раз я обрадовался её отказу.
Битком набитый автобус с обледенелыми стёклами вёз меня с вокзала на Красных партизан и где-то на полпути я вдруг явственно ощутил распирание ануса извне.
Мне в жизни не делали клизму и не вставляли зонд, так что ощущение было незнакомым и необъяснимым среди тесной толпы пассажиров в пальто и дублёнках.
После площади толпа поредела, но чувство, что меня поимели в прямой проход не исчезало.
Именно по этой причине я в тот вечер не настаивал на сексе, леденея от страха, что поимевший меня в автобусе впоследствии и Иру поимеет.
Конечно, очерёдность могла быть и обратной, но я гнал от себя эту мысль…
В конце февраля в СМП-615 была рабочая суббота, но я твёрдо сказал, что не приду и уехал в Нежин.
После ужина на кухне я прошёл в спальню, чтоб не мешать всем в гостиной смотреть телевизор, да там и сесть-то было негде – твоя тётя Вита уже недели две как приехала погостить из Чернигова.
Ты тоже пришла в спальню, мы немножко пошумели и Ира пришла разобрать постели.
Она выключила свет, чтобы ты поскорее заснула, а сама вернулась в гостиную – по телевизору повторяли новогоднюю «Кинопанораму».
Я остался сидеть в темноте перед новым трюмо.
Никаких планов я не составлял, всё шло как-то само по себе.
Услыхав по твоему дыханию, что ты уснула, я подождал ещё минут пять и переложил тебя на кресло-кровать, потом разделся и лёг на супружеское ложе.
Я долго лежал заложив руки под голову.
Машины по улице Красных партизан ходили всё реже, но всё так же шумно и свет их фар ползал по тюлевой занавеске окна.
Бедная Тоня. Как они тут жили?
Потом я стал думать про нас с Ирой: как мы до такого дóжили?
Вот у меня, к примеру, осталась к ней лишь ревность и желание, все остальные чувства стараюсь подавлять, чтобы не стало ещё больнее, и эти подавить не могу.
А у неё?
В институте понятно – вытащила из колоды такого имиджа на зависть всем подругам.
Подруги разъехались по направлению, а имидж оказался подмоченным.
А тут и мама с колечком. Ты такая молодая. Ещё встретится хороший человек. Желательно лётчик, у них зарплата выше жалких 120 руб.
И что в итоге? Имеет то, что имеем.
Советский Пушкин, камергер-литсотрудник назвал это похотью. Кретин. Похоть это когда уже нет вожделенья.
Снова машина воет, издалека, со стороны авиагородка; по свету видно, как он переползает по тюли оконной занавески, выгибает спину аркой, словно гусеница, а мы нашли-таки способ снятия стресса из-за прерывания естественного течения акта в его завершающей фазе для контроля рождаемости, подобно тому, как у Артура Кларка космонавты перепрыгивают без скафандров из одного шлюза в другой через открытый космос, с побочным бонусом утилизации семени для притираний, чья эффективность благотворного воздействия на кожу многажды выше, чем у всяких мумиёв, жень-шеней и даже травки оджилбой, пытливая затейливость любящих любить друг друга переплюнет любую Кама-Сутру, я всегда чувствовал это, хотя и не читал, а надо?..вот ещё одна… до чего же душу выматывают, пока провóют мимо… Бедная Тоня, как они тут жили?..
Потом из-за двери в гостиную донеслись прощающиеся на ночь голоса.
В спальню зашла Ира. В свете уличного фонаря по ту сторону тюля и оконной рамы она нашла нужный флакончик перед трюмо и снова вышла. Я напрягся.
Она долго не возвращалась, а когда пришла и закрыла дверь, то склонилась над тобою – проверить крепко ли я сплю.
Ты спала сном младенца и дальнейшее тебя не разбудило.
Ира легла рядом со мной под одеяло, прикоснулась ко мне, резко отпрянула и вскрикнула:
– Ты?!.. Вон отсюда!
– Да, тише ты…
– Папа!
Она позвала на помощь, чтоб защитили от меня!
Я не трогал её, лишь безучастно лежал подперев голову рукой, в позе пляжника, что прикидывает сколько там народу в воде.
В меня вселилась созерцательность постороннего, потому что мне всё как-то стало всё равно.
Спокойно и раздельно я произнёс:
– Ты мне надоела.
Я сказал это?! Неправда! Не надоела! Это не я!
А впрочем – я, и эти слова – часть ритуала.
Какого?!
Какая разница – мне уже всё это всё равно.
Всё так же опёршись головой на руку, я протянул ладонь второй и шлёпнул её по мягкой щеке.
Я?!
Ударил?!
Нет, конечно. Это был не удар, а часть ритуала.
Она изумлённо притихла рядом, но было поздно.
Я откинулся на подушку и подтянул одеяло до подбородка.
Щёлкнул выключатель, при ярком свете с потолка в дверях столпились её родители и сестра. Она выскочила из постели и присоединилась к группе.
Вита начала испускать традиционные крики семейных скандалов.
Иван Алексеевич в пижаме стоял опустив голову, я видел как трудно даётся ему решение – а вдруг я голый? перед его княжьим гаремом?
Но я ничем не мог ему помочь – у меня тут роль созерцателя.
Наконец, он сделал решительный шаг; даже два; схватил мою торчавшую из-под одеяла руку и сдёрнул меня на половик.
Одеяло осталось на кровати.
Я ещё немного полежал, пока тёща зачитывала отходную по моей беспардонности – валяюсь тут в таком виде перед женщинами.
Трусы и майка – спортивный вид для стадиона, но не для тёщ.
Я молча встал и, совершенно неожиданно для самого себя, сделал глубокий поклон, чтобы стряхнуть несуществующую пыль на волосах ниже колен.
Ритуал, есть ритуал.
Отречёмся от старого мира, Отряхнём его прах с наших ног!..Я оделся и вышел в прихожую. Тёща вышла следом.
Последить, чтобы не залез в холодильник?
Её сменила притихшая, внимательная Ира.
Я отдал ей один рублю, который неделю назад мне одолжила Вита и попросил передать.
Она согласно покивала головой. Я достал из портфеля листок бумаги и написал Вите записку с благодарностью за рубль.
Графомана и могила не исправит.
Ночь оказалась тихой и безветренной. Я провёл её стоя на ближайшей автобусной остановке, как когда-то перед запертой на перерыв кассой в одесском аэропорту…
Дождь и солнце вместе не живут, Разве что на несколько минут, Кратких и прекрасных, Когда в безумной ласке Два самых-самых разных От счастья слёзы льют …За всё ночь мимо остановки проехали три автомашины, одна из них «волга».
Мне было всё равно. Онемение чувств.
В одноэтажном доме напротив дважды загорался и гас свет; должно быть пожилой человек ходил в туалет.
В редеющей на рассвете темноте со стороны авиагородка показался автобус и отвёз меня на вокзал.
В половине восьмого я сошёл с электрички в Конотопе.
Не знаю где я провёл около часа, потому что когда я пришёл на 50-квартирный, рабочая суббота шла полным ходом.
Бульдозер во дворе окутывался сизым дымом и зарывался в гору грунта перед собой. Гриня и Лида были уже в рабочем.
– Ты не поехал в Нежин?– спросила Лида.
– Нет.
Я достал из портфеля листок в клеточку с объяснением в профком на что потрачены 3 руб. при посещении больного.
( … моей очередной общественной должностью было посещение в больницах работников СМП-615 и вручение им передачи от профсоюзного комитета.
Ходил я всегда один, но под бумагой на сумму в 3 руб. требовались три подписи – деньги немалые …)
Я положил листок на боковину одного из 1,5-метровых бетонных колец рядом с подъездом и они расписались.
– Ну, шо?– спросил Гриня.– Переодеваешься?
Я всегда был против рабочих суббот, но что ещё оставалось делать?
Переодевшись в вагончике, я взял лопату и пошёл, вместо Веры Шараповой, чистить кузов самосвала, что привёз раствор.
Она давно подметила, что так я лечусь от ревности.
Вечером, на Декабристов 13, я лежал в узком кресле-кровати навзничь в постойке «смирно», только расслабленной.
Долго лежать в одной позе – трудно, хочется перевернуться. Но я не позволял себе лишнего, потому что мне надо стать как можно неприметнее, а движение выдаёт.
Я стал дном безграничного и безмерно пустого мира. На дне нужно быть обтекаемым, чтобы ничто не цеплялось, и катилось мимо и – дальше.
Но до чего же она бескрайняя эта пустота!..
( … нет более страшного проклятия, чем «чтоб тебе пусто было!»; цель любых утрат и потерь в том, чтоб заставить тебя ощутить пустоту – чтобы тебе было пусто…
Любовь приходит как защитная реакция на пустопорожнее повторение витков жизни возвращающихся на круги своя, где что было, то и будет и в той же самой пустоте.
Она приходит от безысходности, когда не знаешь как распорядиться случайным и напрасным даром – своей жизнью, не видишь средств убить отмерянную тебе вечность.
Она приходит снять проблемы, дать жизни смысл – служение; показать цель – служение.
Любовь – добровольное рабство и ревностное служение предмету любви: двуногому млекопитающему, или коллекции марок, или …ну, неважно… кому как повезёт…
Но вот оковы разбиты, тебе сказано: убирайся! Ты свободен!
И ты оказываешься в пустоте, где нет ни цели, ни смысла, где надо просто жить – как кристалл, как трава, как дождевой червяк.
Мы не рабы, рабы не мы.
Нет! Я хочу обратно! Туда, где любовь.
Она избавит от жути видеть эту пустоту, подарит смысл суете сует. Она станет тем, кто всё за нас решит! Я буду лишь покорно исполнять приказы!
Любовь – песок, чтобы пугливо зарывать и прятать страусиные головы.
Будь ты проклята, любовь!
Как же без тебя пусто…)
Выжить в пустоте задача не из лёгких.
Конечно, выбор всегда есть.
Зачем выживать, если можно укромно прекратить мучения?
Однако, с мыслью о самоубийстве я в жизни не игрался даже гипотетически.
Не так запрограммирован.
Ну, а раз выбора нет – вынужден решать задачу.
Решение тоже одно – систематичность. Ничем иным пустоту не одолеть.
Систематически глушить водку, или систематически бегать трусцой – не так уж и важно, главное – повторение определённого цикла.
И тут у меня уже имелись определённые наработки, способные послужить опорой барахтанью в пустоте.
Пятидневная рабочая неделя – раз.
Участие в общественной жизни СМП-615 – два.
Посещения Нежина для интеллектуального общения с Жомниром с периодичностью в два-три месяца.
Любой системе, чтобы она работала, нужны пряники вознаграждающие вертящегося в ней винтика за успешное прохождение замкнутого круга и стимулирующие его верчение в таком же следующем круге.
По четвергам я ходил в баню с двумя заходами в парную.
Веники и мыло продавались в кассе на первом этаже; получив еженедельное удовольствие я оставлял их на крытых серым мрамором столах в помывочном зале, унося с собой лишь сетку с грязным бельём.
Следуя после бани к месту жительства, я выпивал две бутылки пива «Жигулёвское» и покупал в киоске на Миру газету «Morning Star» для чтения со словарём до следующего четверга.
По понедельникам у меня была стирка в тазу на дворовой лавочке; зимой она проводилась в пристроенной к сараю летней комнате.
День глажки зависел от погодных условий вокруг бельевой верёвки, которая была натянута уже от крыльца к сараю, а не к калитке.
Лучше поздно, чем никогда.
Выходные заполнять труднее, но раз в месяц в кинотеатре «Мир» показывали очередной боевик Бельмондо, или комедию Жана Ришара.
Летние воскресенья вообще проблем не представляли, я проводил их на Сейму, лёжа на розовом одеяльце с красными кругами для укутывания младенцев, оно же, по будням, служило подкладкой при глажке.
Одеяльце, что осталось после одного из твоих гостеваний на Декабристов 13.
Коротковато – ноги остаются на песке, но какая разница?
Трижды за день я выплывал за буйки, где кончаются визжащие купающиеся, ложился на спину раскинув руки и произносил самодельную ритуальную фразу:
– O, water, run into each corner of mine! We be of one blood, thou and me!
( … для составления этой фразы мне пришлось привлечь в соавторы Фицджеральда и Киплинга, но они и не противились моему плагиату …)
Затем я плыл обратно к визгам и брызгам, выходил на берег и переворачивался под солнцем на покрывальце вперемешку с чтением «Morning Star» без словаря – просто подчёркивал слова, которые надо будет выписать потом в тетрадку.
В обед я уходил с пляжа на Хутор Таранский, в его магазин – обычную хату под соломенной крышей, но с толстой железной полосой поперёк двери и висячим замком.
Завмаг, кряжистая баба, которая гордилась тем, что побывала даже и на Сахалине, отпирала его всего на час.
Когда она с грохотом снимала замок и полосу, за дверью открывалась комната с парой пыльных окон, с тремя прилавками вкруговую и широкими полками вдоль стен.
Я систематически покупал одну банку консервов, пачку печенья и бутылку лимонада.
Вскрыв обед одóлженной у продавщицы открывалкой, я выносил его на совершенно пустую улицу из четырёх хат и глубоченного песка прожаренного солнцем, чтобы съесть под деревом на толстой, но надтреснутой доске могучей лавки посеревшей от многих лет круговорота времён года.
Ассортимент на полках магазина не менялся. Покупая «Завтрак туриста», я видел, что в следующее воскресенье у меня на обед «Килька в томатном соусе», а ещё через неделю «Икра кабачковая».
Банка с наклейкой «Аджика» вселяла неясные опасения, но до неё ещё целый месяц.
Может скомбинировать с маленькой баночкой вишнёвого варенья со следующей полки? Будет комплексный обед.
Алюминиевую ложку я протирал обёрткой от печенья и прятал с обратной стороны хаты под соломенную стреху над глухой стеной; как кулацкий обрез.
Такая «Dolche Vita» не снилась и Марчелло Мастрояни.
Как раз в той хате я купил куколку на твой день рожденья.
На полках их было всего две – девочка и обезьянка. На спине каждой из них в резину вделана пищалка – издавать звуки когда надавят.
Два мотоциклиста в плавках, что умудрились одолеть глубокий песок дороги, советовали мне купить обезьянку, но я взял девочку, как и собирался; в разноцветном, тоже резиновом платье до колен.
Подарок можно было бы купить из Универмага в Конотопе, но там все игрушки из пластмассы.
К тому же я хотел подарить что-то из этой зачарованной хаты с прохладной тенью посреди летнего зноя.
Хотя не знаю, спасла ли бы меня какая угодно система без приложения к ней нашей бригады.
Не то, чтобы в ней друг друга окружали заботливым вниманием, лаской и моральной поддержкой. Держи карман!
В бригаде любят проехаться и погыгыкать на твой счёт. И там у каждого своих забот хватает, у всех семья, дети.
За исключением рыжего Петра Кирпы, он же Кирпонос, но и его впоследствии окрутила Рая из бригады штукатурш.
И всё-таки с 8 утра до 5 дня, при всех индивидуальных проблемах и заботах, наша бригада была семьёй.
При всей забористости шуток в чей угодно адрес, тебе тут не подсунут под нос тлеющую вату и тут можно не опасаться никаких членовредительных хаханек.
Матерятся ли каменщики при каменщицах?
И да, и нет.
Я ни разу не слыхал мата обращённого к кому-либо из женщин нашей бригады. Нет.
Но когда крановщик ставит тебе на ногу поддон кирпича, ты сообщаешь об этом на весь мир очень громко и без оглядки кто вокруг.
Матерятся ли женщины?
И да, и нет.
В травмоопасные моменты они орут «ой, мамоньки!», или просто визжат.
А в промежутке между загрузкой раствора по ящикам и заводкой стальных, поперекрученных на хрен тросов строп под поддоны с кирпичом, Катерина могла запросто поделиться фольклёром:
Эх, ёб вашу мать, с вашими делами! Не хотите отдать дочь, так еби́те сами!Признаюсь, что проигрывание этой частушки в извилинах головного мозга иногда служило мне хорошим болеутоляющим.
Но, в конце концов, разве на одном мате свет клином сходится?
Любовь Андреевна однажды пожаловалась случайно заехавшему на объект главному инженеру на обидные слова бригадира Хижняка, которыми тот определял всех женщин без разбору:
– Зáсланки навыворот!
До сих пор не улавливаю смысла этих слов, а вот её почему-то задело.
Наверное потому, что она была самая красивая женщина в бригаде, только иногда грустная. Трудно женщине, когда знает, что красива, а что с красотой этой делать неизвестно и только вот наблюдай как она уходит ни за что, ни про что.
Муж на пять лет моложе её и до женитьбы ходил с ножом за голенищем, а она из него сделала примерного семьянина и безопасного члена общества.
Но всё равно грустит, особенно зимой в морозы, когда раствор в ящиках при подъёме на линию берётся сантиметровой коркой льда.
– Ой, мама! Как же у меня рученьки помёрзли!
А этот паразит Серёга с другого конца захватки, сразу:
– Ото тебе ещё мало! Мама-папа сколько раз говорили «учись, доченька! бухгалтершей станешь!» Так нет! «я лопату люблю!» Вот и люби теперь до посинения!
– Паразит!
Анна Андреевна не такая красивая, но добрая.
Особенно после обеда.
Почти вся бригада живёт На Семи Ветрах и обедать домой ходят.
Вот она в обед дома клюкнет и возвращается размякшей и подобревшей.
Единственный недостаток её в том, что охотится на мою кирочку. Стоит мне утратить бдительность, она мою кирочку – хвать! – и в стену заложит, раствором заровняет.
Большинство каменщиков рубят кирпич кельмами, а мне, видите ли, кирочку подавай. Наверное, из-за созвучия имён…
Мужья Лиды и Виты тоже в СМП-615 работают, слесарят в производственном корпусе под началом главного механика.
Выпивают, конечно, а мне наутро целый час в вагончике выслушивать выговоры тем падлам, которых тут и близко нет.
Хотя выговоры от Лиды слушать можно – она их словно песню поёт, ну, а Вита подпевает.
Сама Вита красноречием не блещет. Мы когда на 110-квартирном уже под крышу стены выводили, она на линии рядом со мной была и, когда я через стену прыгнул, успела вслед сказать:
– Сергей! Ты куда?
Та часть стены, что я клал, осталась не затёртой и не расшитой, вот я и соскочил на бетонный козырёк над балконом пятого этажа. Но она-то козырька не видела!
У неё на глазах человек сигает с крыши пятиэтажки и всё, на что она способна, так это:
– Сергей! Ты куда?
Вот вам женская логика и знание физики – да, вниз я!
Куда ж ещё?
Бригада у нас молодая, самому старшему, Григорию Григорьевичу, сорок лет. Он так прямо и говорит:
– Мы ещё молодые.
У него исключительный педагогический дар, если заметит, что его сын девятиклассник в трамвае, или на улице засмотрелся на женщину при всех делах, сразу ловит момент:
– Хочешь, чтоб у тебя такая же была? Учись, зараза!
Лицо у него круглое, наполеоновское из-за редкой пряди на лбу. Сам такой крепкий, солидный.
Сколько раз я пытался обогнать его в кладке – бесполезно. Он уже кончит, а мне ещё с десяток кирпичей надо положить.
И рассудительный.
Рассудительность подвела его всего один единственный раз, это когда с обеда он вернулся с двустволкой.
Мы же строим в чистом поле – «строительный угодья».
А тут молодой мастер Середа с базы заехал. Григорий Григорьевич и ему дал оружие подержать.
А потом они заспорили – попадёт Середа из ружья в шапку Григория Григорьевича, или нет?
Ну, вышли за торцевую стену недостроенного здания, вокруг белым-бело, только лесополоса среди снегов чернеет.
Он шапку высоко так подкинул, а Середа чуть выждал и пульнул.
Шапка дёрнулась и – в снег.
Григорий Григорьевич её поднял, а в донышке дырка – два пальца пролазят. Картечь крупной оказалась.
А шапка хорошая была, из меха нутрии.
Просто он не учёл, что Середа из Закарпатья, а там бандеровцев хоть уже и нет, но огнестрельное оружие сохранилось; отсюда и навыки.
А Вера Шарапова никогда не грустит. Всё время песни поёт, смеётся. Разговорчивая со всеми.
И она тоже самая красивая, но только на работе, пока на ней телогрейка и штаны спецовочные. А как переоденется, чтобы ехать электричкой в свою Куколку, красота куда-то девается.
Не знаю почему мне грустно стало, когда она про свою свадьбу рассказывала и все смеялись вместе с ней:
– Дети – плачут! Петя – играет!
Петя – это тот горбатый мужик, что её с двумя детьми взял. Он тоже из Куколки в Конотоп на работу ездит и умеет на гармошке играть.
Шумная получилась свадьба.
Вера Шарапова подметила, что когда кто-то при мне на головную боль жалуется, я достаю из штанов носовой платок и перескладываю его наизнанку.
Иногда она толкает локтем Катерину, мол, смотри чудеса дрессировки; прикладывает руку ко лбу и делает страдальческое лицо:
– Ой, как же ж голова болит!
Я, конечно, вижу всю эту комедию, но процедуру исполняю, а когда Катерина и себе начинает хвататься, то говорю, что приём окончен – средство обслуживает лишь одного пациента в день.
Про Гарри Поттера тогда ещё не знали.
Пётр Лысун не всегда был каменщиком. Он служил в охране перевозок золота по железной дороге.
Есть специальные вооружённые охранники, что сопровождают сейфы в багажных вагонах.
Ехать приходится далеко, иногда неделями. Пол вагона качается, колёсные пары на стыках гахкают и мысли всякие крутятся и крутятся.
Вот как, к примеру, можно было бы это золото взять?
День крутятся, два – иногда неделями. Но безответно крутятся – неразрешимая задача.
На лица со-охранников посмотрит – тоже задумчивые. А о чём?
И начинает закрадываться страх: вдруг кто-то додумался до ответа?
Составит план, найдёт подельников и на одном из перегонов положит всех одной обоймой и с золотом уйдёт.
Устал Пётр от ожидания и ушёл в каменщики.
Щуплый низкорослый Гриня мне почему-то напоминал Гудериана, которого я в жизни не видел. Мелькало в нём что-то такое генштабовское, причём из вермахта.
По выходным он отдыхал от блиц-кригов и на пару с Григорием Григорьевичем ездил на рыбалку. Повсеместно, куда доходят электрички и дизель-поезда. На удочку, или мормышку, смотря по сезону.
Меня подкупила его вера в мои целительные свойства. Как-то остановил меня на лестничном марше уходящем в небо:
– Серёга, помоги!
И, задрав губу показал беловатый прыщик на десне. Потом отстегнул безопасную булавку с внутреннего кармана телогрейки, где в рабочее время он наручные часы держит, и протянул мне:
– Проколи, а то болит.
Я начал объяснять, что так нельзя – мы ж тут в пыли, в грязи, без антисептиков; нужна дезинфекция.
– А где я тебе тут дезинфекцию возьму?
В кино показывали, что над огнём обеззараживают.
Он подержал кончик булавки над зажжённой спичкой.
Результат меня не утешил – остриё покрылось чёрной копотью.
Гриня критически осмотрел булавку, отёр её о рукав телогрейки в многомесячной кирпичной и прочей пыли и протянул мне:
– На! Коли!
А куда денешься? Человек столько усилий затратил на дезинфекцию.
Микола Хижняк явился в Конотоп как те тёмноволосые и кудрявые герои французских романов, что приезжают в Париж с парой су в кармане и честолюбивыми планами покорить столицу.
Правда, у него была троячка и, вместо шляпы с пером, кепка, которая не спасала в тридцатиградусный мороз той ночи.
Он не стал капитаном мушкетёров, но он единственный известный мне каменщик шестого разряда.
У него есть квартира и мотоцикл «Урал» без коляски, и жена Катерина, которую, если ночью не спится, можно притянуть зá уши.
Ещё Микола Хижняк восполняет мне знания недополученные в вузе.
При обучении на англофаке НГПИ, я так и не смог себя заставить прочесть ни одного произведения Томаса Харди, хотя он был в экзаменационных билетах по зарубежке.
Какая-то у меня с ним несовместимость. Может из-за фамилии. Вот знаю, что надо, а не могу.
Как-то на плитах перекрытия Микола начал рассказывать мне длинную запутанную историю.
Я сперва подумал, что это сериал и лишь в самом конце, когда её настигла погоня, но она непробудно спала от усталости и он сказал пусть ещё поспит пока не знает, что её поймали, я понял, что это – так и не прочитанная мной «Тэсс из рода Д’Эбервилей», хотя по ходу Хижняк вплёл туда ещё какой-то билет на самолёт.
Но официально самой красивой в бригаде считалась строповщица Катерина, ей Вера Шарапова это прямо так в глаза и говорила, хотя она и сама это знала, тем более, что жена бригадира, и пусть они и не расписаны, зато у них уже сын семиклассник от её первого брака.
На голове Катерины косынка из полупрозрачного газа поверх жёлтых кудряшек, а на шее ожерелье из красных бусин. Под цвет помады на губах.
Где-то в штабелях бетонных плит перекрытия, недалеко от растворной площадки, она держит треугольный осколок толстого зеркала, чтобы смотреться в свободное от работы время.
Про себя она думает, что красива, как Анфиса из сериала «Угрюм-река», особенно когда та явилась видением, чтобы Громов со скалы метнулся.
Во всяком случае именно анфисиным жестом она зазывала меня на битый кирпич на земле, когда я клал угол четвёртого этажа, наутро после той серии:
– Иди, Прошенька! Иди сюда!
А может просто хотела проверить хватит ли у меня дури.
Ведь ясно же, что «того» – даже от живой порнухи отвернулся.
Тогда две парочки захотели заняться сексом на лоне природы и вышли за город из Семи Ветров, метров, так, за триста, отгородившись от шоссе полосой кустарника вдоль него же.
Пылая страстью, они не учли наш объект, и нашу бригаду, где все отложили инструменты и обменивались комментариями по ходу акта, как римляне на трибунах Колизея, когда тот ещё не требовал капитального ремонта.
( … в эпоху застоя ещё не знали что такое тотализатор, потому и не делали ставок – какая из пар финиширует первой …)
До чего всё относительно в этом мире! Приходишь первым, а Анна Андреевна, унасестившись на держаке лопаты брошенном поперёк железного ящика с раствором, говорит:
– Тю! Ото и всё?
Только тот, который «того», отвернулся, сел за поддон и смотрел в обратном направлении, на дальнюю группу берёз посреди строительных угодий, высоких как деревья в африканской саванне.
Нормальные так не поступают.
Пётр Кирпа до женитьбы жил вдвоём с матерью и зимой регулярно хвалился, что поутру выходит в коридор, ломает кружкой лёд в ведре и пьёт холодную воду – аж в зубы заходит.
В нашей бригаде он нравился мне меньше всех, но именно он помог мне доказать всем и, в первую очередь себе, что я настоящий каменщик.
Это случилось намного позднее, когда в бригаду влилась свежая кровь из двух девушек окончивших ПТУ где-то на Западной Украине и десантника Вовки.
На тот момент мы подняли половину второго этажа механического корпуса напротив столовой локомотивных бригад.
При высоте стены свыше полутора метров кладка ведётся со столов-риштовок. Между мной и Кирпой было два таких стола, значит метров пятнадцать.
Он захотел покрасоваться перед парой девушек в свежих ещё телогрейках, которые смешно так выговаривали «йой!» вот и крикнул:
– Держи, Серёга!
И метнул в мою сторону кирочку поверх разделяющих нас поддонов и ящиков.
Та летела, как томагавк, крутясь рукоятью.
Я ничего не рассчитывал и не прикидывал. Я просто сделал шаг навстречу и поднял правую руку. Едва рукоять коснулась ладони, мне оставалось лишь сжать пальцы.
Всё получилось само собой.
Увидев, что я не нырнул за кирпичи, чтоб уклонится от броска, а стою и держу кирочку в гордо поднятой руке, Кирпа сразу сменил пластинку и сказал притихшим вдруг девушкам:
– Вот такие каменщики у нас в бригаде!
Так что мне есть чем гордиться в своей жизни.
Кроме куколки с пищиком я собрал тебе целый подарочный набор ко дню рождения.
Такие чёрные пластмассовые фиговинки, которые электрики вставляют в распределительные коробки. Они похожи на черепашек-ниндзя, хотя до создания этого мультика оставалось ещё лет двадцать с гаком.
Сходство с черепашками сразу видно, а что они ниндзи я тогда ещё не знал.
Кроме них ещё белые керамические шашечки. Всех по две штуки.
( … это, типа, солдат на передовой собирает подарок из латунных стреляных гильз.
Впрочем, наша бригада и была на передовой обжитого мира.
Подарки с края ойкумены …)
Но из Универмага я тоже прикупил пару пупсиков; они не пищали: потому что пластмассовые, но вносили разнообразие.
В конце концов, не война же.
Для меня важно было попасть в Нежин в неурочное время, когда никто не ожидает, чтобы не испортили праздника.
Электричку из Конотопа, да ещё в день твоего рождения, как пить дать, превентивно встретят чёрно-белой шахматкой, тернýтся плечом и – готово.
Лучше зайти с тыла и когда не ждут.
Для этой цели идеально подходил автобус Харьков-Чернигов, но через Конотоп он проходит в пол-шестого, поэтому, чтобы не проспать, я в ту ночь вообще не ложился.
Гулял по Конотопу; туда-сюда.
Когда я проходил вдоль бетонной стены мясокомбината, у них там по верхней галерее скот на убой гнали.
Какими человеческими голосами они там вопят! Хуже, чем в «Западном коридоре».
И ведь всё абсолютно понимают – куда их гонят и зачем.
Около полуночи я оказался на Кандыбино и решил искупаться.
Снял с себя всё.
А кто видит? Тёмные кусты смородины, или звёзды с луной? Так они и не такого насмотрелись.
И зашёл в воду.
А воздух вокруг аж дрожит от лягушиных стонов.
Одна штукатурша, пожилая уже, но с длинными тугими косами, рассказывала, что когда она в селе хотела покончить с собой, такая же ночь была и всё вокруг шумело-гудело:
– Иди! Иди! Вот он пруд! Иди же!
Но у меня голосов не было, одни только лягушки.
А потом я поплыл навстречу луне. Она как раз над рыбными озёрами всходила и не успела ещё уменьшится.
Огромная полная луна.
Я плыл «по-морскому», беззвучно, но всё равно гнал перед собой волны. Такие ровные-ровные, как те линии нарисованные на платочке с парусником. Только они там синие на белом фоне, а тут серебристые на чёрной тьме.
Так и плыл, как по волнам эфира, пока не начали цепляться за ноги прибрежные водоросли.
Жутковато стало, русалки всякие в голову лезут и я поплыл обратно, но уже на спине, чтобы всё время на луну смотреть.
Волосы после купания у меня остались мокрыми и на железнодорожный вокзал я пошёл обходным путём, чтобы высохнуть по дороге.
На вокзале с каждой стороны часы есть, да ещё и во внутренних залах висят.
А у меня часов нет, если какие одену на руку, они через день-два останавливаются, или врать начинают – неси в ремонт, или новые покупай.
По пути я вспомнил того несчастного из сказок тысячи и одной ночи, что постоянно плакал и рвал одежду у себя на груди.
Он любил прекрасную волшебницу, а она его, но предупредила, что одну из дверей в её дворце ни в коем случае не открывать. А он открыл; из чистого любопытства; и оказался в другом измерении, где только песок и камни и никакой дороги назад. Вот ему только и осталось, что плакать да бить себя в грудь.
Года за два перед этим мы с Ирой на Десну поехали. Вдвоём, только я и она. Тебя Гаина Михайловна держала.
Туда – утренним черниговским автобусом.
А обратно? Ну, что-нибудь подвернётся…
Когда я через окно Десну вдали увидел, то попросил водителя остановить автобус и мы сошли на шоссе. Потом пошли через поле.
На другом, соседнем поле бабы в белых платках сгребали сено в копны, издали и не разобрать в каком ты столетии.
Потом я перенёс Иру через протоку на длинную песчаную косу заросшую широкими зелёными листьями, мимо которой текла Десна.
Мы постелили одеяло поверх листьев и провели там весь день.
Когда мне нужно было помочиться, я переплыл на другой берег: Десна там не слишком широкá.
Ира строго-настрого меня предупреждала не замочить голову. Я это помнил, но всё равно с того, крутого, берега нырнул головой в реку.
А теперь вот только и осталось плакать да рвать на груди эту летнюю рубашку из ацетатного шёлка.
Остаток ночи я просидел на площади перед первым перроном. Скамейки там не очень удобные – без спинок.
На одной из них я и встречал редкие ночные поезда, вместе с тележками дежурных из багажного отделения, куда работники почтовых вагонов выбрасывают коробки и тюки посылок .
И провожал оттуда же группки зябко зевающих пассажиров. Счастливого пути.
Когда в чёрной коробке часов на фронтоне вокзала засветилось 05:00, я пошёл в зал ожидания – забрать подарки тебе из ячейки автоматической камеры хранения, а оттуда на автовокзал.
Это близко – почти сразу за парком Лунатика.
Тот автобус в Нежин не заезжает, но от поворота шоссе, где здание поста ГАИ, мне опять что-то подвернулось, так что часов в девять с чем-то я уже был в Нежине. В то время, когда конотопская электричка ещё только к Бахмачу подъезжает.
Но я не собирался стать снегом на голову, поэтому позвонил Ире на работу по телефону-автомату.
Какой у неё красивый голос! Такой родной и близкий.
Я сказал, что хочу повидать тебя и отдать подарок и она ответила, что, да, конечно, что ты дома с её мамой.
Я пошёл на Красных партизан очень радостный, потому что Ира по телефону звучала совсем дружелюбно и даже как-то обрадованно.
Дверь не открылась, только дверной глазок затемнился и опять просветлел.
Я позвонил ещё раз, но покороче и услышал осторожно уходящие шаги из прихожей. Ещё я услышал, как ты о чём-то жалобно спрашиваешь в дверях гостиной и как тебя шёпотом зашикивает бабушка.
Если у человека голоса, они ему что-нибудь да говорят; никаких слов я разобрать не мог, но отчётливо видел сквозь дверь тебя, четырёхлетнего ребёнка, тревожно задравшую голову вверх к бабушке – кто там? Серый Волк? плохой дядя? – и видел мать Иры в халате и шестимесячной завивке с прижатым к губам пальцем:
– Тшш!
Я не из тех, кто ломится в запертую дверь и не хотел пугать тебя дальше.
Я позвонил в дверь напротив и мне открыли.
Там жили преподаватели НГПИ. Гроза-муж, он читал научный коммунизм, и Гроза-жена, которая преподавала у меня немецкий на каком-то курсе.
Я оставил коробку с подарками Грозам и попросил передать тебе лично в руки.
В Конотоп можно и электричкой возвращаться.
Какая разница? И всего 1 руб. 10 коп.
( … попытка жить праведной жизнью вызывает в человеке вредную привычку.
Но то, чтобы пагубную, но бессмысленную – втягиваешься в это дело …)
После окончательного да ещё и ритуально закреплённого разрыва с Ирой, возвращение «Крёстного отца», последней из украденных мною книг, не имело никакого смысла, но было поздно – втянулся.
А залежалась она у меня потому, что я не знал куда распределился Витя Кононевич, но тут вдруг стороной прослышал, что книгу Вите дал вовсе не Жора, а Саша Нестерук, настоящий её владелец. Пришлось снова ехать в Нежин.
Когда я пришёл по адресу, что дал мне Вася Кропин, то Саши там не оказалось, а проживала молодая супружеская пара без детей, которые недавно въехали.
Муж ходил в белой майке, жена в халате и по всему дому пахло жирной копчёной селёдкой.
Чего ещё надо для счастья? Квартира, молодая женщина в любое время суток.
Я отказался от адреса их квартирной хозяйки, которая, возможно, знает куда переехал Саша Нестерук. Прекратив поиск, я уехал обратно в Конотоп.
Мне вспомнилось, что Игорь Рекун на последнем курсе крепко сдружился с Нестеруком – отдам Игорьку, пусть он и передаст, а то как-то поднадоело праведничать.
В электричке меня впервые посетила мысль – а может оно всё так и надо?..
Своя женщина, конечно, хороша, как ни крути; но почему же я не завидую молодому квартиранту?
И почему меня разбирает смех как вспомню селёдку под майкой?
Мама Игоря сказала, что его дома нет и что он работает в здании горкома партии на первом этаже.
Здание горкома партии это на Миру, позади серого памятника Ленина, там где когда-то стояла вышка городской телестудии до того, как её демонтировали.
На входе в горком я назвал милиционеру номер комнаты и кто мне там нужен, он меня пропустил.
Комната оказалась пустой, но стоило мне лишь подойти к окну, Игорёк враз нарисовался. Видно не хотел, чтобы я видел то, что увидел.
Он ничуть не изменился. Всё те же стёкла чайного цвета в золотистой оправе и та же улыбочка на остром лице. Только уже снисходительная.
Понятное дело! Человек стал на рельсы широкой дороги в светлое будущее.
«Крестному отцу» он почти не удивился и обещал передать Саше Нестеруку.
Наверное, приятно чувствовать себя выше того, кому при поступлении в НГПИ «выкал», потому что тот после армии, а тебе всего месяц как аттестат зрелости выдали. Зато теперь он пашет на стройке, а у тебя кабинет в горкоме партии, хотя пока что с кем-то на двоих.
И больше никогда мы не встречались с Игорьком, но я успел посмотреть из окна его стартовой комнаты и увидеть потресканый асфальт отмостки под стеной, выжженный газончик и фасадную штукатурку «шуба» на глухой стене напротив под укрывистой серой побелкой; а больше – ничего.
До каких бы высот он не поднялся в своей будущей карьере, ему никогда не увидеть ту группу берёз среди строительных угодий На Семи Ветрах, что так смахивают на высокие деревья в летнем мареве африканских саванн.
Даже если и показать – не увидит.
И всё-таки меня неотступно томила надежда – голос Иры при разговоре со мной по телефону звучал так радостно. Что если?..
И она не виновата, что тёща решила выставить меня перед тобой озверелым двереломом. Та наверняка даже и не посоветовалась с Ирой, у которой голос был как у моей Иры…
Чтобы удостоверить эти упованья, я поехал на Мир, на переговорный пункт Междугородней телефонной связи рядом с Главпочтамтом.
Стеклянная дверь и витринные стены отделили от шума трамваев и площадной суеты перед Универмагом.
Женщина за длинным прилавком со стеклянным барьерчиком записала в квитанцию город и номер телефона, по которому звоню.
Я заплатил.
Она сняла свой телефон и кому-то сказала, чтобы дали Нежин, 4-59-83.
Я сунул квитанцию в задний карман джинсов и стал ещё одним из немногочисленных ожидающих.
Когда где-то в другом городе кто-то подымал трубку телефона с заказанным номером, ему говорили, что на связи Конотоп, а в зале переговорного пункта чёрный динамик кричал женским голосом в какую кабинку зайти для разговора с тем городом.
В указанной кабинке за стеклом в верхней половине двери вспыхивала электрическая лампочка, заливая жёлтым светом тесные стены из прессованных листов ДСП.
Ожидавший заходил в назначенный отсек с телефоном на маленькой полочке в углу рядом с обтянутым малиновым плюшем сиденьем высокого табурета.
Не знаю мягкое оно, или жёсткое – я никогда не садился.
– Алма-Ата! Номер не отвечает! Что будете делать?
– Повторите!
В динамике слышались отголоски долгих гудков телефона в далёкой Алма-Ате.
– Петрозаводск! Двенадцатая кабина!
Кто чтó говорит в узкой кабинке из зала не разобрать, если только не начинает орать из-за плохой связи.
– Алма-Ата! Номер не отвечает!
– Снимайте!
Недождавшийся возвращает квитанцию, а ему его деньги.
– Нежин на линии!
Я захожу в кабинку и отворачиваюсь спиной к залу за стеклом в верхней половине её двери.
Очень трудно говорить, когда так трепыхается сердце.
– Позовите Иру, пожалуйста.
– Кто говорит?
– Сергей Огольцов.
– Сейчас…
– Да.
И трепыханье враз унялось, стиснутое повеявшим из её голоса дыханьем вечной мерзлоты.
Я здороваюсь, что-то говорю, но слышу, что мне не пробиться сквозь намертво схватившийся лёд.
– Слушай, я ничего не прошу, но девочке нужен отец.
– Можешь не беспокоиться, у неё уже есть отец.
– Да?.. Это… хорошо…
Разговор окончен.
Я ухожу с переговорного, но в стеклянной клетке входного тамбура оглядываюсь на кабинку, где уже погас свет и говорю сам себе:
– Смотри, номер семь. Седьмой номер – это где тебя распинают…
Где Великобритания, а где Конотоп; но – поди ж ты! – из-за неё, а точнее из-за её коммунистов, а совсем в точку из-за их газеты «Morning Star», я тем летом не попал на свадьбу своей сестры Наташи.
Ведь, если внимательно вдуматься, именно «Morning Star» виновата в моём повторном попадании в дурдом.
( … при ежедневном чтении новостей, бывших две недели назад новостями в туманном Альбионе, начинаешь сопереживать лейбористскому движению, а имена Майкла Фута и Тони Бенна уже не настолько пустой звук, как фамилии Суслов, или Подгорный, или кто там ещё в этом Политбюро ЦК КПСС.
Глава британского правительства, Маргарет Тэтчер, перестаёт быть «дорогая госпожа Маргарет Тэтчер!», а становится той железной сучкой, что за пару занюханных свитеров заморила голодной смертью двадцать девять ирландских парней.
То есть, происходит сдвиг в сторону неадекватного восприятия окружающих реалий.
Начинаешь вести себя как шахтёр из графства Кент, или работник коммунального хозяйства города Манчестер.
Конечно, я мог бы сослаться на недостаточную информированность – ведь я жил в эпоху застоя, о том не догадываясь. Однако, это слабое оправдание, потому что в одинаково недогадливых условиях жил и тот работник КГБ, которому поступил звонок из СМП-615 …)
В разгар лета, когда на полях страны идёт страда развернувшейся битвы за урожай, когда шахтёры Кузбасса обещают в текущем году выдать на-горá миллионную тонну чёрного золота, когда он, этот работник КГБ, до сих пор всё ещё не решил – ехать ли в субботу на дачу в Жолдаки, или всё же махнуть на Десну, откуда вторую неделю мужики возвращаются с хорошим уловом…
Звонок.
ЧП.
В СМП-615 забастовка и сидячая демонстрация.
Сколько человек?
Один.
Где конкретно?
На крыльце административно-бытового корпуса.
– Ничего не предпринимайте до приезда сотрудников.
Да, я сидел на широком бетонном двуступенчатом крыльце двухэтажного административно-бытового корпуса.
Да, это была забастовка, потому что в десять утра, вместо того чтобы звенеть кельмой и мантулить кирпич на кирпич, я переоделся в вагончике На Семи Ветрах и заявился на базу.
Да, забастовка была сидячей и, чтобы сидеть было удобнее, я взял деревянный стул в сторожке на проходной и притащил его на крыльцо административно-бытового корпуса.
Шёл классически летний день, в синем небе над производственным корпусом неподвижно висел громадный клуб одиночного плотно-белого облака. По высокой железнодорожной насыпи позади растворного узла с торопливым перестуком пролетали скорые поезда, увесисто погромыхивали составы товарняков.
Шёл трудовой день и только я ничего не делал, а парился в этой рубашке из голубого ацетатного шёлка – он такая же хрень, как и нейлон, просто чуть мягче.
Я сидел сбоку от входа, чтобы не загораживать дорогу изредка проходящим работникам СМП-615.
Двум слесарям, мужьям Лиды и Виты из нашей бригады, когда те спросили, чё это я тут, а не на работе, я без объяснений указал на доску трудовых показателей за месяц с покрытием из коричневого линолеума, поставленную на том же крыльце, но с другой стороны от входа.
А главный механик и сам догадался прочитать.
Вообще-то, эта доска пожизненно висела в вестибюле, рядом с окошечком кассы, храня девственную чистоту своего линолеума, хотя на её рамочке сверху лежал кусок мела.
Сегодня пробил её звёздный час и вот она тут – покрытая напыщенным почерком, по которому без всякой графологии можно распознать графомана:
Наш профсоюзный босс – лгун! Слаушевского – к ногтю!
Я знаю, что случись такое где-нибудь в Англии, возле этой доски уже сфотографировались бы молодые представители от обеих фракций партии лейбористов, а репортёры всё той же «Morning Star» уже брали бы у меня интервью – за что такая нетерпимость к профсоюзному лидеру?
До сегодняшнего утра я тоже питал к нему только симпатии.
У бригадира плотников, Анатолия Слаушевского, приятная внешность под стрижкой молочно-седых волос. В Голливуде он запросто сделал бы карьеру снимаясь в роли благородного шерифа в различных вестернах.
Но и у нас благородный вид в цене и Слаушевского год за годом избирают в председатели профкома СМП-615. Эта должность, считай что, не оплачивается, так что он тоже живёт на одну зарплату.
Как и все.
И он думал, что я его пойму, как все, когда он мне сегодня утром на объекте сообщил:
– Не будет дела.
– Как не будет?
– А вот так – не будет дела.
Разве мог он предположить, что его за это белым по коричневому обзовут «боссом» и потребуют ногтевой расправы?
Симпатии – вещь недолговечная. Месяц назад я его обнять был готов, когда он мне сказал про путёвку в пионерлагерь «Артек».
Конечно – хочу! Всё своё пионерское детство я мечтал побывать в солнечном «Артеке» на побережье Крыма. Теперь, понятное дело, по возрасту я уже не вписываюсь, но Леночка будет рада поехать на Чёрное море.
На самом деле, Леночка немного испугалась и начала спрашивать бабушку, но та сказала, что «Артек» – это очень хорошо. И Леночка уже прошла всех врачей медицинской комиссии из детской поликлиники, и даже выбрала какой возьмёт с собою чемодан с вещами для «Артека».
– Не будет дела.
Месяц назад Слаушевский ещё не знал, что кто-то ещё догадается, что «Артек» – это хорошо, потому-то и предложил путёвку мне, за счёт профсоюза.
И не важно, что догадливый из другой организации, и не важно кто из начальства СМП-615 похвастал тому другому про эту путёвку; в любом случае, тамошняя его должность повыше, чем у каменщика.
– Не будет дела.
Если живёшь на одну зарплату – должен быть понятливым.
Как все.
Пришмыгни носом, почеши в затылке, выматерись, наконец, и иди паши дальше.
Зачем на Слаушевского бочку катить? Он тоже – как все.
Мне известно, как всё это обернулось бы в Англии, но я не знаю что будет дальше здесь. Поэтому у меня роль созерцателя в ацетатных шелках – придётся расстегнуть пару пуговиц, а то слишком жарко.
Из-за бело-кирпичного угла административно-бытового корпуса по дорожному покрытию из мягчайше мельчайшей пыли медленно въехала белая «волга», сделала круг разворота и остановилась возле крыльца – носом туда, откуда приехала.
Водитель вышел, оставив на заднем сиденьи двух пассажиров, взошёл на крыльцо, ознакомился с двумя строками на линолеумной доске месячных трудовых показателей и, не взглянув на меня, прошёл внутрь.
Он быстро вернулся, сел в машину; а те двое здоровяков вышли из неё и подошли ко мне.
– Пойдём.
– Куда?
– Там узнаешь.
Неудобно разговаривать задирая голову в обе стороны. Я встал и положил руку на спинку стула:
– Ну, хоть стул отнесу.
– Без тебя уберут.
И каждый из них уже ухватил двумя руками мой бицепс – кому за какой ближе.
Аккуратно и медленно, они повели меня к «волге».
Вдалеке, в тени распахнутого входа в производственный корпус – наблюдающая группа из двух слесарей и одного сварщика.
Картина Репина «Арест пропагандиста».
Архангел слева, видя моё непротивленство, ослабил хватку; он уже, типа, просто гуляет держа меня под руку.
Я кричу водителю:
– Этот левый сачкует!
Хватки уравновешиваются и мы втроём садимся на заднее сиденье; я в центре, как король на именинах.
Пока Свайциха открывал ворота проходной – первый раз в жизни запертые в дневное время – я покричал ей, чтоб забрала с крыльца стул, взятый мною отсюда.
И меня повезли в Конотоп.
После какой-то ещё проходной мне сказали пересесть в УАЗик с глухим фургоном, туда же поднялся один сопровождающий и УАЗик тронулся.
Вскоре мы опять остановились. Через окошко в кабину водителя и его лобовое стекло виднелись тополя возле Городского Медицинского Центра.
Мы долго ждали, потом задняя дверь распахнулась. На тротуаре стоял психиатр Тарасенко.
– Да, это – он.
После этих его слов дверь снова захлопнулась и меня повезли в Ромны.
Без какой-либо добровольности с моей стороны.
То, как ты выглядишь, напрямую зависит от того насколько хорошо относится к тебе зеркало, в которое ты смотришься.
Я не раз замечал это; в одном – я шикарен! В другом: и этот упырь – я?!
Самое влюблённое в меня зеркало стоит в трюмо пятого отделения областной психиатрической больницы в городе Ромны.
Оно мне показало насколько, всё-таки, я красивый мужчина. Причём без всякой кинематографической слащавости – красив.
В те три месяца в Одессе я смахивал на актёра Конкина, или его под меня загримировали для съёмок в «Место встречи изменить нельзя», не суть важно; главное, что тут, из этого трюмо, на меня смотрит, непривычный для стереотипных эталонов, красавец кисти Тициана.
Красная пижама с жёлтенькими полосками; шатен с мягкими, чуть подсветлёнными солнцем волосами, но главное достоинство – цвет глаз.
Небывалый цвет, невиданный – цвет плавящегося мёда.
И пусть капитан Писак, составляя мой словесный портрет перед строем первой роты говорил:
– Вы на глаза ему гляньте! Глаза-то – рысьи!
Но нет, капитан, трюмо врать не станет – хорош!
Жаль, что кроме меня никто меня не видит.
В холле пусто, и в отделении тихо; десяток больных в палате наблюдения, а остальные весь световой день – с перерывом на обед – проводят на Площадке.
Ведь это ж – лето!
Когда на экспериментальном участке ремонтного цеха завода КПВРЗ мы, в конце рабочего дня, дожидались пока истекут самые тягучие последние полчаса и, опёршись спиной о тиски, болтали о том, о сём, а вобщем-то ни о чём, то некоторые молодые слесаря говорили, что неплохо бы опять попасть на службу в армию, но только вот теперь, когда уже знаешь что к чему; ну, и не на полные два года, а скажем, недели нá две, или, там, на месяц.
Мне, тогдашнему допризывнику, такие разговоры казались неубедительными, а теперь соглашусь – одно и то же явление выглядит по-разному; при первом взгляде округлённо недоумевающих глаз оно выглядит таким, а когда посмотреть с высоты накопленного опыта, то, довольно-таки, эдаким.
А один месяц – это фигня. В дурдом не закрывают меньше, чем на сорок пять дней.
Сорок пять дней – это половина сезона; половина лета, половина весны, или когда там тебя прихватят.
Как завсегдатай пятого отделения, я уже знал эти и некоторые другие нюансы, однако, летом тут ещё не бывал.
На меня, как на примелькавшегося рецидивиста, уже не стали тратить дорогостоящее средство инсулин. На этот раз меня тут не лечили – меня наказывали аминазином.
Три экзекуции в день умножить на сорок пять.
Я знал во что они превратят мой зад через полсезона.
И, как более дешёвого больного, меня поместили в более обширную палату – номер восемь.
Чем больше больных ночует вокруг, тем больше шансов выслушивать их вопли от ночных кошмаров, или становиться свидетелем разборок под светом неумолимых ламп.
( … у всякого лета имеются свои минусы и, в первую очередь – наплыв.
Любой житель любого курортного города согласится – как понаедут, то уровень жизни резко падает …)
Летом пятое отделение обслуживает, в среднем, на сорок больных больше, чем в остальные сезоны. Чтобы всем было место где спать, в восьмой, например, палате на двух поставленных бок о бок койках укладывались от трёх до четырёх ночующих; кому как повезёт.
В те полсезона мне везло и так, и эдак.
Зато имелось громадное «зато!» – лето снимало проблему помытого, и потому запертого, туалета, ведь мы весь день проводили на Площадке.
Площадка – это квадрат 40 на 40 метров.
Три стороны его периметра, включая ту, в которой калитка, состоят из толстых серых некрашеных досок, вертикально прибитых одна рядом с другой, высотою 2,2 м.
Четвёртая сторона затянута крупной железной сеткой, на высоту 2 метра от земли.
Вдоль части забора лежащей в основании квадрата стоит тридцатиметровый навес – двускатная крыша из ржавой жести с опорой на столбики из красного кирпича.
Под навесом – навал поломанных железных коек и тут же две пока ещё живые, на каждую брошено суконное одеяло, на них по очереди, животом вниз, ложатся больные, когда принесены шприцы дневных уколов.
Пара полуржавых кресел, в клочьях подранного дерматина, приткнуты для надёжности в кирпичные столбики опор – они для медбратьев.
В дальнем конце навеса, ближе к сетке, две-три фанерные скамеечки с неудобными как у школьных парт спинками.
У противоположного забора, являющегося вершиной квадрата, в землю вкопаны бревенчатые столбики с прибитыми поверху заборными досками, образуя пунктир из трёх последовательных лавок.
Точно такие же места для сидения оборудованы вдоль третьего забора —боковины квадрата, в которой сделана калитка.
Возле четвёртой стороны – железной сетки – сидеть не на чем, зато неподалёку от неё, в правом верхнем углу Площадки, стоит туалет типа «сортир» – будка из трёх ржавых стенок и такого же куска жести на крыше.
Дверь отсутствует для удобства надзирающих медбратьев, чтобы больные не кончали там с собой и лишнего себе не позволяли.
Пол у Площадки – это плотно утоптанный грунт с примесью глины и слоем пыли вытоптанной из него.
И всё?
Нет!
Есть ещё целых два «зато!» – зелень не вытоптанной травы по ту сторону сетки и – летнее небо с белыми облаками поверх всех и вся.
Солнце всходило из-за высокой крыши пятого отделения и тень отброшенная крышей начинала неприметное поступательное движение от железной сетки к противоположному забору из досок.
Пока нас водили на обед, тень переваливала через забор и мы её уже не заставали, а солнце всё так же неуклонно двигалось дальше – к стройке одноэтажного корпуса, метров за шесть от железной сетки, и ещё дальше, пока не скроется совсем, а чётко очерченная вечерняя тень начнёт всползать на стену пятого отделения, аж до самой крыши, где и смешается с густыми сумерками, а значит сейчас поведут в отделение на ужин и ночёвку.
После того, конечно, как все мы вымоем ноги на площадке первого этажа.
Все 120 человек, по очереди, друг за другом, вступят в один и тот же жестяный таз, на выходе из которого пара полудурков, преклонив колени, будут отирать всем ноги, по очереди, одной и той же парой вафельных полотенец.
В этом есть что-то библейское.
Знакомых лиц я встретил штук десять.
Цыба в первый же вечер поспешно подошёл по коридору, мельком взглянул и отвернулся:
– Э! Уже не тот!
И больше он не пожелал со мной общаться.
Саша, который знал моего брата Сашу, так и оставался с обритой головой, но постоянно спал.
Когда мы утром с радостными воплями вливались сквозь калитку на Площадку, он враз заваливался на койку для уколов и лишь к середине дня сонно уделял часть её для укладки, по очереди, на живот, тех, на кого принесли шприцы для экзекуции.
С приходом на Площадку первые час-полтора, покуда солнце не выжарит прохладу утра, я валялся на одной из лавок у дальнего от навеса забора.
Позади него находится Площадка четвёртого отделения, где визг и вой тоже не хуже нашего.
Иногда у меня над головой возникал кто-то из слегка прибабахнутых и начинал бухтеть, что несправедливо занимать одному столько места.
Приходилось спускать ноги и садиться, потому что я не мог послать его на три лавки у забора с калиткой – там территория достигших полного освобождения гимнософистов.
Они общались воплями, варясь в собственном соку свободной жизни, не замечая, что многажды сожжённая солнцем кожа их голых тел потрескалась до крови.
Вот лидер сообщества, в котором никому ни до кого нет дела, наскучив монотонностью своего качанья взад-вперёд в сидячей позе, с криком Тарзана срывается на пару метров вглубь Площадки, чтобы вернуться вспять, на лавку, и качаться дальше.
Попутно он одним пинком заваливает такого же керамически обожжённого философа, сидящего на корточках, чтоб ближе быть к земле и чертить в пыли пальцем, цепляясь локтем за свои же яйца.
– Noli turbare circulos meos!
В другой раз он одним ударом сшибёт с лавки голого соседа, но тот даже не заметит этого, сосредоточенно покручивая в руке невесть откуда взявшийся кусочек надломленного прутика сантиметров шестнадцати.
Медбратья не вмешиваются в течение событий на лавках самоуглубившихся, покуда вой и визг на их свободных территориях не начнёт зашкаливать. Тогда, с помощью кого-нибудь из чокнутых, или полудурков, они вытаскивают совсем разбушевавшегося с лавок и фиксируют, распиная на второй койке под навесом.
Жара и меня под него загоняла и я садился на одну из фанерных скамеечек, которые все игнорировали из-за их неудобства.
Действительно, высидеть целый день на одной плоскости тяжело – под вечер не знаешь на какую ягодицу перевалиться.
Сама Площадка пребывала в постоянном движении: туда-сюда, кругами – куда? зачем?
У забора позади лавок, на которых я валялся утром, сменяются спины больных прикипевших к щелям между толстых досок.
Кто-то хихикает, кто-то подзывает друга, кто-то дрочит в штанах, потому что четвёртое отделение, находясь на одном с нами уровне умственного развития, всё-таки больные противоположного пола и среди них тоже имеются абсолютно свободные, в чём мать родила.
Это всего лишь моё предположения, потому что сам я к тому забору не подходил и видел всего одну.
Черноволосая, худая, лет за тридцать, она по пояс высунулась поверх досок и балетно плавным движением руки бросила большой цветок в пыль под топочущими ногами наших.
Полудурки затеяли свалку вокруг цветка, а её сдёрнули с той стороны обратно, но грудь была красивой формы.
Трижды в день, чтобы размять запухшие от уколов ягодицы, я покидал тень навеса и ходил по Площадке широкими кругами. При этом я наизусть воссоздавал в уме строчки «Романа в картинках», который зародился у меня ещё на воле, но окончательно оформился уже тут.
Общий объём его составляет около страницы текста и мне важно было не утерять ни одной запятой и не допустить подмены слов в предложениях, ведь ни карандаша, ни бумаги у меня на этот раз с собой не было.
Однажды, чересчур углубившись в пунктуацию ненаписанных строк, я переступил невидимую черту вдоль лавок абсолютно свободных и два-три удара по корпусу и в голову вернули меня в окружающую действительность.
Я не мог позволить этой действительности поломать мою систему выживания в пустоте.
Поэтому по воскресеньям я отправлялся на пляж.
Я вытаскивал две фанерные скамейки к железной сетке – подальше от свободных, и целый день принимал солнечные ванны, с перерывом на обед и когда покличут идти получать свой шприц в задницу.
Так я лежал там целый день с закрытыми глазами под жарким солнцем, а окружающий шумовой фон в точности воссоздавал вопли и визги переполненного летнего пляжа.
При поступлении в пятую палату, вместо трусов мне выдали длинные кальсоны с завязками, которые невозможно закатать выше колен. На пляже я снимал их, а свои чресла обматывал майкой.
В одно из воскресений дежурила заведующая и до глубины души вознегодовала на фривольность моего костюма:
– И это человек с высшим образованием!
Как она вычислила, что под майкой нет ничего кроме голого меня?
Ей помогла детская считалочка про "А и Б": если пижама под головой, а измазанные сукровицей кальсоны на спинке скамейки – что осталось на трубе после гульфика?
Через день после её оглашения о моём подмоченном вузом прошлом, ко мне подошёл Таратун, из новой волны больных.
Он пригласил меня посотрудничать в деле создания ядерной бомбы, где у них уже есть хорошая рабочая группа.
Я отказался под предлогом, что опять придётся расщеплять эти долбанные ядра – ну, их, не хочу!
Больше он не подходил.
Среди медбратьев тоже появились новенькие – один мужик невысокого роста с красивой шевелюрой из мелко кудрявых рыжих волос и перебитой правой ногой. Или она короче оказалась, но он сильно на неё припадал.
Другой – стройный черноволосый юноша в безукоризненно белом халате.
Он там единственный называл меня на «вы» и собирался поступать в какой-то медицинский институт в Ленинграде. А пока что делал мне уколы поверх спущенных штанов и кальсонов и сочувственно приговаривал, что просто места уже не осталось куда колоть – потому и кровит.
Однажды вечером, когда мы с гиканьем вернулись с Площадки, тот голый обожжённый солнцем качок – весь потный и облипший пылью, прижался к двери «манипуляционный кабинет» в холле перед палатой наблюдения.
Юноша-медбрат, дабы не пачкать белоснежность своего халата, отогнал его прочь высокими пинками чёрных начищенных туфлей.
– Вы представляете? Теперь дверь придётся мыть.
Мне в тот момент показалось, что я понимаю голого качка – прижаться истёрзанным зноем телом к такой чистой, источающей прохладу двери; пусть хоть и заперта…
У Герберта Уэльса есть роман – «Когда спящий проснётся».
Спящий бритоголовый Саша проснулся на койке под навесом и, не открывая глаз, сказал:
– До чего смешная фамилия – Таратун.
Секунду спустя на Площадке раздались крики медбрата.
Я повернул голову: звякнув сеткой, Таратун преодолел её двухметровую высоту и – был таков.
Медбрат, припадая на правую ногу подбежал следом, но – куда ему! Даже и пытаться не стал.
Он отдал свой халат другому медбрату и ушёл. Вскоре появился медбрат ему на подмену.
Площадка пребывала в возбуждении до самого вечера, даже дрочить перестали.
Перед помывкой ног явился колченогий рыжий – довольный, как слон; он поймал этого падлу!
Мы поднялись в отделение и заглянули в шестую палату, где Таратун уже лежал на койке прификсированный и умиротворённый полученным уколом серы.
Он затягивался сигаретным дымом из бычка, который кто-то из полудурков держал перед его губами и негромко повествовал.
Он убежал на окраину города и затаился в кустах глубокого оврага; его никто не видел, там вообще и хат нет. Как этот рыжий падла его нашёл?
( … а меня снедáла грусть-тоска.
То есть, они там зациклились на своей шизофрении с монографиями, а тут открываются неоглядные горизонты непостижимых человеческих возможностей.
Как спящий Саша узнал о предстоящем побеге Таратуна за несколько секунд до его совершения?
Что привело рыжего в нужный овраг и именно к тому кусту, за которым скрывался беглец?
На некоторые вопросы я так и не смогу узнать ответа.
Никогда…
А остальным до них и дела нет …)
Среди представителей новой волны, этот озабоченно исхудалый высокий черноволосый молодой человек выделялся нормальным выражением лица, но он легко возбуждался от слов.
Один раз начал мне говорить о каких-то фашистах готовых идти по трупам для достижения того, чего хотят. Я пожал плечами и сказал:
– Цель оправдывает средства.
А он решил, что это я оправдываю тех самых фашистов и очень вспылил, но меня не ударил.
Он, кстати, тоже из строителей и его забрали прямо со стройки, в восемь часов вечера.
– У вас две смены?
– Нет, мы до пяти, просто зашёл посмотреть, спланировать свою работу на завтра.
Ну, дорогой! Ты после пяти пришёл на рабочее место?
Они правы – твоё место здесь.
Ах, да! На Площадке была ещё музыка!
Её делал больной баянист своим репертуаром из двух-трёх песен: «По Дону гуляет», «Ты – лягавый, я – блатной» и… кажется всё.
Их исполнение он начинал утром, с интервалом в час, но тот всё укорачивался и к вечеру они уже шли подряд. Тем самым, он достиг совершенной виртуозности исполнения, к которому вечером добавлялось и пение, тоже без ошибок.
Этой парой песен баянист доводил Площадку до экстатично оргиастичного состояния, превращая нас к вечеру в единый организм, где каждый орган делает что ему положено.
Кто хором подпевал, кто пускался в пляс; даже абсолютно свободные в их керамическом потресканом загаре начинали визжать как-то в такт.
Я видел пожилую медсестру, поддавшись порыву общего восторга, она тоже плясала и эйкала в кругу полудурков под жёлтой лампочкой в летних сумерках.
Такая эйфория накатывала не ежедневно, но накатывала.
Потом баяниста выписали – его сорокопятидневка истекла.
Два дня нам чего-то не хватало. Но вдруг после обеда, смущённо улыбаясь он вновь появился в калитке, потому что утром одел галстук и пошёл в горисполком указывать им на их ошибки в руководстве городом Ромны.
Ваня Король был бы вполне нормальным, но фамилия довела его до мании величия и вот он среди нас, один из нас, но с монаршими замашками.
Мало ему четвёртого отделения за щелями в заборе, он – гурман. Людовик-Солнце.
Дождался, когда из строящейся одноэтажки за сеткой покажутся штукатурши в спецовках заляпанных раствором, зашёл в сортир меж трёх жестяных стенок и, поглядывая сквозь щели в жести на баб в рабочем, размашисто гоняет ладонью по члену – туда-сюда – стоя в профиль к остальной Площадке.
И это пример для подданных?
Достигнув чего хотел, он опустошённо покидает сортир.
Тем временем, одна из штукатурш взяла щётку для побелки, положила на крылечко стройки и начала подрубать топором, типа, равняет, а может и в отместку.
Мужской голос прорезал какофонию джунглей Площадки
– Доску подложи! Бетон рубишь, дура!
Она никак не ждала указаний с этой стороны, думала тут одни керамические.
Просто я не люблю, когда портят инструмент.
Наверное, это у меня фамильное.
( … пока что я лишь обозначил внешние контуры Площадки, её оболочку.
Но в чём её суть?
Какой смысл в этом хаотично бурлящем движении или забившей на всё неподвижности?
Он существует?
Безусловно.
Бульонно кипящий хаос похлёбки из сумятливых ингредиентов и недвижно залёгших на дно овощей, не что иное как срез составных и состояния рода человеческого.
Вопрос «а вкусно ли варево?» к делу не относится.
Итак, навскидку, но без промаха, внутри Площадки легко выделить нижеследующие категории:
а) нормальные, они же персонал, они же медбратья, они же падлы в белом и т. п., и т. д.;
б) «не все дома», они же «сдвиг по фазе», они же «малость тогó» и т. п., и т. д.;
в) свихнутые, они же тронутые, они же чокнутые, они же шизики и т. п., и т. д.;
г) полудурки, они же полуцвéты, они же с прибабахом, и т. п., и т. д.;
д) «совсем тогó», они же «безвозвратно свободные», они же
«невозвращенцы» и т. п., и т. д.
Для начала, нужно чётко осознать размытость и подвижность границ между вышеизложенными категориями – некоторых медбратьев от некоторых категорий отделяет лишь цвет униформы.
Во-вторых (и это важно!), пробным камнем, позволяющим проводить разграничения, является возможность утилизации данного индивидуума в интересах текущей общественной формации, которая и создаёт Площадки.
Такая формация необходимо должна быть текущей.
Теперь по порядку.
Страдающих «сдвигом по фазе» от нормальных отличает их неумение всегда и во всём быть таким же, как все. Поэтому для всех, кто как все, они – «малость тогó».
Дон-Кихот, у которого «не все дома», великолепно вписался бы в ряды нормальных в предыдущей до него формации; там бы он был как все.
Чокнутые, эти непостижимые гении, изобретают теорию вероятности, или пишут роман «Поминки по Финнигану», а потом нормальным приходится прикидываться будто смыслят хоть малейший бельмес во всём этом.
Вот за это, если ты толкаешь свои бредовые идеи не располагая соответствующим дипломом – добро пожаловать в пятое отделение.
Курорт Площадки ждёт вас!
Полудурки не в состоянии доходчиво изложить логику своих действий, однако, располагая опорно-двигательным аппаратом достаточным для перемещения тяжестей, а также способностью к репродукции, они являются становым хребтом любой формации.
Просто их время от времени надо подрихтовывать, чтоб эти санчи пансы отирали висящую с их губ слюну и не переходили бы улицу на красный.
Тарзанно ревущий «невозвращенец», достигший абсолютной свободы от условностей морали и поведения человечьей породы, запросто станет своим в семье бурых медведей, либо в утраченном переходном звене между обезьяньим и человечьим стадом, но нынешним нормальным его качества ни к чему.
Да, но зачем мы друг другу?
На кой ляд нормальным те, что «совсем тогó»?
Не будем забывать о подвижности категорий – до прихода к абсолюту, «невозвращенцы» начинали в предыдущих лигах.
И, кроме того, кое-кто из нормальных (или тех, кто коси́т под них) могут питать надежду – а вдруг те всплывут обратно из своих грубин?
Shine! Shine on! You, crazy diamond!..Не бойся! Не догонят!
Им не подняться до сияющих вершин твоей абсолютной свободы…
К какой категории отношусь я лично?
Методом исключения лишнего, неопровержимо оказываюсь «малость тогó».
Ведь нормальный не станет ржать непонятно с чего, когда один, а телевизор не включён на «Comedy Club».
К тому же я слышу голоса во сне, таить не стану.
Я сплю, а они мне читают – таким отстранённым тоном – куски прозы.
Неплохо сложенная ёмкая проза – я так не умею; смахивает на сценарии голливудовских фильмов.
Голос сменяется визуальной иллюстрацией, а при смене в сюжетной линии, он снова начинает бубнить.
Мне эти голоса не нравятся – спать мешают, но как их отключать не знаю.
В полудурки я не прохожу из-за своей брезгливости к нечистотам; физическим и прочим.
Ну, а в категорию гениев у меня IQ не хватит. Я не проверялся, но точно знаю, что не хватит.
Конечно, по ходу жизни приходится промелькивать в любых категориях, ведь я всего лишь капля в струях текущей формации.
Порой и меня выносит на стрежень, а ино – и по перекатам волочит, или в затоне прохлаждаюсь.
О чём, вобщем-то, и толкую в этом вот письме, к которому давно пора вернуться …)
Всё возвращается на круги своя и через сорок пять дней я вернулся в нашу бригаду.
Два месяца спустя ягодицы тоже вернулись в свою нормальную форму.
Тело заплывчиво.
Просто, идя по улицам Посёлка, где в пыльных колдобинах будущих луж валялись груды яблок-падалок, вынесенныe вёдрами из огородов, я жалел, что как-то всё катится без меня.
Вот и лето прошло, Словно и не бывало…На Декабристов 13 появился Гена, муж моей сестры Наташи.
Он представитель зажиточной прослойки населения.
Мать его, Наталья Савельевна, лицом и синими глазами походила на киноактрису с Мосфильма, а работала в ресторане на Вокзале, откуда каждый вечер возвращалась с сумками съестного.
Отец, Анатолий Анатольевич, уже вышел на пенсию, постоянно на всех покрикивал и пил свои лекарства – явный представитель руководящего звена.
У молодожёнов пока что не всё ладилось с родителями мужа, но всему своё время.
Да, свадьбу я пропустил, но нет худа без добра – Леночка съездила всё же в «Артек».
Дело выгорела, вопреки пессимистическим прогнозам Слаушевского.
К тому же так дёшево – я и копейки не заплатил, всё за счёт профсоюза.
Повидалась ли Леночка со своей матерью, Ольгой? Ведь Феодосия тоже в Крыму.
Не знаю.
Я так никогда и не научился задавать самые элементарные, простые вопросы.
Молодожёны вернулись жить к родителям молодомужа и, в качестве свадебного подарка, я построил во дворе их хаты гараж и летнюю кухню под одной крышей.
Крыша, конечно, не моя забота – от меня стены и проёмы.
Ну, ещё там перегородки в ванной внутри хаты.
Так, по мелочам.
Почту, приходившую мне на Декабристов 13, перекладывали на вторую полку этажерки, рядом с фотографией Иры.
Она стояла в летнем ручье во время пионерской практики возле города Козельск, на севере Черниговской области, в чёрных спортивных штанах, закатанных выше колен и улыбалась из-под козырька косынки.
Почта не менялась – раз в месяц журнал «Всесвит».
Я раскрывал его и, зажмурившись, нюхал где-нибудь из середины – мне всегда нравился запах свежей типографской краски.
Однако, на этот раз нюхать было нечего – там лежал конверт, который мне сразу не понравился.
Его словно бы второпях вспороли кухонным ножом, а потом в испуге заклеили канцелярским клеем, положив, для верности, ещё два слоя того же клея поверх всего.
Тут явно чувствовалась рука дилетанта; проба пера подрастающего поколения.
Я вскрыл конверт сбоку, но всё равно пришлось отдирать бумажку прихваченную клеем, пожертвовав кусками машинописного текста.
– Что там, Серёжа?– с тревогой спросила моя мать.
– Тебе Леночка не сказала?
– Нет.
– Ну, ещё скажет.
Это был вызов в местный народный суд по поводу иска жительницы Нежина гражданки Иры, на расторжение брака, поскольку семьи, фактически, никогда не было, а я безвылазно провожу время в психушках с диагнозом шизофреника.
В бракоразводной очереди на втором этаже народного суда я оказался вторым – вслед за парой местных расторженцев крупной комплекции.
Они походили на пару голубей-дутышей, совершенно между собой не разговаривали и каждый смотрел в другую сторону.
Девушка немногим старше лет двадцати пригласила их зайти на процедуру.
За дверью несколько минут слышался диалог различной громкости, но одинаковой неразборчивости.
Потом пара вышла, всё так же не глядя друг на друга, но уже покраснело распаренные, как после бани.
По одиночке – мужик первым – они ушли.
В комнате коридорного типа два стола образовывали букву «Т».
Судья сидел по центру перекладины, а пара народных заседателей по бокам её; тридцатилетний белобрысый мужик военноспортивной выправки слева, а справа женщина за сорок, которой давно всё насточертело.
Девушка-писарь сидела за вторым столом, где тот сходился с верхним.
Судья мне сразу же понравился – симпатичный, лет тридцати пяти и похожий на судей из вестернов. Пиджак он снял и даже на жилете расстегнул пару пуговиц – полная Западная демократия.
Я решил ему подыграть и, сев на стул за метр от нижнего стола, принял свою излюбленную позу усталого ковбоя – левая нога вытянута вперёд, опёршись пяткой о пол, а правая пятка покоится на левой ступне.
– А ну, сядь как положено! Не понял куда пришёл?– вызверился белобрысый.
– Если вы покажите как сидеть в постойке «смирно», я с удовольствием повторю вашу позу, товарищ ефрейто…
– Хорошо-хорошо!– вмешался судья. – Пусть сидит, как хочет.
Потом он зачитал иск гражданки Иры про отсутствие семьи, и про психушки, и про диагноз. Закончив, он вопросил меня:
– Что вы про всё это скажете?
– Моя жена всегда и во всём права. Каждое слово её – святая, чистая правда.
Девушка-писарь запротоколировала, чтоб понимали – не только у Цезаря жена вне подозрений.
Судья пустил в ход домашнюю заготовку, которой, по-видимому, раскочегаривал разводящихся:
– Но неужели в вашем браке не было чего-нибудь хорошего?
– Как не быть? Мы были лучшими любовниками института.
Покосившись на невинный румянец девушки-писаря, судья объявил, что этого достаточно и суду всё ясно.
Так были расторгнуты мои с Ирой брачные узы.
~ ~ ~
~~~бурлак-одиночка
Хлёсткие отповеди народному судье расправили мою грудь, но не надолго.
Всё снова вернулось к страдальческому «за что?!» – ведь я так любил, ведь я так старался…
Вместо ответа оставалось лишь неизбывно томящее мечтание, что в один прекрасный день появится Ира и всё опять станет хорошо…
Тот факт, что Ира этим разводом с логической неизбежностью расчищала себе путь для дальнейшей жизни без меня, ничуть не уменьшал томление по несбыточному и надежду, что всё всё равно будет хорошо…
Однако, страдать бесперестанку занятие довольно утомительное и у меня постепенно сложилось мнение, что развод надо как-то отметить.
Но как?
Обрядов на эту тему я не знал, оставалось лишь импровизировать.
Несомненно одно – мне нужен день не такой, как другие.
Именно за таким днём я и поехал в Киев.
Бабье лето в тот год настолько распоясалось, что, несмотря на первую неделю ноября, я поехал туда в пиджаке.
С оглядкой на глубину осеннего сезона, под пиджак был пододет жилет тёмного сукна.
Он не принадлежал ни к какому костюму «тройке», а был пошит ещё в школе, всё той же остроносой портнихой из ателье рядом с автовокзалом.
Таким вот фраером я вышел из метро на Хрещатике и не спеша двинулся вдоль его привольных тротуаров с мощными каштанами.
Я спустился до мощёной гладкой брусчаткой улицы Красноармейской и двигался дальше под уклон до магазина «Зарубежная книга», чтобы сделать себе подарок присмотренный ещё во время командировок.
Немного тревожило: дождался ли он? Но я был почти уверен и не слишком удивился, когда ярко-красная суперобложка англо-английского словаря «Chambers» замаячила всё с той же полки.
Продавец, оглядев мой праздничный наряд – под жилетом виднелся ворот светло-красной рубахи – вежливо переспросил: точно ли я хочу именно эту книгу?
( … меня не удивили его сомнения – в ту эпоху не каждый мог позволить себе книгу за 31 руб. 60 коп.
Если не считать, конечно, каменщиков празднующих свой развод …)
Я вышел из магазина с толстым томом туго обтянутым нежно-лавандовой бумагой упаковки. Его нужно оставить в ячейке камеры хранения на вокзале.
Но как туда? Опять на метро?
Нет, это не такой день, и я подошёл к бордюру мостовой, мимо которого носились, пришепётывая шинами, стайки такси по брусчатке.
С вокзала я ещё съездил в магазин «Охотник», по адресу данному мне Гриней, для покупки ему какой-то складной удочки.
После шоппинга началась культурная программа.
В Доме Органной музыки в тот вечер звучала музыка Дебюсси.
Рябь морских волн искрилась солнцем.
В детстве мой отец говорил мне, что под музыку надо представлять какие-нибудь картины.
У меня никогда так не получалось. Звуки слишком подчиняют себе, не оставляя места ничему другому.
В послеконцертных сумерках на тротуаре оказалось слишком прохладно и хотелось есть. Таксист повёз меня в ресторан гостиницы «Золотой колос».
Сперва я попытался снять номер на ночь, но регистратура, взглянув на мой наряд не по сезону и отсутствие багажа, отделалась от меня обычным вопросом ниже пояса: у вас есть бронь?
А у меня, как всегда, ни брони, ни лат.
В ресторане, чтоб сориентироваться, я взял для начала бутылку вина и ко мне присоседился мужик в берете.
( … если есть берет, но нет портфеля – значит имеешь дело с электриком …)
Мы не успели распить и по бокалу, когда за столом возник молодой светловолосый парень. Он зачем-то начал складывать пальцы в позу «моргала выколю!».
Электрик притих под беретом.
В программе праздника у меня не было гладиаторских увеселений. Я встал:
– Ладно, юноша, оставляю это застолье вам. Наслаждайтесь.
Отойдя к официантам, я заплатил за вино и покинул ресторан.
Парень рванулся следом в вестибюль, но запутался в стеклянных тамбурах входа, из которых не все открывались.
Ночевать на вокзале не празднично. Очередной таксист отвёз меня в гостиницу «Старая Прага».
Молодая регистраторша и там начала с брони, но вдруг сменила гнев на милость и уделила номер, только подороже, из двух комнат, где в прихожей стоит сервант с посудой.
Поднявшись туда, я решил не испытывать судьбу своим нарядом и заказал ужин в номер – рыбу с картошкой и вино, непременно белое, пожалуйста.
Проснувшись поздно утром, я вышел прогуляться по городу.
Возле Золотых Ворот по тротуару запыхавшись пробежал светловолосый юноша, явно из монады того, что накануне застрял в стеклянной коробке лабиринтных входов-выходов вестибюля «Золотого колоса».
Да, похоже всей монаде придётся попыхтеть, чтоб выпутаться из подаренного застолья, но он сам нарвался.
На спуске к Бессарабскому рынку я решил, что пора пообедать и свернул в ресторан «Ленинград». Передо мною туда же свернула группа негров, но я не расист, хотя мне не понравился чересчур упитанный загривок замыкающего.
Зажравшаяся Африка.
В дневном полусумраке ресторана я их не увидел – успели куда-то рассосаться, и целый зал достался мне одному.
Я заказал какое-то блюдо в горшочке – так было написано в меню.
И действительно, принесли керамический горшочек, а в нём картошку с мясом.
Есть из горшочка оказалось очень неудобно и слишком горячо. Пришлось догадаться пересыпать часть порции в тарелку на столе и потом постепенно добавлять из него в неё же.
Расплатившись, я зашёл в тихий пустой туалет и вышел оттуда совсем другим человеком.
Не таким, как входил в ресторан.
В голове повторялись строки Ивана Франко:
Обриваються звiльна всi пута, Що в’язали нас з давним життєм…Основная разница между мною выходящим из ресторана и мною заходившим туда же заключалась в отсутствии пиджака, который я намеренно оставил висеть в туалете.
Тот самый свадебный пиджак, в котором нежинский ЗАГС регистрировал мой брак с Ирой.
Стоял ли этот пункт в программе праздника?
Нет, скорее всего случился экспромт, но он мне понравился.
Налегке я зашагал вверх по Хрещатику.
Там готовились к ноябрьской демонстрации – играл духовой оркестр и маршировали войска киевского гарнизона.
Вдоль тротуара проложены нескончаемые дощатые ступени для зрителей – всего три, но очень широкие, чтобы с них смотреть на демонстрацию и приветственно махать руками.
До демонстрации оставалось ещё два дня и ступени пока пустовали.
Я шёл вдоль средней, гулко притопывая каблуками по её толстым доскам – мужик в расцвете сил, в красной рубахе под серым жилетом – и солнце трепетало сквозь ветви каштанов.
Я шёл к метро и на вокзал и снова был готов к траншеям, стенам и перегородкам.
Всё-таки, праздники нужны людям.
То, что Панченко, типа, от не хрен делать, швырнул с четвёртого этажа радиатор отопления из четырёх чугунных секций, даже не выглянув – а вдруг пришибёт кого-то? – имело очень даже обоснованный резон.
Своим швырком он просигналил всем, кого это могло касаться, что у неоднократного рецидивиста есть ещё порох в пороховницах и под кепкой-восьмиклинкой, в каких пижонили отрываки пятидесятых, он всё ещё достаточно безбашенный резвак.
Адресовался сигнал, в первую очередь, его мастеру, который закрывал наряды для начисления ему месячной зарплаты, и главному механику, в отделе которого Панченко начал новую честную жизнь.
Да и пора уж – пятьдесят лет мужику.
Его, конечно, никаким боком не касалось, что после вторичной отбывки в Ромнах мне больше уж никак не светила должность профсоюзного посетителя хворых из СМП-615.
Эту, сперва несколько хаотичную, должность мне удалось довести до выверенного совершенства.
Канули в лету дни, когда кто-то из грузчиков, или плотников попадали в железнодорожную больницу на пару дней, а выйдя бухтели, что я их не проведал, как кого-нибудь из своей бригады.
Хотя откуда мне было знать?!
Проблема решилась радикально – в конце всякого рабочего дня я звонил в регистратуру больницы: а не поступал ли к вам кто из наших?
Затем встал вопрос трёх рублей, выделяемых профсоюзом на посещение попавшего в больницу.
Как потратить их, чтобы каждый страждущий получил равное количество утешения невзирая на возраст, пол и прочие склонности?
Не сразу, но и этот вопрос нашёл своё, без ложной скромности, чёткое решение.
На один рубль закупалось питьё – неизменные три бутылки: пиво, ситро, кефир.
Тебе не нравится пиво? Отдай соседям по палате.
Второй рубль шёл на сладости: пирожные, зефиры и т. п.
Для траты третьего рубля я заходил на железнодорожный Вокзал и на большом прилавке «Союзпечать», рядом со входом в ресторан, покупал журнал «Перець», конотопскую городскую газету «Радянський прапор», которую отец мой ласково называл «наш брехунок», и что-нибудь из центральных.
Пакет готов, можно идти навещать.
Трения возникали лишь при последующих отчётах за потраченную троячку, которую мне возмещал профсоюз.
Слаушевский никак не соглашался на упоминание в отчётах бутылки пива.
Профсоюз и пиво – две вещи несовместные.
Тогда, в качестве компромисса, я предлагал, чтоб он сам писал отчёты, а я подпишу что угодно.
Вот какой, красиво сбалансированной системе жить оставалось лишь до ноябрьского отчётно-выборного собрания профсоюза СМП-615.
И тем не менее, я успел накормить Панченко вафлями.
Услыхав по телефону регистратуры, что от нас поступил некий Панченко, я понял, что откладывать нельзя – мне ни к чему риск скоропостижной выписки.
На усладительный рубль я закупил ему вафли, а потом снова вафли и опять вафли – все в разных упаковках и из разных магазинов.
Я похвалил интерьер его отделения, с уже тёмным вечером за окнами железнодорожной больницы, и передал чуть звякнувший пакет.
Он не мог отказаться, он знал, что там есть пиво.
Почему я так безудержно хохотал, мотаясь между магазинами в поисках вафлей разного цвета?
Трудно объяснить, но я смеялся до слёз.
Через пару дней Лида из нашей бригады спросила меня с глазу на глаз в вагончике:
– Панченко навещал?
– А как же.
– Тоже пирожные?
– Не. Ему только вафли…
Она знала, что я принципиально не вру и – умолкла, а мне снова пришлось сдерживать неуместный смех.
Вскоре в вагончик зачем-то зашёл Панченко.
Осторожно, взвешивая каждое слово, Лида спросила навещал ли я его.
– Да.
– С передачей?
– А там какие-то газетки, я их и не читал.
Больше не было сказано ни слова.
Остальное она высказала дома своему Мыколе. Что он уже семейный мужик и пусть поменьше слушает и заглядывает в рот этому вафлеглоту Панченко…
Я не сразу понял отчего бракоразводный процесс оставил во мне ощущение какой-то недовершённости.
Чего-то ему не хватало.
( … отличительная черта моего тугодумия в том, что в конце концов мне доходит то, о чём я поначалу и думать не думал …)
Оказывается, этот народный судья совершенно забыл даже и словом обмолвиться про алименты! Как будто я бездетный.
На мои плечи легла задача исправить судебную ошибку.
С декабря месяца я начал ежемесячно пересылать по 30 руб. на Красных партизан.
Для этого в день получки я пользовался почтовым отделением напротив автовокзала.
Но поскольку ты была не единственным моим ребёнком, точно такую же сумму я отправлял и на Декабристов 13.
«30 в Нежин, 30 в Конотоп» на несколько лет стало моим финансовым образом жизни и самой повторяемой строчкой в записной книжке.
Почему именно столько? Не знаю.
В сумме это составляло половину моей зарплаты, а на вторую половину, помимо гигиено-банно-прачечных расходов, я иногда покупал книги и ежедневно обедал в столовых.
Мать моя поначалу пыталась мне доказать, что это неправильно и конотопскую «тридцатку» я мог бы приносить и отдавать на Декабристов 13 из рук в руки, хотя ей эти деньги и не нужны, но я отвечал, что мне так удобнее.
От бригады, конечно, алименты не остались секретом – при моём принципе отвечать на прямые вопросы без увёрток, им достаточно было спросить чего это я каждую получку иду на почту возле автовокзала.
Женщины-каменщицы тоже спрашивали: почему именно 30 руб?
С непонятно откуда и на кого нахлынувшей злостью, я ответил, что большего и не надо и, даже когда я начну получать по 3000 руб. в месяц, «тридцатки» в Нежин и Конотоп так и останутся «тридцатками».
Случались месяца когда я не мог разослать алименты, поэтому строке в блокноте «30 в Нежин, 30 в Конотоп» приходилось ждать, пока наскребётся искомая сумма и после её отправки рядом со строкой появится «птичка».
В какой-то период я посылал всего по 15 руб.
Это случилось после того, как я случайно услышал разговор Наташи с моей матерью, что Ира когда-то продала мой кожух, оставив себе все деньги.
Я замечал исчезновение кожуха, но куда и как он делся понятия не имел.
Теперь, для восстановления репутации жены Цезаря мне пришлось понизить алиментную ставку, покуда не набралась сумма в 90 руб.
Деньги я отвёз в Нежин и в почтовом отделении на Красных партизан попросил случайную посетительницу заполнить почтовый бланк под мою диктовку.
В отведённом на бланке месте для приписок личного характера я написал корявым почерком с наклоном влево: «за кожух».
Почему 90 руб.?
Просто новенький и с длинными полами стоил 120 руб., а этот был коротким и ещё с Объекта – остальное чистая арифметика.
Получив столь крупный перевод моя мать порывалась спросить меня о чём-то, но на тот момент я уже не разговаривал со своими родителями, так что спрашивать тупо молчащего меня «за кожух» не имело смысла.
( … тут интересно отметить, что мудрость посторонних не в силах сделать нас умнее.
В одном из рассказов, там где у Моэма про молодого человека, который перестал общаться со своими родителями, автор говорит, что в этом суровом и враждебном мире человек всегда найдёт способ сделать своё положение ещё хуже.
Я согласился с мудростью сентенции, но не воспользовался ею.
Понадобилось десять лет разлуки, четыре года из которых ушли на полномасштабную войну, чтобы, приехав на побывку в Конотоп, я снова начал разговаривать со своими родителями.
Меня поразило до чего, оказывается, это легко сделать – просто взять и заговорить.
И мне приятно было выговаривать слова «мама», «папа»…
Вот только слегка казалось, что это я обращаюсь не к своим родителям, или что это говорю не совсем я.
Наверное с отвычки, а может из-за того, что все мы, к тому времени, уже так сильно изменились …)
Профсоюзно-общественную деятельность, как и предвиделось, мне перекрыли наглухо, но никто не в силах был лишить меня права исполнять свой общественный долг.
Речь идёт о ежемесячных дежурствах в народной дружине.
К семи вечера работники СМП-615 собирались в длинной комнате «опорного пункта народной дружины» в торце нескончаемой пятиэтажки на Переезде, на другом конце которой находилась Столовая № 3.
Водитель автокрана, Мыкола Кот, приходил одним из первых и, не снимая кроличью шапку чёрного меха, листал за столом кипу газет за прошедший месяц.
Мужики потихоньку подтягивались и, усевшись на стулья вдоль стен, начинали трандеть о том, о сём.
Кот, не отрываясь от прессы дней минувших, предрекал, что начни мы даже с высот космической орбиты, разговор неизбежно скатится на бабью трещину.
И он, как правило, оказывался прав.
В начале восьмого появлялся какой-нибудь милиционер в звании от лейтенанта до капитана, вносил свою лепту в мужичий трандёж, а потом раздавал красные нарукавные повязки с чёрным шрифтом «Дружинник» из ящика в своём столе.
Мы по-трое выходили на патрулирование вечерних тротуаров в направлении Вокзала, Деповской, Лунатика или вдоль проспекта Мира, но только до моста.
Минут через сорок мы возвращались в опорный пункт – некоторые тройки заметно подвеселелые – и, посидев под более оживлённый галдёж, выходили в заключительный обход, чтоб к десяти разойтись по домам до следующего дежурства.
Раза два перед нами выступали работники КГБ с ориентировками.
Первый раз по случаю предстоящих ноябрьских праздников – нельзя допускать провокационных вылазок.
Когда КГБист ушёл, явился припоздавший милиционер с вопросом – теперь всем ясно, что увидев шпиона надо тут же его хватать?
Второй и последний раз КГБист делился секретной информацией для скорейшей поимки недавней сотрудницы КГБ, которая вдруг скрылась и залегла на дно.
Она могла сменить причёску и цвет волос, пояснил сотрудник органов, но у неё имелась особая примета для опознания – противозачаточное кольцо во влагалище голландского производства.
Мужики не сразу врубились о чём речь, а когда допéтрили, то сыпанули такими наводящими вопросами, что КГБист счёл за лучшее смыться.
В конце концов, он всего лишь исполнял приказ, за тупость которого не отвечал.
В один из обходов мои «натройники» меня киданýли.
Ходить в красной повязке в группе из трёх ещё куда ни шло, но когда, оглянувшись по сторонам, увидишь, что среди прохожих, снующих в свете витрин Шестого гастронома по утоптанному снегу тротуара, лишь у тебя у одного на рукаве красная тряпочка со словом «Дружинник», то чувствуешь себя «малость тогó».
Делая медную рожу, что мне всё пóфиг, я прошёл до привокзальной площади.
Однако плотник Микола и водитель Иван так и не различились среди силуэтов прохожих.
Некоторые из встречных, кто помоложе, оглядывались на странное явление – дружинник оборзело патрулирующий в одиночку.
Большого ума не надо, чтоб вычислить – мои со-дружинники, сдёрнув повязки, заскочили в какой-то гастроном за бутылкой «бормотухи» и сейчас в укромном месте гурголят её по очереди с горлá для сугрева и общего тонуса.
Где?
Скорее всего в тихой неразберихе из кратких улочек и тупичков между Шестым гастрономом и высокой первой платформой перрона, в той мешанине из складов, кож-вен кабинета, пары частных хат без огородов и прочих дощаных строений.
Туда я и свернул, не оттого, что хотел упасть им на хвост насчёт «бормотухи», а дабы устыдились и поразились силе дедуктивного метода, способного обнаружить их в тихом закоулке под фонарным столбом.
Но вместо плотника с водителем в конусе неяркого света фонарной лампы я нарвался на жанровую сцену.
Девушка гуляла с юношей, когда их общий знакомый, другой юноша – поплотнее и повыше – перехватил их и начал разборку.
Появление четвёртого лишнего в красной повязке лишь на минуту затормозило действие. Поняв, что больше дружинников не предвидится, здоровяк начал метелить более мелкого, но удачливого в любви соперника.
Тот упал на одно колено и, скинув свою болоневую куртку на «рыбьем меху» в снег, рядом с уже валявшейся там его шапкой, ринулся в ответную атаку.
Мне оставалась лишь роль зрителя в красной повязке.
Девушка подобрала куртку с шапкой и держала их, как когда-то Ира мою кроличью на главной площади Нежина.
Силы были слишком неравны и, когда парень помельче полёг в сугробе, девушка сложила его носильные вещи под фонарём и, взяв победителя под руку, ушла с ним в лабиринт непонятных проулков.
Побеждённый поднялся и, увидев, что я всё ещё тут, разразился сумбурно пылкой речью о силе духа, ибо физическая сила – ничто, а сила духа – всё.
В Конотопе каждый второй – прирождённый оратор.
Чтобы морально поддержать Демосфена, я сообщил, что во время схватки девушка держала именно его вещи, а не меховую шапку-«пирожок» его противника, которая тоже упала в снег.
Услыхав слова утешения, он заткнулся и торопливо проверил карманы своей куртки, потому что, при всей любви к ораторскому искусству, здравый смысл в конотопчанах сильнее.
А ещё мне никто не мог запретить, чтоб на все 8-е марта женщины нашей бригады получали бы цветы – калы; каждая по одной, потому что я не миллионер, а мужики не каждый год догадывались спросить сколько отдано за цветы и сброситься по рублю.
Впрочем, возмещение расходов меня не слишком-то и волновало – я сделал открытие, что мне нравится дарить подарки; даже больше, чем получать их самому.
Но сначала мне пришлось найти городскую оранжерею.
Она, практически, находится у чёрта на куличках.
Не доезжая одной остановки до конечной второго номера трамвая, надо сойти, свернуть налево и топать с полкилометра по улочкам времён гражданской войны.
Типа, улица Юденича, или, там, Деникина.
Названия, конечно, у них на самом деле вполне советские, но вид самый белогвардейский.
Когда я пришёл в оранжерею в первый раз, заведующая завела меня в длинную сырую теплицу с двускатной крышей из квадратов мутного стекла, с которых падали редкие крупные капли.
Она хотела, чтоб я сам убедился – цветов нет.
А эти посадки пока что ещё не созрели, калы тут «нерозцвiченi», то есть белые цветки ещё не превратился в широкие раструбы с отворотами.
И тогда, без малейшего намёка на косноязычие, я выдал ей образчик ораторского искусства.
Это ей, которая каждый день проходит среди зелени оранжерейных грядок, калы кажутся не созревшими. Для женщин бригады каменщиков, что видят лишь кирпич, раствор да обледенелые торосы грязного снега, эти калы, даже в таком «нерозцвiченом» виде – самые прекрасные цветы.
С той поры и покуда я работал в нашей бригаде, в оранжерее на 8-е марта мне отказа не было, и я гордо вёз трамваем связку зелёно-белых кал, которые в магазине «Цветы» на Миру появятся не раньше, чем через пару недель.
Решение было бесповоротным – пора подвести черту!
И этот вот – последний из рассказов Моэма, который я перевожу.
Хватит.
Даже то обстоятельство, что заключительный рассказ пришлось переводить дважды, не cмогло поколебать моей решимости.
Переводить вторично меня вынудил Толик Полос, когда сквозанýл мой портфель.
В нём ничего и не было, кроме тетрадки с последним переводом, когда я рано утром нёс его на Вокзал в ячейку камеры хранения, чтобы после работы отвезти в Нежин к Жомниру.
На Посёлке в такое время прохожих нет, во всяком случае вдоль путей в сторону Вокзала.
Там, где заканчивается бетонная стена завода КПВРЗ, я вспомнил, что забыл взять деньги на электричку.
Пришлось возвращаться, оставив портфель одиноко стоять с краю служебного прохода.
Вернувшись от путей на улицы Посёлка, я вскоре встретил Толика идущего навстречу, он тоже когда-то учился в 13-й школе, но на два года позже меня.
Я дошёл до Декабристов 13, взял деньги и вернулся к путям – портфеля не было. Кроме меня тут проходил только Толик.
Или кто-то ещё?
Ответ был получен неделю спустя в трамвае.
Толик со мной не поздоровался, а только корчил мне из своего сиденья рожи в стиле Славика Аксянова с шахты « Дофиновка». Но самое главное – правая рука у него оказалась загипсованной.
Нужны ли более прямые доказательства, что одинокий портфель в пустынном месте подхватил именно он?
Мне – нет.
( … порою в жизни я умею не только видеть, но и читать знаки …)
Вообще-то, работа над рассказом не стала повторным переводом, а скорее восстановлением и уже через месяц я отвёз Жомниру свой последний рассказ Моэма, но уже без портфеля.
Так, хоть и с месячной задержкой, решение завязать с Моэмом было исполнено, но оно являлось лишь частью более широкого плана действий.
В нём, как и во всех других моих планах, отсутствовали чёткие конкретные детали.
Планы мои, они скорее и не планы вовсе, а, типа, ощущения, что надо сделать то-то и то-то. Детали к планам являются уже потом – по ходу исполнения.
Возник же помянутый широкий план потому, что мне, наконец-то, дошло – никаких моих переводов Жомнир никуда не «засватает».
Неважно почему, главное, что это точно.
Что же теперь делать?
Да просто надо взять вопрос публикации в свои руки и, для начала, забрать у Жомнира все мои переводы в тонких разнообложечных тетрадочках, что заштабелёваны где-то там, среди прочих бумаг на стеллажах его архивной комнаты.
Я приехал в Нежин и объявил ему о своём намерении забрать свои чёрно-серо-беловики.
Жомнир не возражал и не расспрашивал.
Он устроил застолье, ведь за эти годы я стал в их доме чем-то, типа дальнего родственника; бедного, но иногда полезного, как, скажем, при оклейке гостиной комнаты его квартиры новыми обоями.
Мы сели за квадратный стол, выдвинутый от стены в центр гостиной, и ели всё, что приносила с кухни Мария Антоновна. Мы пили крепкий самогон.
Жомнир увлечённо рассуждал про недавно раскопанную в каком-то кургане золотую пектораль большой художественной ценности.
Меняя тему, он спросил какие у меня отношения с Нежиным, имея ввиду Иру.
Я витиевато ответил, что они, отношения эти, оказались вполне плодотворными, имея ввиду тебя. Затем я осторожно спросил про Иру: как она?
– Что как?– ответил Жомнир.– Таскается по городу.
Это садануло мне в солнечное сплетение, хотя не так сильно, как слова Иры, что у неё есть Саша, она так говорила моей сестре, которая передала их мне уже после нашего с Ирой развода, в виде бонусного утешения, что ли.
Более всего меня поразило полное совпадение ответа Жомнира со словами мужика на конотопском кирпичном заводе на мой вопрос про Ольгу.
( … при всей разнице в образовательном и культурном уровне, когда нам нужно шибануть ближнего, мы пользуемся одним и тем же каменным топором …)
Когда пришло время выдвигаться мне на электричку, Жомнир сложил все мои переводы в увесистый целлофановый пакет и вышел проводить меня на вокзал.
Самогон оказался действительно крепким, но я помню как подкатила электричка и с шипением распахнула дверь на перрон.
Отказавшись от помощи Жомнира, я пошёл в круглый туннель тамбура с отблесками никелированных поручней по бокам.
Хватаясь за левый из них, я поднялся внутрь, прошёл к дверям напротив и повесил пакет на тамошний поручень.
Последнее, что я услышал, был звук захлопывающейся двери за спиной.
Когда я пришёл в себя, то всё так же стоял, уцепившись левой рукой в головку поручня у дверей.
Электричка тоже недвижно стояла у четвёртой платформы конотопского Вокзала.
Она была пуста, потому что по расписанию до её дальнейшего отправления на Хутор Михайловский оставалось ещё часа два.
Каменея мышцами живота, с остановившимся дыханием, я увидел, что поручень пуст. На остальных трёх целлофан тоже не просматривался.
Дёрнув раздвижную дверь, я зашёл в пустой вагон и взглянул вдоль пустых полок над окнами.
Я вернулся в тамбур и выдохнул: хху!
Сидеть на обтянутых кожзаменителем сиденьях пустой электрички мне не хотелось и я пошёл через подземный переход и привокзальную площадь в парк Лунатика, на твёрдую деревянную скамейку.
Там я долго сидел без всяких мыслей, только иногда представлял сам себя в виде тупо застывшей статуи над поручнем, с которого снимают целлофан с переводами.
Кто?!
Какая разница. Кто бы то ни был, добыча радости не принесла – абсолютная бесполезность. Разве что печку растапливать – хватит на несколько зим…
Бездумно просидев около часа, я вспомнил, что это день дежурства СМП-615 в народной дружине и побрёл в опорный пункт, где тоже всего лишь сидел – безучастно, отстранённо и молча.
Только когда пришёл милиционер, я понял, что надо делать дальше.
– Товарищ капитан, одолжите три рубля до следующего дежурства.
– Я рублями не одалживаю, могу только сутками. Пятнадцать хватит?
Его острословие лишь подтвердило правильность возникшего у меня плана.
На следующий день в нашей бригаде нашлись три рубля и после работы я поехал в Нежин. Там, в пятиэтажке преподавателей НГПИ в Графском парке я нашёл квартиру улыбчивой Ноны.
Я сказал, что потерял переводы Моэма, над которыми работал несколько лет. Теперь для их восстановления мне нужны оригиналы, все из которых собраны в имеющемся у неё четырёхтомнике. Не могла бы она?..
Всё так же мило улыбаясь, Нона принесла книги, сложила их в целлофановый пакет и передала мне.
Как радостно застучало моё сердце – спасибо!
– Слышь, Мария Антоновна? Этот негодный Огольцов потерял все свои переводы в электричке!
– А зачем было хлопца поить?
Мария Антоновна тоже не знала, что все мои невзгоды или радости, взлёты и падения, исходят от той сволочи в недостижимо далёком будущем, которая сейчас слагает это письмо тебе, лёжа в палатке среди тёмного леса под неумолчное журчанье струй реки Варанда…
Привычка свыше нам дана, Замена счастию она…Эта бессмертная строка великого классика без обиняков намекает, что в третий раз в Ромны меня загребли уже чисто по привычке.
Причём на этот раз почти все в СМП-615 знали, что не сегодня-завтра меня хапанýт.
Два года спустя, при случайной встрече на тропе вдоль высокой железнодорожной насыпи, позади спортивного комплекса на задворках инженерного техникума, меня тоже посвятил наконец-то в это знание отставной майор Петухов, зав отдела кадров СМП-615.
Без какого-либо нажима или наводящих вопросов с моей стороны, Петухов поведал мне как прораб Ваня чуть ли не ежедневно приезжал с объекта в его кабинет позвонить психиатру Тарасенко о моих очередных отклонениях.
– С утра песни поёт. Может пора?
– Пусть поёт…
– Объяснительную написал стихами.
– Какую объяснительную?
– Он каску потерял, я потребовал написать объяснительную. Заберёте?
– Рано…
– Pубаху свою засунул в дырку плиты перекрытия и засыпал раствором.
– Вот – то, что надо!. Следите, чтоб никуда не ушёл.
Песни на рабочем месте я пел не каждый день, но часто.
Порой, особенно когда «строительные угодья» На Семи Ветрах утопали в густом холодном тумане, кто-нибудь из бригады просил:
– Спой, Серёга!
У меня была жена, Она меня люби-и-ила, Изменила только раз, А потом, потом реши-ила: Эх! Раз, да ещё раз, Да ещё много-много-много-много раз…Правда, бригаде больше нравилась Баллада о Гипсе:
И вот лежу я на спине – загипсованный, Кажный член у мине – расфасованный…А каску я вовсе не терял, а шиканул джентельменством.
Шёл по Семи Ветрам с объекта на объект, а штукатурши ПМК-7 в молодой траве цветы собирали, жёлтые, Наверное, одуванчики.
Они спросили у меня целлофан, а я им по-гусарски каску кинул, чтоб собирали как в лукошко. Ещё ж и показал – вон в тот коричневый вагончик принесите.
Больше я ни их, ни каски не видал.
Изо всей нашей бригады каску только я и одевал, потому-то прораб Ваня прицепился со своей объяснительной.
А насчёт стихов это он мне польстил – там, верлибр всего-навсего…
Ну, а с рубахой – да. С рубахой я нарвался по полной.
Подвела меня склонность к самоизобретённым ритуалам.
Наступил первый день лета. Ну, как тут не отметить?
Летом на стройке жара, даже если под спецовкой одета всего лишь майка, всё равно исходишь пóтом. Рубаха летом – лишний элемент.
Ту зелёную рубаху из какой-то жмаканой синтетики я носил шесть лет, а она никак не снашивалась, падлюга; а потеешь в ней как в любой другой синтетике, несмотря что жмаканая.
И вот первого июня, выходя из вагончика я повязал её рукава поверх спецовки одетой на голое тело, чтобы вынести и похоронить в какой-нибудь из множества ещё не забитых раствором дырок в панелях перекрытия.
На объекте нет мусорных баков, а бросить её в очко дощатого сортира у меня рука не поднялась – как никак столько лет вместе потели.
Потом я поднялся на третий этаж и в одиночку клал поперечную с вентканалами, покуда не появился Пётр Лысун позвать меня в вагончик.
По пути он почему-то отводил глаза и вёл разговоры на эзотерично ботанические темы.
Все эти странности враз вылетели у меня из головы, когда перед вагончиком я увидал фургон-УАЗик, а рядом с ним здорового милиционера в фуражке с красным околышком и психиатра Тарасенко.
Неровным полукругом пред ними стояли наша бригада, мастер Каренин и прораб Ваня.
Тарасенко объявил собравшимся, что моё поведение и так ненормально, а сегодня я вообще засунул рубаху в бетонную плиту перекрытия.
Затем он демократично поинтересовался: замечались ли за мной какие-то ещё аномалии?
Народ безмолвствовал.
Кто-то из наших женщин заикнулась было, что рубаха вконец была изношена и Тарасенко, чтоб не углубляться в эту тему, велел мне пойти в вагончик и переодеться.
Я беспрекословно подчинился, а потом сел в фургон, где уже оказался какой-то алкаш, и нас увезли.
Во время остановки у Медицинского Центра алкаш убеждал меня рвануть когти в разные стороны – мент не сможет погнаться за обоими сразу.
Я отмалчивался, понимая, что лучше сорок пять дней под шприцами, чем вся оставшаяся жизнь в бегах.
Потом в фургон подсел молодой охранник в гражданке и ещё один алкаш и нас, накатанной дорожкой, повезли в Ромны.
По пути мы сделали остановку в каком-то селе – загрузить пару полоумных старух в чёрном и неспокойного мужика, который всем по очереди клялся, что ничего не помнит что вчера было…
По приезду в психушку нас развели по разным направлениям и мне зачем-то сделали рентген в лежачем виде.
Алкашей я больше не видал – в дурдоме ими занимается третье отделение, а меня ждало пятое.
Эта промывка мозгов через зад проходила опять на Площадке и в переполненной палате-спальне.
Во всех категориях, что выше «абсолютной свободных», из знакомых оказался только Саша, который знал моего брата Сашу, но он беспробудно спал.
Как ветеран и ради человеколюбия я обратился к заведующей с мольбою заменить мне уколы аминазина на аминазин в таблетках.
Она обещала подумать и за десять дней до окончания срока отменила мне уколы на ночь.
За это я сейчас вспомнил её имя – Нина.
Больше ничего примечательного не случилось, кроме того, что я узнал способ оказания первой помощи в случае припадка эпилепсии.
Надо ухватить эпилептика за ноги и отволочь с Площадки в тень под навесом.
Тут он тоже будет биться спиною о землю, но постепенно снижая темп, пока не придёт в себя.
Некоторые полудурки считают полезным сгонять ему мух с лица своими грязными ладонями, но на течении припадка это не сказывается.
На тропе под высокой железнодорожной насыпью Петухов не сказал мне только одного – почему меня в тот раз так плотно обложили и взяли под колпак неусыпного наблюдения.
Но в этом не было нужды, поскольку я об этом знал не хуже его.
Причина крылась в реконструкции роддома – длинного двухэтажного здания у перекрёстка улицы Ленина и спуска от Универмага.
Каждой строительной организации Конотопа выделили какую-то часть того здания для проведения реконструкционных работ. СМП-615 достались несколько перегородок и санузлы в правом крыле первого этажа.
Исполнителями работ были четыре штукатурши и я. Мы справились за одну неделю.
Когда женщины уже штукатурили поставленные мною перегородки, в коридоре появился мужик в чистом костюме и при галстуке.
Увидав четырёх ядрёных баб, он начал распускать перед ними свой хвост на фоне занюханного подсобника, за которого он меня принял.
Я вежливо попросил его приберечь свой пыл и не кашлять во все стороны.
– Да ты знаешь на кого рыпаешься?! Я – первый секретарь горкома партии!
– А я – каменщик четвёртого разряда.
– Ну, ты меня узнаешь!
И он ушёл, а через полчаса в коридор влетел взмыленный главный инженер СМП-615, он же парторг строительно-монтажного поезда.
– Как ты смел материть первого секретаря горкома?!
Штукатурши в один голос засвидетельствовали, что матюков и близко не было и главный инженер уехал.
Вот и всё.
Проще не бывает – самец с рычагами власти против самца в заляпанной раствором спецовке.
Единственное, что обидно, так это обвинение в матерщине. За все годы в СМП-615 я не произнёс ни одного матерного слова, даже в мыслях.
В начале осени намыливаясь в бане я вдруг заметил, что мой живот стал выпуклым, как жёсткие надкрылья майского жука, и так же как они не поддаётся втягиванию.
Вскоре и мать моя заметила, что у меня начал отвисать второй подбородок. После одного из домашних ужинов на Декабристов 13, она положила мне руку на плечо и радостно объявила:
– Толстеешь, братец! И никуда не денешься – ты из нашей породы!
Я без улыбки посмотрел на её круглое лицо, под которым – я знал это не глядя – расширяется ещё более круглая фигура, и промолчал.
Мне не хотелось быть из такой породы и становиться круглым. Я не поддамся их аминазину!
Нужны радикальные меры.
Начать с тех самых ужинов на Декабристов 13 – моя мать умела так взгромоздить кашу, или картошку на тарелке, что меньше двух порций не получалось. При этом всё так вкусно, что незаметно съедаешь всё.
Для начала я отказался от хлеба.
ОК, я ем сколько кладёте, но хлеб не хочу и не буду.
Причём я перестал брать его даже в столовых.
Но насчёт «не хочу» – это враки. Хлеб я всегда любил, особенно ржаной, да ещё если тёплый. Я мог в одиночку за раз усидеть буханку такого хлеба без ничего, повторяя про себя отцовскую поговорку:
«Хлеб мягкий, рот большой; откусишь – и сердце радуется».
Ещё через месяц, увидав, что бесхлебная диета не срабатывает, я просто перестал ездить в столовую на обеденный перерыв.
Это уравняло баланс. Завтрак в столовой плюс две порции ужина – получается трёхрáзовое питание.
А обед?
Обедал я, по выражению нашей бригады, «Всесвитом», который ежемесячно приносил в вагончик для прочтения.
В результате, к Новому году всё в той же городской бане позади площади Конотопских дивизий, я с гордостью обозревал своё впалое, как у здорового волка, брюхо.
Мне всегда нравилась именно такая его форма.
Нарцисс вогнутобрюхий.
( … есть немало слов, которые, типа, знаешь – слыхал, читал и даже выговаривал – до тех пор пока не спросят: а что оно значит?
Но таких сволочей немного, вот и толкуешь это слово по своим личным понятиям.
Слово «аскетизм» один из самых курьёзных примеров насколько люди сами не понимают что они говорят.
90% населения, которым оно, типа, знакомо, при слове «аскет» вообразят изношенного самоистязанием мужика в нечёсаной клочковатой бороде вокруг горящих глаз.
Это настолько же неверно, как словом «спортсмен» обозначать одних лишь сумоистов.
На самом деле, смысл корневого слова «аскеза» передаётся словом «тренировка».
Если ты захотел стать победителем пивного турнира и каждый день для тренировки выпиваешь три литра пива, ты – аскет.
Так же как и соседская девочка, что каждый день за стенкой гоняет скрипичные гаммы.
Так-распротак твою аскезу со всеми этими диезами!
То есть, аскет-отшельник, готовящий себя к жизни будущей на небесах, всего лишь частный случай среди остальных аскетов.
Аскезы бывают затяжными и краткосрочными, в зависимости от её цели …)
И в чём же, спрашивается, состояли мои цели, заставлявшие так ревностно блюсти свою поджарость и каждый будний день выписывать незнакомые слова из газеты «Morning Star»?
Как я уже объяснял, с конкретными деталями к общим планам у меня всё несколько туманно – я просто чувствую, что так надо, потому и делаю так.
За выписками из «Morning Star» требовался глаз да глаз.
При встрече непонятного слова, про которое я стопроцентно знал, что оно мне уже попадалось в газете, так и подмывало пропустить его – ведь точно же встречалось!
Но что означает?
Рыться в исписанных тетрадках слишком нудно, легче заново посмотреть в словаре и выписать его значение.
Поэтому иногда попадались слова, про которые я знал, что они выписывались уже до двух-трёх раз. Память называется!
С такими приходилось расправляться составлением собственных примеров.
Вот до чего доводит человека аскетизм; даже если и сам толком не знаешь – зачем оно мне надо?
Для меня происшествие того вечера не стало искушением, я просто изумился.
И она меня не соблазняла, а скорее пыталась востребовать исполнение родительского долга.
Я слишком много задолжал Леночке. Не брал её на руки, не сажал к себе на колени, не гладил по волосам.
Мы просто жили в одной хате, где когда-то ей сказали, что я её папа, но, в сущности, какой там я отец? Так – сухая формула. Бесконтактный папа.
Конечно же, я не отталкивал её, а порой мог даже увлечься разговором с нею; однако для ребёнка такого, наверное, мало.
И для отца такого наверняка мало, но так уж сложились мои отношения со всеми и с каждым из моих пятерых детей.
Когда родилась Леночка, я просто ещё не созрел для роли отца.
Папа в восемнадцать лет? Бросьте смешить!..
Потом нас развели стройбат с институтом.
При появлении на свет тебя я уже годился в отцы и любил тебя беззаветно, но слишком недолго – нас разлучила моя репутация.
С Рузанной я познакомился в её шесть лет.
Она звала меня «папой» и я любил её как дочь, но первый раз обнял, когда Рузанна уезжала в Грецию к своему мужу Апостолосу.
Опять всё та же бесконтактность.
Ашота и родившуюся после него Эмку я не мог обнимать и ласкать – ведь рядом была Рузанна, которой ничего такого от меня не досталось; вот и вышла бы несправедливость.
Так отец пятерых детей и остался всего лишь формальным папой.
Бедные дети!
Но жалеть надо не только их, ведь я тоже прожил жизнь лишённым детской ласки.
Теперь вернёмся к тому, как Леночка попыталась исправить такое вопиющее положение.
Она зашла в комнату и уселась ко мне на колени, отделяя от стола со словарём, тетрадкой и книгой.
Обернув своё лицо ко мне, она подняла правую руку и приложила маленькую ладонь к моей ежеутренне бритой щеке. Наверное, хотела научить меня как это делается.
( … что же меня оттолкнуло? Опасение скатиться к инцесту?
Исключено, при моём роботизированном самоконтроле.
Нет, скорее из-за выражения улыбки на её лице:
«Ах, ты бедняжка!» …)
– Ну, хватит, Леночка. Мне надо работать.
Улыбка сменилась выражением злости и она начала мстительно прыгать, сидя у меня на коленях.
– Что? Размечталась о сладких пирожках? Не рано ли?
И я поднялся на ноги, как бездушный робот, лишив её площадки для подпрыгиваний.
Через пару дней, а может и неделю, вернувшись с работы я заметил перемены на полках этажерки. Там появилась чёрная дыра.
Высокую скулу лица Иры, на любительской фотографии посреди ручья, пробило отверстие.
Орудием этого вандализма, а может даже вудуизма, послужил остро заточенный карандаш, а возможно и шариковая ручка.
Вопрос «кто?!» у меня не возникал.
Какая разница?
– Леночка! Иди-ка сюда!
– Что?
– Я, как отец, обязан заботиться о твоём образовании. Чтобы ты разбиралась: что есть что. Посмотри на фотографию на полке.
– Что?
– Вот это называется подлость.
– Это не я.
– Я не говорю, что это ты. Просто запомни что такое «подлость». А кто её делал уже не важно.
Фотографию пришлось отнести в фотоателье на Клубной.
Фотомастер Артур, молодой армянин умеющий переносить фотопортреты на керамику, сказал, что это поправимо.
Только я попросил увеличить снимок до размеров настенного портрета, оставив всё, что есть, и ручей тоже.
Для восстановленного и увеличенного фото я ещё купил картонную рамочку и снова водрузил на полку.
Увидев результат, моя мать истерично всхохотнула, что и осталось единственным комментарием.
Никаких педагогических бесед по этой теме я больше не затевал, а фотография так и стояла в полной неприкосновенности, потихоньку собирая пыль.
В преддверии двухлетия своего сына Андрея, моя сестра Наташа пожаловалась, что нигде не купишь железную дорогу, чтобы собрать на полу большущий круг из крохотных рельсов, по которым бегал бы маленький поезд.
Помнишь, как у нас на Объекте была?
У меня сохранялось смутное детское воспоминание о прекрасной игрушке и эту жалобу я воспринял как повод вырваться из повседневной конотопской жизни.
Ведь я же любящий дядя!
Для начала я смотался в Киев.
Продавщица универмага «Детский мир» уныло сидела за прилавком в чёрной стёганной телогрейке поверх синего халата магазинной униформы.
Она малость взвеселилась, когда я сообщил ей, что «хóчу паровóза».
Хмыкнув, она, ответила по селянски, чтоб мне, деревенщине, лучше дошло:
– Паровоза немає.
Меня это ничуть не удивило, ведь что Наташа скажет, так оно и есть.
Дальше, по плану, шла столица нашей родины – Москва.
Именно туда тянулись караванные тропы для всех изнурённых дефицитом в полупустынях магазинных прилавков.
В столичном «Детском мире» нашёлся и паровоз с вагончиками, и рельсы со стрелками и мостиками, чтобы по ним бегал поезд от маленькой батарейки.
Я отвёз добычу на Киевский вокзал и вернулся в центр – урвать свою долю культурной жизни.
В кассе Большого Театра мне сказали, что билеты надо покупать на две недели раньше.
Чуть разочаровавшись, я покинул большой очаг культуры, в котором мне не светит.
Неподалёку от входа на тротуаре оказалась стеклянная кубическая будка сплошь занавешенная изнутри всевозможными афишами, в ней продавались билеты в театры и концертные залы Столицы.
На предстоящий вечер мне предложили выбор: концерт звёзд эстрады в Кремлёвском зале, либо концерт джазовой группы в Центральном Театре Советской Армии.
То есть отправиться в Кремль на ту муру, от которой и по телеку тошно, или…
– Конечно, джаз!
( … говорят, что железнодорожный вокзал Чернигова построен при немцам, во время оккупации.
И этим говорильщикам я верю. Почему?
Да просто лишь за то, что они за это не получают зарплаты, в отличие от множества составителей бесчисленных советских учебников истории.
И ещё говорят, что вид сверху черниговского вокзала являет собой тевтонский крест.
С высоты птичьего полёта я его не рассматривал, однако, могу засвидетельствовать – из всех посещённых мною вокзалов, только там в любое время суток можешь набрать готовый крутой кипяток из специального медного крана …)
Всё это к тому, что здание Центрального Театра Советской Армии сверху смотрится пятиконечной звездой. Говорят.
Внутри же это добротное здание с большим зрительным залом на первом этаже и выставочными стендами в широких галереях второго.
Я скрупулёзно рассмотрел выставку конвертов и спичечных этикеток выпущенных в годы Отечественной войны, потому что приехал туда за два часа до концерта.
А что ещё оставалось делать в незнакомой зимней Москве?
Картинки на конвертах и этикетках, при всей их наивной примитивности, оказались ностальгически моими, ведь я вырастал на чёрно-белых кинокартинах той поры.
Затем я спустился в зал, где вскоре джазмены начали устанавливать и опробовать на сцене свои инструменты – ударник, виброфон, колонки.
Покончив с этими приготовлениями, музыканты набросились на опоздавшего лысого еврейчика, но тот наплёл им с три короба про неуютности московской жизни, а потом перешёл в контрнаступление, что скоро он вообще завяжет со всей этой музыкой – оно ему надо?
Они покинули сцену, а зал начал потихоньку заполняться. Собралось до сотни слушателей привольно рассевшихся там и сям на мягких креслах.
И начался концерт.
Номера объявляла высокая толстая девушка в чёрном, иногда она ещё и пела.
Я поглощал номер за номером и хотел лишь одного – пусть они не кончаются.
Какой диксиленд на виброфоне! А бас-гитарист!
Один раз он остался наедине с девушкой и своей бас-гитарой и они, оставшись втроём, сделали блюз на пустой сцене. О!
Еврейчик вышел всего один раз. Он играл на там-таме.
Играл? Вся Африка не сумеет выдать такого на барабанах.
Я простил ему лысину и тупую болтовню перед концертом, потому что он превратился в совершенно другого человека. Он забыл, что оно ему не надо и творил такие ритмы!..
– Браво!!
По-видимому, в ЦТСА параллельно концерту проводилось ещё какое-то мероприятие, потому что к барьеру раздевалки толпились с номерками ещё и офицеры, которых в зале не было.
Девушка-гардеробщица принесла на стойку две одежды сразу: генеральскую шинель с красной шёлковой подкладкой и каракулевым воротником – (так этот опёнок справа от меня, оказывается, генерал?) – и демисезонную шинелку от Алёши Очерета.
Она положила и вздохнула над ними.
( … а что поделаешь?
Обычная дилемма жизни: или гусар – кровь с молоком, но без гроша в кармане, или замухрышка-генерал с обеспеченным доходом.
У каждого имеется рычаг для ублаготворения вздыхающих дам, вот только рычаги для разных сфер …)
Московские водители профессиональнее киевских.
Во всяком случае тот, что подобрал меня после концерта, оценив мой вид и безбагажность догадался отвезти в такую гостиницу, где не требуют брони.
Гостиница «Полярная» уходила вверх от тротуара и где-то там терялась в тёмной высоте.
Из регистратуры меня направили лифтом на невообразимо высокий этаж – аж где-то между двенадцатым и шестнадцатым.
Номер оказался очень похожим на комнату отдыха на украинских вокзалах; был бы паспорт при себе да рубль за койку. Просто здесь побольше наставлено коек – штук двадцать и на них уже валялись постояльцы в спортивных костюмах.
В этот момент желудок мне напомнил, что гоняясь за культурной жизнью я как-то забыл пообедать, и что жрать охота – дальше некуда.
Я спросил где тут столовая или буфет и спортивные мужики, с каким-то даже злорадством, пояснили, что всё такое подобное тут закрывают в семь.
Жрать хотелось всё сильнее, да ещё примешивалось желание осадить этих, довольных своим знанием, соседей по номеру, поэтому я разделся до пиджака и поехал на лифте вниз.
Там я вышел на низенькое широкое крыльцо, где рядом с гостиничным входом находилась ещё и высоченная дверь в ресторан. Заперта, конечно, но внутри виднелся свет и мельтешение.
Я начал колотить в коричневое обрамление дверных стёкол. С той стороны показался мужик в фуражке и жёлтых полосках на пиджаке.
При виде меня, стоящего на фоне чернильной темени позднего вечера в мелком снегу без шапки, в распахнутом на белой рубахе пиджаке, ему не оставалось иного вывода – я явно выходил из ресторана просвежиться, а теперь хочу обратно.
Он отпер дверь и я устремился в зал.
Ресторан занимал немалую площадь; в нём разместилось гулеванье сразу двух свадеб и ещё оставались свободные столики.
Ждать пришлось долго, но наконец ко мне подошёл официант и я объяснил, что хочу просто поужинать без излишеств.
Чтоб скоротать время, пока он принесёт мой спартанский заказ, я понаблюдал танец молодых из ближайшей ко мне свадьбы.
Под конец танца дебелая невеста в белом платье раздражённо заехала локтем в грудь тщедушному жениху и вернулась за стол.
Схватившись за галстук, он заулыбался жалкой улыбкой, где не хватало нескольких зубов.
Фундамент брачных отношений закладывался ещё на свадьбе.
Бедняга! Угораздило же тебя…
То есть – совет, да любовь!
По счёту за ужин мне не хватило одного рубля. Вернее рубль у меня ещё оставался, но его я берёг на завтрашние расходы. Официанту я без подробностей объяснил про нехватку, пообещал, что непременно верну и спросил его имя.
Он назвался и не стал настаивать на рубле.
В номер я поднялся сытым и довольным, а на расспросы постояльцев рассеянно пояснил, что ресторан внизу ещё работает.
Bечером следующего я приехал в Конотоп дня и гордо повёз подарок На Семь Ветров. Семья Наташи уже жила там в девятиэтажке построенной ПМК-7.
Поездка лифтом на четвёртый этаж показалась провинциально короткой, но дверь мне не открыли.
Гена иногда уезжал на сессии своего заочного техникума на Донбассе, а Наташа могла выйти к какой-то из соседок.
В виде помощи молодой семье я писал для Гены все работы по философии и истории.
С паршивого шурина хоть шерсти клок.
По пути на Декабристов 13 я завернул в переулки улицы Пирогова, где жили Генины родители.
Папа его уже спал, а Наталья Савельевна сидела в гостиной с Андреем – её внуком и моим племянником.
Я хотел оставить коробку и уйти, но она попросила собрать игрушку – всё равно Андрюша ещё не спит.
Когда поезд, чуть жужжа, начал бегать кругами по полу гостиной, мы с Андреем сравнялись по возрасту.
Восстановление переводов, утраченных в хмельном столбняке в электричке, заняло около года.
Оттого, что они свежи ещё были в памяти, не получилось растянуть удовольствие.
Поставив заключительную точку в последнем переводе, я повёз четырёхтомник Моэма в Нежин, вернуть Ноне.
На подходе к дому преподавателей в Графском парке, я догнал Нону и Лидию Панову, что когда-то кураторствовала в моей группы на англофаке.
Они направлялись к общему подъезду своих квартир, но заметив меня – остановились.
Поздоровавшись с обеими, я пояснил Ноне про невозможность передать словами мою благодарность ей за четыре тома оригиналов, которые привёз, вот, обратно.
Она улыбнулась из-под очков и протянула руку за целлофановым пакетом.
Я перехватил её руку, типа, для демократичного рукопожатия, в стиле героев Джека Лондона. Затем склонился и, отчасти неожиданно даже и для самого себя, я поцеловал ей руку.
Только после этого пакет перешёл от меня к ней.
Распрямившись, я уделил Пановой чопорный кивок и удалился.
Хорошо хоть каблуками не щёлкнул, как поручик Ржевский.
В электричке моя эйфория сошла на первой же остановке и вместо неё насела неотвязная озабоченность.
Какое, всё-таки, благо неумение строить детальные планы!
Планы нужно держать предельно короткими. «Сделаю сборник переводов для издания средним тиражом в сто тысяч экземпляров», и – точка.
Продумывая план в деталях подвергаешь его смертельному риску. Непременно всплывёт какая-то неодолимая подробность, в которую твой план упрётся, как «Титаник» в свой айсберг.
Бздынь! А там и буль-буль…
Какое издательство станет рассматривать закорючки моего почерка?
Но как превратить переводы в машинописный текст?
Обучиться печатать самому – заманчивый план, вот только где машинку взять?
У секретарши СМП-615 стоит бандура с нашлёпкой «Ятрань» и с электрическим шнуром, чтобы совать в розетку.
Питаясь напряжением в 220 вольт, машинка да-дахает неудержимыми очередями, как автомат Калашникова, ничуть не похожими на зазывное цоканье печатных машинок в кинофильмах.
Вот только секретарша украинского не знает, и вообще печатает одним пальцем.
О том, чтоб мне после работы приходить в контору на часок и мало-помалу… – и думать не моги: новый начальник чересчур ревнив.
На административный корпус у него воззрение как на персональный курятник, он не потерпит ничего подобного, даже после работы.
Упор в непредвиденную подробность крепко меня озаботил и полностью затормозил исполнение плана…
Мы работали в локомотивном депо, строили трёхэтажный административный корпус, когда Наташа, при встрече, походя сказала мне, что Ира в Нежине собралась замуж.
Усомняться в словах сестры бесполезно; их просто надо принимать как данность.
Однако, такая данность навалилась и придавила меня не на один день.
Выручил случай. Бригадир Микола Хижняк предложил мне разобрать риштовку вдоль готовой перегородки на втором этаже.
Чтобы поднять перегородку до плит перекрытия, приходится устанавливать кóзлы, настилать на них доски и уже с них продолжать кладку, потом добавить ещё один настил и вот он потолок.
Перегородок на этаже много и кóзлов на всех не хватает и тогда устраивается «рацуха» (так в бригаде переиначили слово «рацпредложение»).
Несколько поддонов сшиваются попарно гвоздями и работают вместо кóзлов. У поддонов рост пониже, поэтому поверх первого настила снова устанавливаются спаренные «кóзлы» для следующего.
Вся эта приспособа смахивает на карточный домик и хлипче, чем кóзлы, однако, работает.
Разборка всей этой мудрации тоже не сахар – какие-то из досок настилов прибиты к поддонам, другие нет; сдёргиваешь их и сверху сыпятся осколки кирпича и наслоившийся засохший раствор.
Мало кто любит разбирать риштовку, ну, а мне оно, типа, шахматного этюда.
Просто от осколков надо вовремя уклоняться.
Но в тот раз я послал шахматы к чёрту.
Взбеленившись, как облопавшийся мухоморами викинг, я выворачивал железным ломом доски, визжавшие застрявшими гвоздями.
Я сбросил верхний настил и, мечась и беснуясь по навалу досок под ногами, расшибал опорные шалашики сшитых поддонов замашистыми ударами всё того же лома и то ли рыкал, то ли орал:
– Свадьба?! Вот вам свадьба!
Ноздри мои округлились, распираемые бешеным гневом и толчками гоняли сухую пыль, взбитую валящейся риштовкой, в себя и обратно.
Хорошо хоть иногда дать себе волю до полного самозабвения. Только не каждому это дано.
Я, например, отлично сознавал, что повторяю игру актёра из недавней экранизации странствий Одиссея.
Он точно так же стягивал губы поверх оскала зубов, когда вернулся домой и начал одного за другим мочить женихов своей жены Пенелопы.
И насчёт свадьбы, которая «вот вам!», то и это цитата из фильма.
В любом случае, за считанные минуты на месте риштовки валялась груда досок вперемешку с поддонами.
Клубы пыли заполнили помещение, а в коридоре Катерина, затаившись у дверного проёма, напряжённо вслушивалась – о какой это я свадьбе?
Моя сестра Наташа так никогда и не сообщила о новом замужестве Иры.
Похоже, в тот раз мы с Одисеем сломали нормальный ход её дальнейшей жизни.
( … вот и выяснилось, что никакой я не волк и не ахулинамист, а обычная собака на сене.
Типа тех королей, что отправляли своих разведённых жён под домашний арест в какой-нибудь монастырь.
Хотя, если при монастыре найдётся правильный садовник от Боккаччо…
Опять меня заносит: мало мне своих проблем, чтоб лезть в королевские?..)
Зато именно Наташа подарила мне решение титанически непреодолимой проблемы превращения рукописей в печатный текст.
Она сказала, что по улице между площадью Конотопских дивизий и Сенным рынком есть машинописное бюро.
Может там кто-нибудь согласиться напечатать мои переводы?
Двухэтажный дом машинописного бюро напоминал «Черевкину школу». От входа наверх вела широкая деревянная лестница и там в паре смежных комнат машинистки с поразительной скоростью стрекотали своими печатными машинками.
Одна из них, по имени Валя, в короткой блондинной стрижке, согласилась напечатать небольшой рассказ из тонкой тетрадки, который я принёс для пробы.
Она назначила день, когда мне надо будет придти за готовым текстом.
Замирая сердцем, я сказал, что у меня есть ещё переводы. Она ответила, что могу приносить и их – по одному, по два.
На мой вопрос об оплате она непонятно отмахнулась.
Месяца два с половиной, может три, я пробирался в назначенные Валей дни в машинописное бюро.
К дому бюро я подходил по противоположному тротуару, как обучают друг друга подпольщики и конспираторы. Нырнув в дверь входа, я прокрадывался на второй этаж – лишь бы не спугнуть подвернувшуюся шальную удачу.
Когда я отдал Вале перевод последнего из рассказов и снова попытался выяснить насчёт оплаты, она опять отмахнулась.
Труд обязан вознаграждаться, поэтому я решил заплатить – если не деньгами, так натурой.
Возле трамвайной остановки на Миру в первом этаже пятиэтажки тянулся ряд магазинов, нависавших над тротуаром своими косыми витринами. Крайний справа – «Цветы», а на другом конце, ближе к площади, ювелирный магазин.
Там, после обхода стеклянных ящиков-шкафов с непомерно дорогими ожерельями, браслетами и золотыми кольцами, я купил серебряную цепочку за 25 руб.
В качестве футляра для неё была приобретена круглая лакированная пудреница с орнаментом, за 5 руб. с чем-то, но это уже из отдела «Сувениры» в Универмаге.
Забирая текст последнего рассказа, я отдал Вале пудреницу и попросил заглянуть под крышку. Оттуда потянулась длинная цепочка белого металла.
– Мельхиор?– спросила машинистка из-за соседнего стола.
Я не стал никому ничего объяснять: кто захочет – найдёт способ определить из чего.
В тот месяц алименты в Нежин и Конотоп съехали на 15 руб.
За пару дней до Первомая меня опять потянуло на ритуалы.
С Декабристов 13 я принёс на объект кусок яркокрасного кумача, 40 х 40 см, прибил его на двухметровый брус из кучи останков бывших риштовок и получился весёлый флажок.
Чтобы флажок не мешал работать, я закрепил его на готовом углу кладки стен третьего этажа и там он радостно реял под весенним ветром, над рекой железнодорожных рельсов, стекающих к Вокзалу по ту сторону стены из бетонных секций вокруг локомотивного депо.
Пётр Кирпа спросил что это я опять творю и мне пришлось прогнать ему насчёт дня международной солидарности трудящихся.
Он пообещал, что я допрыгаюсь, но бригада промолчала.
Укладывая кирпич в стену захватки, мы иногда оглядывались на весело трепещущий кусок кумача над нашими трудовыми спинами.
Утром первого мая, в джинсах и светлой рубашке, я вышел на веранду обуть туфли.
Там же оказались и мои родители.
Они уже много лет считали себя свободными от хождения на демонстрации.
Я сел на маленькую табуреточку отцовского производства, чтобы завязать шнурки на чёрных кожаных туфлях.
– Ты никуда не пойдёшь,– сказала мне моя мать, стоя между мной и остеклённой дверью веранды.
– Посидишь дома,– подтвердил мой отец и задвинул засовчик на двери – плод своего слесарного искусства в Рембазе.
Происходящее смахивало на домашний арест без суда и следствия. Всё так же сидя, я кручинно опустил голову и негромко затянул протяжную песню:
Ой, Днипро, Днипро, Ты широк могуч, Над тобой плывут облака…Дальше я не знал слов, медленно поднялся и сделал шаг к выходу.
Мой отец поймал мою шею в захват своими трудовыми руками молотобойца, дизелиста и слесаря.
Меня всегда восхищала рельефность бицепсов его рук.
Мать моя повисла на моём противоположном плече.
Волоча их суммарный вес, я продолжал медленно продвигаться к двери. Там я отодвинул задвижку, выкрутился из удушающей хватки двух противоборцев и спрыгнул с крыльца на кирпичную дорожку к калитке.
– Гадёныш!– крикнул мой отец.
– Негодяй!– вторила ему моя мать.
С победным смехом я воскликнул:
– Мама! Догогонь!
( … так, по рассказам родителей, в двухлетнем возрасте я выговаривал «догони!» …)
С тех пор я перестал разговаривать с родителями и перестал ходить на демонстрации.
Вместо этого я сворачивал на Профессийной влево и шёл до самой окраины, где дома сменяются лугом и деревьями лесополосы вдоль насыпи железнодорожного полотна. Оттуда пустынная полевая дорога вела меня в сторону станции Куколка.
До станции я не доходил, а через пару километров сворачивал на отделяющуюся от насыпи ветку пути, по которому никто не ездит – он запасной, на случай войны.
Одинокая рельсовая колея соединяет киевскую и московскую часть магистрали в объезд Конотопа.
Он ж стратегически важная узловая станция и его разбомбят в первую очередь.
Вот зачем понадобился объездной путь, который, не заходя в Конотоп, плавной дугой через пустые поля выводит к сеймовскому лесу.
Возле остановки «Присеймовье» я уходил к реке, где когда-то, ещё неженатыми, мы отдыхали с Ирой.
Там я прочитывал «Morning Star» почти от корки до корки – кроме последней спортивной страницы, которую всегда игнорировал.
Газету я оставлял лежать на берегу – авось кому и пригодится.
Обратный путь тянулся вдоль основной двухколейной магистрали. Тропою под её высокой насыпью я входил в Конотоп и долго шёл вдоль огородов – аж до второго моста, где железная дорога сворачивает к Вокзалу.
Тут мы с ней расставались и по окраинным улочкам я шёл вдоль Болота уже в вечерней темноте, чтобы за старым кладбищем пересечь улицу Богдана Хмельницкого, а потом по Сосновской выйти к конечной трамвая, откуда до Декабристов всего ничего.
В целом получался замкнутый круг – откуда вышел, туда и вернулся, прошагав весь день. Эти сольные марш-броски заменили мне демонстрации.
…ах, о чём мы хохóчем? ведь не óчень охóчи…Но всё это в дальнейшем, а в самый первый раз при мне не было газеты «Morning Star», но было ощущение булавочного укола в грудь слева. И он никак не проходил, сколько не почёсывай рубашку в этом месте.
И даже ночью он оставался со мной, поэтому с утра я решил заняться трудотерапией.
Я отправился в локомотивное депо, проник на его безлюдную и тихую, по поводу второго праздничного дня, территорию и там вышел к незавершённому строительству административного корпуса.
У груды силикатного кирпича навéзенного самосвалами я установил пустой поддон и принялся складывать на него кирпичи.
Иногда приходилось левым локтем зажимать грудь, пронзаемую уже не булавкой, а спицей.
Когда на поддон были сложены все двенадцать рядов кирпича, я сказал себе, что жить буду и поднялся на незавершённый третий этаж.
Тут я снял с угла кладки Весёлого Роджера, сунул его в дыру одной из плит перекрытия и присыпал засохшим раствором.
Запугиванья Кирпы остались пустой угрозой – в то лето меня так и не увезли в Ромны.
Неужто я поумнел?
Сомневаюсь. Просто как-то не подвернулись ничьи высокопоставленные мозоли.
К середине мая игла, или булавка, или что уж там воткнулось мне в грудь, потихоньку сама собой вытянулась, а через много лет мне стало ясно, что это я пережил свой первый инфаркт.
В моём не продуманном в подробностях плане подкатила несложная и даже приятная деталь – сборка отпечатанных текстов в один общий том рассказов.
Для этого я купил в Универмаге папку с плотной пластиковой обложкой и никелированными кольцами-застёжками внутри.
Обычно в таких папках держат общегодовые бухгалтерские отчёты на полках, в ряду таких же папок с широкими корешками.
Дырокол для пробивки страниц машинописного текста по размеру кольцевых застёжек я взял у секретарши СМП-615.
Начальник аж позеленел, увидав меня в пределах своей птицефабрики, но его мозоли ещё не доросли считаться высокопоставленными.
Смонтированный в папке сборник рассказов разместился в симпатичном целлофановом пакете и я повёз его – трубите фанфары! литавры гремите! – в стольный град Киев, в книжное издательство «Днiпро».
В первом кабинете, где я гордо объявил, что тут, вот, у меня сборник переведённых рассказов В. С. Моэма, улыбчивый молодой человек ответил, что по Моэму он не специалист и нужный мне сотрудник сидит через два кабинета по коридору, может быть, проводить?
С не меньшей благовоспитанностью я сказал, что, по-моему, и сам найду, спасибо.
В кабинете по указанному адресу сидел полноватый, но тоже молодой человек и с отвращением смотрел на кучку машинописных страниц в фиолетовой картонной папке с белыми шнурочками-завязками на своём столе.
От Моэма он не открещивался и тогда я вынул и положил ему на стол увесистый том в серой пластиковой обложке.
Он нехотя открыл, глянул на название первого рассказа – «Дождь» – и спросил кто меня прислал.
Я обомлел и начал лихорадочно догадываться: выходит, сюда нельзя от самого себя. Такие номера тут не проходят. Надо чтоб меня прислал герцог ***, тогда приёмщик поймёт чей я вассал, сопоставит вес герцога со своим сюзереном – маркизом ***, и будет знать как меня принять.
Последует удостоверительный звонок по телефону и станет уже окончательно ясно куда сунуть страницы печатного текста оказавшиеся у него на столе.
Но куда, при такой системе, независимому копьеносцу податься?!
Он, на всякий случай, ещё раз раскрыл том где-то посередине и тут же захлопнул обложку.
– Я просто посыльный,– ответил я.– Меня попросили отнести в ваше издательство, вот я и принёс.
– Кто?
Я открыл обложку и показал квадратик бумаги приклеенный к ней с изнанки, где, на всякий, значился мой конотопский адрес.
– Вот этот мой друг,– сказал я.
Должностным лицам говорить с посыльными гонцами не по рангу, тем более даже не от какого-нибудь никудышного маркграфа, а из Конотопа.
Мы холодно простились и я ушёл.
На следующий вечер в Конотопе, на улице Декабристов 13, меня, после работы, ждала на полках этажерки бандероль в жёсткой горчично-коричневой бумаге почтовых отправлений.
У меня не было причин открывать бандероль. Зачем?
По размерам и знакомому весу я и не глядя знал чтó там внутри.
Годовой отчёт за минувшие шесть лет жизни – 472 страницы; 35 рассказов Моэма в переводе на украинский язык.
Странно как она вообще не пришла в Конотоп раньше моего возвращения из Киева.
А ещё странно, что эта нераспечатанная бандероль с нечитанными рассказами оставила меня таким отморожено безразличным.
( … ага, выходит, эти шесть лет не вписываются в феодально разгрáфленную систему книгоиздательского дела.
– Кто вас прислал в нашу квадратно-гнездовую реальность?
– Извините, я не в ту дверь постучал.
«Прощайте, пэры и пэрухи, сэры и сэрухи!»,– как говаривал дядя Вадя, большой знаток вассальной зависимости из учебника средних веков …)
~ ~ ~
~~~башня слоновой кости
Вместо одного экземпляра книги рассказов Моэма из не очень большого, стотысячного тиража, на полках прочно улеглась увесистая бандероль.
В той части, что зависела от меня, план был исполнен по всем пунктам и это лишило жизнь дальнейшей цели.
Жизнь катилась по наезженной до блеска колее, но уже беспланово и бесцельно.
Впрочем, если не задаваться вопросом «зачем?», то и парнóй по четвергам с последующими парой бутылок пива достаточно, чтобы прожить ещё неделю.
Вон, тибетские монахи и без этого обходятся.
В моём, не совсем тибетском образе жизни явно не доставало плотских утех.
Однажды я поймал себя на том, что приходя с работы на Декабристов 13, всякий раз окидываю взглядом стадо обуви, беспорядочно толпившейся вокруг обувной полки на веранде.
Углублённый самодопрос прояснил, что мой взгляд высматривает высокие австрийские сапоги на танкетке.
Но это не моя вина, если выпускаемая в Австрии обувь настолько долговечна, что просто ни в какую не желает износиться в памяти.
Однако, откуда взяться сапогам летом?
И чего ради она приедет в Конотоп, а тем более на Декабристов 13?
Такие риторические вопросы помогали выставлять себя на смех перед самим собою, но не могли предотвратить ночных поллюций.
Глубокой ночью сон мой прервался оттого, что вскинув голову, я резко уронил её на деревянный подлокотник раздвижного дивана, повыше подушки.
Однако, боль и кровь из рассечённой брови не заслонила факта промоченных трусов. Я снял их, обтёрся и забросил за дальний подлокотник возле оклеенной обоями стены – утром уберу.
Включив стоявшую на столе лампу, я вернулся и откинул одеяло.
Блин!
Тёмное влажное пятно красовалось на малиновой скатерти, которая давно лишилась бахромы и перешла в разряд диванного покрывала.
– Всё правильно,– сказал я сам себе.– Именно для этого ты её и украл.
Потом я сделал в покрывале складку поверх пятна, чтоб не касаться мокрого, и лёг досыпать ночь.
Для меня дыры чёрные — Белые пятна… …И сплетаются в жгут без ответов вопросы, Окропя чёрным семенем белую простынь.А ещё трудно стало ездить трамваем в часы пик. Если стиснут со всех сторон, как вогнутую бубну, это куда ни шло, но когда при этом уткнут в пышное бедро молодой женщины – хоть «караул!» кричи.
У тебя тут, естественно, попрёт ломовая эрекция, которую не в силах утаить даже оба ваших плаща. Причём отступать некуда – пассажиров больше, чем селёдок в бочке.
Вот и стоишь, уныло глядя за окна бегущего вагона, типа, я тут не при чём.
Но если не твой, то чей же?
Благословенны будьте повороты и прочие извивы у путей трамвайных – Пособники сладчайших прикасательств, вполне пристойных и почти случайных…Вот это всё и доводит до сексуального голодания, которые научные умники укоротили до термина «либидо». Лебеду эту весьма рекомендуют людям творческих профессий, типа, от неё круто поднимается качество произведений.
Но мне на кой хрен это либидо?! Я вам не Ван Гог, и не Волт Витмен.
Мой план исполнен и забандеролен.
Но как избавиться? Вот в чём вопрос.
Проклятое либидо настигало меня не только в общественном транспорте, или эротических сновидениях, но даже и на рабочем месте. Просто здесь творческий оргазм начинался минуя стадию физиологической эрекции.
Например, на 100-квартирном меня привлекла незнакомая молодая штукатурша.
С одного взгляда ясно, что эта сельская красотка лишена каких-либо интеллектуальных запросов, но чистота румянца, манящие абрисы грудей и бёдер (даже под наглухо застёгнутой спецовкой) обезоружили меня и приковали.
Я решил накропать свою Песню Песней, используя штукатуршу как натурщицу.
Обычно штукатурные работы на объекте начинаются после засыпки плит пола керамзитом.
Керамзит – хороший теплоизоляционный материал, вот только хрустит под ногами пока не покрыт стяжкой.
Обернувшись пару раз на мои осторожные шаги по керамзиту – я подходил к дверному проёму уточнить детали уже слагаемого шедевра – натурщица спросила Трепетилиху, которая затирала оконный откос:
– А может этот украл мой мастерок?
– Ты шо!– ответила Трепетилиха.– То такой, шо потопчется по твоему мастерку, но не поцупит.
С учётом размеров моего тогдашнего либидо, новая Песнь Песней, как пить дать, превзошла бы творение Соломона и лишь облыжное подозрение в краже уберегло всемирную литературу от предстоящей переоценки своих ценностей.
С высокой скалы сбросил либидо своё Я в синее море И увидáл — Как синее море тонет в либидо моём…Блин! Три залёта в Ромны и два развода не оставляют и одного шанса из тысячи на серьёзные отношения.
Вот и держишь себя в смирительной рубашке.
А вот вьюгу не зануздаешь.
Хорошо хоть не в морду, а в спину; подгоняет меня к Вокзалу в предутренних сумерках. Плотные потоки снега в шквалах ветра обращают сумерки обратно в темень.
По колено в сугробах, я бреду по предполагаемой дорожке вдоль путей. Бетонные столбы, что держат над рельсами контактный провод, стали вехами, чтобы не очень-то петлял.
А вот назад уж лучше не оглядываться – снег мигом облепит лицо.
Да и смотреть там не на что: было – прошло.
Только зачем я вижу её обнажённое тело в этой белой пене пурги?
И она не одна – слепляется с кем-то. Не со мной…
Я отворачиваю лицо назад – под оплеухи снега, чтобы очнуться и не видеть.
Включаю в мозгу взрыды органа из подвала Дома Органной музыки, они обрывисты и не точны, но отвлекают…
Наверное, я точно извращенец – даже от любовной сцены между моей женой и неизвестно кем, впадаю в эрекцию среди этой снежной бури.
Жена? У тебя нет жены!
Ну, ладно, не жена – любовь всей жизни.
Заткнись, придурок!..
Я отчаянно мотаю головой и со стоном пошатываюсь на ходу.
Твёрдый скользящий удар сзади по левому плечу призывает к порядку. Электричка из Нежина пробирается сквозь пургу к Вокзалу.
Электрички всегда правы – у них нет отклонений.
Вон и фонари завиднелись над четвёртой платформой, а на площади будет автобус-«чаечка».
Всё нормально, я такой же как все.
Весенним поздним вечером на привокзальной площади кому-то поплохело. Может, сердчишко подкачало, или ещё что, но рухнул мужчина на асфальт.
Однако, «скорая» – молодец; подкатила, когда ещё не утихли женские «ахи!» в небольшой сгрудившейся толпе.
Идя к Вокзалу через парк Лунатика, начало я пропустил, увидел только заключительный акт – отъезжающую скорую и рассасывающуюся группу людей.
Однако, от пьедестала памятника Ленина ещё доходили отголоски эха «ахов!», так что сложить остальные два плюс два труда не составляло.
С площади, по аллее от входа в парк навстречу мне задумчиво шагала одна из свидетельниц происшествия.
Когда мы поравнялись, она вдруг повторила «ах!», но уже потише; всплеснула руками, как в Лебедином озере, и повалилась на меня.
Что оставалось делать? Естественно, подхватил. Подмышки.
И джентельменски отволок на лавку из зелёных брусьев в невысокой стене подстриженных кустов.
Она сидела молча, свесив голову, и я галантно помалкивал рядом – в густой тени дерева, заслонившего свет фонаря из аллеи.
Я сидел рядом и молча, в уме, зачитывал себе на тему бесполезности каких-либо затей при моём непроглядным прошлом, тем более в городе, где все друг друга знают.
Когда взаимное молчание стало чересчур навязчивым, она положила мне руку на плечо, сказала слабым голосом «спасибо» и ушла.
Я тоскливо смотрел вслед светлому пятну её длинного плаща, удаляющегося по аллее, и думал:
«Идиот! Обнял бы девушку за талию и пусть сама решает: положить тебе голову на плечо, или сказать «не наглей!» и потом уже уйти.
Так нет! Всё за двоих решил! Вот и остался на бобах с твоим долбанным потоком сознания, с либидо и ночами долгими, как у принцессы на горошине.»
– Так ты, родной, был с Катькой в парке?
– О чём ты, Натаня?
– Ладно тебе. Катька из нашей бухгалтерии сама рассказывала – ей в Лунатике плохо стало и она упала на тебя.
– Она меня с кем-то путает.
– Врёшь!
– Везёт же ж некоторым! Катьки на них в парках падают…
После получки я сошёл с нашей «чаечки» возле автовокзала и завернул в почтовое отделение – разослать по тридцатке алиментов. Потом я снова пересёк Клубную и пошёл вдоль парка Лунатика в сторону Вокзала.
– Эй! Ты ж из «Орфеев», нет? Огольцов?
…молодой мужик моего возраста, рядом с ним женщина, жена наверное, тоже идут к вокзалу…
– Да.
– Я тебя знаю! Ты учился в Нежине, а я знал твою жену Ольгу.
…нет, никогда не видел, а мою жену знал не ты один…
Он поозирался вокруг, будто выискивал на тротуаре булыгу, чтобы огреть меня по темени, потом ткнул пальцем в сторону своей спутницы, которая упорно смотрела в сторону.
– Во! Прикинь – идём и всю дорогу долбает меня во все дырки!
…чего ж не понять – знал во все дырки… вот же ж допотопщина, тут бродишь весь в страданиях насчёт флейты Иры, а он всё ещё про Ольгу никак не уймётся…
– Ладно. Передавай привет моей жене Ольге.
– Ну, ты… д-дурогон!
Предоставив их друг другу, я сворачиваю с Клубной в парк, на дорожку ведущую в ДК им. Луначарского, но огибаю его справа и, за спиной белого памятника Ленина, иду по диагонали к боковому выходу из парка, потом мимо одиннадцатой школы, на конечную третьего трамвая на Переезде.
Возле Базара в трамвай вошли Чепа и Владя.
– Привет!– говорю я.– Как дела?
Чепа настороженно кивает и они тоже говорят:
– Привет!
Трамвай, громыхая, везёт нас к тринадцатой школе. У меня вырвался негромкий смешок.
– О чём ты смеёшься, Сергей?– с небывалой корректностью спрашивает Чепа.
Это ж надо! Первый раз в жизни он назвал меня по имени, а не школьной, или лабуховской кличкой. Да ещё с такой напыщенной серьёзностью, будто лорд-спикер, обращаясь к пэру из оппозиционной фракции.
– А… вспомнил Владин стих. Помнишь, Владя, мы писали стихи на уроках?
Я тогда ему нарифмовал, что он поутру в рог трубит и бьётся на мечах с другим рыцарем. Так он мне в ответ выдал:
Но твой расчёт не удался́ Покрыть меня военной славой И за трубу я не брался́ — Я в тот момент сидел в канаве…– Ну, помнишь, Владя?
По тому насколько неопределённо он пожал плечами, стоя между рядами пассажиров на сиденьях, я понял, что таких воспоминаний он не держит и решил, что мне лучше сойти возле тринадцатой школы, чтобы не напрягать бывших друзей.
Ноги сами несли меня по Нежинской, по Евгении Бош, по Котовского, они знали эти улицы досконально, а у меня, на досуге, было время думать о том, о сём….
…этот переводчик из «Всесвита» неплохо сработал стихи того чеха… а на русском как получится?
Иду и улыбаюсь сам себе А как подумаю чтó Обо мне решат прохожие, И вовсе – хохочу!..…нет, во «Всесвите» лучше, переводчик молодец, но чех ещё молодчее, да и вообще чехи – молодцы… взять хотя бы Яна из Большевика… стоп! Яна брать не надо, а то всё выльется в одно заунывное Сю-Сю для выжимания горючих слёз из насухо окаменевшей губки, что уже год как завалилась за буфет… но этот чех и впрямь хорош, показал как надо делать завещание поэта… до него одни только двухходовки: ах, похороните, чтоб по весне надо мной соловей песни пел… а меня там, где слыхать течение Днепра… полный эгоизм и потребительство, то ли дело – хохотунчик-чех, всё чётко, начиная с породы дерева: заройте под липу, чтоб корни их качали соки из меня аж до цветов на их ветвях, а пчёлки тот нектар пускай уносят в улей, чтоб с мёдом были булочки у молодых красоток, когда чайкý попить изволят … вот оно рыцарство! он их и после смерти на спецпаёк сажает, закормлю, говорит, деликатесами… но при чём тут Чехия? шизофрения наднациональна, нерушима и неделима … хотя бывают и перебежчики, типа Фрейда, ставят своё видение мира на службу своему карману и открывают венскую школу… горшочек варись, горшочек не варись… а под занавес, после жизни проведённой среди неврастеничек с истеричками и занафтализированными докторами паутинных наук, не задавал ли ты сам себе вопрос, глядясь в зеркало: ну, что, Зигги, помогли тебе твои ляхи?.. а ведь мог бы остаться вполне нормальным шизиком, свободным… но что оно свобода и где у неё пéред? как говорит Пётр Лысун… свобода от чего? и тут тебя фиксируют национальные традиции: для англичанина Шекспира это свобода от времени – «прервалась связь времён» описывает он заурядный клинический случай, а для хохла в самом уже термине отрыв от бога: «божевiльний», причём существование и того и другого за пределами доказуемости… и, унюхавши, что привязь уже не держит – вперёд! с упоеньем до умопомраченья… только заруби на носу: на воле-то хорошо, да больно мокро и студёно… и в этом весь подвох: как избежать диктата ответственного за сохранность стада, и вместе с тем иметь все удобства стадного образа жизни от тёплой бабы под боком и до прохладной водочки из морозилки?.. посложнее квадратуры круга… опаньки! Декабристов? так быстро? ни себе чего!.. Меркуцио повезло с другом, его Ромео вовремя б одёрнул: «ты о пустом болтаешь! гляди, не то утопаешь на Циолковского»… не понял, а что это Леночка перед калиткой прогуливается?..
– Папа, к тебе гости.
– Какие гости?
– Не знаю, говорит, что твой друг.
Звякнув клямкой калитки, я захожу во двор.
На лавочке возле крыльца, воздев взгляд глаз к нижним веткам от яблони за спиной, сидит мой гость, он же друг, пуская дым папиросы к листьям.
– Привет, Двойка.
– Здорово, Ахуля.
Он явился электричкой из недалёкого Бахмача в соседней области и последней вечерней отбудет восвояси.
До отправления оставалось не так уже и много, но и не мало и мы не торопясь двинули на Вокзал.
По пути мы повспоминали золотое времечко, Славика с Петюней; в общих словах обрисовали свои дела за истекший период.
Опечаленно вздохнув, Двойка признался, что ему известно, будто у меня всё пошло наперекосяк.
Ну, а он, тем временем, закончил институт и, по распределению, стал учителем химии в села Варваровка – за шесть километров от его родного дома.
Столь выгодное распределение друга не стало для меня сюрпризом; в эпоху дефицита экспедитор районной торговой базы – это его мама – располагает рычагами помощнее, чем даже секретарь райкома партии.
В Варваровке всё потопало в самогонном море и выплыть могла лишь недюжинная особь, с генетической устойчивостью к перваку, доставшейся от казацких предков.
Промежутки в работе с детьми школы заполнялись гулеваньем с полублатными хлопцами райцентра, да поездками в Нежин – переспать в общаге со студенточкой пошлюховатей.
В армию сельских учителей не берут, как не берут туда и тех, кому исполнилось 27 лет.
По достижении указанного возраста Двойка понял, что ему пора расти.
Профессор из нежинского института, которому перепадали дефициты с маминой торговой базы, составил протекцию в какой-то киевский НИИ.
Аспирантура. У каждой буквы персональный ореол.
Чтоб влезть в аспирантуру, Двойка готов был помолиться всем богам.
Профессор свёл маму с нужным человеком из НИИ и она провела необходимые переговоры, но Двойка всё же сходил ещё и во Владимирский собор, где вознёс молитву и не поскупился на двухпудовую свечу, а теперь, на всякий, заявился и ко мне.
Ведь я тот самый Ахуля – элита общаги, восходящая звездой англофака, носитель благословения, как Иаков, как Иосиф…
( … чёрт его знает, что такое благословенность, но Томас Манн говорил, что она, таки, есть …) C
Похоже Ахуля гробанулся под откос и расплескал свою благословенность, но вдруг капля-другая не разлились? Пусть брызнет и на него, на Двойку.
Про капли он мне ничего такого не говорил – поставил точку на гигантской свечке, всё остальное плод моей горячечной фантазии.
Под конец, Двойка перешёл к своим ближайшим планам и без околичностей, выложил деловую суть, по которой мне терять нечего и если попадусь на чём, то меня сажать не станут, тогда как у него научная карьера впереди. Осталось только отбыть эту аспирантуру. Зато в случае удачи светит приличный куш.
Короче, один, типа, деловой из Киева, хочет закупить сумки две дури. Но не принимать же Двойке его у себя на селе: а вдруг деловой окажется опером? Лучше пусть я продам в удобном для сделки месте.
От такого предложения мне стало как-то даже и тоскливо – за политику в Ромнах держат 45 дней, а на сколько прикроют за анашу? И там тебя могут сделать беспробудно спящим…
Но Двойка прав – терять мне нечего, ведь, по-моему, мой план по Моэму исполнен, и я согласился.
На второй платформе мы обменялись прощальным рукопожатием: да помогут тебе, Двойка, мои неразбрызганные капли, если ещё что-то осталось. Поступай в свою аспирантуру – большому кораблю большое и плавание.
На столе телеграмма из Киева:
« Суббота 12.30. Метро Вокзальная. Будут ребята ».
Подписи нет. Значит друг мой меня зовёт – Двойка.
Всю приходящую мне почту родители кладут на стол под лампу; приду с работы – увижу очередной номер «Всесвита». Но телеграмма из Киева приходит впервые, и текст какой-то конспиративный.
Поскольку на вопросы родителей я молчу как рыба об лёд, выяснение поручено Леночке.
Ей я отвечаю с уклончивостью дельфийских пифий, чувствуя как нарастает напряжённая тишина на кухне и в смежной комнате.
– Тебе телеграмма.
– Как интересно.
– Уже прочитал?
– А что ещё оставалось делать?
– Из Киева? Да?
– Так здесь написано.
– А от кого?
– Здесь не написано.
– Поедешь?
– Можно и не ехать, если раздобыть дельтаплан.
Зачем я выпендриваюсь и напускаю туману?
А как же ещё привить вкус к философичным диалогам, к игре словами и приоткрыть ей, безматерной, извечную женскую тайну: чтобы к тебе не охладели, давай не давая?
Обычно эти прекраснословные беседы обрываются яростным негодованием кухни:
– Поговорила?! Уйди ты от него!
Свысока покосившись на меня, Леночка произносит «странно!» и идёт прочь.
Умная выросла девочка. Умеет лавировать, пусть пока ещё наивно, по-детски.
За спиною не слабая выучка, особенно от трёх до пяти; когда у неё вдруг испарилась мама, а папа показывался лишь на выходные, чтобы уйти к своим друзьям; вечером по будням за стенкою храпел пьянючий дед, а бабушка с досады, что улизнул-таки, хоть вместе шли из цеха к проходной, и что намёрзлась в ожидании трамвая, и что одна тащилась с сумками через потёмки и сугробы окраинных улиц – страшным криком кричала на девочку, грозя отдать её, гадость такую, в детский дом и ребёнку казалось – не бабушка это, а Баба-Яга, злая колдунья, хозяйка жутких чудищ, повелительница чёрной вьюги, что царапается в стылые окна; и все они против неё – пятилетней, одной, беззащитной.
Жаловаться – кому? Помощи ждать – откуда?
Вот и подладилась Леночка к любимой бабуле. Знает когда обнять, и чмокнуть, а та ей пирожные с кремом привозит из магазина «Кулинария» на Переезде, где пересадка в трамвай на Посёлок. Да ещё и шьёт ей всё на машинке.
С папы ей что? С работы приходит и шуршит книжками, вон даже настольную лампу купил. Ну, ещё тридцатка в месяц, а что восьмикласснице с тридцати рублей?
Зато бабуля на неё страховку завела: исполнится восемнадцать лет – получите, Леночка, две тысячи.
И чего хочешь вкусненького попроси – бабушка сготовит.
И про одноклассников всё до капельки знает, с ней есть о чём поговорить.
Правда, если спросишь что такое «счастье», или в чём красота – то папа интересней объясняет. И новую причёску так похвалить умеет, что от радости аж в носу щекотно.
Но всё равно, бабулечка – лучше.
Друг мой Двойка верно вычислил, что встречаться надо в 12.30. Именно к этому времени докатывается до Киева первая электричка из Конотопа.
Не учёл он лишь одного – что не терплю я быть поставленным в рамки, которые не от меня исходят. Так что в мать городов русских я прибыл двумя часами раньше – скорым поездом.
Прогулочной походкой я покинул звенящую трамвайной суматохой привокзальную площадь и по наклонной плоскости широкого пустого тротуара спустился к перекрёстку.
В столовую при Доме Быта следом за мной зашли с полдюжины цыганок .
Снимая плащ и шляпу на вешалку в углу, я чуть пожалел, что так совпало – дожидайся теперь пока их группа будет выбирать себе хавку и, перекликаясь на непонятном языке, подтаскивать свои подносы к кассе.
Впрочем, времени предостаточно.
Цыганки заняли выжидательную позицию и, поглядывая на меня, явно воздерживались идти первыми.
И тоже правильно – как проверить что тут у них съедобное сегодня?
– Хлеб забыли,– скользнув взглядом по моему подносу, буркнула кассирка.
– Не треба.
Пожав плечами, она отбросила на счётах уже приплюсованные было костяшки и приняла потёртую рублёвку.
За столом, скромно потупившись в капустный салат вприкуску с заварным пирожным, я старательно не обращаю внимание на диктора новостей, который в шапке и пальто вещает за соседним столиком, выдаёт жующей сотрапезнице последние известия своего мира – там вчера кто-то облопался ноксирона и коньки откинул.
Самый застольный разговор. Но что удивительно: этот столичный широковещатель слово в слово повторил уже услышанное мною в глуши провинциальной. Виталя-крановщик ещё на той неделе выдавал эту новость.
Совпадение, или плагиат?
Перехватив мой задумчивый взгляд, диктор гордо приосанился – владелец сногсшибательной сенсации.
В парикмахерской неподалёку от столовой очереди не оказалось, так что, когда я вернулся на вокзал побритым, до встречи с Двойкой оставалось ещё полчаса.
Чистильщик в сатиновом халате наярил мои туфли, мелькая вытатурованными на руках якорями.
Вместо того, чтоб глазеть на дамочек снующих мимо его будки в дверь женского туалета и обратно, я уставился на седину его склонившейся к моим коленям головы. Мужику это надоело.
– Чего смотришь?– спросил он, откладывая щётку и берясь за бархотку.
– Видать, понравились вы мне.
– Надо ж,– угрюмо хмыкнул он,– да я и сам себе не нравлюсь, а тут – понравился.
– Выходит, у нас вкусы разные.
И всё равно осталось ещё пятнадцать минут.
Я прохожу через необъятный вестибюль вокзала, по белокаменной лестнице подымаюсь на второй этаж и там, наверху, опираюсь локтями на широченный белый парапет над грандиозным залом, уходящим в сумеречную высь, и смотрю на суматошную неразбериху броуновского движения людей-частичек по выложенному блестящими плитками дну.
Минут через пять с ними смешается и эта, пока ещё свысока глазеющая на суету, частичка – я.
Их торопливые потоки редеют в центре зала, а затем уплотняются вновь. Причина феномена – атлетическая фигура в алой куртке, что похаживает там неспешными кругами. Ждёт кого-то.
Кого?
Не меня.
Меня-то никто не ждёт, если не считать Двойки, который сейчас, пожалуй, так же вот кружит у метро, в волнах пассажиров из соседнего – Пригородного вокзала.
Забавно.
В центре Центрального вокзала крутится в ожидании кого-то этот вот здоровяк, у соседнего, меньшего вокзала, крутится здоровяк помельче – Двойка, тоже в состоянии ожидания.
Если продлить эту линию, то где-то далее, скажем, на конечной трамвая ходит кругами ожидающий кого-то акселерант.
И получается как тот нескончаемый человечек в огнетушителе на лестничной площадке второго этажа детсада, который своими кувырками на картинках подводил меня к понятию о бесконечности.
Тот детсадный «я» даже и слова не слыхал такого – «бесконечность», но бесконечно глазел на огнетушитель и силился понять: где же кончаются те человечки в кепках?
Тот недотёпа – это я, сменивший его; а меня сменят другие «я» и все мы конечны, в отличие от человечка в кепке.
Чтоб скрыть лицо полями шляпы, я, на подходе к метро, упираю подбородок в грудь, вон он, мой друг Двойка, выхаживает вдоль шеренги телефонов на стене, выгуливает – туда-сюда – недавно заново отрощенные усики, престижно кожаное пальто, редеющую шевелюру и малость недовольную задумчивость.
Вот он снова развернулся и зашагал вспять. Догнав его, я неслышно следую сзади.
На краю площадки он снова поворачивается прямиком к моей ухмылке:
– Хелло, Двойка. А где ребята?
– Ахуля!
Запрокинув широкое лицо, он всхикивает характерным Двойкиным смешком – с тем же плотным прищуром, из-под которого прощёлкивает обстановку: что тут оно и как.
Он меня радостно облапил, отпустил и завёлся сбивчиво толковать про Славика с Петюней, которых всё-таки не будет.
Из пригородного вокзала хлынула новая волна прибывших очередной электричкой, и мы отходим к стене.
Двойка прекращает строить сбивчивые гипотезы о причине неявки ребят из Чернигова, просит «двушку» для автомата и крутит диск, заглядывая в записную книжку.
Как острил чернявый кагебист, лучше иметь тупой карандаш, чем острую память.
Мимо нас спешит навьюченный сетками, сумками, мешками, чемоданами, пакетами, вёдрами, коробками, связками реек, труб, портфелями, рюкзаками, саженцами и всякой прочей вообразимой и не слишком вообразимой кладью, поток новоприбывших – к метро и к остановкам всех видов городского транспорта на площади, взглядывая на эту пару столичных деловых.
Вон тот, что звонит, с широкой кожаной спиной, видать, босс, а этот, с цепким взглядом из-под низко надвинутой шляпы – телохранитель.
Хотя в толпе, возможно, не все знают такие слова как «босс», или «телохранитель», но нутром чуют уважение к такой вот паре – хотя бы уж за то, что без поклажи, что есть им куда звонить по телефону в этом столичном граде Киеве.
Откуда ей, толпе, знать, что Двойка в этом городе «чечáко», а я и вовсе проездом, по его телеграмме.
А, кстати, куда он звонит? Понятия не имею. Да и не важно, я ведь всего лишь орудие.
Есть с нами тот, кто всё за нас решит, а моё дело – исполнять приказы.
В прошлом году Двойка стал аспирантом, теперь он на прямом пути в кандидаты наук.
Стипендия выше студенческой, но очень-то не разгонишься.
Насчёт одежды без проблем – у мамы, считай что собственная, торговая база. Продовольственная программа тоже решена: на выходные Двойка приезжает в родное село, а там ему такие «торбы» соберут, что руки оборвутся.
Но за все эти блага приходится платить натурой – сносить родительские пильбища за рассеянный образ жизни; и все выходные работать по хозяйству и на огороде.
Двойка силою не обижен, и работа ему даже в охотку.
Особенно нравится носить что-нибудь веское и габаритное – охапки, вязанки, мешки с урожаем из огорода в сарай.
Выгребать навоз в загородке свиней, или у бычка, не так приятно, но дело знакомое, да и нужное – «где дерьмецо, там и сальцо», как говаривает старый поп их села.
Но эти маменькины стоны и причитания про киевских «прохвур», которые объедают и обирают его, лопуха такого, хоть кого взбесят.
Вот почему Двойке нужны живые деньги. А где взять?
Вагоны разгружать как в пору студенчества? Не солидно для аспиранта.
С общежитейскими соседями пульку расписать?
Тут у него навык то, что надо.
Преферанс это ведь чистая арифметика, а у Двойки в биографии два класса математической спецшколы, и нюх на партнёра – блефует тот, иль впрямь пришло? – да, плюс ко всему, внешность быковато наивного чада природы,.
Вот только в общежитии нет где развернуться – обдерёшь на пятёрку, потом ещё разок и – начали сторониться, на пульку не дозовёшься, такие все занятые, а друг с другом расписывают втихаря.
Запрутся у кого-нибудь в комнате и по копеечке за вист. Нищета.
Однако ж, должен же где-то быть высший свет, элита. Тут же столица, как никак.
Сыграть бы при свечах, на зелёном сукне, свежевскрытой колодою, да чтоб вист не ниже полтинника!
А без денег как выйдешь на тот свет?
Вот и начал Двойка строить романтические планы на предмет разжиться круглой суммой.
Первый план – стать нарко-бароном на рынке конопли, как-то усох сам собой.
За ним последовал план знакомства с мелькающими по столице иностранцами, на предмет бартера со шмотками из-за Бугра.
Тогда-то он и привлёк меня на роль исполнителя, которому терять нечего; и с той поры вошёл я в услуженье к Двойке на вполне приемлемых условиях, если тебе уже и впрямь всё пóфиг.
Связь с иностранцами тоже не наладилась.
В день попытки завязать подходящее знакомство по Хрещатику звучали лишь романские языки – подходить к таким иностранцам с моим английским толку мало.
Двойка разок атукнул меня на пару негров в широкополых шляпах, но от моего жизнерадостного предложения «tо have a talk» те, почему-то, шарахнулись и отмолчались. Наверное, где-то на танцах их уже приглашали «выйти поговорить».
Пришлось пояснить боссу, что это негры из бывшей французской колонии, английский с ними не катит.
Безрезультатная охота, похоже, Двойку притомила, или мой босс решил обдумать какой-то ещё план, но он плотно уселся на скамейку в университетском сквере и дал мне два часа на бесконтрольный свободный поиск.
Задание не слишком привлекательное, но надо же отрабатывать харчи, как потреблённые (пирожки с пепси), так и грядущие.
И, оставив его на скамейке, я не отлынивал и не увиливал, а без увёрток, добросовестно локаторил – не забазарят ли хоть с какой-нибудь стороны родным шекспировским?
На бульваре Шевченко группа аккуратных мужчин, минуя Владимирский собор, назвала его «касидрел». Неужто?..
– Нет,– пояснил один из них,– мы разговариваем на латышском.
Пожалуй, хватит.
Зайду, вон, только в отель ИНТУРИСТ и – всё. Последняя попытка.
Пусть, Двойка, как себе хочет, а мне надоело.
На широком крыльце перед стеклянным входом здоровяк с саксофонным шнурком шее вежливо поинтересовался чего мне надобно.
До чего ж наивный вышибала. Ну откуда мне – интуристу – знать эти местные их диалекты?
Снисходительно обозрев двухметрового аборигена, я без слов захожу внутрь и сворачиваю налево – к бару.
Английская надпись над стойкой призывает платить только местной валютой и извещает, что сегодняшний день недели – выходной.
Да, самое время передохнуть.
Массивные с виду кресла у полированных столиков очень вертлявы и жутко удобны.
Исполнительность вознаграждается: начни я сачковать, то не сидел бы сейчас в такой благодати – чай, помягчéе, чем Двойке-то на той скамейке.
В дальнем конце бара, у которого выходной, расселись врассыпную двенадцать апостолиц и ихний Учитель при них, с чёрной бородкой и пылкой проповедью истинной истины.
А у них что за язык? О том ведомо только им.
Скажу в отчёте Двойке, что попадалась делегация румынских птицеводов.
Через столик от меня, усиленно не глядя в мою сторону, две немецки-бесцветные дéвицы обмениваются краткими фразами.
Проклятый языковой барьер. Девули-то явно маются. Рады б, небось, услышать: «вы привлекательны, я замечательный и есть у меня друг Двойка, вчетвером скучать веселее…» Да только не услышат. Языковая тюрьма. У них своя камера, у меня своя. Даже смотреть друг на друга не смотрим, как та лиса на недосягаемые гроздья.
Но они-то хоть между собой калякают, а я? Так и останусь глухонемым?
– Эн офули найс плейс,– общительно сообщаю я немочкам,– эйнт ит? Бат (с лёгким вздохом разочарования) нобади то хэв э ток виз.
Галантно киваю на их изумлённые взоры:
– Бай-бай…
За истекшее с той поры время куш так и не подвернулся, но Двойке понравилось иметь со мной дело. Я, как юный пионер, на всё готов, и кроме того я – реликвия его студенческой юности.
Вот и потекли после первой такие же краткие телеграммы, которыми он вызывал меня по выходным – название села и дата, когда мне следует туда явиться.
Туда от Конотопа полчаса электричкой, а потом минут десять автобусом.
– Чего это ты как выходной с цветами на электричку? К жене что ли? Так, вроде, развёлся.
– К другу, в село. А цветы для его матери с бабушкой.
– Так что у них в селе цветов нет?
Есть. Но работы в селе – пропасть. Как приеду – то крыша, то сарай, то на огороде.
Потом, конечно, самогону пей сколько влезет, ешь чего хочешь – всего хватает, да только без цветов я б там вроде как батрак, а когда с цветами – словно бы гость.
Родительский дом Двойки стоит на краю села, в тесной улочке с названием Берег. Тесноту в ней создают не хаты, а фруктовые деревья сплошняком нависшие поверх заборов.
Дом, конечно, зовётся хатой, но по добротности это, всё-таки, дом.
Между воротами и хатой, налево в палисадничке неглубокий колодец, до воды метра два. Над ним жестяная крыша, вóрот с коленом рукояти и ведро на цепи.
Справа побелённая стена кирпичного строения, в котором есть всё – летняя кухня, чьё крыльцо почти смыкается с высоким крыльцом на веранду хаты, гараж для пока ещё не купленной машины, склад инвентаря, хлев.
Правда, в хлев вход не со двора, а с обратной стороны строения.
Пройдя между крылец, оказываешься на заднем дворе с длинным деревянным сараем для коз, кур, свиней и чего-нибудь ещё.
Под окнами хаты малинник и ещё пара яблонь, а дальше безмерный огород, за которым ровное поле и потом лесополоса скрывающая железную дорогу.
Колхоз этим полем не пользуется – слишком много подпочвенной влаги.
Привольно живут люди на улице Берег.
Глава в доме Раиса Александровна, мать Двойки, потому что муж её, Сергей, больше занят по хозяйству и ему не до болтовни.
Конечно, если что-то уж совсем ему не понравится, то может рявкнуть и осадить жену, чтобы закрыла халяву.
Тогда Раиса Александровна смолкает и, закусив губу, изображает бессловесную сельскую бабу, но это всё чистое актёрство – через пять минут на веранде опять зазвонит телефон и спросят Раису, а не Сергея.
Помимо домашних дел она заправляет местной политикой, принимая несколько визитёров за день.
Её излюбленный сценический образ – затурканная баба, вся в хлопотах и заботах, в заношенной кацавейке и косынке на чёрных волосах, вот только прищур чёрных глаз чуть-чуть не вписывается.
Косынку она повязывает то так, то эдак, меняя свой внешний облик по нескольку раз на дню. То на лбу повяжет узел, то под затылком, а то и сбоку – по цыгански – смотря кого принимает Раиса Александровна.
Для текущего посетителя, что своими джинсами, патлами и бородой смахивает на хиппи из Лос-Анджелеса, она вообще повязалась под подбородком.
Двойка говорит, что это молодой поп их села.
Хиппующий поп уходит, а через полчаса у ворот останавливается «жигуль» и во двор заявляется крикливая молодая баба, которой очень надо «хáлата».
Раиса Александровна принимает её на веранде и смиренно делает ей мозги минут сорок, прежде, чем отправить, посулив, что будет ей «хáлат».
Она на дому не торгует, за товаром приезжайте на торговую базу. По предварительной договорённости.
Раиса подмигивает нам с Двойкой вслед на удаляющуюся «хáлатную» матушку. Свят, свят, свят!
Но тут она решила, что мы с ним чересчур засиделись на крыльце за картами и снова посылает в огород – вскапывать грядки, или вывозить навоз на возке, что вязнет колёсами в чернозёме, или собирать созревшие початки кукурузы.
Но когда мы с Двойкой собираем из брёвен ещё один сарай, то она нам не указ; тут уже главенствует Сергей – объявил перекур, вот и играем.
Еда после работы не хавка, а добротный сельский харч на щедром сале, с укропным ароматом, с лёгким парком над тарелками и хрустящим зелёным луком на блюде в каплях свежей воды.
Главный кулинар в хате – баба Уля. Готовит она классно даже и одной рукой. Вторую, давно парализованную, она держит в кармане фартука на животе.
Самогон тоже она гонит в дальнем конце сарая. Ей нравится смотреть как в подставленную посудину капает горячий первак.
Мне нравится такая жизнь. Тут интересней, чем на пляже.
Мне нравится напористый одноногий сосед Витюк, мастер игры в подкидного.
А ещё больше нравится Ганя, сестра Раисы Александровны. В ней нет наигрыша и лишней ироничности. Она спокойна и внимательна и всё понимает.
Мне жаль, что у неё рак.
Врачи недавно вырезали «горошину», а как вернулась домой, муж так и не отстал, пока не показала свежий разрез от хирургического ножа.
Я знал, что она не выживет, потому что когда перекладывал дымоход плиты в её хате, старый огнеупорный кирпич оказался совсем трухлым.
Мне сказали класть снова тем же самым – другого нет, но я же вижу, что это не надолго.
Хоронили её без меня с душераздирающими причитаниями.
Когда Раису уводили с кладбища домой, сельские старухи ей и остальным плакальщицам кричали:
– Ну, что? Дозвались Ганьку? Вернули?
Двойка очень негодовал, рассказывая про такую жестокую чёрствость; а по-моему это древняя психотерапия и один из ритуалов в непрерывном спектакле жизни.
В мой следующий приезд во дворе под шелковицей сидел и муж покойной.
Я сразу и не врубился откуда такие звуки, думал щенок во двор забрёл, а это вдовец так расплакался. Здоровый мужик, водитель автобуса. Слёзы текут, а он и не прячет.
Если уж хором не дозвались, куда одному-то.
Их сын, парень лет восемнадцати, по шекспировски враждует с Двойкой из-за того, что полюбил его жену, а Двойка с ней развёлся. Обидел, типа.
Для меня вообще новость, что он успел жениться. Но Двойка сказал, что да, евреечка с биофака, на курс моложе.
Ещё он рассказал, что бывший тесть его, когда у кого-то в гостях, выпив, первым делом хватается за сало, в смысле, показать, что он не из кошерных.
Теперь уж тесть воспитает сына Двойки как ему вздумается, хоть даже ортодоксальным евреем, под самой что ни наесть наиукраинской фамилией.
И тут Двойка вздохнул.
Раиса Александровна не дала ему тужить и крикнула от телефона, чтоб Двойка переодевался в чистое, потому что привезут невесту на «оглядыны».
Она старается найти ему хорошую партию среди местных девушек, поэтому их периодически привозят на улицу Берег. Иначе в Киеве какая-нибудь «прохвура» точно окрутит этого лопуха.
Двойка беззвучно матюкнулся и пошёл переодеваться.
Вскоре за воротами послышалась машина и двое родителей провели нарядную девушку в хату.
Я остался на крыльце летней кухни один, но потом ко мне присоединился посетитель.
Какой-то старик согнутый буквально в дугу. Он стоя не может смотреть человеку в лицо, а только ниже пояса.
Мы неспешно разговорились и старик исповедался мне, что был когда-то молодым и стройным сельским писарем, щеголял гимнастёркой и офицерскими сапогами.
Началась коллективизация и при его писарском содействии составлялись списки кого раскулачивать. Теперь никому не может в глаза смотреть.
А всё ведь бéстолку. Внуки бедняков, которым тогда ключи достались и печать сельсоветовская, теперь вон тоже в нищете и пьянстве, а потомки раскулаченных повозвращались из Сибири и снова зажиточными стали.
Потому что на такой земле только ленивый живёт бедно.
Он так и не дождался Раису и ушёл, опираясь на две короткие палки, вперив взгляд в песок дороги.
( … оказывается, кража малиновой скатерти не самое худшее, что может с тобой случиться; есть вещи, за которые наказываешь себя построже …)
Потом Сергей предложил большой проект – поднять кирпичный цоколь вокруг хаты. Кирпич у него уже несколько лет, как заготовлен.
На это ушло три приезда; хата не маленькая. Двойка мешал раствор и подносил кирпич. Мы закончили в субботу.
В воскресенье утром я встал раньше всех и вышел на крыльцо веранды.
Мои туфли стояли на второй ступеньке носом в направлении ворот, хотя вечером я оставлял их в точности наоборот.
( … я читать умею знаки! Мавр сделал своё дело …)
Я обулся, вышел за ворота и, пройдя до конца улицы, свернул к лесополосе, потому что в её прогалинах призывно бамкал очень медленный товарный поезд. Я перешёл на бег и всё-таки успел вскочить на площадку заднего вагона.
( … всё получается как надо, если правильно прочтёшь …)
Товарняк набрал скорость и без остановки миновал Бахмач.
Люди на перроне удивлённо смотрели ему вслед.
На задней площадке стоял я, счастливый и довольный собой и ветер трепал мои волосы, как бродягам у Джека Лондона.
Зимой в селе работ нет и Двойка вызвал меня только в апреле следующего года.
Мы вскапывали огород, когда услышали про взрыв в Чернобыле. День был холодный и ветреный; низко неслись серые тучи.
Двойка начал рассказывать про радиацию, но мне было пóфиг.
Какая разница?
Однако, ветер дул с востока и он не пропустил радиацию до села, а отнёс её аж в Шотландию, на развешенную там стирку на бельевых верёвках.
Конечно, шотландцы потом эту стирку выбросили, по свидетельству «Morning Star».
Но всё это будет потом, а сейчас Двойка, прислонясь к стене у висячего телефона, набирает номер, а я прочёсываю взглядом нескончаемо спешащую толпу у него за спиной, которая понятия не имеет про тонкости взаимоотношений мафиозных боссов и их телохранителей, и пытаюсь вычислить: кому из нас нужнее эта дружба?
Будущему кандидату наук Двойке, или мне – его джинну из бутылки?
Дохлое дело заниматься психоанализом, если толком не знаешь как оно делается.
В педвузе, конечно, объясняли, что это какая-то зловредная и наглая выдумка загнивающего Запада, шарлатанство и поклёп на гордо звучащую личность Человека.
Жаль только не сказали в чём суть и методы у этого непотребства. Вот и приходится под вывеску «психоанализ» придумывать содержание и самому изобретать методы.
Размахнись рука, раззудись плечо – мы и вручную синхрафазатрон запустим!
( … допустим, суть анализа в том, чтобы ответить на самый пакостный из всех вопросов – «почему?» …)
Итак, почему я держусь Двойки? В чём причина?
Здоровая деревенская пища в исполнении его бабушки?
Это – да, предвкушаю едý, éдя с букетом в электричке.
Во-вторых, есть приманка, на которую я, словно осёл Тиля Уленшпигеля, раскатал губу, хотя она недостижима.
Для любого осла можно найти траву, за которой побежит как миленький.
Так на какую же клюнул я?
Разухабистые картины постельных пиршеств плоти, которыми так щедро делится Двойка, вселяют надежду, что и мне, слуге верному, перепадут крохи скоромных угощений.
Скажем, какая-нибудь там подружка очередной шлюшки.
Этого, пока что, не случилось, но где сказано, что ослу удастся дотянуться до травы?
Осёл хитрит и не смотрит даже на пучок травы перед своим носом, прикидывается, что он её в упор не видит, а бежит просто так, ради разминки, ведь ему жуть как приятны физические нагрузки и прочие сельхозработы.
Однако, чтоб раскусить осла, семи пядей во лбу не требуется.
Вообще-то, насчёт подружки была попытка.
Они приехали из Нежина в Бахмач: бывшая любовница Двойки и её подруга.
Мы с Двойкой встретили их и на автобусе доставили в село.
На устланном сеном чердаке летней кухни были заранее разложены два матраса.
Из деликатности Двойка увёл свою любовницу в рощу, предоставив мне свободу действий.
Девушка попалась аппетитная – стройненькая, грудастенькая, но раздеть себя позволила лишь до колготок.
Спору нет, они тоже неплохо смотрелись – чёрная сеточка на стройненьких ножках, но на кой мне хрен эта сеточка?
Старый знакомый неизменный упор – открытый верх, закрытый низ.
Колготки я не стал рвать, а все попытки возбудить в ней ответное пламя страсти её не соблазнили. Ничейный результат сохранялся до возвращения Двойки из рощи.
Наутро я встал первым и пошёл искупаться в «кóпанке» – пруд метров пятнадцати в длину, вырытый в поле экскаватором.
Когда я вернулся, на крыльце веранды сидела Раиса Александровна.
– И как водичка?– спросила она с намёком в прищуре чёрных глаз.
– Холодная,– ответил я во всех смыслах.
После завтрака, уже без Раисы, Двойка спросил впрямую:
– Ну, как?
– А никак; у меня с ней несовместимость.
– Это, как это?
– Она хотела, чтоб было изнасилование, а я хотел обоюдного удовольствия.
Не совместились.
Выходит, на поводке у Двойки меня держит желудок, орган воспроизводства и… и?..
Нужно же ещё что-то третье, двухмерность мышления это как-то уже не по-гегельянски…
Где третий? Говори!…
А вот и он родимый – мозг!
С его духовными запросами. С его потребностью излить поглощённые знания.
А то же ведь и лопнуть недолго.
Это ж такая мýка, когда бисер есть, дa метать не перед кем.
( … кого не прельстит роль Ментора? Изрекаешь перлы мудрости пред наивно внемлющим отроком …)
Двойка даёт мне такую возможность своими вопросами.
Как правильнее вести себя в джунглях возленаучных склок, где каждый паук за себя, а банка одна на всех?
Кто полезнее в научной карьере – талантливый, но пьющий микрошеф (завлабораторией), или тупой, как валенок, но макрошеф (начальник институтского отдела)?
Кому служить?
Отвечая на эти и подобные вопросы, я поразился запасам своего маккиавелизма.
Такое про себя мне и во сне не снилось, общение с Двойкой открыло мне глаза и на такую мою грань.
Впрочем, суть моих моралей настолько проста, что Двойка их и сам нутром чует и поступает сообразно, вот только выразить не может, что все мы приходим в этот мир, когда уже всё занято – «местов нет!»; и тут возникает цель – урвать себе место под солнцем, а цель оправдывает средства…
Двойка с готовностью согласен согласиться, но сам-то я?
Живу ли я по этой проповеди? Блюду ли, следую ли ей?
( … а совсем не обязательно следовать собственным теориям.
Ницше, изобретатель сверхчеловека в образе «белокурой бестии», физически был жалким хлюпиком.
«Урви себе место под солнцем»,– поучаю я.
Всё так.
Но сам, пожалуй, предпочту искать другое солнце, чем лезть в их тесноту, грызню и давку …)
Ну, что – натешился самопсихоанализом? Все изнанки вывернуты?
Да не стесняйся ты – я тут один, Двойке не до меня, всё так же накручивает телефонный диск, заглядывая в блокнотик.
Ну, всё, что ли? Ублажение желудка, поманка подержаными шлюхами, да тщеславное самощекотание об свой интеллектуальный бисер?
Поэтому я с ним?
Что ж, и поэтому тоже.
А ещё, пожалуй, от ощущения свободы, когда вырываюсь к нему из рутины своего упорядоченного, утрамбованного, отшлифованного жизненного цикла с баней по четвергам, стиркой по понедельникам, глажкой по вторникам, с пляжем или читалкой по выходным и всегда с ощущением какой-то нехватки и пустоты, и всегда начеку…
Понятно, ещё и свободолюбием блеснул. Ай, молодец! Ну, теперь-то – всё?
Конечно, всё, разве мало такого для дружбы?
По диалектике – мало. Нужна ещё доля ненависти.
А за что мне его ненавидеть? Поит, кормит, даёт возможность вырваться.
Плюс возможность поупражняться в мазохизме. Что есть блаженство если не сладкая боль ?
( … спал он с ней или нет?
Всё во мне стискивается и мучительно-сладко ноет: не может быть… а если?..
Снова боль и тягучее тёплое растекание: нет, нет …)
В один из моих приездов к Двойке в село, поздней ветреной ночью мы сидели в автобусной ожидаловке на пустой раздольной площади.
Побелку стен и все лавки избороздили клейма разных «Deep Purple», ДИНАМО, Блицов, Светок, Вохов и множества дат.
Двойка вдруг свёл разговор на Иру.
– Она говорила, что лучше, чем с тобой ей ни с кем не было.
Он словно скальп с меня содрал этим комплиментом.
Такое не говорится за столиком в кафешке. Для этого надо лежать в одной постели после акта.
Рассчитывала, что когда-нибудь Двойка донесёт до меня эти слова и я дорисую остальное?
Или просто из кошачьей женской склонности царапнуть ёбаря?
То-то он враз потянулся за «Беломором»…
Зря комплексуешь, Двойка, сексуальным гигантом я никогда не был.
Он вдруг почувствовал, что ляпнул лишнее и, чтоб замылить, начал что есть мочи уверять, что у него с ней в жизни ничего, никогда…
Как будто я его спрашивал.
( … если слишком долго косить под простачка, то временами таким и становишься …)
– Ты её когда-нибудь бил?– спросил он чуть погодя.
М-да, и про ту пощёчину рассказала.
– Ударил один раз, при заключительном свидании,– отчитался я,– но совсем слегка; исключительно для соблюдения протокола.
Двойка хохотнул своим фирменным смешком.
На следующее утро мы пошли искупаться в «кóпанке».
Мне не захотелось лезть в воду. Я обошёл пруд кругом и лёг на берегу.
Двойка проплыл из конца в конец.
В его глазах плавилось довольное голубое мерцание, когда, поправляя истекающие водой плавки, он вышел на берег рядом со мной.
«С таким же взглядом он слезал с неё,»– подумал я. Эта мысль принесла боль.
Слабее, чем я ожидал. Сильнее, чем хотелось бы.
Она сама подошла на пляже и начала разговор о «Morning Star», что лежала на песке рядом с розовым одеяльцем, на котором я сидел.
Это я на самом деле читаю, или это такая приманка для девушек? Вот тут про что написано?
Мне пришлось рассказать, что там про 19-летнего юношу, члена семьи контрабандистов.
Они регулярно летали из Пакистана в Англию, заглотавши по куче целлофановых пакетиков с наркотой.
Желудок – идеальный тайничок, ни одна собака в аэропорту не унюхает.
По прибытии на явочную квартиру в Лондоне, вся семья проходила промывание желудка и – пожалста! – очередная партия доставлена.
Прокол случился во время полёта, когда у юноши в желудке лопнул один из пакетиков.
Туда упаковывалось куда больше, чем на одну дозу и парня потащило так, что из аэропорта его отвезли прямиком в госпиталь.
Наркотики ему из желудка вымыли и жизнь спасли.
Вот только семейный бизнес накрылся.
Грустная, вобщем, история.
Она посочувствовала и сообщила, что тоже работает медсестрой.
Хорошая профессия для девушки лет тридцати. Лицом не киноактриса, а остальное всё на месте.
Купальник не даст соврать.
Закончив осмотр, мне пришлось подтянуть свои колени к подбородку, чтоб и дальше сидеть культурно.
А дальше всё пошло как в сказке, она сказала мне свой адрес На Семи Ветрах и мы условились, что во вторник я посещу её с визитом дружбы и взаимопонимания.
Она ушла по пляжному песку, а мне пришлось растянуться на животе, чтоб не бросаться в глаза пляжникам своими вздыбленными плавками по случаю многообещающего вторника.
Он наконец пришёл и после работы я поехал с привокзальной площади на Мир, в магазин «Цветы».
Ничего путного там не оказалось. Пришлось купить какую-то помесь между ромашками и подсолнечником.
До условного часа оставалось ещё немало времени и я пошёл пешком обратно на Вокзал, чтобы по Клубной выйти к Семи Ветрам.
На Зеленчаке водитель автокрана из нашего СМП, Владимир Гавкалов, который лицом схож с Игорем, братом Иры, рысцой пересёк мне дорогу.
– Серёга!– крикнул он на бегу.– Ты перепутал – баня в другой стороне.
Букет мне и самому не слишком нравился, но я продолжил нести его.
До Семи Ветров я всё равно дошёл на полчаса раньше срока и решил исполнить давно данное себе обещание – что когда-нибудь посещу ту семейку берёз посреди строительных угодий.
По тропке среди жёстких трав я подошёл к их белоствольной группке.
Вот же суки!
Жильцы с ближайшей улицы устроили под деревьями свалку бытового мусора.
Солнце стиснутое облаками зашло без заката. В расстроенных чувствах я понёс свой дурацкий букет по адресу.
– О!– сказала она.– С цветами!
Зря, что не с водкой, сразу подумалось мне.
Мы о чём-то говорили на кухне однокомнатной квартиры на первом этаже.
За чаепитием случилось происшествие – банка с клубничным вареньем выскользнула у неё из рук и хлопнулась на пол.
Пришлось долго собирать широкую липкую лужу и замывать пол.
Часов в одиннадцать она начала отправлять меня восвояси. Мне пришлось гнать дуру, что там уже всё заперто и бегают цепные псы соседки.
Она, типа, сжалилась и уступила мне половину широкой кровати, но только, чтоб не лез.
Когда она потушила свет и тоже легла, я попытался продолжить отношения самым естественным образом, но встретил упорное сопротивление.
Вот те на! Приглашала показать свою девочкóвость?
Я прекратил попытки и мне стало всё равно, как с бандеролью на полках этажерки.
А может она потрясена утратой варенья. Всё-таки трёхлитровая банка.
Наверное, недобрый знак для суеверных.
И наплевать, что они там устроили свалку. Когда я с разных объектов смотрел как они мне машут, то становилось как-то хорошо. Словно обещание чего-то прекрасного.
Даже когда на их месте поставят очередную пятиэтажку, они всё так же будут махать мне упругими верхушками сквозь марево зноя.
Это останется со мной, а куча останется жильцам.
Среди ночи я проснулся от осторожного ощупывания моего члена через трусы.
Не дождавшаяся изнасилования медсестра проверяла на месте ли. Спросила б лучше у пляжного песка на Сейму.
Но эти чужие пальцы обшаривающие мою плоть… Это уже где-то было…
Только я не мог вспомнить где и когда и снова уснул.
Утром я ушёл отказавшись от чая с сахаром.
Как её звали?
Ну, наверное, как-то, примерно, может быть… м-да…
Всё, что мне осталось, так это танцплощадка в Центральном парке на Миру.
Правда, туда я ходил не как запоздалый стрелок в поисках дичи, а просто потосковать.
Сеанс ностальгии ценой в 50 коп.
Одним из первых я заходил в огороженный круг танцплощадки и усаживался на брусья круговой скамьи в давно облезлой краске.
Большие чёрные ящики колонок в оркестровой раковине бушевали неплохими записями.
«Живая» музыка канула в прошлое.
Между номерами один, так сказать, диск-жокей включал микрофон и объявлял что прозвучало только что и что будет дальше.
Иногда он пытался нелепо шутить. Хорошо, что редко.
Я смирно сидел, упёршись затылком в трубу ограждения. Вокруг сгущался вечер, но высоко в небе, под ещё не угасшими облаками метались стаи ласточек.
Точь-в-точь как в день, когда тебе исполнился один месяц и мы привезли тебя на осмотр в детскую поликлинику в коляске с тюлем от сглаза.
Только те ласточки ещё и пронзительно пищали, кружа над крышей универмага, а этих не слыхать – слишком высоко.
Потом и небо гасло, наступала ночь, а я всё так же сидел и не танцевал, потому что знал своё место.
Оно, как и у прочих тридцатилетних, снаружи; под фонарём на парковой аллее. Можешь остановиться на несколько минут, поглазеть как скачет следующее поколение и – топай в свой быт с диваном напротив телевизора.
Я сидел тихо, как инородная частица, слушал музыку и наблюдал сблизи всё уплотняющуюся массу молодняка вокруг себя.
Вон у той девушки шея длиннее, чем у Нефертити. Красиво. Словно стебель одуванчика.
И я любовался без всякого возбуждения.
Когда она пришла с виновато поникшей и словно бы укоротившейся шеей, я знал – срезалась на экзаменах в институт.
В двенадцатом часу я в общей толпе выходил из парка к трамвайной остановке на Миру. Живущие поближе расходились парами и компаниями.
Живущие подальше обсуждали: ждать или не ждать? Трамваи в эту пору редко ходят.
Однажды на остановке нас встретил стеклянноглазый мужик лет сорока.
Он с издёвкой смотрел на подходивших молокососов своими залитыми зенками, уперев ладони в ягодицы; в позе нацистского офицера у ворот в лагерь смерти, над которыми надпись «Забудь надежду всяк сюда входящий».
Парочки и компашки испуганно обходили его, чтобы толпиться на другой половине остановки.
Он победно лыбился в завоёванном жизненном пространстве.
Я остановился напротив него, не доходя метра три.
Что, штурмбанфюрер, потягаемся позами?
Моя пришла сама собой из кинохроники с Парада победы в Москве сорок пятого года. Помимо свалки фашистских знамён к Мавзолею Ленина там есть ещё кадры мирных жителей.
Очень часты девушки с печальными лицами и почти у всех одна и та же поза —левая рука опущена вдоль тела, а правая согнута поперёк живота и хватается за локоть левой.
Вот эту позу я и принял, стоя против стеклянноглазого.
Только у меня правая охватывала левую повыше, чем у печальных девушек – вокруг предплечья. В результате левая свисала уже как, типа, хобот.
Противник не выдержал и минуты.
Он горестно опустил голову, сцепил руки за спиной в зэковской ухватке и начал мелкими шажками ходить туда-сюда поперёк метровой ширины остановки, насколько пускали стены невидимой клетки.
Молодняк изумился лёгкости моей победы над тараканищем и они стали заполнять всю остановку, беря на заметку, на будущее, что знание – сила.
На самом же деле, всё это был чистый импровиз – подарок моего поколения ихнему.
И опять как всегда, стуча колёсами и качаясь, вагон электрички уносит меня из Конотопа…
Куда это, кстати, я?
За окном чернильная темень, значит не дальше, чем до Нежина; значит к Жомниру еду.
В чёрном окне моё, неясно смазанное двойными стёклами, отражение согласно подкивывает в такт перестуку на стыках: ту-да к не-му ку-да ж е-щё?
А зачем я туда еду?
Ну, мало ли… Напечатать его машинкой очередной рассказ, или там, триптих…
( … пойди упомни из эдакого далека …)
Но всё это лишь для отвода глаз, сплошная ложь. На самом деле я еду, чтоб снова и снова испытывать щемящее томление по необратимо невозвратному.
Еду самоистязаться меланхолией на берегу невидимой реки, на берегу, мимо которого вечность тому назад прожурчала струя, в которой я был любим и мил кому-то…
Вот зачем электричка мчит, покачиваясь, через ночь, и в одном из её вагонов, над проходом, я сижу на краю трёхместного сиденья, где посерёдке развязно развалился мой портфель.
Редко, но бывает – вагон пуст.
Ну, или почти пуст.
Метров за двадцать от меня на сиденьи по эту же сторону от прохода едет девушка. Она едет спиной по ходу поезда, лицом ко мне, одиноко прислонившись головой к стеклу окна.
С моего места черт её лица не разобрать: просто девушка, одна в пустом вагоне ночной электрички со стрижкой светлых волос.
До меня ей и дела нет. Она с тихой задумчивостью смотрит за окно, где проносится картина уже ночной темноты позади тусклого отблеска ламп в потолке пустого вагона.
Конечно пустого – я не в счёт; я смирно сижу вдалеке и вовсе не пялюсь.
Просто смотрю себе вдоль прохода на подрагивающее стекло раздвижной двери в пустой тамбур.
Это, конечно, не мешает мне сентиментальным краем глаза улавливать её светловолосую головку и часть плечей, что видна поверх множества рядов спинок разделяющих нас сидений.
Двое в пустом вагоне мчащейся сквозь ночь электрички…
Но вот она очнулась от грустного оцепенения. Правая рука поправила волосы стрижки.
Она чуть глубже поворачивается к окну, демонстрируя свой профиль, а затем оборачивает своё лицо ко мне.
Отсюда не видно куда смотрят её глаза, но и мне уже незачем изображать любопытство к пустому тамбуру: я устремляю взгляд на неё и любуюсь, с платонической откровенностью, обёрнутым ко мне лицом и плечами покрытыми тканью плаща.
Это всё, на что я способен; я не подкачу к ней с ухарскими прибаутками и предложениями: «вы привлекательны, я замечательный, станьте мне третьей женой…»
Но – ах, она хороша! – даже на этой отдалённой полуразличимости…
Стук колёс отходит на второй план, его заслоняет прекрасная мелодия Таривердиева из кинофильма «17 мгновений весны», когда разведчику Исаеву, он же Штирлиц, в неприметном кафе Центр устроил свидание с женой.
Она сидела через три столика от него, чтоб он любовался ею после десяти лет разлуки.
Как живётся ей в уже неведомом ему СССР?
Но он отметает все лишние мысли и смотрит украдкой, неприметно, на новые черты почти полузнакомой женщины. Ещё немного! Ещё чуть-чуть!..
Нет. Сопровождающий её разведчик в штатском смотрит на свои часы. Свидание окончено.
Он уводит её, чтобы сбить со следа гестаповских ищеек…
Но здесь, в вагоне, не стихает мелодия Таривердиева – мы бесконтрольно одни…
БРЭННГГ! ЗПРТЫЧ!!
Из череды сиденных спинок между нами, как из чуть скошенной колоды карт, всплывает красная рожа джокера.
Мы не одни!
Этот алкаш всю дорогу спал между нами!
Его похмельно красная харя семафорит:
– Стоп! Дистанционный флирт окончен!..
Как я ржал! Без удержу и остановок.
Ханыга с мутным недопониманием уставился на мои пароксизмы, оглянулся на девушку, утёр отвешенные губы и нетвёрдой походкой направился к тамбуру, а там и в другой вагон.
Ему не в кайф в одном вагоне с ржущими конями.
Ты прав, ханыга! Каждому – своё.
И мне пора завязывать с одной и той же меланхоличной жвачкой…
Когда Брежнев умер, то его нехорошо похоронили.
Два мужика в чёрно-траурных нарукавных повязках просто сбросили гроб в яму у Кремлёвской стены.
Кто смотрел церемонию в трансляции, без урезок для программы «Время», были просто шокированы.
Кончина Лёни с его причмокиванием, любовью к блестящим орденам и троекратным поцелуям, явилась испытанием для советского народонаселения.
За почти двадцать лет, люди при нём втянулись жить пусть худо и бедно, но без сталинских массовых репрессий, и без расстрела голодных бунтов воинскими частями, как при Хрущёве.
Выйдя из бани поздним вечером четверга, я воочию увидел как растеряны люди, как сбиваются поплотнее и озираются в поисках пастыря.
А на Декабристов 13, вроде и со смехом, но всерьёз отгораживались от неведомого грядущего стеной бумажных грамот, которыми награждались члены семьи на протяжении её существования.
Пришпиленные вплотную друг к дружке, грамоты тянулись в одну шеренгу вдоль рейки прибитой над клеёнкой, что заменяла кафель на стене.
Я и не представлял, что так их много: от буфета рядом с окном и аж до рукомойника у двери на веранду.
Когда-то их получали за отличную учёбу в третьем классе, за второе место в шашечном турнире пионерлагеря, за участие в самодеятельности, а теперь вот служат охранительным частоколом.
Сказать тут нечего, можно лишь пожать плечами.
После Брежнева пошла чехарда мумий, которые приходили к власти на три-четыре месяца, а потом населению опять приходилось на три дня выключать телевизор, потому что там ничего не показывали, кроме тягучей камерной музыки, а программа «Время» зачитывала телеграммы с соболезнованиями от братских партий и международных лидеров.
На то он и траур.
Но вот, после очередных похорон, у кормила власти встал Горбачёв – вполне ещё средних лет, хотя и с непонятным пятном на лысине.
Он начал говорить об ускорении и перестройке, с украинским прононсом выговаривая звук «г».
Ну, говорит, пусть говорит – кому мешает?
Однако, в тот год до которого я дошёл в этом моём письме к тебе, он издал указ с длинным названием, а короче ввёл сухой закон.
Это сразу показало, что Джона Милля он в жизни не читал.
У того чёрным по белому сказано – подобные меры принимают лишь те правительства, которые свой народ считают малолетней бестолочью.
Типа, задвинуть засов на двери и сказать:
– Сегодня ты никуда не пойдёшь.
Такого я стерпеть не мог и в день вступления закона в силу сошёл с «чаечки» у гастронома На Семи Ветрах. Там я купил бутылку вина и выжрал из горлá, не выходя на улицу.
Так выражался мой знак протеста.
Какая-то из продавщиц начала возникать, чтобы хватали меня и поскорей звонили бы в милицию, но в очереди не нашлось исполнителя верноподданного проекта.
Пустую бутылку я аккуратно опустил в урну у входа в гастроном.
С трамвайными пересадками я доехал в конец Посёлка, хоть это оказалось нелегко. После обеда «Всесвитом» и без никакой закуси, вино плохо держалось в желудке. Мне с трудом удалось донести его на Декабристов 13, где и выбросил в помойное ведро на веранде.
Моя мать, показавшись из кухни, испуганно закричала:
– Коля! Он кровью рвёт!
Отец мой тоже вышел, но почуяв знакомый дух, отмахнулся:
– Какая кровь! Не видишь? Налыгался как чувырло последнее…
Я накрыл ведро крышкой, переобулся в домашники и молча прошёл, чтобы свалиться на диван, и не варнякал, что среди чувырл передние ничем не лучше последних…
До сухого закона я выпивал очень даже умеренно. Обычно недельная доза алкоголя составляла две бутылки пива после бани, но Горбачёв буквально довёл меня своим указом до этого эксцесса.
Бесспорно, раз на раз не приходится, случались более насыщенные недели, когда каменщики нашей бригады и мне уделяли вино из принéсенной в вагончик бутылки.
Но приносили они не каждую неделю, да и делились не всегда.
А всё из-за принципа, с которым я вернулся из киевской командировки.
Там у меня случилась дискуссия с одним молодым прорабом. Мы рассматривали случай рабочего лежащего, чисто теоретически, на земле у недоконченной, скажем, траншеи.
Прораб утверждал, что работяга тот ужрался в лоскуты – это единственно возможная гипотеза, ну, а я стоял на том, что человеку просто плохо стало и доказательство тому – его рабочая спецовка; ведь люди не пьют на работе.
Разумеется, я прекрасно знал, что они пьют где угодно и в чём попало, но в тот момент меня зачем-то потянуло встать на позиции идеализма.
По возвращении в Конотоп, когда мне в бригаде предложили глотнуть винишка, я продолжал корчить из себя борца за идеал и заявил, что на работе не пью, хотя и хотелось.
На это последовало резонное возражение, что вагончик не рабочее место.
Пришлось подредактировать формулировку и моим принципом стало – «я не пью в рабочей одежде».
Тогда мне, в виде компромисса, предложили переодеться в чистое, бухнуть и снова одеть робу.
Впоследствии процедура сократилась. Я просто раздевался до нижнего, делал пару вежливых глотков и опять натягивал спецуху.
В нашей бригаде к принципам относились уважительно и принимали меня даже в неглиже.
Вот только крановщик Виталя взрывался и выходил из себя:
– Чё ты ему оставляешь? Он же всех спалит.
– Не, он не стукач.
– А если мастер зайдёт, его в трусах увидит; не врубится, что бухáем?
Но крановщик не член бригады, а Виталя даже и не конотопчанин. Он на работу приезжает из Бахмача, а что бесится так это темперамент у него такой.
Как-то в обед, после первой кружки, он начал строить смехуёчки:
– Ну, чё ты влип в тот «Всесвит»? Иди и тебе налью. Но только не раздеваться. У меня тоже принципы.
Он хохотал, весело блестел глазами, хватал бутылку четырёхпалой кистью и наливал себе и Кирпе.
Долг платежом красен.
В обеденный перерыв следующего дня я взял в гастрономе бутылку «Золотой осени» и плитку шоколада. Виталя с Кирпой играли в вагончике в карты.
Я не спеша разделся до трусов и начал подавать коллегам возвышенный пример сибаритского отношения к жизни, отхлёбывая понемногу из бутылки за 1 руб. 28 коп., вприкуску с дорогим шоколадом.
( … это вовсе не месть была, а чистая педагогика …)
Виталя долго сдерживался, но темперамент взял своё:
– Блииин! Бормотуху с «Алёнкой»! Во, извращенец!
Но это он, конечно же, из зависти – сам-то в жизни так не пробовал.
И я невозмутимо допил всю бутылку, даже и Кирпе не оставил, который Витале вчера подхихикивал.
( … хотя порой закрадывается сомнение – точно ли это педагогика, или всё же мстительный эксгибиционизм?..)
Но это исключительные случаи, а в основном я был непьющим, пока не грянул указ.
В четверг я малость перекайфовал в парной и на выходе из бани время перевалило уж за семь.
Прежде я б и внимания не обратил на это – счастливые часов не наблюдают – однако, указом по борьбе за трезвость торговля алкоголем поставлена в жёсткие рамки. И где теперь я выпью пива?
В забегаловке по ту сторону площади Конотопских дивизий вместо обычного сиянья флуоресцентных ламп внутри виднелся лишь свет одинокой дежурной лампочки.
С грустью проходил я мимо, покуда не заметил, что дверь забегаловки открылась и пара мужиков спустились с высокого крыльца.
Ну-ка, ну-ка, поглядим!
Незапертая дверь подалась под лёгким нажимом.
Тут и впрямь горела лишь одна лампочка в 100 ватт, как раз над пивным краном, но из крана текло пиво в бокалы!
Мужика разбирали их и отходили к высоким круглым столикам. Если б не скудное освещение – всё как в старые добрые беззаконные времена.
Нет, не всё. Нету прежнего шума и гама тёплых дружеских разговоров.
Продавец в белой поварской куртке раз за разом предупреждает из-за стойки:
– Тише, мужики, и давай по быстрому! И так нарушаем.
Нет кайфа в кайфе под кнутом секундомера.
Здесь, в полутёмном зале подземелья, где не различить лица пьющего за столиком напротив, мы словно последние остатки ордена тамплиеров после его разгрома и предания анафеме. Прячемся от безалкогольных соглядатаев и доносчиков. Последняя торговка может тыкнуть в тебя пальцем и заорать:
– Держи его! Хватай! Зовите милицию!
Мы вне закона.
Честно говоря, забегаловки мне не сильно нравятся.
Стоишь в очереди и смотришь как подваливают корифаны и просто знакомые к стоящим впереди тебя:
– Братан, и мне парочку.
И вместо одной очереди выстаиваешь, фактически, две-три.
Ещё противнее, когда до крана уж совсем рукой подать, тебя вдруг толкает в бок полузнакомый кент – подмигивает, лыбится:
– Ты ж не забыл, что и мне три кружки.
Нет, в следующий раз уж лучше я в кафе; там только бутылочное, подороже, но этих наглых хвостопадных рож не будет.
И после очередной бани я гордо прохожу мимо забегаловки и топаю до кафе.
– Пива нет.
Блин! Придётся на Мир переться.
Но и в кафе рядом с кинотеатром тоже пива нет. Последний шанс – вокзальный ресторан.
Та же картина. Но ведь это четверг!
Пришлось брать бутылку белого вина.
Столы в ресторане большие, человек на десять каждый в окружении тяжких стульев в кожаной обивке, а посетителей почти нет.
Я уселся за один из столов где-то посреди зала и начал наливать в фужер как будто цежу пиво из бутылки – тонкой, словно спица, струйкой. Так уж у меня рука набита.
После первого фужера подошёл ко мне какой-то мужик неопределённого рода занятий, попросил разрешения присесть. Полный зал пустых столов, а его сюда тянет.
Ну, я не стал возражать.
Сидя на соседнем стуле, он начал излагать, что здесь проездом из города Львова.
Я ответил, что Львов тоже хороший город, добро пожаловать и всё такое; и начал наливать себе второй фужер.
Он уставился на тонкую струйку и сообщил, что недавно вышел с зоны.
Пара парней через один стол притихли.
Я поздравил его с освобождением и выпил.
Лицо его вдруг исказилось непонятной злобой и он стал громко угрожать, что когда я окажусь на одной с ним зоне он будет иметь меня в прямой проход.
( … всё это, конечно, в более общедоступной терминологии …)
Вино допито, сосед по столу мне не по душе и я поднялся уходить. Один из парней, что сидели неподалёку, уже стоял между столами.
– Мочи его!– сказал он мне.– Чё тянешь? Мы на подхвате!
Совсем незнакомый парень. Видать, патриотизм взыграл.
– Вы не поняли,– ответил я.– Он не местный, закон гостеприимства не позволяет бить бутылки об его голову. Вот будет у меня отпуск, съезжу в город Львов, посмотрю в чём проблема, что проезжие оттуда такие невежливые.
Не знаю понял ли парень мою пространную речь, но он вернулся за свой стол, а я ушёл оставив своего соседа сидящим перед пустой бутылкой на пустом полированном столе.
Он прибегнул к предельному оскорблению, но магия не сработала – бутылка не превратилась в осколки.
Но всё равно, Горбачёву я этого не прощу.
Ты скажешь при чём тут Горбачёв?
Даже в эпоху дефицита бутылочное пиво в Конотопе не исчезало.
Никогда.
А этот всё не унимался и добавлял в сухой закон новые статьи об ужесточении борьбы.
Вечером того дня, когда вступала в силу очередная ужесточительная волна, я, как обычно, отправился в парк на Миру на танцы.
До танцплощадки я не дошёл и даже не дошёл до билетной кассы.
В аллее парка меня перехватил незнакомец; тёмноволосый, мускулистый и с усами скобкой, как у «Песняров».
Он мне сказал, что я его не знаю, а он меня – да; потому что он с ХАЗа, где работает с моим братом.
Один раз мой брат Саша с восторгом рассказывал про какого-то бывшего пограничника, который у них на работе показывает чудеса акробатики. Наверное, это он и есть.
Незнакомец бережно держал в правой руке белый целлофановый пакет, а злых вечерних комаров не шлёпал, а только лишь сдувал со своих бицепсов резкими выдохами воздуха.
Совсем как я – непротивленец; или же натаскан пограничными дозорами не делать лишних звуков.
Чуть звякнув белым целлофаном, он сказал, что тут у него вино – успел отовариться до запретного часа.
Не составлю ль я ему компанию?
Последовал ответ в утвердительной форме.
Мне правда, показалось странным, когда он начал обращаться к волнам стекающегося к танцплощадке молодняка с одним и тем же вопросом – не найдётся ли ножа открыть бутылку?
Все отрицательно качали головой, а некоторые даже испуганно отшатывались – не те теперь времена.
Возможно это было его формой протеста против этих самых времён.
Ножа так и не нашлось, но он как-то исхитрился содрать пластмассовую пробку о брус скамьи на аллее и протянул бутылку мне.
Я сказал, что лучше пусть он начинает, а то у меня тóрмоза нет.
– Ничего, у меня вторая в целлофане.
Моё дело предупредить… И я безотрывно засадил все 700 граммов без остатка.
– Да,– сказал несбывшийся собутыльник,– я ж не подумал…
Он откупорил вторую бутылку, но мне не дал, просто держал в руках, а когда мы опустились на скамью, поставил её между нами.
Мы начали прощупывать друг друга на какую из философических тем завести дружеский разговор.
Обычно, после второго стакана начинаешь выдавать умные вещи, которых и сам не ждал.
В конце, понятное дело, всё сведётся к извечной трещине, про которую говорил Иван Кот, но почему не посверкать умом для начала?
Увы, ни сверкать, ни блистать не получилось.
По аллее медленно и почти бесшумно подкатывал фургончик с надписью «милиция» на дверце. Машина встала и из кабинки выпрыгнули два джентльмена в кокардах.
Мой собеседник, не ожидая дальнейшего развития событий, сиганул через скамью и пустился по боковой аллее в сторону тёмного здания горсовета.
Мне, только что загрузившему в трюм 700 граммов, оставалось лишь с восхищением следить как быстро он удаляется. Тем более, что эти два мента уже стояли надо мной.
Никто из них за ним не побежал, только тот что постарше, стоя на месте, застучал ногами об асфальт с непонятным криком «улю-лю!».
Пограничник врубил форсаж и растворился в темноте.
Милиционер поднял со скамейки уже открытую, но так и не початую бутылку, перевернул её вверх ногами да так и держал, с садизмом и грустью, покуда вино выбулькивало наземь.
– Давай,– сказал мне второй мент, кивая на уже открытую боковую дверь фургона.
Я сунул голову внутрь.
В тусклом свете крохотной лампочки в потолке на сиденьях вдоль бортов различались пойманные до меня и, спиной к кабине, пожилой мент с лычками старшины на погонах.
Восхищаясь безукоризненной чёткостью своих движений, я взошёл внутрь интерьера.
Дверь захлопнулась.
– Добрый вечер!– галантно приветствовал я всех сразу и тут же получил пинок в зад.
– Он, сука, ещё «добрый вечер» говорит!– гаркнул пнувший меня старшина.
Свалившись на кого-то из предыдущего улова, я машинально воскликнул:
– Извините!
Тут я испуганно оглянулся на старшину, но увидел, что за «извините» не схлопочу – ему лень подыматься.
Отвезли нас недалеко, в тот же двор, где когда-то снимались показания с «Орфеев» на тему пропажи немецкого баяна; только в другое здание.
За столиком в коридоре сидел капитан милиции. Моих попутчиков, после пары вопросов, он отправил в камеру. Потом заговорил со мной.
Увидев, что на его вопросы я отвечаю адекватно и не пытаюсь качать права и опровергать доклад доставивших меня, он спросил где я работаю, куда-то позвонил свериться и отпустил домой.
– Прямо домой! Понял? И больше никуда!
Я вышел за ворота.
Отчего это все мне указывают что делать? А вот вам всем!
И я упорно вернулся в парк и купил билет на танцплощадку.
Один из дружинников с сомнением заглянул мне в лицо:
– Вы сегодня выпивали?
– Никогда!– отчеканил я и беспрепятственно был пропущен к своей скамейке вдоль ограды – досиживать до окончания танцев.
Что и случилось через пару номеров.
Извещение о моём задержании дошло в СМП-615 поздно – через месяц-два.
Я уж и думать забыл, когда начальник вызвал меня с объекта и потребовал написать объяснительную.
Как видно, он решил использовать ситуацию по полной и вскоре назначил заседание профкома для рассмотрения моего персонального дела.
Начинались осенние холода и на заседание я пришёл в плаще и шляпе.
Начальник, в пиджаке и галстуке, приступил к изложению моих прегрешений.
Вот самое свеженькое – бумага из милиции, как я нарушал постановление партии и правительства в парке на скамье. Вот так вот я позорю СМП-615 перед лицом общественности и органов!
До каких пор?
Однако, я избрал позицию наблюдателя и на пустопорожние вопросы отвечал лишь пожимом левого плеча под плащом.
А моё издевательское отношение к руководству поезда? Вот, пожалуйста – написал объяснительную стихами.
Из стопочки бумаг на столе перед собой начальник приподнял одну и потряс в воздухе.
Ух, ты! А я и не знал, что на меня такое досье скопилось…
Или, вот написанное мною напоминание в профком:
«Три месяца назад я подал заявление в квалификационную комиссию СМП-615 с просьбой о повышении мне разряда по специальности каменщика. Но до сих пор комиссия ни ухом не ведёт, ни рогом не шевелит.»
Профком дружно грохнул хохотом; начальник, повинуясь стадному рефлексу, тоже подхохотнул, не понимая что тут смешного.
И вообще со мною опасно даже находиться рядом, я на объекте руки под плиту подкладываю!
Это факт.
В тот день нас было четверо: мастер Каренин, плотник Иван, крановщик Виталя и я.
Солнце играло на мартовских снегах строительных угодий, где мы начинали новый объект.
Блоки фундамента уложены были в котлован ещё с осени, а потом всю зиму Иван приходил сторожить объект с 8 до 5.
Приходил, включал в вагончике электотэн и смотрел на белые сугробы за окном, или на портреты шлюховатых красоток из цветных журналов, которыми оклеил все стены.
В тот мартовский день он стал моим подсобником.
Всего-то и надо было поднять четыре ряда кладки в короткой стенке будущего подъезда, для монтажа обрубка плиты над входом в подвал под будущей лестничной площадкой первого этажа.
Стоя на риштовке между блоков фундамента под будущие стены, я поднял два невысоких столбика по краям кирпичной стенки и зачалил шнýрку, чтобы положить эти четыре ряда для опирания плиты. Работы на полчаса, а до конца рабочего дня час с небольшим.
Однако, Витале-крановщику не терпелось спуститься со своего насеста в кабинке башенного крана, чтоб поиграть с Иваном в карты до пяти. Вот Виталя и покричал сверху плотнику скорее зацепить обрубок бетонной плиты предназначенной для монтажа. Одним боком ляжет на блоки под поперечную стену, другим на поднятые мною столбики – поедят! А пропуск потом заложат, по ходу строительства.
Я попытался объяснить Ивану, что именно сейчас самый удобный момент закончить эту кладку. Если сейчас оставить, потом придётся корячиться в три погибели под плитой будущей лестничной площадки, втискивая кирпичи под смонтированный обрубок.
Пусть лучше подаёт раствор и я закончу за пятнадцать минут, работая с таким удобством.
Виталя для Ивана оказался дороже логики, он пошёл и зацепил стропы, как тот сказал.
Крановщик сделал «вира» грузом, развернул стрелу и понёс ко мне обрубок – положить как он хотел. Он кричал мне скорей настелить раствор на столбики, не то бросит плиту насухо – и так пойдёт.
Вместо раствора я положил на столбик руку, чтоб он не исполнил своего намерения.
Виталя темпераментно матерился из своего скворечника наверху, беспрерывно звенел звонком крана и подносил груз всё ближе.
Вобщем, это была лобовая атака двух самолётов друг на друга: кто уступит – трус сопливый.
Когда бетонному обрубку до руки оставалось около метра, мастер Каренин очнулся от наблюдения за схваткой двух ассов и заорал Витале отвести плиту в сторону.
Там она и висела на стропах, пока я заканчивал кладку как положено.
Мастер Каренин стоял на блоках у меня над головой и спрашивал:
– Зачем ты это делаешь, Сергей? Он же мог и раздавить, у него дури хватит. Остался б ты калекой.
– Каренин, у меня и так вся жизнь поломатая. Всё, что осталось – это работа. Не хочу, чтоб из неё сопли делали.
– Кого?– спросил Иван, стоя на блоках другой стены, у меня за спиной. – А шо это она у него поломатая?
– Это кому что на роду написано,– пояснил ему мастер Каренин.
Я заканчивал последний ряд, типа, занят, но не встрять в прекраснословную беседу не мог:
– Чтоб у него рука отсохла, у писателя этого.
Каренин с Иваном враз умолкли. Мастер как-то съёжился и отвёл глаза.
И именно в тот момент, жмурясь от лучей предвечернего мартовского солнца и настилая раствор для монтажа плиты на готовую стенку, я впервые подумал, что события нашей жизни определяются и происходят так, как мы сами о них расскажем в своей дальнейшей жизни. Неважно кому, неважно устно, или письменно…
( … опаньки!
Выходит тем проклятьем я пожелал, чтоб у меня рука отсохла?!..)
Мы с Иваном смонтировали обрубок. Виталя слез с крана и успел ещё пару раз сыграть в карты до выхода на шоссе, откуда нас забирала наша «чаечка».
Вскоре я забыл про этот случай, а вот начальник пришил в досье.
– И все вы знаете сколько раз его увозили в психбольницу. Но самое главное – он злостный нарушитель трудовой дисциплины. Три прогула за один лишь текущий год! Поэтому моё предложение – уволить его за систематические прогулы.
Всё верно – два дня в Москву за паровозиком для Андрея, один день в Киев, в книгоиздательство «Днiпро».
Я сознавал, что совершаю прогулы, но в СМП-615 немало кто имеет по неделе прогулов, а пара чемпионов и до двадцати дней.
Вот что я посчитал гарантией дозволенности не выходить на работу целых три дня – их нарушения прикроют мою задницу.
Ан, нет! Дисциплина прежде всего.
И вот, после пяти ежегодных записей в мою трудовую книжку про объявление мне благодарности и награждении меня почётной грамотой, 18 октября 1985 года, зав отдела кадров СМП-615, А. Петухов, таким же почерком написал в ней, что я уволен по статье 40-й – прогул без уважительных причин.
Участники заседания профкома проголосовали «за» предложение начальника – против, воздержавшихся нет.
Впоследствии, они сказали, что я сам виноват. Мне следовало встать, снять шляпу, повиниться и меня простили б.
Отчего я до конца остался наблюдателем и не выступил с самозащитной речью про чужие прогулы и моё искреннее раскаяние?
Надоело.
Пришла пора искать новые точки приложения для моего экспериментализма.
К тому же, летом был сдан 100-квартирный дом. Каменщица из нашей бригады, Нина – толстуха с мохнатой родинкой на щеке, получила в нём квартиру.
Она поступила в СМП-615 за пару месяцев до сдачи дома, и, получив квартиру, вскоре уволилась.
Я пошёл в отдел кадров и спросил у Петухова: какая у меня очередь на получение квартиры?
Он ответил, что я – тридцать пятый.
Это невозможно! Шесть лет назад я был двадцать четвёртым!
Он ответил, что с тех пор сменились три начальника и на работу принимал меня не он – в бумагах написано, что я – тридцать пятый, и у него других данных нет.
Прощай, любимый поезд! Прощай, бригада!
Вагончик я не стану поджигать, хоть из него пропала моя гитара, принéсенная на день рожденье Грини.
Когда последняя запись в трудовой книжке гласит – «уволен по статье», то это, типа, волчий билет – нигде не принимают на работу.
Однако, в Конотопе есть предприятие, где волков не боятся, это «Тряпки», они же фабрика вторсырья.
Там, с учётом моей специальности, меня приняли рабочим капремонта.
Капремонт состоял из трёх рабочих, но никакого капитального ремонта мы не производили. Сидели в бытовке, маясь бездельем, и изредка выходили во двор фабрики, где уже который год мариновалось современное оборудование под парой гигантских шалашей из рубероида, потому что здания для этого оборудования ещё не успели построить.
Сама фабрика ютилась в паре зданий барачной архитектуры – детищах первой пятилетки – в двух высоких арочных ангарах из рифлёного алюминия и в разных подзаборных пристроечках.
Но в самом начале я не скучал, потому что меня послали в командировку в город Киев.
Тогдашний Секретарь ЦК компартии Украины, товарищ Щербицкий, обещался посетить киевскую фабрику вторсырья для дачи ценных указаний по развитию столь важной отрасли народного хозяйства, и, со всей республики, работников таких же фабрик начали посылать в Киев, чтобы подмарафетить столичную к визиту высокого лица.
Когда я прибыл вносить свою лепту, металлические конструкции в цехах фабрики красили уже по четвёртому разу, а двор фабрики покрывали третьим слоем асфальта.
Стояли прощальные деньки золотой осени, солнце ласково улыбалось с неба, но, при виде маленьких зелёных ёлочек в каменных горшках для украшения двора, охватывала грусть-тоска.
Малая ёмкость горшка не позволит деревцам развиться, и после визита Секретаря они неизбежно усохнут.
Перед отъездом в командировку, я заходил в конотопский Универмаг, чтобы купить спортивную сумку для нужных вещей.
Как оказалось, там на такие сумки наехал приступ дефицита и мне пришлось взять небольшую, практичную, но, если присмотреться, всё-таки, женскую сумку.
Может я действительно извращенец?
Для проживания в Киеве, меня определили в пансионат рядом с «Трубой» на самом берегу Днепра.
До войны имелся план пересечь Днепр в этом месте линией метрополитена и успели даже соорудить остановку из железобетона, что и впрямь смахивает на великанскую трубу диаметром с двухэтажный дом. Затем обстоятельства и планы изменились, а «Трубу» исписали всякими «здесь были Ося и Киса».
Пансионатом называлась длинная одноэтажка с комнатами пеналами, как в общежитиях, только что окна побольше.
По утрам я выходил на песчаный берег делать зарядку среди кустов ивняка.
Смотреть на Днепр с такой близи совсем не то, что из электрички, проносящейся над ним по мосту. Океаническая масса валящей, прямо перед твоими глазами, воды просто потрясает.
И ведь это длится уж которое тысячелетие подряд.
Три-четыре; выдох, наклон…
В комнате со мной жил блондин из Южной Украины, который в деталях рассказывал, как его зарезали на пляже. Свои же пацаны. Воткнули нож в живот и он свалился на спину.
А тут участковый подошёл. Пацаны сделали вид будто в карты играют, а поверх ножа раскрытую газету набросили.
Участковый о чём-то стал расспрашивать, а блондин лежал и смотрел, и слова не мог сказать, а по газете муха ползала.
Пацаны, конечно: «Не, не знаем. Не, не видали».
Когда участковый ушёл, они ему «скорую» вызвали за то, что не спалил их перед тем.
Работы на фабрике почти не осталось и съехавшиеся командировочные часами сидели в комнате Красного Уголка, где молодой и бородатый художник, из местных, день за днём выписывал буквы одного и того же лозунга на одной и той же длинной полосе красного кумача, постеленной вдоль длинного стола, или разговаривал с приятелями, тоже местными, которых непонятно как пускали через проходную.
Мы переодевались тут же, в выданные фабрикой спецовки, а свою одежду складывали на стулья.
За поворотом коридора постоянно работал душ; не жизнь, а малина.
Сокомандировочников изумляла моя «усидчивость», что не прохаживаюсь по Красному Уголку, а сижу как пень и ничего не рассказываю, только смотрю да слушаю.
После очередного рабочего дня я вернулся в пансионат и понял, что у блондина закончилась командировка, потому что его постель уже исчезла, а моя извращенская сумка распахнута и в ней отсутствуют мои последние десять рублей.
До конца моей командировки оставалась ещё неделя.
Утром следующего дня, это была суббота, я вышел на поиски пищи.
Никакого определённого плана я не составлял, а просто шёл в сторону далёкого моста через Днепр. Потом шёл по мосту на множестве стальных канатов.
За мостом в поле стояли несколько многоэтажек – зародыш района Троещина, но я прошёл мимо и дальше; туда, где виднелся лес.
Дорога миновала село Погреби и углубилась в лес, где я начал искать грибы.
Там попадались только два вида и те какие-то незнакомые – одни, которые с заострёнными шляпками, оказались очень горькими, так что пришлось есть другие – со впадинками.
Голод отступил и я пошёл обратно.
В поле между селом и далёкими многоэтажками мне повезло – на обочине дороги я увидел россыпь картошки. Наверное, кузов машины при перевозке урожая нагрузили с горкой и, когда она соскочила на обочину, излишки ссыпались.
Я набил карманы картофелинами, а в воскресенье пришёл на то же место с явно женской сумкой.
В пансионате, в самом конце коридора находилась кухня с газовой плитой и большой общей кастрюлей.
Я заготовил картошку в мундире впрок на несколько дней.
А когда я возвращался в Киев по мосту со стальными канатами, то понял чтó именно не даёт мне жить нормальной жизнью – моё стихоплётство.
Вон все вокруг живут как люди, потому что стихов не пишут. Надо и мне завязать; глядишь, и – всё наладится.
Легко сказать «завяжу я с этим делом», но как?
Сжечь блокнотик, который блондин великодушно оставил в сумке?
Слишком тривиально.
И я решил сделать сборник стихов и на этом поставить точку. Вот такой план.
В понедельник в предбаннике начальника отдела кадров я попросил у его секретаря-машинистки 32 листа чистой бумаги. Как в «Манифесте Коммунистической партии» Карла Маркса, но именно столько страниц понадобилось для всех стихотворений плюс предисловие.
Сверх того она дала мне брак – два не разрезанных листа, из которых получалась как бы папка для остальных.
В Красном Уголке я попросил художника сделать из этой папки обложку сборника стихов под названием «Таке собi?»
Вечером в пансионате я почти печатным почерком переписал стихи и предисловие из блокнотика на принесённые листы бумаги.
Утром на фабрике художник показал как он оформил обложку – абстрактно бежевые волны, имя автора и название сборника.
Потом он почесал в затылке и начал каяться – писать он начал в развороте сдвоенного листа и теперь название и автор оказались на задней, а не на лицевой обложке.
Бракованные листы большая редкость и мне не оставалось ничего другого, кроме как собрать сборник на арабский манер – от задней обложки к передней.
Хорошо жить в одном городе с книгоиздательством – заканчивая работу в пять, успеваешь посетить их без совершения прогула.
В том кабинете, откуда молодой человек когда-то направлял меня к специалисту по Моэму, сидели уже двое – другой молодой человек и ещё молодая женщина.
Я спросил куда тут сдают поэзию.
Они обрадовались и дали направление в первый кабинет по коридору, налево за углом.
Там, на сообщение о доставке сборника поэзии, прозвучал знакомый мне вопрос:
– Кто вас прислал?
– Ах, ну, конечно! Меня прислали из соседнего кабинета. Тут сразу за углом, знаете?
Это послужило достаточной рекомендацией, чтоб сборник перешёл из рук в руки.
Я вышел из издательства тоскуя и смеясь.
Тоскуя?
Я отринул своих детищ и дал зарок блюсти бесплодие отныне и вовеки.
Смеясь?
Я – свободен!
( … любое начатое стихотворение обрекает тебя на кабалу. Ты мучаешься и пашешь словно раб, до момента, когда можешь сделать шаг в сторону и сказать: «да, вроде, ничего, готово, хватит; на большее я не способен» …)
Ещё громче смеялся я над приёмщиком, ведь на сборнике нет никаких адресов, указан лишь поэт – Клим Солоха, да автор предисловия – приятель Клима.
Всё! Отслужил…
– Как приняли?– спросил художник.
– На «ура!»
Имевшийся запас картошки мог поддерживать меня до конца недели, но она как-то не насыщала, даже и с солью.
Художник заметил, как в Красном Уголке я подхватил с подоконника забытый кем-то сухарь булки и съел его, пряча в кулаке.
Он рассказал об этом вечно всем недовольному начальнику отдела кадров. Тот пришёл в уже пустой от командировочных Красный Уголок и спросил в чём дело.
У меня пропали деньги из сумки.
Украли? Кто?
Об этом ничего не знаю; была десятка и – не стало.
Он недовольно дёрнул лицом и вышел.
Вскоре меня позвали в его кабинет и он сказал, что отметит мою командировку полностью (хотя оставалось ещё три дня), но я должен исполнить срочную работу: во дворе КАМАЗ высыпал песок не туда, куда надо. Теперь песок тот надо передвинуть, но бульдозер помнёт гусеницами свежий асфальт.
Часа два-три я перелопачивал песок, чтоб спрятать его позади горшков с обречёнными ёлочками.
За этот труд мне выписали десять рублей, которые я тут же получил в кассе.
Билет на электричку до Конотопа стоил четыре с чем-то.
Я пошёл в гастроном, купил бутылку водки, прозрачной как слеза разлуки, что-то там для закуси и вернулся в Красный Уголок.
Мы с художником распили её за успех сборника поэзии, который листается сзаду наперёд.
Капремонтом на конотопской фабрике вторсырья командовал Юра.
Он умел и любил смеяться, обнажая фиксу светлого металла на клыку. В чёрно-белых фильмах такими обычно изображают комсомольских вожаков, вот только фикса на вписывалась в образ.
Второго капремонтника звали Арсен, его глаза косили друг на друга, но не очень сильно; и он держал себя с важностью аксакала, несмотря на молодой возраст.
Его сыну исполнилось два года, вот он и загордился.
С ним я ладил, а Юра всё старался подмять меня, скорее всего из-за нетерпимости к моему высшему образованию, о котором я никому не говорил, но он часто и подолгу пропадал в бараке администрации и был там всем свой парень.
А у меня с ним дружбы не получилось, его выводили из себя мои цитаты и новости из газеты «Morning Star».
Арсен пытался увещевательно гасить наши стычки.
Однажды в разговоре с Арсеном я привёл цитату из работы Карла Маркса «О происхождении семьи, частной собственности и государства».
( … вообще-то автором её принято считать Фридриха Энгельса, но Фриц напечатал её после того, как Карл уже скончался, а он сам поимел возможность рыться в архивах неизданных трудов покойного.
Наверное он, как тот блондин из Южной Украины, считал себя вправе присвоить чужое.
Как никак, он всё жизнь содержал Карла и его жену на деньги своего отца, тоже Фрица …)
Всех этих подробностей я Арсену не излагал, просто повторил пару строк из самóй работы.
Юра вдруг окрысился и потребовал, чтобы я при нём не смел более повторять подобные вещи, потому что он коммунист и позвонит куда следует.
Впервые последнее слово осталось за ним, он изумил меня до онемения своей угрозой натравить органы КГБ на основоположников марксизма-ленинизма.
Хотя с них станется.
В другой раз я описывал Арсену балет Вагнера про шотландских ведьм, на который я ходил во время киевской командировки. Танцуя сольный танец, одна из ведьм запнулась и с деревянным стуком упала на сцену.
– Ха-ха-ха!– жизнерадостно прореагировал присутствовавший Юра.
– И представь, Арсен, во всём зале не нашлось ни одного придурка над нею посмеяться; она поднялась и дотанцевала. Доказала характер.
И Юра после этого доказал, что не зря отирается среди администрации – меня перевели из капремонта в производственный цех на должность прессовщика.
В чём суть «Тряпок»?
Туда вагонами везут утиль отсортированный на свалках.
Главным образом, заношенную и выброшенную одежду, а также макулатуру.
Бабы из села Поповка визжащими дисками своих станков допарывают драное отрепье и снова-таки сортируют в мягкие холмики из просто тряпья, из вязанного тряпья, из воротников искусственного меха от зимних пальто…
Целый день они стоят перед своими станками в пропылённых халатах с гроздьями булавок на груди, которые заметили и вытащили из обносков, чтоб те не повредили диск.
Вот уж кого никто не сглазит.
К холмикам тряпья грузчики приносят глубокий ящик с длинными ручками, типа, носилки для пассажира.
На лицах грузчиков повязки, как у грабителей банков, потому что возле станков пыть стоит столбом. Они наваливают тряпки в свой ящик, с горкой, и трусцой тащат его в соседнее отделение цеха – прессовочное.
К такой походке их вынуждает тяжесть груза.
( … пару раз я пробовал подменить кого-то из грузчиков; больше, чем на пару ходок меня не хватало.
– Серёга! Ты свободней неси! Свободней!
Какой там «свободней», если длинные ручки выскальзывают из стиснутых ладоней?..)
Принесённое вторсырьё грузчики вываливают возле какого-нибудь пресса; тряпки к одному, бумагу и картонные коробки к другому.
Пресс это тоже ящик, но с дверцей. Открыв её нужно уложить на пол две узкие трёхметровые полоски шинки и вывести её концы за пределы ящика.
Шинку накрываешь куском мешковины, закрываешь дверцу на крюк и поверх неё набрасываешь внутрь хлам, натасканный грузчиками.
Когда ящик полон, жмёшь кнопку сбоку и электромотор над ящиков, треща и воя, вгоняет в ящик прессовальный щит.
Щит стискивает и уминает, насколько сможет, содержимое ящика. Вой мотора сменил тон, значит дальше нет сил – жми кнопку «стоп» и следующую – «вверх».
Щит ползёт вверх по направляющей. И эти его продвижения: вверх, или вниз, уж очень медленны; душемотательны.
Теперь в ящик нужно навалить добавку, потому что по норме готовый тюк обязан весить от 60 кГ.
Опять врубай пресс, вминай добавку и, после следующей, притиснутой щитом, можно открыть дверцу и обмотать тюк той парой загодя проложенных шинок, чтоб не распадался.
Подними щит в исходное положение и выкати готовый тюк.
Его над откатить подальше, чтоб не мешал выкатывать последующие.
Как наберётся стадо тюков, приходит грузчик Миша со своей двухколёсной тачкой, вгоняет полку тачки под тюк, опрокидывает его на рамку ручки и тащит к выходу из прессовочного отделения.
Перед воротами выхода стоит кабинка весовщицы Вали, а вплотную к ней большие багажные весы.
Миша переваливает тюк на весы и палочкой, обмакнутой в жестянку с краской, пишет по проложенной под шинкой мешковине килограммы, которые Валя прокричит ему через стекло окошечка кабинки, потому что Миша стар и глуховат, хотя ещё и крепок.
Потом он сбрасывает тюк с весов, опять опрокидывает его на тачку и тащит вон из цеха, на отрытый воздух, а там по бетонной, но раздолбанной дорожке в ангар готовой продукции.
Когда к ангару подадут пустой вагон, тюки перегрузят в него и увезут неведомо куда, на какие-нибудь фабрики дальнейшей переработки вторсырья.
В прессовочном отделении всего одно окно в корке пыли, что копится там со времён первой пятилетки.
Освещение исходит от желтовато тусклых лампочек, по одной над каждым из четырёх прессов. Правда один пресс не работает, но на двух прессовщиков и столько хватит.
По норме, каждому за смену нужно сделать тридцать два тюка.
Я едва укладываюсь в рабочее время, а прессовщик Миша, гражданский муж весовщицы Вали, наштампует норму и уйдёт, посвистывая.
У него опыта больше – лишнего в ящик не положит, а у меня тюки с перегрузом.
Грузчик Миша неодобрительно качает головой, когда выводит палочкой «78», или «83» на моей продукции, кряхтит, но тащит тачку дальше.
Он молчун по натуре и замечаний мне не делает. Мне неудобно, но никак не удаётся поймать эту норму.
За смену кроме обеденного есть ещё два получасовых перерыва для отдыха.
Мы сходимся в бытовку – большую комнату со шкафчиками для переодевания вдоль двух стен. В стене напротив входной двери окна; они тоже в пыли, но большие и света хватает.
Посреди комнаты четыре квадратные стола под белым пластиком составлены впритык, образуя один общий стол для обеда. Вдоль него длинные деревянные лавки.
Это бытовка грузчиков и прессовщиков, они тут переодеваются, но во время обеда поповские бабы тоже приходят сюда, потому что в их бытовке такого стола нет.
Я тут не обедаю; я хожу в столовую завода «Мотордеталь».
Для этого надо пересечь железнодорожное полотно, а дальше по полю, потом свернуть в лесополосу и идти по тропе до конечной первого номера трамвая напротив заводской проходной. На дорогу уходит минут пятнадцать.
Завод очень современный и столовая в нём на втором этаже со стеклянными стенами и видом на поле, откуда я пришёл.
На проходной проблем нет – раз в спецовке, значит заводской.
Порции хавки в столовой хоть и маленькие, зато дешёвые. Съешь, и часа два есть не хочется.
Иногда весовщица Валя заказывает принести ей пирожное из столовой.
На обратном пути, пересекая железнодорожное полотно перед локомотивами товарных составов, что дожидаются «зелёного» на въезд в Конотоп, я пытаюсь угостить локомотивы пирожным из бумажки.
У них такие добродушные морды с красной бородой, словно на парусе плота Кон-Тики. Но они неподкупно отмалчиваются.
– Ну, не хочешь, как хочешь,– и я несу пирожное весовщице Вале.
А в получасовые перерывы для отдыха мы играем в «козла» и разговариваем.
Кроме мужиков здесь отдыхает весовщица Валя, ещё пара баб помоложе, а иногда приходит технолог Валя.
Крупная женщина, мечта поэта, но я с этим уже завязал.
Грузчиков в бытовке четверо, но старый Миша всё время молчит и ни во что не встревает. Даже в «козла» редко садится.
А вот Володька Каверин, с рыжеватыми усами в тонкую скобку, криклив и запальчив, но грузчик Саша, с тёмными усами подстриженными щёточкой, сдерживает его порывы.
Он высокий, спокойный, надёжный и – как тесен мир! – он муж той самой Вали, что напечатала на машинке сборник моих переводов.
Четвёртый грузчик, Ваня, брит и круглолиц.
Он иногда грозится набить мне ебальник за некоторые мои слова, но я в этом сомневаюсь – по лицу видно, что мужик он добрый.
Вместе с тем, он женоненавистник и, удерживая в ладони костяшки домино, опять начинает доказывать какие они все стервы:
– Лежу я на ней, пыхчу, наяриваю, из кожи лезу, а она – глаза в потолок – «ой, Ваня! там в углу такая паутина!» Ну, не суки они после этого?
Тут и святой не удержится, чтобы не вставить слово:
– Да, Ваня,– говорю я,– как после такого не стать голубым?
Он снова грозится разбить мне ебальник, а я соглашаюсь, но, чур, ниже пояса не бить; и ему вдруг доходит насколько ошибочно наименование «лица» в обиходной речи.
В конце зимы работники фабрики ежегодно ездят с трёхдневной экскурсией в Москву. Не все, конечно, а желающие.
Технолог Валя спросила нет ли у меня желания. Пришлось признаться, что у меня денег едва хватит до получки дотянуть.
– Ой, ладно, – сказала она,– проезд и питание оплачивает профсоюз. Туда можно и с троячкой съездить.
Это был вызов эксперименталисту.
Я записался на экскурсию и приготовил три рубля.
В Москву мы приехали вечером; небольшую колонну экскурсантов возглавил Юра и через необъятный Киевский вокзал вывел на площадь; не первый год в экскурсию ездит.
Я замыкал шествие, сунув руки в пустые карманы демисезонного пальто-шинелки.
На площади нас уже ждал автобус, чтоб отвезти по вечерней Москве на Красную площадь.
Там все вышли, чтобы пройти мимо мумии Ленина в Мавзолее. Остались лишь водитель, экскурсовод Оля да я.
– А вы что не идёте?– спросила Оля.
– Не люблю покойников.
Водитель слегка оглянулся от своего руля.
Как видно на тёмную Красную площадь ещё подошли автобусы с экскурсантами со всех сторон нашей необъятной страны, потому что водитель открыл дверь и внутрь поднялись ещё три девушки экскурсовода.
Они все знали одна другую и бойко общались о раскладах в своём экскурсионном бюро и про всякое другое.
Одна из девушек, по-видимому, недавно выучила новое слово от кого-то из экскурсантов, потому что часто повторяла:
– Я вся такая заиндевелая!
Я придержал язык, чтобы не ляпнуть:
– Смотри, не обляденей.
В конце концов, тут столица, а не бытовка «Тряпок».
Вторсырьевцы вернулись с морозной площади, ухая от холода и потирая плечи своих пальто и курток – священный долг отдан.
Нас отвезли в район ВДНХ, в гостиницу построенную в конце пятидесятых для участников Всемирного фестиваля молодёжи и студентов.
Экскурсовод уточнила детали дальнейшего сотрудничества – на утро третьего дня автобус придёт отвезти нас на вокзал; ведь нам интереснее магазины, чем «посмотрите налево – посмотрите направо», не так ли?
Все хором сказали, что так.
Питались мы в отдельном здании столовой по талонам.
Работница столовой порекомендовала мне не оставлять пальто на вешалке в конце зала.
– Но без пальто удобней есть.
– Глянь, Вера!– крикнула она другой работнице.– Тут ещё один гость из коммунизма!
Поскольку магазины меня никак не интересовали, я в основном гулял по району, катался на троллейбусе аж до конечной и даже нашёл киоск, где продавалась «Morning Star».
В Конотоп, из-за заварухи в Польше, газета стала поступать с перебоями, наверное, они неверно освещали там польские события.
На три рубля шибко не разгонишься, но я-таки сходил на исторический боевик с Караченцовым в главной роли.
( … наши, вобщем-то, могут сделать пятнадцать минут экранного времени интересным, но остальные час двадцать – полная тягомотина …)
В гостиницу «Полярная» я поехал на метро.
По случаю дневного времени в тамошнем ресторане кормили явных экскурсантов, потому что те сидели за столами впритык друг к другу, все в своих шубах и пальто.
Я попросил мужика в пиджаке позвать официанта Николая, но тот только пожал плечами. Тогда я потребовал метрдотеля.
Вышла высокая женщина в таком же пиджаке.
– Год назад я ужинал в вашем ресторане. При расчёте у меня не хватила рубля. Я обещал официанту занести позднее. Зовут его Николай; лицо умное, круглое. Передайте ему, пожалуйста.
И я протянул ей рублёвку.
Она молча приняла.
И я нашёл ещё одно место бесплатного времяпрепровождения – ЦБ им. В. И. Ленина.
По рáзовому билету.
Шикарное место эта Центральная Библиотека имени Ленина. Помесь театра с вокзалом. Короче сказать – грамоты храм.
Двери высоченные и даже на ручке надпись для грамотных «к себе».
Ну, к себе – к себе.
Потянул я, а там опять двери и уже за ними, и за окошком, в котором дают билет по паспорту, большой зал.
Он оказался раздевалкой, но с колоннами, а в дальнем конце зала лестница мраморная, молочного цвета.
А по залу тому снуёт сплошная дружба народов – бирманцы с сенегальцами; хотя, и белых немало попадается.
И гляжу – неравновесно как-то получается: с левого боку гардеробщики за мраморным барьером мотаются с пальто да номерками – туда-сюда, туда-сюда – но очередь к ним не иссякает; а с правого – стоят, бездельем маются.
Жалко мне их стало, подхожу, своё пальто-шинелку на беломраморный барьер перед ними скинул и жду. Так хоть бы шевельнулись!
Потом один мне барственно так поясняет: здесь, мол, только для академиков.
Ни хрена себе сегрегация с дискриминацией! Иль сожрёт моё пальто ихние шубы академические?
Короче, поблагодарил за информацию и – к раздевалкам напротив.
Потом к лестнице молочно мраморной. Там билеты проверяют, ещё пару бумажек дают и только потом запускают, а рядом два милиционера – для порядку.
На втором этаже, над раздевалками, ящики каталогов – шеренгами, смахивают на автоматические камеры хранения, только цвет деревянный.
Посмотрел я по карточкам – есть Фрейд, его лекции изданные в 1913 году, по случаю какого там его юбилея. Всего-то 60 страниц.
Выписываю все индексы и данные этой книжечки, иду в читальный зал. Ликую!
Дежурная в заявку мою глянула, аж взвизгнула, словно караул скликает: Фрейд?!!
Вы, не ошиблись, отвечаю, его, голубчика, пожалуйста.
Не тут-то было. Чтоб допустили к этой книжечке, говорит она мне, нужна, как минимум степень кандидата соответствующих наук, и ещё московская прописка (разовый билет не катит), а также особая бумажка из учёных Олимпов, что мне дозволяется его почитать.
Ликование моё утихло и в таком отупело утихомиренном состоянии спустился я по пастеризованной лестнице и – на выход.
Выхожу, значит, на улицу и такой я ко всему спокойный.
Никуда не тянет, ничего неохота.
Дошёл до перехода, где в метро спускаться, приткнулся задом к парапету, на ЦБ вылупился, а в голове пусто-пусто, лишь где-то по задворкам бродит шевченковское:
чужому навчайтесь… свого не цурайтесь…
Люди добрые! Где я?
Огромный домина, по фронтону отакенными буквищами «Центральная Библиотека им. В. И. Ленина». Так он же для чего старался? Чтобы рабочие могли книжки читать!
Нам всем поголовно вдалбливают его главный наказ: «Учиться, учиться и учиться».
И что же теперь выходит?
До Великой Октябрьской революции, в 1913 году, любой рабочий мог заглянуть в книжную лавку и купить эти лекции на 60 страниц, после той же самой революции в ЦБ имени Ленина мне сказали: «хрена тебе, а не книжку, потому что ты – рабочий».
Так и стою, врастаю в парапет, и такая во мне тишь и кристалличность.
Очнулся только, когда со всех сторон скребёж поднялся.
Гляжу – с полдюжины рабочих лопатами снег счищают. Солнце яркое, а они скребут да на меня поглядывают, будто ждут чего.
А что я дам? Сам несолоно хлебавши.
Или здесь тоже хотят почистить?
Ну, отклеился я от парапета и – в переход, поглубже от сияющих вершин…
В условленное утро пришёл автобус и старший вторсырьёвец подписал бумаги экскурсионного бюро, что нас три дня возили по столице, рассказывая о её исторических и архитектурных достопримечательностях.
И все остались довольны – экскурсовод, получившая три дня оплачиваемого досуга, и отоварившиеся дефицитами экскурсанты, и водитель с трёхдневной пайкой бензина, которую можно пустить в оборот; а больше всех я с монеткой в кармане достоинством в пятнадцать копеек.
Технолог Валя не преувеличивала – три рубля на экскурсию в Москву за глаза хватит.
Единственный минус, что я задолжал фабрике эти три дня, то есть три дневных нормы по тридцать два тюка каждая.
Технолог сказала – ничего, мол, потихоньку, по пять тюков в день сверх нормы – расквитаешься.
Не люблю ходить в должниках и на третий день после возвращения из Москвы я пришёл на работу с «тормозком» съестного, чтобы стать стахановцем.
Когда фабричный автобус увёз всех в город, я остался один на один со скрипуче ползучим прессом и горами тряпья, что накопились вокруг него за время моего отсутствия и почти не уменьшились в дневную смену.
Я отработал вторую смену, потом третью и даже успел поспать в бытовке минут двадцать перед началом нового трудового дня.
Летом к нам добавился ещё один прессовщик и очень вовремя, потому что Миша уходил в отпуск.
Новенького звали каким-то длинным восточным именем, потому что он был таджик, но оно у меня никак не выговаривалось.
Чтобы не париться, я стал звать его просто Ахметом.
Невысокий, смуглый и улыбчивый Ахмет не переносил хавки в столовой завода «Мотордеталь» и после неё отлёживался в бытовке, а бабы его жалели и советовали чем лечиться.
После получки он стал привозить с собой «тормозок» в газете и пищеварение у него наладилось.
В его первый рабочий день его первым наставником оказался я.
Объяснив ему назначение трёх кнопок пресса и показав как закрывается дверца ящика на крюк, я начал делиться с ним знанием того, что некий немецкий поэт заявил, будто все чайки в полёте похожи на букву «Е», а почему?
Его любимую звали Emma!
Разве не молодец?! А?! Подметил!!
Охваченный лекторским пылом, я в тусклом свете лампочки царапал проволокой по серой штукатурке стены эту самую «Е».
Ведь точно же как чайка, что легла на крыло в развороте!
Ахмет радостно улыбался и молча кивал в ответ.
( … теперь спрашивается: зачем я мучил ни в чём не повинного человека, и навязывал ненужные знания парню слабо понимающему русский язык?
Ответ: такова людская природа. В наши гены заложено желание поучать.
Хочешь убедиться?
Взгляни на самую обычную картину во дворе: мужик поднял капот машины и вокруг мигом сгрудился целый рой советчиков – поделиться, блеснуть персональной крохой знания.
Желание это неудержимо, как у брадобрея подсмотревшего ослиные уши царя Мидаса: «я знаю! послушайте меня!» …)
Среди тряпичных отходов иногда попадались пригодные вещи.
Так в шкафчике грузчика Саши скопилось около полдюжины свитеров, с оленями и без; всяких. И он каждый день пижонил в другом свитере.
Володька Каверин по мелочам не разменивался; он копил споротые от пальто меховые манжеты и воротники, чтобы, когда наберётся достаточно, заказать себе из них куртку, или даже шубу.
Пока что он, через два дня на третий, вынимал из своего шкафчика все три уже собранные воротника, встряхивал их и вопрошал:
– А ништяк должно получиться, да?
Ваня в своём шкафчике держал парадный китель подполковника Советской армии, с погонами и всё такое.
Когда меня отрядили гонцом за водярой в вино-водочный магазин на улице Семашко, то моментально экипировали такими джинсами, о каких когда-то я мог только мечтать.
Вот только тот кленовый листочек на ляжке там, по-моему, зря вышит.
Очередь в магазин начиналась задолго до него и непонятно петляла по тротуару, потому-то подобные очереди тогда называли «петлями Горбачёва».
Но громко об этом говорить не стоит, потому что, по слухам, в очередя́ засылают соглядатаев из КГБ – послушать новые анекдоты и взять на заметку особо недовольных.
Именно на этом основании я и потребовал на фабрике маскировочный прикид, и все согласились, что да, это надо.
Несмотря на маскировку меня опознали пара гонцов из СМП-615, однако, в разговор вступать не стали.
( … выстоять такую очередь после окончания рабочего дня прежде, чем закроется магазин – немыслимо. Вот почему на предприятиях возникла прослойка гонцов, а сотрудники прикрывали их отсутствие и пахали «за того парня» …)
По ходу продвижения, очередь сотрясали панические слухи, что водка на исходе.
Движение и впрямь застопорилось.
Но вот к заднему ходу в магазин подошёл грузовик и добровольцы с энтузиазмом перетаскали внутрь проволочные клетки по 25 бутылок в каждой.
С водярой я вернулся к половине пятого.
Мою норму тюков за меня прессовали, по очереди, грузчики, но тюки у их выходили с недовесом.
Весовщица Валя недовольно орала из своей кабинки.
Глуховатый Миша радостно помалкивал, откатывая лёгкие тюки в ангар.
Мы с ускорением входили в перестройку.
И даже такой дефицит, как махровые полотенца, во множестве висели на трубах в комнате с кранами над жестяным жёлобом, куда все смывали разводы пыли с грязных рук перед обедом.
Своё полотенце я принёс с Декабристов 13, но побоялся оставлять его в умывальнике – а вдруг кто-то использует как общий утиль?
Своё полотенце я держал в бытовке, на трубе отопления в углу под окном.
Откуда у меня такой дефицит?
В какой-то момент Раиса Александровна оценила мои батрацкие труды и решила отплатить натурой.
Так у меня появились махровое полотенце и новенький портфель.
Очень даже симпатичное полотенце, белое такое, пушистое, специально для лица и рук. И украшено синей белкой на белом фоне, в профиль с пушистым хвостом – тоже очень миленькая.
Но как-то раз, вернувшись из вояжа в далёкую столовую «Мотордетали», я заметил, что нежной белкой утёрлись чьи-то грязные лапы.
Естественно, я поднял кипиш – что за дела?
Своё полотенце полотенце я не из тряпок выудил, а принёс из дому!
Все указали на Ахмета.
Я старательно объяснил, ещё раз специально для него, откуда оно принесено и настоятельно просил, чтоб он никогда, ни в коем случае, ни под каким видом не пользовался моим.
Вон в умывалке десяток их висит; ему что – мало?
Он извинился и сказал, что он не знал…
Пришлось отнести полотенце обратно и в понедельник постирать.
В среду, свежевыстиранное и поглаженное, моё полотенце висело на своей трубе в бытовке.
В получасовый перерыв я играл с грузчиками в «козла», когда хлопнула входная дверь на пружине и вошёл припоздавший Ахмет.
Лялякая какую-то восточную мелодию, он деловито направился в угол.
Ваня толкнул меня в плечо и подбородком указал: смотри, мол, что Ахмет творит.
Тот старательно, как хирург, тёр мокрые руки о синюю белку.
Но, по тому как он косил глазом из-под прижмура оливковых век, я понял – это всё с умыслом.
– Ахмет,– сказал я в общей тишине.– Вижу тебе понравилось. Я дарю тебе это полотенце.
– Ой, я забывала!
– Подарки не обсуждаются. Бери – оно твоё.
И я отдуплился в оба конца.
( … он, таки, вернул мне должок за того немецкого поэта с его буквальными чайками; а может не простил «Ахмета» …)
Помимо прессовочного отделения, пара прессов стояли в других местах.
Когда я получил задание запрессовать макулатуру возле одного из них, то словно из подземелья вышел – пресс установлен рядом с большим окном. И, неподалёку – багажные весы.
Грузчик Миша взваливал на них готовые тюки и говорил мне вес, а я записывал на бумажку. Потом он отвозил их прямиком в ангар, до которого отсюда было вдвое ближе, чем до весовщицы.
Вот почему Валя дала мне карандаш и сказала вести запись веса тюков на бумажке, а в конце дня отдавать её ей, чтобы она переписывала в свою тетрадь.
Этот карандаш и сделал из меня то, кем я стал.
Он превратил меня в отпетого графомана.
Сначала я писал им столбик цифр в найденной среди макулатуры недописанной тетрадке ученицы четвёртого класса Любы Доли. А потом, под скрип и вой тормознутого пресса, он взял и написал вдруг «Пейзаж» – короткую словесную картину с озадачивающим концом.
Я прочёл эти полстранички и увидел, что это хорошо.
Мне понравилось – ни убавить ничего, ни прибавить.
Затем к «Пейзажу» добавились зимний «Натюрморт» и летний «Портрет».
Вместе с «Пасторалью», они составили «Вернисаж» из четырёх картин.
Но это потом, потому что «Пейзаж» оказался всего лишь пробой пера, вслед за которой карандаш принялся выписывать начальный диалог летней сонатинки «Серьога мочить конi».
Позже появились зимняя, весення и осенняя сонатинки, вошедшие в сборник «Пори року» прозаика Секлетия Быдлюка.
Разумеется, их дописывал уже не тот самый карандаш, но начиналось всё именно с него.
Это он ввёл меня в транс, сделал из меня зомби, чтоб я держал его, пока он продолжает писать строчку за строчкой уже на других бумажках, потому что тетрадка Любы Доли закончилась.
( … порой совсем так мало нужно, чтобы случилось волшебство.
Подумать только – обыкновенный огрызок карандаша…)
Когда сонатинки сложились в сборник С. Быдлюка «Пори року», мне захотелось увидеть их в напечатанном виде, но снова обращаться в машинописное бюро мне не хотелось наотрез; даже не знаю почему.
В однокомнатной публичной библиотеки на первом этаже одной из пятиэтажек Зеленчака, я обнаружил машинку с украинским шрифтом.
Там работали две библиотекарши – женщина пенсионного возраста и толстая девушка в очках, похоже внучка.
Попытка выпросить машинку напрокат встретила холодный приём.
Откуда им знать что я там понапечатаю, а в КГБ хранятся образцы текста от этой печатной машинки.
Старушка добавила также, что существует негласное правило о снятии таких образцов со всех машинок в любых учреждениях.
Всё предельно просто и логично – вздумай я печатать прокламации, органы враз по этим образцам увидят кого брать за жабры.
( … приятно сознавать, что тебя охраняют такие предусмотрительные органы …)
Тогда я попросился напечатать один рассказ прямо у них, за столом позади книжных полок. Воспользуюсь копировальной бумагой, чтобы сразу печатать две экземпляра и копию оставлю им, на всякий.
Старшая с сомнением качала головой, но девушка её уговорила.
О, боги! До чего непростое искусство – печатанье на машинке.
Чтобы настукать всего пару страничек, мне потребовались два выходных.
Бедные библиотекарши, как им, наверное, стучало по мозгам моё затяжное выбивание буквы за буквой указательным пальцем.
Конечный продукт пестрел опечатками, но девушке понравился, хотя она в жизни не слышала выражения «мочить конi» и ей пришлось спрашивать у знакомых.
А мне пришлось восстановить отношения с Жомниром, потому что он когда-то показал мне портативную машинку в своей архивной комнате.
Как представитель интеллектуальной элиты, он не мог не посодействовать решению творческих проблем; ну, а Мария Антоновна меня и так давно любила.
Вот почему я снова начал бывать в Нежине по выходным.
Жомнир показал, что печатать надо всеми пальцами обеих рук и оставил меня наедине с машинкой в архивной комнате и ушёл в свою спальню, а для меня в гостиной Мария Антоновна приготовила диван.
Я печатал всю ночь, а утром сходил на вокзал выпить кофе.
Потом печатал сидя на балконе.
В небе кувыркались голуби над кирпичной трубой кочегарки рядом с соседним зданием.
С высоты пятого этажа я посматривал на зелень деревьев внизу и снова оборачивался к машинке с заправленным в неё листом бумаги.
Мне нравилась такая жизнь, хотя иногда я вспоминал, что это ж Нежин и подступала ностальгия.
Вернее, я ни на минуту не забывал где я и ностальгия отступала лишь перед цоканьем машинки.
Концовка зимней сонатинки возмутила Жомнира:
– Слушай, так нельзя, это ни в какие ворота!
А я ликовал – он не нашёл в моих рассказах повода придраться к языку, он негодовал и спорил с героем повествования!
В уплату за пользование машинкой Жомнир, по старой памяти, подсовывал мне стихи для перевода: Шелли, Фроста, Киплинга.
Я переводил и привозил ему, но это не в счёт; я оставался в завязке.
По советскому трудовому законодательству, каждому трудящемуся полагается ежегодный отпуск.
Осенью фабрика вторсырья предоставила мне его. Как никак я отпахал на ней одиннадцать месяцев.
Я не строил планов как провести его.
Я твёрдо знал куда поеду.
~ ~ ~
~~~восточный коридор
В густой тени исхода ночи начинала уже, понемногу, угадываться более сплочённая чернота придорожной лесополосы.
Машине эдакая автострада – высшая, поди, мера без права переписки, а моим двоим – неплоха. Путник в час одолевает пять километров, так нас в школе учили.
До райцентра, по словам дяди, вёрст 15, не боле. Вышел я в пять с минутами. Автобус на Москву в девять.
Йип-понский бог! Смачная, таки, штука – жить.
Ветер попутный. Ветер дует прямо в спину, не пора ли к магазину? Не послать ли нам гонца…
Эк тебя повело, полегче на поворотах, малый. А сухой закон? Запамятовал? «Дура лекс, сед лекс». Перевести?
Не иссвольте беспокойисся, с латынью мы на «ты».
Но так опуститься! Какая вульгарщина! Пошлость наинизкопробнейшая. Гонца. Винца. Фи!
А чё? Народное творчество. Фольклёр. Безупречный ямб.
Тебя бы ямбом этим да по вые, чтоб разбирал ямб от дактиля.
Ха! Тоже мне эстет самоучка выискался. Без мотора. Гурман мохнорылый. Ямб, вишь, ему не по ндряву. Не угодно ль вашей милости хореев? Хариусов под хересом?
М-да, хореи нынче захирели. Экология заела. Куда ни кинься —«горячо одобряя на сэкономленных резервах подхватим почин сверх плана с чувством глубокого удовлетворения опережая сроки центнеров с гектара погонных метров металлопроката». Смело заводи красную книгу на всю изящную словесность. Не выживет.
Минули златые дни любимцев музы… «Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына…» Ведь этой строчке гекзаметра одних лишь сносок с примечаниями надо квадратных метра два, чтоб люд, передовицами вскормлённый, раскумекал: какого рожна хлюст энтот, Ахиллес, клеится к сынку звезды бразильского футбола. Тут и бумаги не напасёшься! А про рост благосостояния на чём тискать?
И то правда, только жить-то хочется, а жить не с кем, вот и живёшь с кем попало. Оттого и тешится народ фольклёрщиной. И преотменные, заметьте, сударь мой, поделки встречаются, Взять хоть эту: «…последний раз, падлюги, спрашую – хто сказал на Бога «рашпиль»?!.».
В чуть белесой уже мгле безлюдья – сдержанное фырканье смешка. Наплыл и отстал чёрный сгусток деревца на обочине.
Однако же и вышколили тебя. Кому здесь заоглядываться на беспричинный смех?
«Иду и улыбаюсь сам себе, при мысли же «что встречные подумают?!» и вовсе хохочу.»
Тоже народ нафольклёрил?
Не, какой-то чех с поэтическим уклоном.
А чехи не люди? Заколю!
Смилуйся, о, Авраам! Пошарь в кусточках, авось разойдёмся красиво – и Яхве сытый, и сыночек целый.
А если я – Тарас Бульба?
Ну, это, разве что в засушенном виде. Из тебя казак, как из козы Робинзон Крузо. И больше так не скажи – куры засмеют.
Эва! А говорили будто смех – монопольная собственность Хомы Сапиенсова.
Ну, в смысле физиологии, ясно: спазмы и попёрхивания жутко нужные здоровью. А в смысле смысла? Что за прибыль от этой монополии?
Помозгуем. Где смеются порядочные люди? В специально отведенных местах. В цирке, скажем, или…
Правильно! Айда в кино! Комедия – предел всему! Фантоцци. Ух, даёт!
Шмяк! Бряк! Шарах! Дзинь-буль-тресь-бздынь!! Пссс…
Вот где смеху-то! Гы-гы-га! У-ю-гу-гу! Х-хо-хо! Иа-ха-ха!
Только соседка моя, необъятная дама слева, ни гу-гу.
Что такое? Вздремнула? Нет, глядит добросовестно, но молча.
И снова человек на экране с разгону ахнулся лбом в столб. Зал грохнул дружным залпом. А ей хоть бы что – молчит!
Но что это? Что? Подумать только! На незначительном эпизоде, где актёр, после очередной вздрючки, впяливается в костюм на пять размеров больше и публика почти не реагирует, в изнеможении от предыдущих пароксизмов, из непомерных объёмов моей соседки выкатывается вдруг смех таких же габаритов. Ай, да комик! Однако, чем же он её пронял?
И спрашивается теперь: отчего смеются люди? Ответствую – от страха.
От страха?
Именно! Ведь, что может быть женщине страшнее уродящей одежды?
А вот когда у комика сорвалось вдруг седло с велосипеда и он с размаху насадился на трубку, что торчала там – в зале преобладало мужское гоготанье. Бабу, ведь, не испугаешь пустяковиной такой.
Что ты плетёшь? Смех от страха! Когда страшно – бегут, а не смеются. К тому же, хитромудрия твои выведены из смеха нижайшего пошиба, а смеются, ведь, не только когда кто-то споткнулся-оскользнулся-растянулся-упал-в-канализацию; бывает же и над остротами смеются. Эпиграммы ещё есть. Да мало ли!
Истинно, истинно говорю вам! Смех происходит от страха и есть просьбой и моленьем обращённым к неведомо кому, дабы не стряслось подобное с молящим, с тем, то есть, кто смеётся. У смеха вызванного изысканнейшими остротами та же подоплёка – страх. Здесь «ха-ха-ха» означает: «пусть надо мной так не пошутят».
А смех над самим собой – молитва: «да не угораздит меня боле».
Они неразлучны – страх и смех. Скажи над чем смеёшься и я скажу чего боишься ты!
Выходит, тот, кто никогда не смеётся, ничего не боится?
Милостивый государь! Мы рассуждаем не об аномалиях, а про среднестатистического представителя класса позвоночных, отряда млекопитающих, вида ль, подвида ль, человекообразные с латинской кличкой «homo sapiens». Так что не пудрите нам мозги.
Но тогда получается, что с помощью анекдотов можно узнавать…
Ага! Доходит? Отлично. Идём дальше. А вот, кстати, и километровый столб. Ну-ка, что поведает? Нет, не разберу, темно ещё.
Ну, и хрен с ним, пущай стоить. Не он первый, не он последний. Чего пристал к сиротке? Нужóн он тебе? Топаешь и топай своей дорогой.
Ах, извините. Право слово – без умысла и подвохов. Ещё раз прощения просим. Счастливо оставаться…
М-да… О чём это мы? Ах, ну, конечно: рассмотрение бессмертного вопроса классика: «над чем смеётесь?» Ответ – над тем, что боязно самим изведать.
Что есть предтечей смеха? Правильно – улыбка.
А улыбка это – что? Точно – это когда зубы скалят.
Допустим, встретились мы с тобой на первых ступенях эволюционной лестницы. Я тебя не знаю, что ты за стегозавр, ты меня – не двояко, ли, я дышащее. Паспортов нам тогда ещё не выдавали. Ну, значит, встречаемся и первым делом – чего?.. Верно! Оскаливаемся. Дескать, гляди, ежели чего, так у меня – во какие. Усёк, откуда эти хиханьки да хаханьки?
В элементарной своей основе, смех есть средством самозащиты с гегелевски двойственной функцией: отпугнуть и отмолиться.
Применяется, однако, не в случаях реальной опасности (тут уж не до смеха), а когда угроза эта мнимая, воображаемая. Не применяется при отсутствии угрозы или воображения, либо когда защищать уже нечего.
Пользуясь монополией на вышеизложенное оружие, человек вскарабкался на верхушку той лестницы, где выдают паспорта и записывают желающих в секцию по борьбе самбо.
Аминь.
Ну, ты даёшь! Впору «эврика!» вопить и – галопом в бюро патентов.
Зачем, чудак? Давно уж все велосипеды изобретены. Любая сверхновая мысля не раз уж копошилась в мозгах коль не жреца-халдея, так софиста-грека, средневекового алхимика, ацтека-узловяза, вещего брамина-ведоведа или тибетского мудреца.
Все открытия и супергениальные идеи – не более, чем выражение иными символами, словами, старых истин. Неизменных, как смена времён года, фаз луны, дня и ночи.
Каждый день нов и единственен, каждый день – повторение множества точно таких же дней.
Красиво токуешь, голубчик. А можно вопрос из зала: гражданин управдом, а вы это хорошо прицепили?
Не бойся, нашаван, не сорвёшь! Или есть резонное «но»?
Умгу, естя маненько. Куда вы – в своей системе – впишете улыбку двухмесячного младенца? Он-то с какого-такого перепугу лыбится навстречу своей маменьке, неньке, матерке или кто уж там у него есть? Похоже, эта беззубая улыбочка отправляет все ваши умствования прямиком псу под хвост. Не так ли, мистер бриллиантовый козлик?
Светает.
Мутно-серый потолок налёг на нескончаемые стены мглистых стволов, опутанные сетью чёрно-голодных ветвей и веточек в потёках жухло-жестяной листвы.
Вдоль корявого асфальта метутся, змеясь, сбившиеся с орбит кометы позёмки, взвихряя тощие струи сухой снежной пыли.
Ветер попутный. В спину. Дуй, приятель! Дарёную тёткой куфайку продуешь ты чёрта с два.
Голова туго обтянута шерстяным колпаком: «петух» называется. Ноги в грубых солдатских полуботинках, на две пары носков, споро верстают простёртую до горизонта дорогу, вслед за уносящейся в бесконечность позёмкой.
Дуй, кудрявый! Ещё греки знали, что под флейту легче делать «ать-два». Крепкая одёжка, дальний путь-дорожка: чего ещё надо для счастья?
Лесополоса расступилась, пропуская уходящую от шоссе грунтовку. В расселину выглянуло удивлённое поле: кто тут такой счастливый?
И от этого поля, и что есть впереди дорога, и что утро такое хмурое, и оттого как струится за ветром бледно-прозрачный дымок белого снега – стало вдруг безудержно радостно, прихлынул неуёмный восторг выше горла и выплеснул возглас в пустынную муть:
– Ай эм хэппи!
Кутерьму крупиц на дороге, словно зеркало, повторяет круговерть низко мчащихся облаков.
– Эм хэппи,– на этот раз почему-то с угрозой и чуть вопросительно.
– Хэппи!– совсем уже грустно.
Да. Недолго музыка играла. Где оно счастье? Только в прошлом, или в будущем. Ищи-свищи.
А если и нaбреду на крупицу крохотную – вот как только что – то всегда в одиночку.
Отчего так? Обидно малость. Вот если б она рядом. Хотя нет, марш-броски ни к чему ей.
Или пусть увидала б: на экране, во сне, где угодно – это вот утро, споконвечную эту дорогу, на ней путника…
Идиот! И когда уж тебе дойдёт, соплежуй несчастный!
Не существует никакой вовсе «оны» в природе, а есть лишь невнятные, сентиментально-слюнявые мечтанья твои, придурок, толком неясные и самому.
Невразумительная смесь неземной красы со страстью к утехам отнюдь не небесным; сочетание холодно-острого ума с нежно-пылким влагалищем вожделеющим лишь к тебе.
Много хочешь, малый. Ты выстроил мост на верхушке горы и ждёшь, чтоб под ним побежала речка.
И кроме: для получения чего-бы-то-ни-было надо давать хоть что-бы-то-да-нибудь.
А что, распролюбезный, имеете предложить? Тёткой дáреную куфайку? Оно, канешно, вещь практичная. Дней пяток всего как надёванная. Что? У вас и деньги есть? Цельных полста целковых? Ну, так отминусуй десятку на автобус до Москвы, четвертак на самолёт и пятёрку на электричку от Киева.
А на харч уйдёт сколько? Так за какие тя шиши любить безумными страстями?
Лучше подотри-ка нюни, да шагай себе и шагай. Дело тебе знакомое, привычное даже.
И он шагал, наступая на хвосты прозрачных лент позёмки.
Каждый шаг ничем не отличался от предыдущего и от следующего, с каждым шагом ни на йоту не менялись ни колдóбая дорога, ни низкое небо, ни лесополосы по бокам.
Всё то же. Всё так же. Всё движется и остаётся таким же.
Изредка приближались и отставали бетонные столбики с цифрами на голубых жестянках.
Несколько часов кряду такой ходьбы, пусть даже налегке, порожняком, и начнётся ломотное нытьё в плечах. Это он знал.
Но сегодня до этого не дойдёт. К райцентру пятнадцать вёрст, сказал дядя. А там уж пойдут транспортные услуги развитой цивилизации.
Что-то завиднелось вдали на обочине. Неподвижный крупный предмет.
Уцепившись взглядом за эту неподвижную непонятность средь всеобщего хаотичного шевеления, он приближался, гадая: что бы могло быть?
Какая-то техника.
Ага.
Какая?
Ну, мало ли наклёпано всяких для сельхозработ. Ближе подойдём тогда и…
В паху явно наклюнулось жжение.
Да погоди ты со своими позывами.
Точно – техника, хотя из другой сферы.
Он остановился у окрашенного в мандариново-жёлтый цвет дорожного катка.
Надо ж куда занесло тебя, болезный. Зябко, небось? То-то. Привык, чай, к тропикам асфальтным? К пылу да жару битумному. Как зимовать-то думаешь? С перелётными не упорхнёшь: на подъём тяжек. Да и поздно уж. Берлогу рыть нечем. Профиль у бедолаги другой. Один исход – анабиоз. Вмерзай в среду окружающую, как всякие там хладно-кровно-земно-водные. Хотя, пожалуй, тоже не сахар.
Он излил сочувствие на россыпь некрупного щебня. Застегнулся. Переступил тёмное пятно, часа два тому бывшее чаем, что сготовила жена дяди на посошок.
Всё течёт, всё изменяется. Один и тот же чай нельзя излить дважды.
В деревню, откуда он сейчас шёл, это был второй его приезд. Хотя, конечно, в первый раз не сам ехал, а был привезён.
В то лето дни длились по веку, неспешные, как спокойный ручей, беззвучно кативший гладкую воду, разделяя деревню на ихних и наших.
Тихо катит ручей по песчаному дну. Воды по колено. Чуть вверх по течению попадаешь в зелено-сумрачный туннель меж непролазного ивняка.
Мальки тычутся в икры и чуть слышно скребут. Малость жутко, особенно если тебе двенадцать лет и наслушался рассказов про пиявок и «конский волос».
А за деревней – не близко, с час, может, ходу – речка Мостья. Неширокая, но плавать можно. И он плыл к ярко-травному тому берегу, подталкивая красно-синий резиновый мяч, взглядывая на пятно своего лица отражённое в мокрых вёртких боках мяча.
А может мяч тот, и другой берег были у иной речки его детства, но то, что и в эту речку он входил – было.
Двадцать лет назад.
Двадцать лет спустя, во второй приезд, в неё он уже не вошёл. Холодно. Осень.
Пусто в плавно разгонистых волнах полей. Пусто в деревне.
На каждом шагу развалины – кирпичные останки домов, обросшие жёсткими травами.
Мамай прошёл.
Уцелевшие безмолвны, приземисты, словно вдавлены океаном блёклого неба. Марианская впадина.
– Вы к кому?
– К Сергею Михалычу Огольцову.
– А сами-то кто будете?
– Сергей Огольцов.
– Выходит, племяш?– скоро догадалась она.
– Он самый,– согласился он, сдерживая улыбку.
Она позвала пройти в комнату, сетуя, что дядька только что вот укатил с перерыва, похвалила вещунью кошку, с утра пораньше намывавшую гостей, и вернулась на кухню к большой русской печи и мерным ходикам на стене, к покрытому давней клеёнкой столу с фанерными дверцами, под неотступно молчащие взгляды разнокалиберных фотографий из угла меж двух окон.
Он сидел привалившись к спинке дивана, разглядывая внутренности единственной комнаты с каменной печуркой напротив себя, от которой кругло-гладкая серая труба из азбесто-бетона шла кверху, а у потолка преломлялась к кухонной стене.
У противоположной стены, вслед за печкой, стояла широкая кровать с крашенными железными ногами и прутьями, с подушечным бастионом перед распятым на гвоздиках ковриком где, в какую-то из тысячи и одной ночей, молодчик умыкает красавицу на плюшевом скакуне, а подельник его несётся следом, озираясь к минаретам спящего города.
В углу комнаты их поджидал коричневый шкаф.
По эту сторону, впритык к дивану, стол с задвинутыми под него стульями, два арочных окошка в палисадник и, у глухой стены к соседям, телевизор на высокой этажерке. От него к двери на кухню простелился половик-дорожка, а над головой—в том же направлении—идут доски потолка: голые, синие.
Она позвякивала посудой на кухне, изредка подходя к двери в комнату – поинтересоваться здоровы ль родители, где и кем он работает.
По осторожности этих вопросов он понял – ей известно. Да и как не знать? Папенька, выйдя на пенсию, чуть не каждое лето ездит сюда вместе с внучкой. Поделился, поди, с братом-то.
В кухне стукнула входная дверь.
– Бабань! Две пятёрки!
– Пришёл?– с ласковой строгостью отозвалась она.– Снимай куртку. Да не шебушись так-то. С дядей иди поздоровайся, (на спрошенное шёпотом) мамы твоей брат двоюродный.
Из-за дверной ручки осторожно выглядывает лицо мальчика с рассыпчатым вихорком над правой залысинкой крутого лба (корова лизнула), с не-детски серьёзным взглядом и, после протяжного «здравствуйте», снова скрывается неслышно расспрашивать бабушку.
– Лены папа,– отвечала она, собирая поесть.– Помнишь, приезжала в то лето к бабушке Саше?
Она позвала гостя за стол.
Хлебая щи, школьник отрешённо глядел на окошко.
Разве вспомнить что видят таким вот расширенным взглядом семилетние иномиряне, где блуждают, пока не очнёт их вопрос про дела в школе?
Хорошо хоть невесть откудашний дядя ел молча.
Варёную картошку с жареным луком мальчик не захотел, чай тоже.
Бабушка послала его пойти к деду в кузницу, да и маме сказать, а гость, поблагодарив, вернулся на диван.
Он сидел, полный постной сытостью, в обволакивающей тишине деревенского дома. За окном серый ветер порывисто тискал яблоньку, та угиналась и шумно отмахивалась о взбалмошного ухажёра.
Пора уже вторые рамы вставлять.
Напротив, сквозь лилово-бархатную ночь всё так же беззвучно неслись умыкатели с полонянкой. Хотя она-то, небось, согласна, чтоб её своровали и не достаться старому визирю с жирными евнухами.
Даже странно, до чего мне всё тут по мне.
И будет таким во все остальные дни отпуска.
По вечерам я буду ходить к тётке Александре, объедаться её оладьями, а один раз даже и курицей. Богато живёт.
Дядя-кузнец по утрам будет уезжать на велосипеде в кузницу, а я уходить в поля, а после обеда рубить поленья из высыпанной возле дома горки дров на зиму.
Красивая русская женщина Валентина, по мужу Железина, моя двоюродная сестра, мать отличника Максима, который живёт у деда с бабой, тоже придёт к родителям и пригласит бывать у неё в доме, где держит младших – хулиганистого Володьку и Танюшку, что не хочет расставаться с соской.
Будет рассказывать мне деревенские истории и про свою жизнь в Москве, где за ней ухаживал француз, и в Кустанае, где была замужем за немцем из колонистов.
Нынешний муж её отведёт меня к магазину и я буду пить бутылочное пиво и слушать трёп мужиков ни о чём, но таким нашенским говорком – аж дух стискивает.
И к тому времени тётка уже подарит мне чёрную телогрейку-куфайку, в каких тут все ходят, кроме детей и подростков, чтоб не был белой вороной своим клетчатым пиджаком.
До-библейская простота во всём, а вместе с тем – столько всего примешано.
Старая женщина сдаёт картошку в сетчатых мешках, по ней видно, что нуждается, а мужики перед ней чуть ли шапки не ломят.
Она пережиток прошлого – воплощение старорежимных помещиц, но им необходим этот пережиток, они сотворят его из нищей пенсионерки-учительницы, лишь бы черты лица у неё были тонкими.
Возвращаясь с одного из ужинных вечеров у тётки я зачем-то остановился на пустом месте и долго смотрел в сухой бурьян. Зачем?
На другой вечер она мне ответила, что да, именно там стояла изба бабы Марфы.
В последний вечер перед отъездом я зашёл в дом Валентины – отдариться.
Мужу её клетчатый пиджак пришёлся впору, но они почему-то называли пиджак костюмом.
Валентине я отдал свою явно женскую сумку. Так будет легче идти до райцентра.
Наконец-то избавился.
Мы вышли в темноту улицы без домов. Все понимали, что нам больше не свидеться. Валентина обняла меня и всплакнула. Я погладил плечо её куфайки и сказал:
– Будя. Будя.
Потом пожал руку её мужу Железину и ушёл.
Так странно. В жизни не слыхал этого слова «будя», а само собой выговорилось.
Я родом отсюда; жаль, что здесь не пригожусь.
Коситься на меня начали ещё на автовокзале рядом с Измайловским парком, куда прибывает автобус Рязань-Москва.
В киевском аэропорту Жуляны, где около полуночи приземлился самолёт из Москвы, неприязнь ко мне со стороны окружающих возросла геометрически, подтверждая правильность поговорки – одетых в зэковский прикид встречают по одёжке.
Общественное мнение на мой счёт озвучил следующим утром пассажир на платформе подземной станции метро:
– Куда, блядь, прёшь среди людей?!
Моё отличие от них заключалось в том, что я был чёрным человеком.
Чёрная телогрейка, чёрные штаны, чёрные полуботинки.
Только обтягивавший мою голову «петушок» выпадал из ансамбля своими коричневыми и голубыми полосами.
Оно бы ещё простительно, будь я загружен какой-то поклажей, но чёрный человек с руками в карманах – это уж ни в какие ворота, это вызов общественному укладу, это оборзелый бомж…
Мы их обходим невидящим взглядом, чтоб – упаси, Боже! – не заглянуть в глаза; или рявкаем:
– Куда прёшь среди людей?!
Правда, в те времена слово «бомж» мы ещё не знали; для них тогда имелся термин «бич».
– Куда прёшь, бич?.. Вали отсюда, бичара!..
И так далее.
Слово это привезли моряки ходившие в загранку.
Там, в портовых городах, тех, кто ночует на пляже и заодно подбирает объедки отдыхающих, называют «beach-comber».
Наши не стали утруждаться и позаимствовали только первое слово.
Так людей без определённого места жительства и с неясным родом занятий стали называть бичами.
Краткий, хлёсткий термин. Однако, не прижился.
Во-первых, те, кто не владеет английским и далёк от моря, начали сползать в синонимы и подменять «бичей» «кнутами».
А во-вторых, аббревиатура завсегда сильнее, особенно при поддержке государством.
( … мы все из СССР, ясно? Кто не понял получит разъяснение в ЧК, она же КГБ …)
Когда правоохранительные органы сократили словосочетание «без определённого места жительства» до БОМЖ их порождению не стало равных.
В великом и могучем русском языке не найти синонима «бомжу». Рядом с ним «бродяга» отдаёт нафталином и инфантильным сюсюканьем индийского кино.
Когда-то жили на Руси торговцы пешеходы, они же «офени». В целях выживания, они сложили собственный язык.
Тёмный для непосвящённых, язык офеней ушёл в небытие вместе со своими носителями – никто не удосужился составить его словарь.
Нынешняя «феня» блатного мира тоже для посвящённых, но это язык утративший свои корни.
Выпертые из средних школ недоучки сливают в него огрызки слов вдолбленных им на уроках иностранного языка.
Тут и «атас!» (от французского «атансьон!»), и «хаза» (от немецкого «Haus»), и «хавать» (от английского «have a»), и вкрапления от дружной семьи народов свободных сплочённых в единый СССР.
( … но вернёмся к моей «маляве» (от немецкого «mahlen» …)
Оскорбивший меня в метро хранитель общественных устоев не знал, что под моей личиной чёрного человека таится ранимая душа и пищеварительный тракт тонкой организации.
Я и сам об этом как-то не догадывался, покуда не почувствовал, что, после брошенного в мой адрес оскорбления, мало-помалу становлюсь «животом скорбен».
В районе Майдана, тогдашняя Октябрьская площадь, стало ясно, что мне никак не удастся сдержать напор приливов в ампулу (пониже толстой кишки), а до сквера возле Университета не успеть.
К счастью, вспомнилось министерство просвещения с их министерским туалетом на втором этаже. И не очень далеко. Вот только слишком уж подпирает.
Распахнув высоченную дверь, я сосредоточенной трусцой рванул вверх по мраморной лестнице.
– Эй! Куда?!– прокричала дежурная слева от входа.
– Проверка сантех-оборудования!– бросил я ей через плечо, не сбавляя деловитого хода.
Когда все скорби улеглись и я покинул отполированный, как малахитовая шкатулка, санузел, то нисходил по белым ступеням лестницы яко же архангел Гавриил – не спеша и благостно сияя.
Мне захотелось поделиться благой вестью и, обернув лицо к дежурной, я благосклонно сообщил:
– Слышь-ко? По нашей части у вас всё в порядке. Да.
И я вышел на вопиюще атеистичную улицу Карла Маркса, составленную из плотной стены таких же сурово административных зданий.
( … уж он-то точно знал, что стать венцом природы человеку помог коллектив.
В одиночку ни мамонта забить, ни на луну слетать не удастся.
Но до чего же оно хрупкое – это состояние единства. С какой готовностью делим мы себя, людей, по цвету кожи и волос, по кастам, конфессиям, партийной принадлежности; они – не мы, мы – не они; мы на рубль дороже.
Непостижимая загадка – как стаду обезьянообразных удаётся действовать сообща при столь хронической склонности к самокастрации?..)
Побывка в Канино пробудила во мне рост национального самосознания.
Мне – потомку новгородских ушкуйников и татарских ордынцев, что веками, по очереди, насиловали рязанских баб, не пристало, да и зазорно даже, изо дня в день обнимать смердящие тряпки, чтоб запихнуть их в ящик пресса.
Так я, впервые за свою трудовую карьеру, написал заявление с просьбой уволить меня по собственному желанию.
Теперь в моей трудовой книжке статья 40-я покрывалась вполне приемлемой стандартной записью «по собственному желанию» и я отправился трудоустраиваться в КПВРЗ.
Всё шло как по маслу, я даже прошёл медкомиссию, но в самый последний момент в отделе кадров, откуда меня посылали на эту комиссию, мне вдруг сказали «нет».
Почему?
Оказывается на меня не осталось квоты.
Зав отдела кадров мне обстоятельно объяснил, что имеется негласный закон, по которому принимать простым рабочим человека с высшим образованием можно лишь в том случае, если на него приходится не менее тысячи рабочих без высшего образования.
В 5-тысячном коллективе завода на меня не нашлось лишней тысячи бездипломных рабочих. Какие-то дипломированные гады поспели раньше меня и квота кончилась.
( … разочарование меня не убило, мне к ним не привыкать, но ощутимо потряс факт существования «теневого» законодательства, незнание которого не освобождает от применения его к тебе …)
Тогда я отправился на окраину города противоположную Посёлку КПВРЗ, на завод «Мотордеталь», где меня приняли каменщиком в строительный цех.
Вот что значит современное крупное предприятие!
Если не брать в расчёт хавку в столовой, то завод «Мотордеталь» можно считать хрустальной мечтой, образцом промышленного предприятия.
Достаточно взглянуть на строительный цех – бытовка просторная, культурно обложена кафелем, из неё вход в такую же просторную душевую, но уже с другим кафелем на полу и стенах. Трудись и вспоминай какая красота тебя тут ждёт после работы.
Я знал своё дело и меня применяли как каменщика-одиночку для нестандартных заданий в отдельно взятых местах.
Дадут пару подсобников, чтоб подносили раствор-кирпич и вперёд – муровать подземный водопроводный колодец с круговыми стенами, или выкладывать печные трубы над двухквартирными домиками.
Мне нравилась частая смена заданий; каждое требовало особого подхода и осмотрительности, что не позволяет закоснеть умом и застыть хребтом.
А в периоды затишья между делом меня отсылали в бригаду каменщиков на строительстве заводского 130-квартирного.
Работали в ней не ассы, конечно, но как построят в том и будут жить.
Ни в бытовке, ни в бригаде я особо ни с кем не общался. Спросят о чём – отвечу, а так всё больше молчу; сам с собой в уме разговариваю.
Подсобники у меня часто менялись, их поставляло Наркологическое отделение № 2, оно же нарко-два. Оно же – составная часть конвейерного производства бесплатных рабов.
Система такая – влетает милицейский фургон в село и хватают двух-трёх мужиков, на кого председатель сельсовета укажет, что они пьющие. (Как будто другие бывают.)
Их привозят в нарко-два, типа, на лечение. Кто заерепенится – укол серы вкатят и до конца срока он уже не рискует.
Срок лечения от двух до трёх месяцев.
Живут пациенты в общежитии, хавают в столовой, пашут там, куда пошлют.
ДЕНЕГ НЕ ПОЛУЧАЮТ.
Всё уходит на оплату быта, хавки и медицинского обслуживания – раздача таблеток по вечерам, которые они тут же спустят в унитазы.
При хорошем поведении на выходные их отпускают съездить домой на родину.
В городе ещё проще – участковый объявляет алкашам чья очередь явиться для отбывания в нарко-два и те знают, что лучше не пурхать.
Вот так и стираются грани между городом и деревней.
У каждого человека непременно есть своя история и если молчишь и его не перебиваешь, он тебе её непременно расскажет.
Не обязательно про самого себя, может и про родственника или соседа.
Я в «Мотордетали» такого наслушался – ни в какую «Тысячу и одну ночь» не влезет.
Например, про немца, что со своим отделением в сельской хате квартировал.
Он каждое утро орал чего-то, а товарищи его хохотали.
Один из них немного говорил по-русски и пояснил хозяйке хаты о чём тот кричит:
– Этих сук мне дайте – и Сталина, и Гитлера, обоих из «шмайсера» положу!
Это мне баба рассказала, которая считала дни до пенсии.
( … спрашивается, в Красной армии долго б ему дали покричать?..)
Или как мужик в забегаловке с каким-то кентом разговорился, вместе вышли и пошли себе.
Кент говорит, погоди, мол, отлить надо, вон в тот двор заскочу.
А во дворе на верёвке ковёр оказался. Тот поссал и захотел ковёр прихватить. Так повязали обоих.
Мужик получил четыре года. Он, типа, на стрёме стоял.
Так и не смог доказать, что того кента полчаса как знал…
Да, ещё случаются у нас порой судебные ошибки.
А вот палач с такою гордостью рассказывал о себе.
Конечно, сам он себя считал героем, а не палачом. На фронте в Смерше служил и пойманных при зачистке власовцев собственноручно и героически отводил в ближний лес. Хотя для этого при штабе специальный взвод автоматчиков имелся.
Под ручку так возьмёт и ведёт, расспрашивает про семью, про деток.
У некоторых даже надежда зарождалась и тогда он говорил:
– Что ж ты, сука, родину предал?
И стрелял из пистолета ТТ, но не насмерть, а чтобы пуля пробила печень и чтоб тот ещё минут десять корчился от смертельной раны.
После войны хотел дипломатом стать, но ему в МИМО объяснили – советский дипломат должен быть без изъянов, а ему, когда уже добивали врага в его же логове, осколок авиабомбы отсёк на кисти три пальца.
Пришлось подавать документы на экономический и стать руководителем среднего звена.
Я слегка знал его сына, тот шпарил лозунгами, типа, «не дадим всякой нечисти топтать нашу родную землю». Видно папа делился идеологией.
В Конотопе не все такие идейные и если заведут ругаться, то высокопарных слов не выбирают.
Например, для оскорбления женского пола говорили:
– Нюся ты Каменецкая!
Нюся была городским идиотом. Ходила по тротуарам молча, никто её не трогал и она никого, потому что тихая. Но по шапке видно, что идиотка. Красная такая шапка с букетом искусственных цветов.
По этой шапке её издали опознавали и мелкая пацанва, чтоб оскорбить, вопили:
– Нюся Каменецкая!
Но она молча шла дальше. Тихая городской идиот.
Сын палача её убил. Поздно вечером в парке Лунатика. Хотел, как видно убрать нечисть с родной земли, чтоб не топтали бы её ноги тихих идиотов.
Потом ещё Лялька выносил ему на Вокзал пару «прощальных» косяков перед отправкой «столыпина».
Так вот, для гарантии, что подобные Нюсе больше не посмели бы являться на родной земле, этот сын героя Смерша…
( … заткнись!
Некоторые вещи нельзя даже взрослым детям рассказывать!..)
Вобщем, большинство сказок почему-то про тёмную ночь…
Но и в трагичности найдётся место оптимизму!
В ту зиму мороз стоял несусветный.
Так вот идёшь себе, а в голове тихое позвякивание слышится – это мысли в мозгу позамерзали и об извилины брякают.
И в самый разгар этого полюса холода смотрю – объявление в коридоре: желающие пойти в лыжный поход на Сейм обращаться в группу по туризму.
Я ж говорю – очень продвинутый завод. Под одной пятиэтажкой в прилегающем к заводу Жилмассиве я в подвале стяжку делал под резиновое покрытие, получился стадион для мини-футбола.
Нашёл я ту группу, говорят: в субботу утром возле проходной со своими лыжами.
Я принёс те, в которых ещё на Объекте пацаном по лесу бегал.
Автобус ждёт. Кто хочет – автобусом, а кто хочет может и на лыжах идти.
Мы втроём пошли, всего-то 12 км. Одна девушка, ухажёр её и я.
Лыжню по очереди прокладывали. Но какая красота! Особенно как в лес вошли.
Снег от мороза мелкий-мелкий и весь искрится под солнцем.
Эта лыжная пара знали где заводской лагерь, а я первый раз увидел.
Домики как в швейцарских Альпах, с острыми крышами, двухэтажные и все из дерева. Вокруг лес весь под снегом, а на крышах таких снег не удерживается. Класс!
Мне комната как раз под крышей досталась; изнутри наглядно видно до чего у неё скат крутой.
Комнату со мной делил один из туристов.
Я так понял, у них при заводе своя компания и объявление они для галочки повесили – дирекции показать, мол, привлекаем массы.
Не ждали, что я придыбаю.
Он мне рассказал, как в походе по Уралу целую неделю под дождём шёл. С утра до ночи дождь и дождь.
Зато с тех пор как отрезало – ни в одном походе даже и не моросит.
Потому-то его и прозвали «сухой талисман». Без него пойдут – мокнут, а с ним и капля не упадёт.
Потом он ушёл и вернулся со спиртом, налил мне стакан, а себе двадцать капель; бутербродами закусили и он снова ушёл.
С первого этажа донеслась музыка. Я на койку прилёг, смотрю – крыша над головой плавает, вот я и спустился на звуки музыки.
Они там в одной комнате быстрые танцы устроили. Свет потушили, только цветные лампочки ритмично моргают. Я чуток тоже попрыгал.
Потом перешёл в соседнюю комнату. Там свет горел по полной, под стенами сидели женщины не лыжного возраста – наверное, туристические мамаши из автобуса.
А по центру биллиардный стол стоит. Сухой талисман с кем-то шары гоняет.
Я у него кий попросил и – верь не верь! – три шара друг за дружкой по лузам разложил, да хлёстко так.
Аж и сам обомлел, на бильярде у меня никогда толком не получалось.
Дальше я продолжать не стал – кий отдал и во двор вышел.
Вокруг темень, как в лесу, только свет из окошек, да в мангале костёр полыхает для шашлыка; и ни души вокруг.
Подошёл я, на пламя посмотрел и такая вдруг тоска взяла – все люди, как люди только я ото всех ломоть отрезанный.
От такой тоски хмель из меня улетучился, поднялся я в комнату, да и уснул с горя.
А летом мне открылось, что есть Игра с большой буквы.
Стадион в Центральном парке на Миру назывался «Авангард» и там проходила встреча по футболу между заводской и приезжей командами.
Зрителей собралось штук двадцать, такие же ломти отрезанные, кому делать не хрен, и два-три случайных алкаша.
Ну, выбежали команды на поле – судья, монетка, жребий, всё такое.
Начали играть. Типа, играть. А на что рассчитывал?
Команды заводские, формы-гетры им профком купил, но мужикам-то уже за тридцать. Может, один-другой из них пятнадцать лет назад в ДЮСШ на волейбол ходили, вот и вся подготовка. А поле-то большое такое – стандартное, пока бедолага с края на край добежит, на него уж и смотреть жалко.
Но раз пришёл – сижу, всё равно больше делать нечего.
И нечего тут вздыхать.
Только вдруг высокие тополя в плотном ряду за пустой противоположной трибуной зашевелились и шелестнули. Словно по ним пробежал выдох великана-невидимки.
Но всё это уже неважно стало, потому что на поле нежданно такая Игра развернулась, от которой весь в напряжении вперёд подаёшься, схватываешься за брус скамьи и только головою водишь, чтоб уследить за мячом, что заметался вдруг по всему полю – летает, рассекая воздух, как белое ядро, которому не дают даже земли коснуться.
Полузащитник взмывает вверх на полметра выше своего роста и головой отправляет мяч на правый край нападающему, а тот, в одно касание, переправляет мяч в центр.
Центральный нападающий ловко принимает пас, перебрасывает мяч через защитника, легко его обходит; пушечный удар!
Неизвестно откуда и как подоспевший левый полузащитник подпрыгивает, отбивает мяч грудью далеко к центру поля, где тут же завязывается борьба…
Мы напряжённо следим за полем, где мяч переходит от команды к команде, ускоряясь ударами ног и голов, чтоб мчать дальше.
Это не они играют, это ими играют…
Это идёт Игра.
Наконец и алкашам начало доходить, что происходит нечто небывалое. Они взревели и засвистали как многотысячные трибуны.
Возможно, этим и спугнули невидимку.
Игроки, один за другим, начали сникать и вскоре просто бегали запаренной трусцой, как и в начале матча.
Я не слишком большой ценитель футбола, зато теперь убедился, что есть-таки настоящая Игра.
( … пять минут Игры, разве этого мало?
Фанаты прославленных клубов возможно и больше видали, но не настолько подряд, а по крупицам, как гомеопаты.
Да, та Игра ушла, растворилась, умчалась, как порыв ветра, как прилив счастья, но она была и восхищает меня до сих пор …)
Причиной моей молчаливости стало то, что я прикусил язык.
На первых порах я выдавал всё, что взбредёт, но через месяц в строительном цеху завода «Мотордеталь» проходило общее собрание коллектива, на котором выступил представитель заводоуправления.
В нём чувствовалась порода руководителя. Таких людей невозможно представить ребёнком с воздушным шариком, или юнцом озабоченным своими прыщами. Нет. Он из утробы матери таким и вышел – полулысый, в очках, с мягким брюшком и холёной степенностью.
В своей речи он затронул задачи, стоящие перед нами в такой ответственный ускоренно перестроечный момент.
Каждый должен трудиться не покладая сил, мы, рядовые трудящиеся, на своём рабочем месте, а они, руководство, на своих постах продолжат заниматься экономической деятельностью и хозяйственной тоже, чтобы направлять наши усилия на достижение поставленных задач.
Он кончил и председатель собрания спросил нет ли вопросов.
Я поднял руку.
( … так не принято – по негласным правилам, вопрос про вопросы должен закрывать собрание.
Но я поднял руку, потому что он меня достал, этот соловушка из заводоуправления …)
Я попросил объяснить разницу между экономической и хозяйственной деятельностью; мне интересно; спасибо.
Руководитель перешепнулся с председателем и тот объявил конец собрания.
Рабочие с облегчением поспешили по домам.
Через пару дней хлопец из села Бочки, что приезжал на работу мотоциклом и в круглом шлёме, куда суют голову как в горшок, и который он приносил в бытовку держа под мышкой, словно космонавт свой шлём на стартовой площадке, громко заметил, что надо бы сменить замок на шкафчике, а то тут шизофреники завелись.
Ни к кому конкретно он не обращался, но большинство переодевающихся в спецовки повернули головы ко мне.
Вот когда я прикусил язык.
( … против рычагов власти не попрёшь, они негласны и неуловимы и даже дебила из Бочек обучили слову «шизофреник» …)
– Ты был в Ромнах?
Здесь, в помывочном зале конотопской бани, где мы голяком намыливаемся над своими жестяными шайками, каждый из нас смахивает на «безвозвратно свободных» с Площадки пятого отделения.
Ближайшие соседи по мраморному столику с шайками навострили слух; в Конотопе любят, когда вопрос поставлен прямо, без обиняков.
– В Ромнах я был, но вас не помню.
Я и сам залюбовался безупречным поэтическим размером своего ответа.
Соседи перестали втирать мыло в мочалки и с напряжённым вниманием придвинулись поближе – у конотопчан врождённая склонность к поэзии.
Я продолжал всматриваться в задавшего мне этот вопрос.
Всплыли всхлипы баяна на вечерней Площадке. Темнеет, сейчас пойдём на ужин. Эти глаза… Эти же глаза, только уже без сизоватого отлива поверх радужки…
– Володя!
Соседи отодвигаются, некоторые, ухватив шайки, переходят к другим столикам. (Их уже двое!..)
Как же я сразу-то не узнал? Один из нас троих спавших на двух койках.
Он смущённо улыбается. Отсутствие той поволоки в глазах сбило меня поначалу…
( … этот отлив не стеклянноглазость; он потусклее.
Точно такую же сталисто-сизоватую поволоку увидел я в глазах жителей азербайджанской деревни Кркчян, когда они меня поймали, как армянского шпиона, на склоне тумба, где я просто собирал мош, он же ежевика, она же ожина …)
По официальной версии карабахская война длилась три года – с 1992 по 1994, но на самом деле началась она намного раньше и не кончилась до сих пор. Хотя признаю, те три года были самыми отвратными.
На третьем (по неофициальной разметке) году войны, когда мне перестало нравиться выражение глаз Сатэник, я постарался отправить её в эвакуацию.
По странному стечению обстоятельств, она, вместе с Рузанной и Ашотом, оказалась в Конотопе на Декабристов 13.
Каково же было моё удивление, когда три месяца спустя Сатэник поставила меня перед фактом своего возвращения.
Мне пришлось лететь в Ереван для встречи её и детей в аэропорту Звартноц и последующей доставки, тоже вертолётом, в Степанакерт.
( … в тот день город ещё не оправился от шока при гибели 25 человек жителей за один залп «Града» …)
Незнакомые люди в Ереване, узнав куда мы отправляемся, предлагали хотя бы детей им оставить, Ашота и Рузанну (в алфавитном порядке).
Когда мы добрались на свою квартиру в Сепанакерте, которую знакомые сдавали нам бесплатно, я поинтересовался причиной столь скорого возвращения.
– Я там поняла, что просто так жить и жить-то не стоит.
Вот тебе наглядный пример воздействия среды.
Отпусти армянскую женщину, воспитанную по всей строгости патриархально-матриархатного уклада на три месяца в Конотоп, так она тебе без спросу вернётся и уже философиней, и начнёт мудрые сентенции выдавать.
Здрасьте, пожалуйста – получи и распишись…
А ничего, что бояться за одного себя легче, чем ещё и за вас родимых?
Особенно когда завоют сирены воздушной тревоги, или заухают морские орудия Каспийской флотилии, снятые с кораблей и подвéзенные на тумб Верблюжья спина?
А «Грады», те и вовсе без предупрежденья бьют – молчком долетят, взорвутся и полквартала нету. Ведь мы живём в век высоких технологий.
( … опять меня куда-то занесло, я ж про Ромны, вроде, говорил, а дурдом и война две большие разницы.
Или как?..)
Это всё к тому, что, вобщем-то, я не успел ознакомить Сатэник с некоторыми фактами своей предыдущей биографии, просто как-то руки не доходили.
И мне малость интересно было: какую информацию она там зачерпнёт? Во время той эвакуации.
А никакой. Конотопчане своих не топят.
Единственный прокол случился в разговоре с сотрудницей.
(Сатэник там ещё и не работу успела устроиться в заводе КЭМЗ).
Узнав, что фамилия её мужа Огольцов, сотрудница сказала:
– Хм…
Вот, пожалуй, и весь компромат, просочившийся на меня в Закавказье из конотопских источников.
Да, жизнь катилась по тем же рельсам – была и баня, и пляж, и вызовы Двойки, и я везде исполнял свою накатанную роль, но как-то уже от всего отделился; и от жизни такой, и от своей роли в ней.
Я стал как тот мужик, что приоблокотился на оградку детской площадки, типа, понаблюдать как копошится детвора в песочнице: там и Двойка, и руководители с подсобниками, и сам я со своей ролью, но меня вся эта возня вобщем-то уже не цепляет.
Весной Двойка вызвал меня в Нежин, в общагу, типа, тряхнуть стариной.
Точно помню, что назначено было на четверг, когда у меня баня и, по-видимому, предпраздничный день – посреди недели он меня не вызывал.
Я прихватил полотенце и смену нижнего – хотя в общаге нет парной, но душ-то имеется, и поехал в Нежин.
Дежурной в вестибюле сидела тётя Дина. Она ни капли не изменилась и, разумеется, меня не пропустила.
Я попросил подымавшегося на этажи студента зайти в комнату, где, по договорённости, уже должен был ожидать Двойка и сказать, что я в вестибюле.
Он ушёл, а на меня нагрянуло открытие.
В вестибюль из коридора общаги вышла молоденькая студенточка в мятом халатике и сонным лицом. На меня она не взглянула – мало ли кто тут торчит, а просто подошла к окну неподалёку.
Я ждал Двойку, или записку – в какое окно первого этажа мне влезть, и совершенно не был готов, что моё тело, без всякого приказа с моей стороны и без разрешения даже, вдруг ни с того ни с сего забросит правую руку за голову, высоко вскинув локоть.
Что творит!
Как его повело от неприметной девули с лицом из недоперемешанного теста. Или это её халатик так меня кувыркнул?
В любом случае – возмутительно; и главное абсолютно без спросу!
Это тело в конец оборзело! Лично я не собирался делать никаких телодвижений!
А причина бунта на корабле, в паре метров от меня отрешённо уставилась на совершенно пустынный пейзаж из двухэтажного здания столовой за серым стеклом окна.
Шокирующее открытие…
Вернулся посыльный и сказал, что дверь указанной комнаты заперта. Как видно Двойка уже приступил тряхать стариной с какой-нибудь покладистой подругой.
Я вышел из общаги.
Успеть в Конотоп до закрытия бани и думать нечего. Но сегодня четверг!
Ничего. В Графском парке есть озеро. Я направился туда кратчайшим путём.
Навстречу из парка шла группа парней-студентов в спортивках и кедах, направляясь к общаге.
Они свернули к трубе, с которой когда-то Федя и Яков плюхались в воду, и по очереди перешли на ту сторону давно высохшего и заросшего травой рва.
Надо же! Похоже тут это стало традицией. Что теперь? Барабанить себя в грудь и орать: «это же я! я – та легенда! это всё от меня пошлó!»
Я с грусть углубился в парк, но не к широкой части озера, а к затоке с чёрной водой у зарослей в пустынной его части.
Там я снял всё, зашёл в воду и намылился; выбросил мыло на берег и потёр себя руками, где мог достать. Потом, чтоб смыть пену, побарахтался, вертясь винтом в воде, нырнул и вышел на берег.
На чёрной ряби расплывались белые разводы.
Рожденье Афродиты. Русалочка, итит твою налево; растираясь полотенцем, думал я.
Нет, я не извращенец.
Оно, как-то, всё само собой так выходит, а потом просто катится… поступательно-вращательным образом…
Леночка поступила в швейное училище в Сумах и уехала туда учиться. Мне не оставалось никакого смысла и дальше жить на Декабристов 13.
Я нашёл другое жильё на другой окраине Конотопа, поближе к заводу «Мотордеталь».
Это была летняя кухонька, площадью 2х3 метра, во дворе хаты, чья хозяйка работала на водоочистных сооружениях, где я однажды вёл кладку отдельных мест.
Кирпичная плита под низким потолком оставляла место лишь для койки и стола под окном, но мне хватало.
Там я только спал да читал книги на немецком с немецко-русским словарём медицинских терминов; другого в магазине не нашлось.
Квартплата составляла всего 15 руб., но тем не менее, я окончательно прекратил рассылать и без того нерегулярные переводы в обе стороны.
Углубление в немецкий понадобилось мне, чтоб разобраться наконец-то с этим Фрейдом.
Как шизофреник со стажем, я не видел резона в его тормознутости на символизме из половых органов.
Ну, да, сигара смахивает на член, а пепельница на влагалище и тому подобное.
Но что из этого?
На этих толкованиях зациклились до упора, но воз и ныне там.
( … я окончательно понял, что Фрейд, по сути своей, сказочник, как Ганс Христиан Андерсен, просто у них разный запас слов.
Он королевство сознания разделяет на четыре части (исполать тебе, Зигмунд, уже какой-то шаг вперёд от триад Гегеля): герцогство Сознание, баронетство Подсознание, графство Эго и маркизетство Супер-Эго.
Красота! Чудо что за чудо эти сказки, сколько в них поэзии!..
И пошёл жонглировать этими четырьмя погремушками. И пошёл! И пошёл!
Каждый имеет право на персональную научную теорию, но теории проверяются практическими результатами.
Пользуясь своею, Фрейд исцелил 12% доставшихся ему пациентов. Возможно, это они сами по себе выздоровели, но отдадим их Фрейду за его заслугу – он предложил хоть что-то, когда на эту тему было пусто и голó.
К тому же он до сих пор вдохновляет массу художников малевать винегреты из фаллосов и вагин …)
А ещё в той кухоньке во мне окончательно утвердился давно возникший план – пора покинуть Конотоп.
~ ~ ~
~~~постскриптумы
План неизбежного прощанья с Конотопом, возник ещё прошлой осенью, когда я увидел, что всё повторяется и вокруг меня снова штольня, прорезанная в породе аспидно-чёрной ночной тьмы батареями прожекторов товарной станции на металлических мачтах освещения поверх влажного отблеска вдоль натруженных рельс.
Штольня повыше тех, что на шахте «Дофиновка», и пошире, а вместо узкоколейки мощные колеи раздваиваются, расчетверяются, разливаются в параллельное многорядье путей заставленных вагонами, цистернами, платформами, на которых громоздится, топорщится, высится зачехлённая и раскрытая, габаритная и мелкая, обвязанная и валом сваленная всякая всячина.
Погромыхивая на стрелках, скатываются с сортировочной горки вагоны: в одиночку и сцепками, чтоб отыскать и уткнуться в нужный состав.
На товарной станции нет выходных. Круглые сутки громыханье и лязг, резкий скрежет тормозных башмаков, выкрики репродукторов о формирующихся и готовых составах.
Но всё это в штольне, в одной гигантской штольне.
Сможет ли кровля выдержать натиск ночи?
И в ту осеннюю ночь я пересёк товарную станцию знакомыми тропами служебных проходов, минуя вагонные лабиринты, чтобы выйти к знакомому пролому в ограде ПМС-119.
Я загодя ёжился и негодовал какая там будет грязь и лужи.
Вот уж и надпись по серому бетону ограды.
Красивая, метровыми буквами, надпись несмываемым дёгтем, для пассажиров проходящих поездов: «Конотоп – город трезвенников».
Неотступный свет прожекторов припечатал мою тень к стене.
Чем ближе к ней, силуэт уменьшается, подрагивая полями шляпы при ходьбе; а вот и утонул во мгле пролома.
Для путешествий во времени нужна машина? Возможно, но если она не по карману, попробуйте пешком. Сейчас, вслед за своей исчезнувшей тенью, я окажусь в таких средневековых непрóлазях и тьмах…
– Софокл! Эсхил!
Опаньки! Неужто так широко шагнул, что проскочил по самую античность?..
– Эсхил!– хрипло надрывалась средь слякотного мрака ПМСных задворков чёрная тень в двадцати шагах от пролома.
Моя? Нет, эта пониже и круглее. К тому же в кепке и в кожаном пальто.
– Чего стал? Тебя звали? Будто понятие имеешь про Софокла.
– Вы правы, дальше Аристофана я не углублялся.
Он икнул и чуть покачиваясь, но решительно, заступил мне путь.
– Ты кто?– пахнул он винищем.
– Прохожий. А вас что сюда привело?
Он будто и не услыхал вопроса.
– Софокл… Эсхил…– умильно вторил он.– Да, да… Эсхил… Аристофан! А ещё?
– Ну, ещё Еврипид.
– Точно! Еврипид!– со слезой воскликнул он и вновь самозабвенно простонал, – Софо-о-о-кл…
Мы стояли друг против друга, словно сошедшиеся после разлуки Санчо Панса и Дон-Кихот. Вот Санчо сокрушённо понурился. Козырёк кожаной кепки клюнул меня в переносицу.
Проклятье, Санчо! Я ведь с открытым забралом…
– Художник я, – горестно поведал он, подняв голову, – а сюда на два месяца.
И снова кивок-клювок.
На два месяца из нарко-два для излечения от алкогольных склонностей.
Эx, Санчо, Санчо!.. Любой сопьётся, коли не с кем про Софокла перемолвиться! И бисер есть, да метать не перед кем…
Нет, надо уходить…
…туда, за горизонт, к далёкому, как детство, лукоморью, где стоит заветный дуб с дуплом, чтобы шептать в него свои давно уж никому не нужные цитаты и имена забытых мудрецов…
План безупречен, но как насчёт деталей? Например, куда?
Ну, во первых, туда, где тепло – хватит с меня обморожений, а во-вторых, где есть море и горы.
Крым не подходит – горы низковаты, к тому же он занят Ольгой.
Следуя карте, палец наползает на Баку. Вот и ладненько.
Получив причитающийся мне отпуск в строительном цеху «Мотордетали», я написал заявление на увольнение.
Но прежде чему уехать, оставалось ещё одно дельце.
Обещание данное мною трём незнакомцам в ресторане – наведаться в город Львов.
Чем ближе ко Львову, тем медленнее шёл поезд по склонам Карпатских гор с высокими тёмными елями-смереками, но всё-таки под вечер довёз до места назначения.
В ячейке камеры хранения я оставил свой портфель, где, кроме гигиенических необходимостей, притаилась также серая полузимняя кепка, чтобы налегке пройтись по городу в своей неизменной шляпе.
Львов красивый город, в нём немало памятников старинной архитектуры и улиц мощёных булыжником.
Недаром именно здесь снималась 4-серийная советская экранизация «Трёх мушкетёров»; просто нужно стараться, чтобы трамвайные рельсы не попадали в кадр.
Во Львове я не воспользовался никаким видом транспорта, а пошёл пешком.
Куда?
К Оперному театру. Моё обещание исполнено, во Львов я наведался, но отнюдь не собирался бегать по улицам с вопросом: «а вы, случайно, не бывали проездом в Конотопе два года назад, после того как откинулись с зоны?»
Я ж не полудурок.
Я шёл культурно и приятно провести время, потому что поезд на Киев отправляется ровно в полночь.
Оперный театр во Львове – просто загляденье, дворец; молодцы построившие его поляки; но насчёт приятности, то фиг я угадал.
Там шла опера местного современного классического композитора о крестьянских волнениях XVI-го века. Творение в стиле «поедят!»
Но назвался груздем – полезай в кузов, и я отсидел от звонка до звонка.
К полуночи я вернулся на вокзал, открыл ячейку камеры хранения, а затем расстегнул портфель.
Шляпу я положил внутрь ячейки, а на голову плотно насадил серую кепку из портфеля.
Затем я его закрыл и вынул из ячейки, и нежно прикрыл её дверцу, да ещё и хмыкнул, представляя реакцию следующего её открывателя, когда уткнётся взглядом в одинокую шляпу без головы.
Иди и думай чтó подумать…
Вернувшись в Конотоп я начал делать прощальные визиты – к брату Саше на Сосновскую, к сестре Наташе На Семь Ветров; вот только на Декабристов 13 не пошёл.
Всё-таки я полудурок.
Наташа на прощанье сделал мне богатый подарок – новое зимнее пальто серого сукна с каракулевым воротником. По-видимому, на Гену размер не подошёл, а мне оказалось впору.
Ещё я сходил в ЗАГС, чтобы мне в паспорте поставили штамп о разводе с Ирой, но меня послали в нежинский ЗАГС, по месту заключения брака.
Нежинский ЗАГС потребовал справку из конотопского народного суда, где расторгался наш брак.
– Послушайте,– сказал я,– у вас уже записано, что она со мной в разводе. Поставьте мне штамп на этом основании и дело с концом.
– Такой записи нет. Она к нам не обращалась.
Вот так они меня оглаушили.
Пришлось ехать в Конотоп, брать справку в суде и везти обратно.
Мотаясь электричками туда-сюда, я думал: опояшет ли экватор километраж наезженный мною в поездах?
Ещё я думал: почему Ира столько лет не ставит в своём паспорте штамп о разводе?
Наверное, чтобы добавить остроты́ ощущений в своих отношениях с другими. Типа, по-прежнему наставляет рога своему мужу-геологу, пока он в отъезде.
А потом я вдруг понял почему мне всегда так нравилась сцена последнего расставания Д‘Aртаньяна с Рошфором в романе «Двадцать лет спустя».
– Иди, старый дьявол,– с грустной улыбкой произнёс Д‘Aртаньян,
глядя вслед удалявшемуся Рошфору. – Иди. Всё равно, нет уж больше Констанции…
Я понял, что Констанция – это Ира и я. Только не по отдельности, а вместе.
Констанция – это мы, когда ещё мучили друг друга своею любовью.
Потом я поехал в Сумы. Сводил Леночку в кино на «Фанфана-Тюльпана», только в этой роли был уже Ален Делон.
В парке мы покормили лебедей, бросали им с моста кусочки пирожка с капустой, потом и сами сходили в ресторан. Для неё там всё было в диковинку.
Она проводила меня на вокзал и расплакалась на прощанье.
Красивая, на мать похожа, только волосы как у меня.
На следующий день я пошёл на улицу Гоголя 25 и отдал Саше Плаксину свой чёрный дембельский дипломат заряженный словарями и ещё парой книг.
Мы условились, что он вышлет их мне, когда где-нибудь обоснуюсь и сообщу ему адрес.
Конотоп провожал меня угрюмым холодом и ветром, но пальто от Наташи грело очень даже хорошо и я поехал в Нежин, чтобы вернуть Жомниру книгу рассказов Селинджера.
Спортивную сумку с одеждой и прочими вещами я запер в камере хранения на вокзале и с одним портфелем поехал на улицу Шевченко.
На мой звонок дверь не открылась, наверно он и Мария Антоновна вышли куда-то в гости.
Я поехал в центр города, в новый кинотеатр «Космос» напротив универмага.
Там шла какая-то фигня про Синдбада-морехода производства студии «Узбекфильм», но мне просто нужно было убить время.
Я сел и поставил портфель под сиденье.
Место слева заняла женщина моих лет, по наклонному проходу справа бегала девочка лет четырёх.
Её мать, сидевшая в передних рядах, звала её вернуться, но она не слушалась, а всё бегала и кричала, тому или другому из входящих зрителей: «папа!», но его среди них не было.
На пару рядов выше, метров за пять влево, сидели пара лётчиков в офицерских бушлатах. Один из них стал здороваться с моей соседкой слева, но как-то по-хозяйски и с подковыркой.
Начался фильм и Синдбад оказывался то на море, то в пещере и фехтовал саблей рядом с древними стенами Самарканда на фоне высоковольтной линии электропередач.
Фильм наконец-то кончился, я поднял свою кепку с колен и одел её на голову.
Соседка слева обронила свои тонкие перчатки мне на пальто.
– Возьми,– сказала она негромко,– проводи меня.
Я достал портфель из-под сиденья, поднялся и стал протискиваться следом за нею.
В довольно плотной толпе кинозрителей мы спускались по высокой лестнице выхода.
Офицеры-лётчики поджидали внизу в своих фуражках.
Они и не пикнули, когда мы проходили мимо. Кишкá оказалась тонкá.
Во-первых, каракулевый воротник, до которого им вряд ли дослужиться, в Советской армии такие воротники прерогатива полковников и выше; во-вторых, моя серая кепка – излюбленный фасон отмотавших две ходки на зону. Не говоря уже про новенький портфель.
Она пригласила к себе на чай.
Идти пришлось недалеко, в пятиэтажку на спуске от площади.
Я шёл и места становились всё знакомее и знакомее.
Неужто? Не может быть… Точно!
Она своим ключом открыла дверь квартиры, где когда-то чернявый КГБист устраивал мне встречу со своим начальником в стрижке «бобриком» седых волос.
Но теперь квартира оказалась обставленной и обвешенной.
Мы разделись в прихожей и прошли в гостиную.
На журнальный столик она вместо чая принесла бутылку вина, нарезанную кружками колбасу и шоколадные конфеты.
Я пил вино, закусывал шоколадом и вспоминал крановщика Виталю.
Мы не спрашивали имён друг друга. Для того зачем мы тут достаточно и «ты».
Правда, она не удержалась похвалиться, что работает в прокуратуре.
Я не стал уточнять кем, сказал только, что меня ещё не здесь поймают.
Она ушла в спальню и вернулась запахнувшись в длинный не застёгнутый халат; снова села рядом со мной на диване.
Я обнял её, запустил руку под воротник халата на спине и расстегнул лифчик. Лицо её радостно просияло.
Мы прошли в спальню.
То, что было потом, можно сравнить с показательными выступлениями чемпионов в фигурном катании. Под стать её точёному телу.
Оно у неё чётко вписывалось во все эти поддержки, тройные тулупы и в прочую остальную программу.
Мы переходили от фигуры к фигуре, свободно меняли темп с произвольной сменой комбинаций и продолжали покорять сердца отсутствующих зрителей своим непревзойдённым мастерством.
Упоение восторгом. Сладостное блаженство.
Вот только в потоках сладострастья у меня зачем-то всплывали отрывочные мысли про непонятную резиновую грелку и какого-то Тузика в укромном закутке.
При чём тут грелка? Какой ещё Тузик?
Ведь всё происходящее спрограмированно романом Карпентьера, который я недавно прочёл во «Всесвите».
Там тоже герой, перед отправкой в Испанию на войну в рядах Интернациональных бригад против генерала Франко, поимел свою подругу трижды за ночь.
Утром она, наконец, приготовила чай, а я позвонил Жомниру, что привёз его книгу и скоро зайду.
Но к Жомниру я не пошёл, а вернулся к скверу Гоголя и в одной из прилегающих улочек зашёл в парикмахерскую.
Там не ждали клиента в такую рань, но всё-таки одна из парикмахерш вызвалась побрить меня.
Эта молодая, похожая на цыганку мастерица покарябала мне всё шею, всякий раз при этом ойкала и затирала порез щипучими квасцами.
Ещё и плату взять не постеснялась.
Вновь миновав сквер, я зашёл в школу номер семь.
Шёл урок и в коридорах царила тишина.
В учительской оказались несколько женщин и я сказал, что хочу повидать ученицу второго класса Лилиану Огольцову.
Одна из них вышла со мной в коридор и проводила к нужному классу.
Она зашла в него и вернулась с незнакомой мне девочкой в паре тугих косичек из пепельных волос и в серой кофточке с тонкими поперечными полосками впереди; взгляд её, упорно и бесповоротно, был отведён в сторону.
– Вот эта девочка,– сказала педагог,– но она говорит, что у неё нет папы.
– И правильно говорит,– ответил я, сдерживая неизвестно откуда накатившую злость.– Разве это отец, что показывается раз в пять лет и то лишь для того, чтоб попрощаться.
Учительница тактично отошла к окну неподалёку.
Я расстегнул портфель и опустился рядом с тобою на одно колено, чтоб мы сравнялись.
Ты всё так же не смотрела на меня.
– Лилиана,– позвал я, достал из портфеля газету «Morning Star» и протянул тебе.– Передай это своей маме.
Ты приняла сложенную газету и молча стояла, опустив глаза.
– Ладно, Ли,– сказал я, – иди в класс.
Ты с облегчением повернулась и пошла к двери своего класса.
Я поднялся с колена и смотрел тебе вслед, пока дверь не поглотила тебя и газету, где между печатных страниц был увеличенный портрет Иры, стоящей в ручье, и пачка всех полученных мною открыток и телеграмм о том, что вы с ней меня любите, что поздравляете с днём рожденья, или днём Советской армии.
Я вернул Жомниру Селинджера, а взамен попросил Джеймса Джойса, роман «Улис» в оригинале; 705 страниц убористого текста без картинок, без разделения на части и главы.
Жомнир и сам когда-то хотел перевести его, но больно уж неконьюктурный этот Джойс.
Я обещал вернуть оригинал ровно через десять лет.
Поколебавшись всего мгновенье, он вынес книгу из архивной комнаты и отдал мне.
Будет чем заполнять отмерянную мне вечность.
– Куда ты теперь?– спросила Мария Антоновна.
– В Баку.
Привычным толчком поезд отошёл от нежинского вокзала.
Всё было позади, впереди было всё.
Тридцать лет и три года.
– Тебе пора творить чудеса,– сказал я знакомому саксофонисту, когда тому исполнилось тридцать три.
– Чудес я уже натворил,– ответил он,– и даже успел отсидеть за них.
И как только люди всё успевают?
Я думал, что еду в Баку – устраиваться каменщиком четвёртого разряда, чтобы без помех переводить «Улиса» по вечерам.
Как оказалось, я ехал в Нагорный Карабах с его войной за независимость и прочими вытекающими последствиями.
Однако, за окнами вагона пока что всё ещё неслись пейзажи 1987-го, последнего мирного года.
До развала нерушимого Союза республик свободных оставалось два года.
Нынче мне талдычат, что и в том году новая эпоха уже витала в воздухе.
Простите, не унюхал.
( … в чём причина развала СССР?
Его прикончили «Парни с обочины».
Так назывался английский телефильм в четырёх сериях про жизнь британских безработных.
Цензоры центрального телевидения не врубились, что рабочий электроцеха завода «Мотордеталь» в конце недели скажет:
– Я всю жизнь работаю, жена моя работает. Сын из армии пришёл тоже работает. Живём в двухкомнатной квартире, а там у безработных, блядь, двухэтажные коттеджи!
Волшебная сила искусства затронула живые струны в сердце конотопского мужика и – пошла цепная реакция изменившая лицо мира.
Поменялась ли его суть, или это была всего лишь пластическая операция?..)
Про то пускай ломает голову какой-нибудь другой «я», а то у меня тут уже утро начинает брезжить за тонким полотном палатки, оповещая конец бессонной ночи и этого нескончаемого письма.
Ты спросишь как протекала моя дальнейшая жизнь за водоразделом из Кавказского хребта?
Так можешь и не спрашивать – я всё равно скажу.
Во-первых, не говори о моей жизни в прошедшем времени, она всё ещё продолжает течь дальше.
Я укатал ей русло как сумел.
Из-за спиралевидности течения, нам дано лишь проходить через множественные повторения того, что было и будет.
«…что было, то и будет…» сказано в Ветхом завете, а В. Даль в своём словаре записал то же самое на нормальном, людском языке – «хрен редьки не слаще»…
Но, спрашивается, хоть кому-то помогли эти мудрости?
А когда подкатывает момент почувствовать, что «да, пошло оно всё!», то я не сопротивляюсь, а иду до конца.
Жизнь предопределена, как извивы горной дороги – стена справа, обрыв слева; вот и идёшь повторяя шаг за шагом пройденное до тебя тобою, который тоже «я».
Конечно, когда я распознаю повторение знакомых ситуаций, то стараюсь не повторять мерзостей, за которые потом мучительно стыдно.
До сих пор, вроде, удавалось.
Или? Да, нет – точно…
Если только этот сучий потрох в китайской палатке ещё чего-нибудь не нароет…
Так вот и текём тут себе – я да Варанда.
Она – к Араксу, а я мимо и – дальше; к последнему пределу, за которым неоглядное безбрежно синее море, а в нём, быть может, когда-то затерявшийся кораблик-парусник…
Что-то опять меня заносит на всякие эпохи с филологиями.
В конце концов, это же частное письмо отца к своей дочери, местами где-то и дидактическое даже, ну, в некотором роде…
Так что пора, пожалуй, и честь знать – пришло время заэпиложиться.
( … и наступило утро следующего дня и Шахразад закончил дозволенные речи …)
А о себе, доченька, могу сообщить, что сказанное кем-то и когда-то «я знаю, что я ничего не знаю» – это вовсе не про меня; хоть я и сам, бывало, умничал этим перлом.
Нынче у меня серьёзные сомнения относительно даже и столь незначительной толики знания.
Я сомневаюсь, что знаю хоть что-нибудь – пусть даже и ничего.
«Мы понимаем жизнь лишь оглядываясь на прошлое», изрёк любитель афоризмов.
Идиот! Ты не поймёшь её даже если тебя выдернут из могилы и ткнут в неё безносым черепом!
И никто не поймёт…
Несомненно одно – жизнь короче, чем даже чёрточка между датами рождения и кончины.
И мне наплевать, что всем наплевать на мои премудрости, потому что я лучше их всех знаю, что и после всего, что было, после всех своих глупостей и ошибок, после вляпыванья во всяческое и всевозможнейшее дерьмо, я – всё тот же наивный лох готовый увязаться в экспедицию к неведомым кудыкиным горам.
И пусть обшивка ни к черту, мачта скрыпит и вся эта скорлупа не переживёт ближайшего шторма – вперёд!
И пусть очередная каллисто или пенелопа (не велика разница) вопит, расхрыстав свои прелести, и мечется вдоль линии прибоя – вперёд!…
Утешает лишь одно, что оставшийся отрезок чёрточки уже меньше пройденного и край различим. Значит – достигнем.
А хули нам – ахулинамистам?!!
До свиданья, дочка.
Обнимаю.
И, раз уж тебе хочется на «Вы» —
С любовью,
твои папы – Сергей и Николаевич.
( … и, какие бы ни доходили к тебе слухи – ты твёрдо знай: мы жили долго и счастливо и умерли в один день …)
P.S.:
а коли родишь ещё и отпрыска мужеска пола – приглядывай!
И, буде, заметишь излишнюю тягу к бумаге, или в компьютере, вместо игр, текст начнёт набирать, то заверни родимого в белу тряпицу, да брось в быстру реченьку – он же тебе потом спасибо скажет.
P.P.S.:
чуть не забыл предупредить, что всякие совпадения с именами реальных людей абсолютно случайны, потому что любой графоман имеет право на творческий вымысел и мало ли что кому пригрезится
в ночь с 20 на 21 августа 2007 г.,
на левом берегу реки Варáнда…


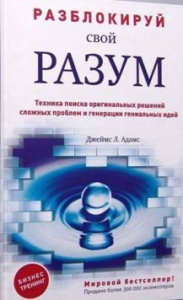









Комментарии к книге «… а, так вот и текём тут себе, да …», Сергей Николаевич Огольцов
Всего 0 комментариев