Валерий Павлович Белянин Психологическое литературоведение
© Издательство «Генезис», 2006
Введение
Усиление интеграции различных областей знания открывает перед психологией новые возможности. За последние годы резко возросла роль смежных научных дисциплин, из которых психология черпает новые методы, подходы, идеи. Наряду с изучением структуры деятельности, мотивационной сферы и путей формирования личности развиваются эмпирические и прикладные подходы, основанные на результатах новейших исследований в области психологии личности.
Изучение личности через ее речевые проявления – сравнительно малоизученная область психологии. Определенный интерес к этой сфере был зафиксирован в начале XX века и вновь возрос в эпоху компьютеризации, когда технологии позволили, а сама психология оказалась в состоянии сформулировать новые вопросы и синтезировать достижения различных дисциплин в поиске ответов на них.
Проблема типологии личности имеет не только теоретическое, но и практическое значение. Сегодня трудно представить себе область человеческих взаимодействий, где вопрос о типе личности не представлял бы интерес – идет ли речь о непосредственном (лицом к лицу), опосредованном (письменном, аудиовизуальном), личностно или социально ориентированном (профессиональном, деловом) общении.
В повседневной жизни люди пытаются идентифицировать личностные черты и прогнозировать поведение других, используя для этого всевозможные средства, включая тесты и даже гороскопы. Психологи же используют при разработке подобных прогнозов научные критерии, хотя и предлагают самые разные основания. Данная работа дает такому прогнозу еще одно основание – психолингвистическое. Речь пойдет о выявлении особенностей личности через определение типов создаваемых или предпочитаемых ею текстов. Подобного рода исследования в значительной степени стимулированы разработками в области диагностики личности, воздействия рекламных и политических текстов, юриспруденции (определение авторства текста, а также правдивости намерений автора) и, в свою очередь, служат мощным стимулом для их развития.
Возможность выявления личностных особенностей автора по тексту привлекает не только психологов, литературоведов и лингвистов, но также криминалистов, журналистов, кибернетиков, специалистов по логике, этнографии, искусствоведению, герменевтике и философии, не говоря уже о психиатрах.
Сочетание психолингвистического, семантического, психопатологического подходов с исследованиями в области психологии личности делает возможным построение операциональной типологии личности, включенной в знаковую культуру.
В основе этого принципиально нового подхода к типологии личности лежат следующие положения, сформулированные в результате анализа исследований, проведенных отечественными и зарубежными учеными – психологами, психиатрами, искусствоведами, лингвистами, – а также собственных исследований и размышлений:
– каждый языковой элемент обусловлен не только лингвистическими, но и психологическими закономерностями;
– за разными текстами стоит разная по типу психология личности: разнообразие психологических типов людей рождает разнообразие текстов;
– по созданному личностью тексту можно выявить тип ее акцентуации; художественный текст в ряде случаев порожден акцентуированным сознанием;
– организующим центром художественного текста является его эмоционально-смысловая доминанта, отражающая определенный тип акцентуации и влияющая на семантику, морфологию, синтаксис и стиль художественного текста.
Не следует забывать и о том, что восприятие художественного текста, его интерпретация во многом обусловлены личностными особенностями читателя: он более адекватно интерпретирует психологически близкие ему тексты.
Для обыденного сознания характерна не столько научная картина мира, сколько «модель мира», «образ мира», «миросозерцание», «мировосприятие», «мировидение», «миропредставление» и др. Текст – это элемент системы «действительность – сознание – модель мира – язык – автор – текст – читатель – проекция».
Владимир Солоухин, сравнивая художника и ученого, писал, что если бы ученый не сделал какое-то открытие, то это бы сделали другие. «Картину же, которую напишет художник, стихотворение, которое напишет поэт, сонату, которую пишет композитор, никто за него никогда не написал бы, пройди хоть тысяча лет».
То же можно сказать и о различии между художественным и нехудожественным текстами. Это принципиальное различие – основное препятствие на пути к типологическому анализу литературы. Но несмотря на это, попытки выявить критерии, общие для ряда текстов и отличающие их от других текстов, предпринимались неоднократно.
В настоящей работе показана возможность идентификации типологических черт личности с помощью методов психолингвистики. Категориальные схемы проиллюстрированы художественными текстами и зримыми образами их авторов, органично вплетенными в ткань текста.
В задачи данной книги не входил обзор многочисленных типологий личности, существующих в психологии, хотя они и учитывались при разработке психолингвистической типологии. Отметим лишь, что из психологических понятий и концепций для нашего исследования наиболее значимыми являются следующие: акцентуация, доминанта, бессознательное, значение и смысл и ряд других. Кроме того, в работе понятия «личность» и «характер» будут использоваться как синонимы.
Хотелось бы выразить благодарность всем людям, без помощи и поддержки которых работа не могла состояться. Прежде всего – это мои учителя и наставники: М. Н. Правдин Л. А. Новиков А. А. Леонтьев, Ю. А. Сорокин, Е. Ф. Тарасов, Л. Т. Ямпольский, М. С. Роговин. И. Н. Горелов, коллеги, чьи критические отзывы во многом способствовали более тщательному анализу материала: В. Ф. Петренко, Е. Т. Соколова, Л. И. Айдарова, И. А. Зимняя, М. Е. Бурно, М. И. Буянов, БА Воскресенский, Т. Н. Ушакова, A. M. Шахнарович, ДА. Леонтьев, Ф. С. Сафуанов, Ю. С. Степанов, С. Н. Ениколопов, А. Г. Асмолов, А. А. Поликарпов, А. И. Новиков Ю. Н. Караулов, А. А. Брудный, В. К. Нишанов, О. С. Либова, Л. Я. Дорфман, Н. Д. Бурвикова, В. В. Красных, Д. Л. Спивак. Особая моя благодарность В. Ф. Енгалычеву и всему коллективу кафедры общей и юридической психологии Калужского государственного педагогического университета. Благодарю и моих коллег и руководство Московского государственного университета, Московского государственного лингвистического университета, Международного славянского Университета, Университета Натальи Нестеровой, Кубанского Государственного университета, Университета Комлутенсас (Испания), Университета города Печ (Венгрия), Политического университета (Тайвань), Университета Торонто (Канада), Питтсбургского университета (США). Практическому внедрению изложенных идей способствовали ЮЛ. Орлова, В. И. Полищученко, В. И. Шалак, И. В. Ниесов, Н. И. Конюхов, А. А. Смирнов A. M. Губинский, С. Н. Пономаренко. Мои студентки и аспирантки В. Г. Красильникова, О. Г. Гиль, Э. А. Саракаева, Е. А. Репина приняли самое активное участие в применении теории и доработке ее положений. Ряд людей просто своим добрым отношением помогали мне на протяжении тех лет, что велась работа: В. А. Степаненко, М. А. Хевеши, В. В. Белянина, И. А. Бутенко. Доброжелательное и заинтересованное отношение научного сообщества к моему исследованию и сделало настоящую работу возможной.
Глава 1. Художественный текст как предмет психологического анализа
Поскольку со времен создания письменности тексты играют значительную роль в человеческом обществе, к ним проявляют внимание исследователи разных областей. В последние десятилетия тексты интересуют ученых также и в следующих двух аспектах – как отражение и выражение некоторых характеристик создателей текста и одновременно как источник существенной информации о тех, кто текст воспринимает (учет аудитории особенно важен при создании текстов политических и рекламных).
Что же касается художественных произведений, то, по-видимому, можно согласиться с Б. М. Тепловым, который писал: «Художественная литература содержит неисчерпаемые запасы материалов, без которых не может обойтись научная психология» (Теплое, 1985, с. 306). В настоящей главе мы попытаемся рассмотреть, какие именно материалы в ней содержатся.
Художественный текст как предмет исследования
Обычно художественное произведение определяют как текст, который использует языковые средства в их эстетической функции в целях передачи эмоционального и социально значимого содержания. Считается, что он представляет собой не только отражение действительности, но и выражение средствами естественного языка человеческого отношения к миру (Степанов Г. В., 1974). Вот что писал М. М. Бахтин: «Мир художественного произведения есть мир организованный, упорядоченный и завершенный <…> вокруг данного человека <автора. – В.Б.> как его ценностное окружение» (Бахтин, 1979, с. 162).
Коль скоро речь идет об отношении и эмоциях, не удивительно, что исследования осуществляются в рамках психологии. А когда речь идет о творчестве, то обычно это оказывается сферой психологии искусства. Однако потенциал содержания художественного произведения гораздо выше. В частности, в художественном тексте имеется информация, представляющая исключительную ценность для анализа психологии личности.
Можно согласиться с утверждениями многих исследователей относительно того, что лишь комплексный и многоаспектный подход, интегрирующий многие научные дисциплины, может дать целостное представление о таком сложном и многоплановом явлении, как художественный текст. Оговоримся здесь, что в дальнейшем термин «художественный текст» будет использоваться как менее связанный с литературоведческими и эстетическими концепциями, чем термин «художественное произведение».
Исключительно разнообразными являются функции художественного текста. Он выступает в качестве:
• формы существования культуры,
• способа хранения и передачи информации,
• продукта определенной исторической эпохи,
• единицы коммуникации,
• отражения жизни индивида и т. п.
Именно подобная полифункциональность служит основой интереса к тексту со стороны различных дисциплин, приводит к обогащению их понятийного аппарата и методологических оснований, что, в свою очередь, создает возможности для дальнейшего уточнения и развития психологических представлений. Поэтому, прежде чем обращаться непосредственно к этой теме, рассмотрим, какие дисциплины и направления исследований подводят научную базу под это утверждение, отражение каких отношений они усматривают в художественном тексте.
1. Лингвистический анализ художественного текста. С его помощью можно выявить те «лингвистические средства, посредством которых выражается идейное и эмоциональное содержание литературного произведения» (Щерба, 1957, с. 97). Он включает в себя объяснение значений слов и форм, фактов отклонения от языковой системы и малоупотребительных и устаревших слов (Новиков, 1988).
Его частью является и стилистический анализ, с помощью которого изучаются общеязыковые и авторские метафоры. Созданные автором образные средства объясняются через возможности языка путем соотнесения с нормативными явлениями речи.
2. Лингвострановедческий анализ. Для него текст является в первую очередь компонентом культуры. В тексте выявляются элементы, которые не могут быть поняты адекватно в рамках другой культуры и нуждаются в культурологическом комментировании (см. работы В. Г. Костомарова, Е. М. Верещагина, Ю. Е. Прохорова, Н. Д. Бурвиковой, В. Красных).
3. Литературоведческий анализ. Художественный текст изучается как продукт национальной культуры, общественной мысли, выявляет его связь с эпохой, с местом в литературном процессе. Литературоведческий анализ оперирует такими категориями поэтики, как тематика, жанр, образ, композиция, сюжет, и предполагает раскрытие идейного содержания и поэтики произведения.
Раскрытие специфики текста происходит на основе «внутренних резервов» текста. Анализируется эпоха, история создания произведения. Текст не всегда соотносится с автором, а тем более с читателем. Для литературоведов это как бы внешние по отношению к произведению явления, которые не касаются толкования самого текста. Тем самым литературоведческий подход к тексту предполагает рассмотрение его как некоторой имманентной сущности, замкнутой на себя системы.
Так, известный исследователь-структуралист Ю. М. Лотман писал, что все вопросы, выходящие за пределы этого анализа – «проблемы социального функционирования текста, психологии читательского восприятия и т. п. при всей их очевидной важности <…> из рассмотрения исключаются. Предметом <…> внимания будет художественный текст, взятый как отдельное уже законченное и внутренне самостоятельное целое» (Лотман, 1992, с. 5–6).
Вместе с тем литературоведческий подход может предполагать и определенный психологизм. Так, при интерпретационном анализе текста выделяется «индивидуально-авторская парадигма, которая объединяет все произведения одного автора. Интегрирующим признаком – своего рода архисемой – этой текстовой парадигмы является творческий метод автора, реализуемый в структуре его произведений» (Кухаренко, 1988, с. 85). Вот что пишет в этой связи писатель С. Залыгин: «Самый большой интерес представляет писать разные вещи. Но это не исключает того, что потом внимательному читателю мои рассказы, романы, повести, эссе покажутся более или менее одной книгой. Возможен даже парадокс: чем больше я буду ощущать разницу между своими книгами, тем больше схожести найдет в них вдумчивый читатель: в разных по сюжету и жанру вещах он скорее уловит общее, меня уловит!» (цит. по Кухаренко, 1988, с. 85). Поиску художественных миров писателей посвящены многие литературоведческие работы.
4. Социологическая трактовка художественного произведения предполагает рассмотрение его как «документа», «памятника» своей эпохи, отражение социальных связей и отношений в тексте. Вот, к примеру, что писал Лев Троцкий о Блоке: «Звездно-метельная, бесформенная лирика Блока отражает определенную среду и эпоху, ее склад, ее уклад, ее ритм, и вне этой эпохи повисает облачным пятном. Эта лирика не переживет своего времени и своего творца» (Троцкий, 1991).
5. Достаточно проработанным с методологической точки зрения представляется лингвофеноменологический подход к тексту (Э. Гуссерль, Г. Шпет и др.), при котором тем или иным компонентам текста приводят в соответствие интенциональные смыслы говорящего, обусловленные референтной соотнесенностью знаков, предметов опыта, их связей и отношений. Представляется, однако, что данный подход более адекватен при анализе текстов с информационно-логическими структурами, чем текстов художественных.
6. К толкованию художественного текста как проявлению субъективного мира его автора следует отнести и работы, проведенные в русле экспериментальной эстетики (Г. Фехнер, Т. Липпс), эстетики гештальта (Г. Айзенк, Р. Анхейм) и концепции эмоционального формализма (К. Пратт, Р. Портер). Большой вклад в разработку экспериментальной эстетики внесли работы отечественной школы, базирующейся в Перми (Л. Дорфман, В. Петров, Д. Леонтьев и др.).
7. В последние годы появились исследования в области физиологии сенсорных систем. Описание когнитивных компонентов психофизиологии восприятия в рамках нейроэстетики (Beauty and Brain. Biological Aspects of Aesthetics, 1988) позволяет проанализировать эстетические переживания в их связи с биологическими факторами. Утверждается, что прекрасное (гармоничное, приятное и т. п.) является результатом не только наложения социокультурных, национальных или исторических эталонов, но и проявлением универсальной деятельности мозга.
8. Все чаще к художественному тексту обращается психолингвистика. Психолингвистике присущ широкий взгляд на речь как на результат речемыслительной деятельности человека. Это позволяет рассматривать текст как феномен речевой деятельности человека, как способ отражения действительности в речевом сознании автора с помощью элементов системы языка. Это вполне согласуется с положениями, высказанными А. А. Леонтьевым, который считал психолингвистику психологической наукой: «Предметом психолингвистики является соотношение личности со структурой и функциями речевой деятельности, с одной стороны, и языком как главной „образующей“ образа мира человека, с другой» (Леонтьев А. А., 2003, с. 19). И добавлял, что «через понятие значения психолингвистика самым непосредственным образом связана с проблематикой психического отражения и в частности, с концепцией образа мира» (там же, с. 152)[1].
В психолингвистике за интересом к тексту скрывается интерес к проблемам речевого сознания, представляющего собой внутренний процесс планирования и регуляции внешней деятельности с помощью языковых знаков. Лингвисты и психолингвисты разрабатывают теорию языковой личности, основываясь на том, что «нельзя познать сам по себе язык, не выйдя за его пределы, не обратившись к его творцу, носителю, пользователю – к человеку, к конкретной языковой личности». И познать языковую личность можно прежде всего через текст, поскольку «за каждым текстом стоит языковая личность, владеющая системой языка» (Караулов, 1987, с. 27).
Характерно, что многие исследователи, не преследуя собственно психологические цели, высказывают суждения психологического плана. Приведем наблюдение известного филолога Г. О. Винокура о возможности реконструкции личности автора художественного текста с помощью филологического анализа. Рассматривая понятие языка писателя и его отличие от «языка литературного произведения» и «языка произведения», он полагал, что оно «может быть применимо с целью раскрыть психологию писателя, его „внутренний мир“, его „душу“. Такая возможность основывается на том, что в языке говорящий или пишущий не только передает <…> то или иное содержание, но и показывает, как он сам переживает сообщаемое» (Винокур, 1991, с. 44).
Иными словами, филологический анализ может предполагать обращение к тому, что стоит за словом. «…Частные акты речи <…> в той мере, в какой они поддаются наблюдению, <…> могут дать исследователю возможность проникнуть в душевное состояние писателя, угадать его настроение, почувствовать, с печалью или радостью он говорит свое слово, с сочувствием или безразличием он рассказывает о событиях в жизни своих героев и т. д.; причем все это может находиться в том или ином соответствии с прямым смыслом текста» (там же, с. 46).
Наличие разных типов построения текста, по его мнению, «не может не заинтересовать того, кто хочет увидеть в языке писателя отражение его внутреннего мира, так как разные построения <…> могут оказаться связанными с разными <подчеркнуто мной. – В.Б.> психологиями» (там же, с. 47).
Тем самым прослеживается тенденция рассматривать текст не как высшую единицу языка, а как высшую единицу человеческого мышления. Так, Л. С. Выготский писал: «Везде – в фонетике, в морфологии, в лексике и семантике, даже в ритмике, метрике и музыке – за грамматическими и формальными категориями скрываются психологические» (Выготский, 1956, с. 334).
Чья же психология выражается, отражается или раскрывается в тексте? Очевидно, что в первую очередь на ум приходит психология автора. Подобный ответ рождает новые вопросы – в какой мере она отражается? Насколько точно? Не является ли лирический герой (рассказчик, повествователь) лишь маской для автора текста, подобно актеру, играющему разные роли?
Думается, что в любом случае текст, являясь продуктом речемыслительной и психической деятельности автора, соотносится не только с системой языка или с другими текстами, но и с психологией его создателя-автора. В этой связи дальнейшее изложение требует анализа двух основных подходов к ответам на обозначенные выше и связанные с ними вопросы – объективистского и субъективистского.
Психологический подход к художественному тексту
Приведем краткий обзор чрезвычайно важной для психологии художественного текста книги Л. С. Выготского «Психология искусства» (Выготский, 1987), во многом повлиявшей на работы в этой области, создававшиеся в последующие десятилетия. По мнению Выготского, искусство является прежде всего «совокупностью эстетических знаков». Проводя психологический анализ искусства, автор выделяет прежде всего особую эмоцию формы как «необходимое условие художественного выражения» (там же, с. 37).
Такое ограничение, сведение психологии к форме понятно, поскольку Л. С. Выготский строил свою концепцию искусства на «объективных естественнонаучных началах» и в рамках объективной психологии искусства рассматривал художественное произведение исключительно как продукт культуры, или социальной среды. Подобное отношение к искусству вытекало из общепсихологических взглядов исследователя, который подходил в те годы к психике как к «посредствующему механизму, при помощи которого экономические отношения и социально-политический строй творят ту или иную идеологию» (там же, с. 25). Л. С. Выготский утверждал, что «… в самом интимном, личном движении мысли, чувства и т. п. психика отдельного лица все же социальна и социально обусловлена» (там же, с. 28).
В рамках теории культурно-исторического опосредования индивидуальной психики Л. С. Выготский трактует соответствующим образом искусство и литературу: «искусство есть как бы удлинение „общественного чувства“» <…> Переплавка чувств вне нас совершается силой социального чувства, которое объективировано, вынесено вне нас, материализовано и закреплено во внешних предметах искусства, которые сделались орудиями общества (там же, с. 233, 239). Поэтому неудивительно, что Л. С. Выготский полагал, что нет принципиальной разницы между процессами народного и личного творчества, и утверждал, что «до тех пор, пока мы будем ограничиваться анализом процессов, происходящих в сознании, мы едва ли найдем ответ на самые основные вопросы психологии искусства» (там же, с. 95).
Позиция Л. С. Выготского в отношении проявления личности автора в тексте принципиальна: перейти к «психологии автора… на основании толкования знаков нельзя» (там же, с. 9).
Такой подход к художественному тексту разделяют многие литературоведы. Так, в работах ученых, входивших в 1920-е гг. в ОПОЯЗ (общество по изучению языка), искусство также понимается как прием (Шкловский, 1919) и рассматривается независимо от автора. В частности, Б. М. Эйхенбаум полагал, что в основе воздейственности «Шинели» Н. В. Гоголя лежит сказовость, каламбурный стиль и сентиментально-мелодраматическая декламация, а «слова подобраны и поставлены в известном порядке не по принципу обозначения характерных черт, а по принципу звуковой семантики» (Эйхенбаум, 1919, с. 157–158), имеющей целью задержку внимания.
Возможности психологического подхода к литературе этот же исследователь, будучи формалистом, оценивал весьма скептически: «Мы очень любим почему-то „психологии“ и „характеристики“. Наивно думаем, что художник пишет для того, чтобы „изображать“ психологию или характер <…> На самом деле художник ничего такого не изображает, потому что совсем не занят вопросами психологии, – да и мы вовсе не для того смотрим „Гамлета“, чтобы изучать психологию» (Эйхенбаум, 1924, с. 78).
Не ставя перед собой задачи детального анализа возможностей и ограничений подхода к художественному тексту как эстетическому объекту, отметим, что концепция Л. С. Выготского является отражением не столько господствовавшей научной парадигмы, но и объективных (и действительно противоречивых) свойств художественного текста, а также проявлением «личного уравнения» (термин Н. А. Рубакина, см. Рубакин, 1977, с. 214) самого исследователя. Иными словами, он обращает внимание на объективацию психологических характеристик. «Будучи структурирована в художественном творении, – комментирует концепцию Л. С. Выготского М. Г. Ярошевский, – эта совокупность имеет собственный статус, независимый от личных качеств писателя. Поэтому не следует искать проекцию этих качеств или ключ к их познанию» (Ярошевский, 1987, с. 300).
Впрочем, как будет видно из последующего изложения, и сам Л. С. Выготский все же рассматривал героев художественных произведений в качестве прототипов и анализировал их поступки и характеры.
Наряду с объективистской точкой зрения на текст и, шире, на произведения культуры, результаты творчества, с подходом, предлагающим изучение внешней стороны проявлений сознания и психики, существует и другой, в рамках которого гораздо больше внимания уделяется именно субъективным аспектам творческого процесса и его результатам. Так, французские символисты XIX века, обсуждая творчество и провозглашая свое творческое кредо, делали акцент на творческую личность, на человека с его неповторимым миром в качестве и субъекта, и главного объекта изображения в искусстве. «Но одна новая мысль все же вошла в литературу и искусство, – отмечал в свое время Реми де Гурмон, – мысль вполне метафизическая и по внешности априорная… – это принцип идейности мира. По отношению к человеку, по отношению к мыслящему субъекту мир – все, что вне моего Я, – существует только в том виде, в каком мы его себе представляем… Сущность вещей недоступна нам. Вот идея, которой Шопенгауэр придал широкую популярность при помощи простой и ясной формулировки: „Мир есть мое представление“». Не вдаваясь в существо подобных субъективно-идеалистических суждений, выскажем предположение о том, что если существует какая-либо точка зрения на объект, то наверняка существуют и люди, которые воспринимают мир именно таким образом. Иными словами, даже за единичной трактовкой объекта, на наш взгляд, стоит свое восприятие, точнее, свой тип восприятия.
Э. Геннекен – известный французский исследователь писал в этой связи: «Именно благодаря тщательному изучению произведения критик найдет основания для изучения мысли самого автора» (Hennequin, 1884, с. 65). Впрочем, следует уточнить, что Геннекен имел в виду не только мысль, но само видение мира, а в конечном итоге и тип личности автора.
Возможно, более сбалансированным оказывается подход, выраженный в значительном числе работ, рассматривающих психологические основания особенностей разных художественных текстов и посвященных, в частности, психологическому анализу процесса создания литературного произведения (Арнаудов, 1970; Громов, 1986; Парандовский, 1990; Цейтлин, 1968). В них отмечается, что стимулом к написанию произведения для его автора может быть непосредственное наблюдение, воспоминание о нем, настроение, а также вполне конкретная мысль. Иными словами, творческое вдохновение может быть как обусловлено внешними причинами, так и не регулироваться ими.
На сегодня установилось следующее представление о творчестве. Под творчеством обычно понимается деятельность, в результате которой создаются новые материальные и духовные ценности. Как культурно-историческое явление творчество имеет психологический аспект, как личностный, так и процессуальный. Оно предполагает, что у личности имеются соответствующие мотивы, способности, знания и умения; изучение этих мотивов и явлений выявило важную роль воображения, интуиции, неосознаваемых компонентов умственной активности, а также потребности личности в самоактуализации.
Психоаналитический подход к художественному тексту
Что касается мотивов и неосознаваемых компонентов умственной активности, то им значительное внимание было уделено, как известно, в работах 3. Фрейда и его последователей. Исходным здесь можно считать утверждение 3. Фрейда о том, что даже в небольшом по объему тексте можно увидеть «глубинные душевные процессы… <и> скрытые мотивы поведения» (Фрейд, 1990 а, с. 35–36).
Как известно, при анализе специфических особенностей художественного творчества и проблематики искусства, 3. Фрейд исходил из выдвинутого им постулата эдипового комплекса, в котором, по его мнению, исторически «совпадает начало религии, нравственности, общественности и искусства» (Фрейд, 1923, с. 165). Истоки искусства усматривались им в фантазии, при помощи которой люди облекают свои бессознательные влечения в такую мифическую форму, благодаря которой эти фантазии перестают быть асоциальными и превращаются в средство получения удовольствия.
Тем самым фантазия и мифотворчество наделяются в учении Фрейда функцией сублимирования бессознательных влечений человека. Такое понимание истоков вдохновения накладывает отпечаток на всю психоаналитическую концепцию художественного творчества и на конкретный анализ отдельных произведений искусства. Как в том, так и в другом случае предлагается процедура по расшифровке «языка» бессознательного, который в символической форме приобретает свою самостоятельность в фантазиях, мифах, сказках, снах, произведениях искусства.
Творчество, таким образом, рассматривается Фрейдом как своеобразный способ примирения оппозиционных принципов «реальности» и «удовольствия» путем вытеснения из сознания человека социально неприемлемых импульсов. Оно способствует устранению реальных конфликтов в жизни человека и поддержанию психического равновесия, то есть выступает в роли своеобразной терапии, ведущей к устранению болезненных симптомов. В психике художника (автора) это достигается, согласно этой концепции, путем его творческого самоочищения и растворения бессознательных влечений в социально приемлемой художественной деятельности. По своему смыслу такая терапия напоминает «катарсис» Аристотеля. Но если у Аристотеля средством духовного очищения выступает только трагедия, то основатель психоанализа видит в этом специфику всего искусства.
При этом психоанализ сводится, как известно, к выявлению преимущественно следующих комплексов сферы психического:
1) стремление к матери и связанное с ним агрессивное чувство к отцу у мальчиков (комплекс Эдипа), а у девочек – влечение к отцу и ревность к матери (комплекс Электры);
2) влечение к смерти, с которым борется влечение к самосохранению (инстинкт смерти и инстинкт жизни);
3) принцип удовольствия, входящий в противоречие с принципом реальности;
4) чувство вины и страх кастрации.
Исходя из представления о том, что даже в небольшом фрагменте текста отражаются скрытые мотивы автора, Фрейд, анализируя личность Леонардо да Винчи, берет за основу отрывок из его дневника:
Кажется, мне было судьбой предсказано так основательно заниматься коршуном, потому что у меня сохранилось, наверное, очень раннее воспоминание, будто когда я лежал в колыбели, прилетел ко мне коршун, открыл мне хвостом рот и много раз толкнул хвостом в мои губы (Фрейд, 1990 а, с. 14)[2].
На основании этой записи З. Фрейд полагает, что Леонардо обладал влечением к матери и, чтобы не впасть в измену матери, бежит от женщин к мужчинам. Тем самым рассказ Леонардо «есть <…> более поздняя фантазия» (там же, с. 15), в которой проявляются пассивные гомосексуальные устремления.
Бурный рост количества последователей этого подхода из числа искусствоведов, писателей, литературных критиков, пришедшийся на 30—50-е гг. XX века, привел к резкому всплеску общественного интереса к проблеме психического и его отношения к искусству.
Характерным примером психоаналитического и одновременно структурно-морфологического подхода к литературе является книга Даниеля Ранкор-Лаферьера «Из-под шинели Гоголя» (Rancour-Laferriere, 1982), посвященная анализу повести «Шинель» Н. В. Гоголя.
В целом же отметим, что широкая дискуссия вокруг работ психоаналитического направления выявила в конечном счете неуниверсальность подобной трактовки сознания и подсознания, а также произвольность толкования смысла художественного текста.
Известный психоаналитик К. Юнг в своей статье «Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству» пишет следующее: «Психоанализ художественного произведения <…> переносится в область общечеловеческую, для <…> искусства крайне несущественную» (Юнг, 1991, с. 270). К. Юнг мотивировал свою позицию тем, что произведение искусства – «не человек, а нечто сверхличное».
Кроме того, по его мнению, «редукционистский метод Фрейда» «имеет объектом болезненную и искаженную психологическую структуру». А применять «врачебный психоанализ» к произведению искусства – это значит исповедовать «биологически ориентированную психологию», что, по Юнгу, и есть редукционизм.
Выдвигая свою интерпретацию художественных текстов, базирующуюся на психиатрической трактовке психики автора, мы не имеем морального права критиковать психоанализ. И все же у нас есть одно принципиальное соображение в отношении данной теории. Оно заключается в следующем. Формулируя универсальные критерии понимания проблем человеческой личности, психоанализ предлагает лишь одну известную основу существования и функционирования человеческой психики. Реальность же свидетельствует о том, что разнообразие типов приспособительной деятельности человека к жизни рождает разнообразие типов человеческой психики, и это приводит к богатству проявлений психики в литературе и искусстве. Художественные тексты не являются проявлением лишь одного начала в человеке, психические основания их многообразны.
Поэтому, не отрицая того, что в парадигме психоаналитического подхода к литературе сделано много тонких и важных наблюдений, совершенно нельзя согласиться с тем, что все художественные тексты могут быть подвергнуты анализу с одной только позиции с получением результатов анализа, адекватных рассматриваемому объекту.
Таким образом, мы видим, что подход к художественному тексту как к источнику информации о психологии автора используется широко в психологии, в том числе и в психологии личности. Теперь попытаемся рассмотреть взгляды на проблему литературного творчества в интересующем нас аспекте.
Психологический подход к персонажу
Научный анализ художественного текста не может обойти вопрос о соотношении вымысла и реальности, точнее того, как именно реальность преломляется в художественном тексте. Известно множество психологических работ, где рассматриваются индивидуальные особенности личности, ставшие предметом изображения в литературе и, в частности, реализованные в характерах персонажей как проекциях личностных свойств окружающих автора людей.
Интересны вопросы, которые задает себе психолог, оценивая, например, поведение Раскольникова. Отдает ли себе исследователь отчет в том, что объектом его анализа является не реальный человек, а литературный персонаж? Насколько доказателен такой анализ? Может ли он в принципе рассчитывать на выявление реальных психологических закономерностей в силу реализма изображения? Можно ли надеяться, что писатель не выходит за пределы психологической достоверности в изображении действий и переживаний, не искажает нигде собственно психологических законов, что все описанное им в принципе возможно и как психологическая реальность? Занимаются ли психологи, исследуя психологические закономерности поведения персонажей, реконструкцией реальности или чаще всего лишь реконструкцией скрытой концепции художника, его мнения об этой реальности? – такого рода вопросами задается Ф. Е. Василюк при анализе описания переживаний в художественной литературе (Василюк, 1984). По мнению этого исследователя, такого рода вопросы будут еще долго ждать своего решения.
Здесь вновь уместно обратиться к тому, как отвечают на подобные вопросы сторонники «объективистского» и «субъективистского» подходов.
Так, по мнению Л. С. Выготского, исследователи, работающие в рамках субъективной психологии искусства, «относятся доверчиво и наивно к художественному произведению и пытаются понять <…> поведение персонажа из склада его душевной жизни, точно это живой и настоящий человек, и, в общем, их аргументы почти всегда суть аргументы от жизни и от знания человеческой природы, но не от художественного построения» (Выготский, 1987). «Эти критики <…> пользуются доводами здравого смысла и житейской правдоподобности больше, чем эстетики <…>, и подходят <к тексту. – В.Б.> как к казусному случаю из жизни, который непременно должен быть растолкован в плане здравого смысла» (там же, с. 157–158). Исходя из такого взгляда на искусство, Выготский считает, что, в частности, нецелесообразно исследовать Гамлета как психологическую проблему, «Гамлету невозможно приписать никакого характера» в силу того, что «этот характер сложен из самых противоположных черт и что невозможно придумать какого-либо правдоподобного объяснения его речам и поступкам» (там же, с. 169–170).
В частности, он пишет: «Все эти перегруппировки основных событий вызваны только одним требованием – требованием нужного психологического эффекта» (там же, с. 178). Тем самым загадочность Гамлета предстает для Выготского как «известный художественный прием, который надо осмыслить» в соответствии с законами драматургической композиции той эпохи, а сама «психология и характеристика героя не безразличный, случайный и произвольный момент, а нечто эстетически очень значимое» (там же, с. 167).
С одной стороны, анализируя «Евгения Онегина», Л. С. Выготский полагает, что имя Онегина «есть только знак героя». С другой стороны, несмотря на постулирование неприемлемости психологического анализа персонажей и требование различать эстетику и сюжет, Выготский фактически нередко занимается таким анализом, углубляясь в интерпретацию действий и переживаний героев (что, впрочем, вполне объяснимо его психологическими познаниями и тем более ценно для данного исследования).
Психологический анализ персонажей осуществляется последовательно и без оговорок, что можно обнаружить в работах Б. М. Теплова. Персонажи рассматриваются им в качестве таких же полноценных объектов исследования, как и реальные люди.
К примеру, рассматривая пьесу А. С. Пушкина «Моцарт и Сальери», Теплов делает вывод о том, что «Сальери становится рабом „злой страсти“, зависти потому, что он, несмотря на глубокий ум, высокий талант, замечательное профессиональное мастерство, – человек с пустой душой. Наличие лишь одного изолированного интереса, вбирающего всю направленность личности и не имеющего опоры ни в мировоззрении, ни в подлинной любви к жизни во всем богатстве ее проявления, неизбежно лишает человека внутренней свободы и убивает дух» (Теплов, 1985, с. 309).
Как и Л. С. Выготский, Б. М. Теплов обращается к «Евгению Онегину». Анализируя строки, относящиеся к Татьяне Лариной, Теплов трактует их как иллюстрации к процессу «формирования психических свойств личности <и их развития. – В.Б.> в переломные моменты жизни» (Теплое, 1985). Он пишет, что если в начале романа Татьяна обнаружила чрезвычайно непосредственную эмоциональную реакцию, то в конце она – воплощение сдержанности, уравновешенности, спокойствия, умения владеть собой. Тем самым показанная в романе «жизнь Татьяны – это замечательная история овладения своим темпераментом, или <…> история воспитания в себе характера <…> в уроках жизни» (там же, с. 311).
Рассматривая психологическую концепцию жизненного пути человека, К. А. Абульханова-Славская приводит литературные примеры того, как люди отграничивают свой внутренний мир от других (Д. Голсуорси «Сага о Форсайтах»); как человек стремится по-своему справиться со своей жизнью, подчинить ее себе (герои Хемингуэя); защитить свою индивидуальность (герои А. Грина) или лишить другого человека права на личную жизнь («Анна Каренина»). Развивая типологический подход к личности, эта известная исследовательница применяет его к литературным персонажам и пишет, что человек может либо находиться во власти долга и своих принципов (как Каренин у Л. Толстого), либо вовсе не осознавать смысла своей жизни (как герой романа Кобо Абэ «Женщина в песках», попавший в безысходную ситуацию и смирившийся с ней) (Абульханова-Славская, 1991).
Таким образом, обращение психолога к типам героев произведений и к художественной литературе как к достаточно достоверному описанию внутренней жизни человека вполне закономерно и оправдано.
В этой связи представляется справедливым предположение о том, что персонажи художественного текста представляют собой определенные лица, значимые в том или ином отношении для «жизненного пространства» автора (Rapoport el al., 1946). Можно согласиться с тем, что в литературном творчестве писатель не может не опираться на собственные переживания (Bine, 1895) и сознательно или бессознательно изображает собственные потребности и чувства в описаниях личности и характеров выдуманных героев (Murray, 1938).
В качестве иллюстрации этого положения можно привести следующее наблюдение психолога над авторами и персонажами художественной литературы: «В произведениях, созданных авторами-мужчинами, персонажи-мужчины в два раза чаще, чем персонажи-женщины, выступают главными героями» (Семенов, 1985, с. 144). Кроме того, «авторы-женщины значительно чаще наделяют персонажей-мужчин отрицательными личностными качествами и поведением, чем персонажей-женщин» (там же). Интересно, что эти особенности художественных текстов имеют аналогию в детской психологии: девочки чаще отмечают отрицательные качества у мальчиков, чем у девочек.
Иными словами, писатель наделяет действующих в его тексте положительных персонажей теми качествами, содержание которых ему близко и понятно и направленность деятельности которых соответствует его представлениям о правильном (о норме) и должном (идеале). В свою очередь, можно предположить, что истоки содержательных характеристик отрицательных персонажей связаны с приписыванием характеру антигероя черт, не симпатичных автору текста.
Психиатрический подход к персонажу
Как уже отмечалось, выражением крайне субъективного подхода к литературе является психиатрический взгляд на художественную литературу, основы которого заложены в работах таких ученых, как В. Гирш, Е. Кречмер, Ц. Ломброзо, Моро де Тур, Дж. Нисбет, А. Один, В. Штекель.
Применение психиатрических знаний в отношении семантики языкового материала позволяет исследователям проводить идентификацию не только личностных черт автора, но и «личностей» персонажей художественного текста.
Примером подобного исследования является уже упоминавшаяся монография Карла Леонгарда «Акцентуированные личности» (1981). В первой части работы – «Типология личностей», он излагает основы своей концепции акцентуированных (социально дезадаптированных) личностей, близкую классификации психопатических личностей П. Б. Ганнушкина. Во второй части монографии, озаглавленной «Личность в художественной литературе», К. Леонгард приводит в качестве иллюстраций к описанным типам акцентуированных личностей многочисленные примеры из мировой художественной литературы.
Исследователь справедливо отдает себе отчет в условности такого подхода: «…Писатель преследует множество целей, находящихся за пределами сферы психологии, – пишет он, – и просто не имеет возможности тщательно выписать особенности личности разных действующих лиц. Нередко, наконец, сами персонажи служат воплощением идеи, принципа, порой они задуманы скорее символически, так что вообще не могут представлять людей реальных» (там же, с. 269). И все же он полагает, что в литературном творчестве можно увидеть «образы <выделено мной. – В.Б.> акцентуированных личностей», личностей, которые нередко стоят на грани патологии.
Леонгард рассматривает различные черты характера и темперамента, формирующие человека как личность в тех случаях, когда он представляет собой отклонение от некоего стандарта. Он называет это акцентуацией характера. Более полное определение акцентауации дает А. Е. Личко, полагая, что «акцентуации характера – это крайние варианты нормы, при которых отдельные черты характера чрезмерно усилены, вследствие чего обнаруживается избирательная уязвимость в отношении определенного рода психических воздействий при хорошей и даже повышенной устойчивости к другим».
К. Леонгард выделяет следующие типы акцентуированных личностей: демонстративные, педантические, застревающие, возбудимые, гипертимические, дистимические, аффективно-лабильные, аффективно-экзальтированные, тревожные, эмотивные, экстравертированные, интровертированные. Его квалификация персонажей литературных произведений соотносится именно с этими классами.
Леонгард так характеризует интровертированную акцентуированную личность: она «живет не столько своими восприятиями и ощущениями, сколько своими представлениями. Поэтому внешние события как таковые влияют на жизнь такого человека относительно мало; гораздо важнее то, что он о них думает» (Леонгард, 1981, с. 161). К числу литературных персонажей, обладающих интровертированностью, исследователь относит персонажей Ф. Достоевского – Ивана Карамазова («Братья Карамазовы») и Ордынова («Хозяйка»), Ганса Иопели (И. Готхельф «Ганс Иоггели – богатый дядюшка») и др. «Подобно тому как Дон-Кихот (М. Сервантес) представляет собой тип интровертированной личности, – пишет К. Леонгард, – Санчо Панса – личность типично экстравертированная. Он во всем является противоположностью своему господину, видит перед собой одну лишь объективную действительность. Именно поэтому Санчо олицетворяет практический подход к вещам, здравый рассудок, противостоящий оторванности от жизни Дон Кихота» (там же, с. 361). Экстравертированной личностью является, по его мнению, Стрепсиад в комедии Аристофана «Облака», Вильгельм Телль (Ф. Шиллер «Вильгельм Телль»), Фабрицио дель Донго (Стендаль «Пармская обитель»), Тони Будденброк (Т. Манн «Будденброки»), Алеша (Ф. Достоевский «Униженные и оскорбленные»).
Для демонстративных (истеричных) личностей, по мнению Леонгарда, характерны лживость, стремление всячески привлечь к себе внимание, жажда признания, славы, артистизм. К демонстративным личностям в художественной литературе он относит многих персонажей Ф. М. Достоевского: кликушу, Федора Павловича Смердякова («Братья Карамазовы»), Лебедева («Идиот»), Порфирия Петровича («Преступление и наказание»); героев Иеремии Готхельфа, мольеровского Тартюфа («Тартюф»), Лузмана (Лопе де Вега «Лузман»), Феликса Круля (Т. Манн «Признания авантюриста Феликса Круля»), Доранта (П. Корнель «Лжец»), императора Нерона (Г. Сенкевич «Quo vadis?»), Фиеско (Ф. Шиллер «Заговор Фиеско в Генуе»), ряд персонажей древнегреческих авторов (Софокла, Эсхила, Еврипида, Плавта).
По его наблюдению, художественная литература, изобилующая демонстративными личностями, в то же время весьма бедна личностями педантическими (ананкастами). Он выдвигает следующее предположение: «Объяснение того, почему писатели не описывают в своих произведениях ананкастов, следует, очевидно, искать в самих писателях. Вероятно, они в самих себе не находят подобных особенностей, а потому и не могут убедительно их изобразить» (там же, с. 283). По его мнению, точным примером педантической личности является вахмистр из рассказа Альфредо де Виньи «Вечерний разговор в Венсене», которого мучают болезненные сомнения в его готовности к строевому смотру, в возможной краже вверенного ему имущества и тревожат опасности, которые объективно вообще не существуют. В качестве других примеров приводятся главный герой повести Жана Поля Рихтера «Путешествие войскового священника Шмельце во Флец»; герой романа «Зеленый Генрих» (Г. Келлер), Нехлюдов (Л. Толстой «Воскресенье»); пьесы «Мнимый больной» (Ж. Б. Мольер).
Для паранойяльно-акцентуированных характерны эгоистические аффекты, злопамятность, мстительность, заносчивость, самонадеянность и честолюбие. К числу паранойяльных он относит следующих персонажей: Отелло (В. Шекспир «Отелло»), Раскольникова и жену Мармеладова (Ф. Достоевский «Преступление и наказание»), Альцеста (Ж. Б. Мольера «Мизантроп»), Кольхаса (Г. фон Клейст «Михаэль Кольхас»), султана Оросмана (Вольтер «Заира»), судью (Кальдерон «Саламейский алькальд») и персонажей древнегреческих авторов – Электру (Софокл «Электра»), Медею (Еврипид «Медея»).
Примером комбинированной истерико-параноический личности К. Леонгард считает образ Франца Моора из драмы Ф. Шиллера «Разбойники».
Возбудимые личности подвержены влечениям, инстинктам, неконтролируемым побуждениям; при повышенной степени реакций этого типа можно говорить об эпилептоидной психопатии, хотя прямая связь с эпилепсией отнюдь не обязательна. «Реакции возбудимых личностей импульсивны, <…> им чужда терпимость», у них часто возникает гнев, вспыльчивость, раздражительность; мышление тяжеловесно и «уровень мышления <…> довольно низок» (там же, с. 92). В юности у них нередки импульсивные побеги из дому, они так же склонны к жестокости. Такие личности богато представлены в художественной литературе. Это Курт (И. Готхельф «Курт фон Коппиген»), Кориолан (В. Шекспир «Кориолан»), Яков (Розеггер «Яков последний»), Геракл (Софокл «Трахинянки»; Еврипид «Геракл»). В частности, в драме Еврипида Геракл, вернувшись домой, в припадке безумия убивает свою жену и детей. Затем он погружается в сон, проснувшись же, ничего не помнит о совершенном злодеянии. Герой с ужасом узнает о том, что им совершено. «Припадок безумия Геракла, – комментирует К. Леонгард, – очень напоминает эпилептическое сумеречное состояние сознания» (там же, с. 313).
У Ф. М. Достоевского Дмитрий Карамазов («Братья Карамазовы») является примером возбудимой личности. Кроме того, писатель, сам страдавший эпилептическими припадками, наделил ими многих персонажей своих произведений, в частности, Мышкина («Идиот»), Смердякова («Братья Карамазовы»), Мурина («Хозяйка»), Нелли («Униженные и оскорбленные»).
Тревожную личность отличает робость, в которой чувствуется элемент покорности, униженности. Примерами таких личностей в литературе являются, по мнению Леонгарда, господин Паран (Ги де Мопассан), мастер Щука (Геббель «Нибелунги»), учитель из повести Г. Келлера «Зеленый Генрих», Тобиас Миндерникель (Т. Манн «Тобиас Миндерникель»), чахоточная девушка (Ф. Достоевский «Идиот»).
Для эмотивной личности характерны чувствительность и глубокие реакции в области тонких эмоций. «Обычно людей этого темперамента, – пишет К. Леонгард, – называют мягкосердечными. Они более жалостливы, чем другие, больше поддаются растроганности, испытывают особую радость от общения с природой, с произведениями искусства. Иногда их характеризуют как людей задушевных» (там же, с. 133). Примером таких личностей в литературе, по мнению К. Леонгарда, также являются некоторые персонажи Ф. М. Достоевского – Ваня («Униженные и оскорбленные»), Соня Мармеладова («Преступление и наказание»), а также Соня (Л. Толстой «Война и мир»), мадам де Реналь (Стендаль «Красное и черное»).
Дистимические личности «по натуре серьезны и обычно сосредоточены на мрачных, печальных сторонах жизни в гораздо большей степени, чем на радостных» (там же, с. 122). При более резком проявлении дистимический темперамент переходит в субдепрессивный. В литературе это – серьезный и нерешительный Никлаус, который думает о том, что его отец умрет, или боится, что его дети будут нищенствовать (И. Готхельф «Воскресный день дедушки»).
Гипертимическая личность (высокая степень проявления соответствует гипоманиакальному состоянию) характеризуется приподнятым настроением и «жаждой деятельности, повышенной словоохотливостью и тенденцией постоянно отклоняться от темы разговора, что иногда приводит к скачкам мыслей» (там же, с. 117). К таким личностям исследователь относит Васеньку Веселовского (Л. Толстой «Анна Каренина»), Катерину Осиповну Хохлакову (Ф. Достоевский «Братья Карамазовы»), Гавроша (В. Гюго «Отверженные»), Фальстафа (В. Шекспир «Виндзорские насмешницы»).
Циклотимические личности, по Леонгарду, «это люди, для которых характерна смена гипертимических и дистимических состояний. На передний план выступает то один, то другой из этих двух полюсов. <…> Причиной смены полюсов не всегда являются внешние раздражители, иногда бывает достаточно неуловимого поворота в обшем настроении» (там же, с. 124–125).
По мнению Леонгарда, «изменчивость (лабильность) подобного типа объясняется сугубо биологическими причинами и потому мало располагает к созданию художественного образа. Следовательно, найти такой образ в художественной литературе нелегко» (там же, с. 336). В качестве примера он приводит Брайтунга (О. Людвиг «Мария») и Разумихина (Ф. Достоевский «Преступление и наказание»).
Аффективно-экзальтированный темперамент Леонгард называет «темпераментом тревоги и счастья. Люди такого типа „реагируют на них более бурно, чем остальные. <…> <Они. – В.Б.> одинаково легко приходят в восторг от радостных событий и в отчаянье от печальных“ (там же, с. 127). Герои В. Шекспира – Ромео („Ромео и Джульетта“), Перси, носивший прозвище „Горячая шпора“ („Генрих IV“); Ф. Достоевского – Катерина Ивановна („Братья Карамазовы“), Настасья Филипповна („Идиот“), принц Гамбургский (Г. Клейст „Принц Гамбургский“), Мортимер (Ф. Шиллер „Мария Стюарт“), Матильда де ля Моль (Стендаль „Красное и черное“), Николай Ростов (Л. Толстой „Война и мир“) являются, с его точки зрения, типичными примерами личностей этого типа.
Кроме того, Леонгард приводит описание и примеры смешанных случаев – комбинации возбудимости и застревания (или, говоря иначе, эпилептоидности и паранойяльности); комбинации личности с преобладанием тревожности и личности застревающей (дистимически-застревающие личности); сочетания депрессивности и паранойяльности; сочетание гипертимичности и демонстративности; дает примеры персонажей, обладающих одновременно экзальтированным темпераментом и демонстративным характером, а также сочетания интровертированности и гипертимичности.
Следует отметить одно его важное наблюдение в отношении правдоподобности изображаемых характеров. В частности, К. Леонгард отмечает психологическую недостоверность в описании педантической личности в художественной литературе. Так, приводя мнение Д. Мюллера о том, что А. Чехов в своем рассказе «Смерть чиновника» описывает человека, страдающего неврозом навязчивых состояний, исследователь одновременно отмечает, что Червяков нисколько не сомневается в том, что его поведение оправдано и обосновано, в то время как невротики с навязчивыми состояниями неизменно мучаются такими сомнениями, ведущими к характерной внутренней борьбе. Аналогичным образом он полагает, что Н. Гоголь в лице Акакия Акакиевича («Шинель») «изображает человека, который внешне выполняет свою работу как ананкаст, но внутренне никаких ананкастических черт не имеет» (там же, с. 287).
Работа К. Леонгарда представляет собой основательно аргументированный и методологически обозначенный подход, который позволяет увидеть скрытый за образом литературного персонажа реальную (пусть и социально дезаптированную) личность.
В работах других современных психиатров также приводятся квалификации героев художественного текста как психопатических личностей.
Так, поведение Ивана Ивановича и Ивана Никифоровича (Н. В. Гоголь «Повесть том, как поссорились Иван Иванович с Иваном Никифоровичем») может быть рассмотрено как сутяжничество (Семке, 1991); М. И. Буянов относит Хлестакова («Ревизор» Н. В. Гоголя) и Барона Мюнгхаузена («Барон Мюнхгаузен» Э. Распе), так же как и гоголевского Ноздрева, к истерическим лжецам (Буянов, 1991, 1994). Чудик из одноименного рассказа В. Шукшина «по характерологическому облику» расценивается психиатром В. Я. Семке как «инфантильная (с чертами детской психики) личность с выраженным шизоидным радикалом» (Семке, 1991, с. 114). Ряд других персонажей Шукшина[3] являются, по мнению психиатра, паранойяльными психопатами (там же). Аналогичным образом «поведение» литературного игрока в карты (Достоевский «Игрок») может быть рассмотрено с позиций того, как страсть порождает застревание (Kohan, 1995). Илье Ильичу Обломову («Обломов» Н. Гончарова) психиатры ставят диагноз депрессии, герои Г. Ибсена – «это психопатические личности <…> чаще всего параноики и шизофреники» (Буянов, 1989).
Такого рода примеров можно привести достаточно много. Так, Ф. Е. Василюк в работе «Психология переживания» на основе анализа чувств и мыслей Родиона Романовича Раскольникова до и после совершения преступления дает описание модели поведения, при котором нарастают внутренние противоречия и усиливается конфликт между личностью и обществом (Василюк, 1984).
Не претендуя на полноту ответов на все поставленные этим исследователем вопросы, приведем основания для того, чтобы анализировать семантическое пространство художественного текста как поле, на котором проявляются типологические черты личности автора. При этом и персонажи, и все составляющие сюжета будем рассматривать как проявление сознания автора, как манифестацию его образа мира.
Типологический подход к личности автора
Известно множество работ психологов, психоаналитиков, а также психиатров, посвященных психологии художественного творчества как деятельности, результатом которой является создание новых духовных ценностей. В некоторых из них специально рассматриваются вопросы типологии творческих личностей. Многие касаются в этой связи вопросов, связанных с гениальностью и различными психопатологиями. Широко известна, в частности, работа «Гениальность и помешательство» Ц. Ломброзо.
Важно отметить, что в некоторых работах в качестве предметов исследования или для иллюстрации каких-то типов используются конкретные имена известных лиц – писателей, поэтов, художников. В этой связи необходимо сделать следующий комментарий, касающийся этики научного исследования. Возникающие в этом случае нюансы и способы этического решения щепетильных вопросов хорошо выразил известный отечественный психиатр М. И. Буянов, который пишет: «Поэт Пушкин не может быть объектом психиатрического изучения, но человек по фамилии Пушкин может быть таким объектом, независимо от того, талантлив он или нет, но при условии, разумеется, что имеются основания для психопатологического исследования» (Буянов, 1989, с. 187). Иными словами, мы считаем, что исключительно в целях научного анализа в ряде случаев можно говорить об акцентуациях, патологиях, диагнозе творческой личности.
Так, еще основатель биосоциологической теории Ц. Ломброзо в упомянутом издании приводил многочисленные свидетельства медицинского характера о наличии у ряда писателей психических отклонений. Продукты их творчества рассматривались ученым как подтверждения медицинских диагнозов.
Ц. Ломброзо писал: «Отсутствие равномерности (равновесия) есть один из признаков гениальной натуры, <и> отличие гениального человека от обыкновенного <…> заключается в утонченной и почти болезненной впечатлительности первого» (Ломброзо, 1892, с. 21). «Гений раздражается всем, что для обыкновенных людей кажется просто булавочными уколами, то при его чувствительности уже представляется ему ударом кинжала» (там же, с. 18).
Словно в подтверждение этих мыслей многие другие психиатры приводят немало фактов, свидетельствующих о «странном» поведении творческих личностей (Леонгард, 1981; Неплох, 1991; Семке, 1991) и при этом обсуждают вопрос о квалификации этой особой психической организации всех творческих личностей.
Так, Моро де Тур считал, что «гений – это невроз» (цит. по Гончаренко, 1991, с. 355), а русский психолог П. И. Карпов писал: «…Все гении <…> суть циклотимики, мыслящие по шаблону, свойственному и больным циркулярным психозом» (Карпов, 1926, с. 116).
Сходную основу творчества видит много пишущий на эту тему М. И. Буянов: «Хотя все творческие личности отличаются друг от друга бесконечным множеством разных личностных свойств, у большинства из них имеется одна общая особенность – все они печальны, тревожны, довольно мрачно смотрят на мир. Это свойство многих людей литературы и искусства <…> Среди тех великих писателей, поэтов, живописцев, которые так или иначе попадали в поле зрения психиатра, преобладали люди с печальным взглядом на жизнь <…> Одержимость художника безысходным чувством печали и есть одна из решающих особенностей душевной жизни выдающихся людей из мира искусства и литературы» (Буянов, 1989, с. 236).
Ц. Ломброзо отмечал, что творческая личность «во всем находит повод к глубокой, бесконечной меланхолии» и при этом обладает «способностью перетолковывать в дурную сторону каждый поступок окружающих, видеть всюду преследования» (Ломброзо, 1892, с. 24). Иными словами, он видел в писателе как депрессивность, так и паранойяльность.
А Моро де Тур (Tours, 1859) настаивал на родстве между вдохновением и маниакальными состояниями. Арнаудов отмечал, что для этих состояний характерны быстрые и непредвиденные ассоциации и представления, оригинальное воображение, чувствительность, превосходящая нормальные размеры (Арнаудов, 1970).
В научных исследованиях обращается внимание на различие типов в зависимости от предпочитаемых ими форм или видов творчества. В то же время наблюдения показывают, что поэты и художники отличаются прежде всего экзальтированным темпераментом, писатели тоже «часто обладают в известной мере порывистой, лабильной психикой» (Леонгард, 1981, с. 339), они склонны к алкоголизму, а у поэтов чаще встречаются маникально-депрессивные состояния (Post, 1996).
Такие высказывания свидетельствуют, на наш взгляд, не только о разных подходах к феноменологии психической жизни (или о возможных терминологических расхождениях), но и о большом разнообразии внутренней жизни творческих личностей и о необходимости более дифференцированного подхода к ее проявлениям в творчестве.
История науки знает немало типологий писателей и других творческих личностей. Для нас наибольший интерес представляют те, которые построены исходя из признания важности субъективной стороны творчества. Так, например, в типологиях Мюллера-Фрейнфельса и А. Морье речь идет преимущественно о том, в какое видение мира встраивается любое явление в художественной литературе, чему подчиняется там действительность.
Типология произведений на основе психологии личности представлена в работе А. Морье «Психология стилей» (Morier, 1959), где типы стилей напрямую связываются с типами личностей. В результате автор выделяет восемь типов характеров по их общечеловеческим свойствам: 1. слабые; 2. несильные; 3. уравновешенные; 4. положительные; 5. сильные; 6. смешанные; 7. утонченные; 8. неполноценные, ущербные. Внутри каждого типа А. Морье рассматривал несколько разновидностей стилей. Так, например, А. Франс отнесен исследователем к группе уравновешенных характеров («аттический стиль»), Стендаль, Ж. Санд и О. Бальзак – к группе ущербных характеров и т. д. Г. Флобер попадает в группу уравновешенных характеров («академический стиль») и одновременно в группу положительных характеров («реалистический прозаический стиль»).
Еще более интересны типологии, предложенные немецким психологом Р. Мюллером-Фрейнфельсом (Мюллер-Фрейнфельс, 1923). Вслед за многими исследователями Мюллер-Фрейнфельс указывал на существование двух типов художников слова – «поэта воплощающего» и «поэта выражения». Для писателя первого типа материалом творчества служат переживания, при которых чувственный символ отходит на второй план. Поэт второго типа, по мнению Мюллера-Фрейнфельса, «насквозь пропитан субъективизмом» и никогда не создает истинного художественного произведения. Разделяя эти типы, он опирался на различие их типов мыслительной деятельности и интеллектуальной жизни. Вместе с тем он видел и другие критерии для деления писателей на типы.
Так, по темпераменту он делил писателей на статиков и динамиков. По критерию «интеллигентность» он различал народных, ученых, наивных, рефлектирующих писателей. Еще одним основанием для классификации был «социальный план». По этому основанию он выделял:
– «агрессивного» поэта, выражающего ненависть, гнев и злобу в форме сатиры (Ф. Рабле, Ж.-Б. Мольер, А. Франс, Г. Ибсен, Б. Шоу);
– «симпатического» поэта, испытывающего симпатии к человеку и природе и чувство сострадания (Ч. Диккенс, Ф. Достоевский, X. Гауптман);
– «жизнерадостного» поэта с осознанным самоутверждением (древнегреческий поэт Пиндар, поэты барокко и рококо);
– «депрессивного» поэта с сознанием мировой скорби (Ф. Шатобриан, Н. Ленау, Дж. Байрон, Г. Гейне).
Анализируя типы художников слова по характеру их психики, он отмечал наличие типов поэтов «подавленного» и «повышенного» самочувствия. Предлагал он также различать писателей по характеру преобладания чувств – зрительных, слуховых, обоняния (Мюллер-Фрейнфельс, 1923; Нефедов, 1988)[4].
При всем разнообразии предлагаемых терминов у описанных выше типологий есть много общего. И прежде всего это то, что их создатели исходят из достаточно очевидного положения. Оно состоит в том, что, с одной стороны, человек способен быть объективным и подчиняться требованиям объекта. С другой стороны, у него может преобладать субъективность и желание подчинить себе объект. (Причем скорее в мыслях, чем в реальности.)
К. Юнг пишет об этом «на языке психологии» как о двух типах личности – экстравертированном и интровертированном. «Экстравертированная установка отличается покорностью субъекта перед требованиями объекта». «Для интровертированной установки характерно утверждение субъекта с его осознанными намерениями и целями в противовес притязаниям объекта» (Юнг, 1991, с. 275).
Деление людей на типы по основанию экстраверсия/интроверсия принимается психологией практически безоговорочно. При этом, конечно же, отмечается, что человек так или иначе находится между объективностью и субъективностью: он должен подчиниться действительности и подстраивать ее под себя.
Возвращаясь к вышеприведенным типологиям, отметим, что они попадают в те же два класса:
Предлагаемая нами типология не ограничивается вышеприведенными критериями. Мы полагаем, что вся литература в той или иной степени интровертирована, в каждом литературном тексте есть интерпретация, «подгонка» действительности под представления автора. Вопрос заключается, во-первых, в степени и характере искажений, во-вторых, в «векторе фантазии».
Следует отметить, что такое углубление в психику автора, на первый взгляд кажущееся бесцеремонным, не является изобретением последнего времени, а ведет свои традиции от биографического метода в литературоведении, основателем которого считается французский литератор XIX века Шарль Огюст Сент-Бев.
В своих «Литературных портретах» и критических этюдах Сент-Бев стремился показать особенности творчества писателя через его биографию. В известном очерке «Пьер Корнель» он так сформулировал идею своего метода: «В области критики и истории литературы нет, пожалуй, более занимательного, более приятного и вместе с тем более поучительного чтения, чем хорошо написанная биография великих людей <…> тщательно составленные, порою даже несколько многословные, повествования о личности и творениях писателя, цель которых – проникнуть в его душу, освоиться с ними, показать его нам с самых разных сторон» (Сент-Бев, 1970, с. 47).
Рассматривая в целом биографические описания с психологической точки зрения, Г. Олпорт отмечал, что они «начались как описания жития святых и как рассказы о легендарных подвигах. <…> Однако биография во все большей степени становится строгой, объективной и даже бессердечной. <…> Биографии все больше походят на научные анатомирования, совершаемые скорее с целью понимания, чем для воодушевления и шумных возгласов. Теперь даже есть, – писал он в 1959 году, – психологическая и психоаналитическая биография и даже медицинские и эндокринологические биографии» (Олпорт, 1982, с. 214).
Выявление общих психологических и психиатрических закономерностей, проявляющихся в литературном творчестве, представляет определенную трудность в силу того, что у психологов и у психиатров разных школ и стран существуют расхождения в основаниях типологизации. Кроме того, ученые пользуются разными источниками, анализ которых приводит к противоречивым заключениям.
Интересный и плодотворный подход к творческой личности широко представлен в отечественном периодическом издании 20-х годов. Он носил длинное название: «Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии), посвященный вопросам патологии гениально-одаренной личности, а также вопросам патологии творчества»[5]. Он выходил под редакцией д-ра Г. В. Сегалина в Свердловске в 1925–1928 гг. В нем развивалась концепция о связи феноменологии гениального (одаренного) человека с симптомами психопатического ряда и публиковались работы в отношении творческого процесса, в отношении литературных произведений и в отношении личности гения.
Своего рода эпиграфом к публикациям этого издания могут служить слова Э. Кречмера: «Душевно здоров тот, – говорил он в докладе на тему «Гениальность и вырождение», – кто находится в душевном равновесии и хорошо себя чувствует. Такое состояние не есть, однако, состояние, которое двигало бы человека на великие дела» (см. КА, 1926, с. 3).
В материалах «Клинического архива…» анализ медицинских свидетельств и постановка писателям психопатологического и психиатрического диагноза сопровождались подробным анализом содержательной стороны произведений этих писателей. В целях создания «патографий» известных авторов привлекаются генеалогические данные великих людей (о родителях, братьях и сестрах, среди которых обнаруживается немало психически больных родственников). Наряду с этим анализируется подверженность самих творческих лиц психическим заболеваниям.
Например, при рассмотрении творчества Максима Горького делается вывод о том, что во многих рассказах писатель «заставляет своих героев покушаться на самоубийство или кончать самоубийством», что в целом позволяет даже говорить о «литературной суицидомании Горького» (КА, 1926, с. 207). При этом приводятся свидетельства относительно нескольких реальных попыток самоубийств у самого М. Горького. Кроме того, отмечается наличие у него острых галлюцинатов.
Аналогичному анализу подвергается творчество Леонида Андреева. «Страх и ужас, страх смерти, страх жизни – основные мотивы Леонидо-Андреевской меланхолии, не оставляющей его никогда и губящей его детство, отрочество и юность», – писал д-р Б. И. Галант в статье «Психопатологический образ Леонида Андреева» (КА, 1927, с. 148). Попутно отмечаются наличие алкоголизма у писателя в юношеские годы, его бесчисленные попытки самоубийств и интерес к Шопенгауэру. Делается вывод о наличии у Л. Андреева тяжелой формы неврастении, сопровождавшейся страхом смерти. При этом исследователь связывает это с тяжелой травмой, которую писатель пережил в 16 лет, бросившись на рельсы и испытав страх смерти, находясь под проехавшим над ним поездом.
Ряд отечественных и зарубежных исследователей сосредотачиваются на типологии авторов на основании проявлений в их поведении отклонений, свойственных людям, страдающим определенными психическими заболеваниями. Интересно, что хотя в научных школах разных стран заболевания определяются несколько по-разному, наблюдаются совпадения в диагнозах, которые ставят одним и тем же авторам отечественные и зарубежные исследователи.
Интересным является утверждение ряда авторов о том, что лица, склонные к творчеству, подвержены эпилепсии. Во многих публикациях сборника говорится об аффекто-эпилептическом типе гениальности. Так, приводятся свидетельства о наличии у Эдгара По аффективности и раздражительности эпилептического характера; пишут также об эпилептических припадках у Ф. М. Достоевского, Л. Н. Толстого, А. Блока, Г. Флобера, А. Мюссе, Данте, Ч. Диккенса, О. де Бальзака. Говоря о признаках эпилепсии, Ц. Ломброзо называл Ж.-Б. Мольера, Петрарку, О. де Бальзака, итальянскую поэтессу А. Милли, Дж. Свифта, Г. Флобера (Ломброзо, 1892).
Эпилепсия Достоевского является общеизвестным фактом (Александровский, 1977; Буянов, 1989; Ломброзо, 1892; Неплох, 1990). Некоторые психиатры говорят об эпилептической психопатии, а также шизофрении и ипохондричности в юношеские годы этого писателя (Буянов, 1989).
Признаки депрессии находят у молдавского поэта М. Элинеску; японского писателя Акутагавы Рюноске; венгерского поэта Аттилы Божева, покончившего с собой в 32 года (там же). Отмечается связь творчества А. С. Пушкина с наличием у него «депрессивных приступов, сопровождавшихся упадком духовных и телесных сил и затем возбуждением» (КА, 1925, с. 35), то есть маниакально-депрессивных состояний. У М. Ю. Лермонтова на основании анализа его стихотворений и свидетельств близких отмечаются болезненная нервность и меланхолия. Потеря смысла жизни и меланхолия, отраженная в романе «Герой нашего времени», несомненно находят свою корреляцию и в «психологической инфраструктуре» личности самого автора (Axelrod, 1993).
Близкое к депрессии состояние ипохондричности — как склонности к озабоченности собственным здоровьем – было характерно, по мнению психиатров, и для Н. В. Гоголя. Впрочем, в отношении его психического состояния делаются неоднозначные выводы. В частности, полагали, что у него были расстройства «ассоциативного аппарата и произвольного мышления», и на основании свидетельств современников и медицинских документов делалось заключение о его шизофренической психике. В то же время приводятся наблюдения психиатра Чижа о циклофрении у этого писателя (КА, 1926).
Много конкретных упоминаний и о маниакально-депрессивном психозе. Так, наличие «острой мании с генерализованным бредом и депрессией» предполагалось у Ван Гога (Буянов, 1989; Александровский, 1977).
Достаточно часто в работах о творчестве встречаются упоминания о шизофрении и шизотимии. Так, Кречмер, к примеру, ставил диагноз шизофрении норвежскому писателю Юхану Стриндбергу, считал Фредерика Шиллера шизотимиком, а немецкого поэта Иоганна Гельдерлина шизоидом (Кречмер, 1982). М. И. Буянов находит у И. Гельдерлина шизофрению (Буянов, 1989), К. Ясперс говорил о его аутизме, а К. Леонгард считал его аффективно-экзальтированной личностью (Леонгард, 1981). По мнению же С. Цвейга, у Гельдерлина была неврастеническая меланхолия (Цвейг, 1992).
В. Руднев считает шизотимиками Джойса и Мандельштама, характер Маяковского он же описывает как изменяющийся от шизотимического к эпилептоидному (Руднев, 1993).
Признаки паранойи К. Леонгард усматривает у Стриндберга, отмечая, что тот в зрелом возрасте страдал бредом преследования, и наличие истерии у немецкого прозаика Карла Мея, утверждавшего, что он был лично знаком с героем своих романов Чингачгуком (Леонгард, 1981).
Описывается и неврастения у писателей. Так, И. Б. Галант, описывая суицидоманию – стремление к самоубийству – М. Горького, полагает, что она была вызвана психозом изнурения или истощения. При обсуждении его же страсти к бродяжничеству он выводит ее не только из условий среды писателя, но и из нарушения психологического равновесия его личности (КА, 1926). При этом один из современников, упоминая о слезливости М. Горького, также пишет, что веселость и юмор, общительность и склонность к широкому укладу жизни сохранились в Горьком навсегда (Анненков).
О том, что И. Бунин был «интровертом с сильным ощущением своего внутреннего Я», – пишет Д. И. Кирнос, подтверждая это анализом литературных текстов (Кирнос, 1992).
В некоторых случаях исследователи не дают вообще никакого точного диагноза, ограничиваясь либо метафорами, либо общими словами. Но речь они, по сути, ведут о психиатрических аспектах личности автора, о душевной болезни.
Так, о Франце Кафке одним из психиатров говорится, что он «страдал психическими нарушениями и обладал болезненным восприятием» (Неплох, 1991, с. 42). Б. И. Шубин на основании свидетельства А. П. Керн полагает, что те качества, которые были характерны для А. С. Пушкина, присущи циклотимическому складу личности (Семке, 1991). Е. И. Каменева также относит этого поэта к гипоманиакальным личностям циклоидного склада. В то же время известный русский психиатр В. Ф. Чиж писал совсем иное об А. С. Пушкине – его статья носит название «Пушкин как идеал психического здоровья».
В последнее время плодотворно в направлении анализа душевной болезни и творчества работает В. Руднев, полагая, что культура в целом основана на психической патологии (Руднев, 1993, 2000, 2005), и чем серьезнее психопатология, тем глубже творчество. В целом же проблема душевной болезни и творчества относится к числу недостаточно разработанных, хотя и приобретает черты особого направления.
В целом проблема «гениальности и помешательства» требует очень серьезного рассмотрения. Особого внимания заслуживает вопрос о том, благодаря или вопреки (мы вслед за Д. Е. Мелеховым придерживаемся последней точки зрения. – В.Б.) болезни творит гений. По нашему мнению, действительно патологическая личность не способна на творчество. Но любая попытка создать произведение, которое может быть признано обществом, будет «включением» личности в значимую деятельность, попыткой коммуникации. И тем самым попытка вписаться в духовный процесс может рассматриваться как стремление к душевному выздоровлению (мы придерживаемся вслед за Воскресенским Б. А. идеи разграничения творчества как проявления духовности и патологии как болезни душевной. – В.Б.).
Подводя промежуточный итог наблюдениям над психологическими особенностями ряда выдающихся писателей, сделаем одну оговорку: «Патологическим следует считать текст, принадлежащий психически больному человеку, в котором отражаются симптомы психического заболевания данного человека. Наблюдения над речью пациента используются обычно как иллюстративное подтверждение того диагноза, который уже получен с помощью клинической, психологической, биохимической, инструментальной и других методик. Иными словами, лингвистический анализ никогда не предшествует клиническому, но продолжает его, а лингвистическая методика не имеет пока <! – В.Б.> самостоятельной объяснительной диагностической силы» (Пашковский и др., 1994, с. 51).
Мы ни в коей мере не претендуем на постановку диагноза тому или иному автору и не ставим цели обсуждать точность того или иного диагноза, поставленного тем или иным психотерапевтом или психиатром. Кроме того, думается, что вышеприведенные случаи являются примерами не столько заболевания, сколько чаще той или иной (паранойяльной, депрессивной и т. п.) акцентуации. Как проявляются эти акцентуации и как их идентифицировать – об этом речь пойдет ниже.
Эмоционально-смысловая доминанта
Как уже отмечалось, в современной науке достаточно широко распространен такой «субъективный» подход к произведениям искусства и литературы, при котором считается, что элементы художественного текста отражают определенные особенности психики автора. Соответственно текст интерпретируется как реализация в словесном творчестве авторского подсознания. Речь тут идет не только о психоанализе, но и о работах многих других ученых, прежде всего психологов (Э. Берн, Д. Раппопорт, Ж. Лакан, Д. Ранкор-Лаферьер).
Если частные моменты стиля, жанра, содержания типологизируются для решения задач лексики (стилистики, лексикографии), литературоведения, семантики, то индивидуальные особенности проявления в тексте всей личности как единого целого изучаются в психологии в нескольких аспектах, с использованием иных понятий. Одним из них оказывается установка.
«Способность художественного творчества имеет в основе не какой-либо психический момент, – писал Д. Н. Узнадзе, – а какую-то целостную личностную особенность. <…> Действительность <…> воздействует на личность и вызывает в ней определенную личностную реакцию – определенную установку, которая ложится в основу последующей деятельности человека» (Узнадзе, 1940, с. 484).
В свою очередь, М. М. Бахтин писал, что «в жизни <наши реакции. – В.Б.> носят разрозненный характер, <…> а в художественном <…> произведении в основе реакции автора на отдельные проявления героя лежит единая реакция на целое героя, и все отдельные его проявления имеют значение для характеристики этого целого как моменты его» (Бахтин, 1979, с. 7–8).
Важным понятием для анализа текста является стиль — устойчивая общность образной системы, средств выразительности, характеризующая своеобразие творчества писателя. Однако автор не столько выбирает стиль, сколько стремится проявить себя и свое видение мира в стиле, который он создает. Нам представляется, что стилевые средства, отбираемые автором из громадного разнообразия изобразительных средств, также являются проявлением более общих психологических (когнитивных и эмоциональных) предпочтений писателя как личности.
Еще одним понятием, которым оперируют при изучении художественного текста в интересующем нас плане, является модальность. Так, И. Р. Гальперин, вводя понятие «текстовая модальность», пишет о том, что она «выявляется тогда, когда читатель в состоянии составить себе представление о каком-то тематическом поле, то есть о группе эпитетов, сравнений, описательных оборотов, косвенных характеристик, объединенных одной доминантой <выделено мной. – В.Б.> и разбросанных по всему тексту или по его законченной части» (Гальперин, 1981, с. 118). В качестве примера такого тематического поля И. Р. Гальперин приводит эпитеты из поэмы «Ворон» Э. По (dreary – мрачный, bleak – хмурый, sad – печальный, uncertain – неясный, fantastic – фантастический, ominous – зловещий, unmerciful – безжалостный, melancholy – унылый, evil – порочный, desolate – безлюдный), создающие атмосферу, которой поэт окружает факты и эпизоды содержательно-фактуальной информации (стук в дверь, появление ворона, обращение к ночному гостю, воспоминания, мечты и т. п.).
«Задача <…> текстолога, – пишет в этой связи исследователь, – показать, систематизировать и обобщить эти „отголоски“, а это значит, что он должен найти их в развернутом повествовании, проанализировать в лингвистическом аспекте и обобщить. Субъективно-оценочная модальность, – полагает он, – не проявляется в одноразовом употреблении какого-либо средства. Эпитеты, сравнения, определения, детали группируются, образуя магнитное поле, к которому приковано внимание читателя, поля, в котором энергией текста эти детали обретают синонимичные значения» (там же, с. 119).
В этом утверждении важно обратить внимание на ряд моментов. Во-первых, используемые автором эпитеты действительно обретают синонимическое значение в контексте всего его произведения. Если в отношении нейтрального по стилистике текста при его лингвистическом анализе можно говорить о функционально-речевой синонимии (Белянин, 1982), то в отношении художественного текста правомерно говорить о психологических синонимах. В этой связи нельзя не вспомнить о том, что ассоциативные реакции лежат «за» ассоциативным рядом (Леонтьев А. Н., 1983, т. 2, с. 50–71). Иными словами, то, что для лингвиста будет проявлением языковой системности, для психолога есть манифестация личностных установок автора.
Во-вторых, следует отметить неслучайность появления определенных языковых средств в отдельно взятом тексте. Как писал Бахтин, «мир художественного видения есть мир организованный, упорядоченный и завершенный» (Бахтин, 1979, с. 162). О личностном отборе разными словами говорят и Узнадзе, и литературоведы, и Гальперин в приведенных выше абзацах. Осуществленный рядом литературоведов, искусствоведов и других исследователей анализ разных текстов – художественных и публицистических – показывает, что:
– в разных текстах встречаются повторяющиеся сюжеты,
– в текстах с общими сюжетами провозглашаются общие идеи,
– тексты с общими идеями оказываются схожими по своим стилевым особенностям.
Анализ подобных явлений позволяет рассматривать различные типы текстов и их компонентов в типологическом ключе.
При этом можно использовать понятие «доминанты» (от лат. dominare — господствовать), которое обозначает временно господствующую рефлекторную систему, обусловливающую работу нервных центров организма в данный момент и придающую поведению определенную направленность. Представление о доминанте как общем принципе работы нервных центров было введено А. А. Ухтомским, который развивал мысли Н. Е. Введенского и И. М. Сеченова о биологическом и системном характере нервно-психических актов.
Представляется, что личность, проявляющая себя в творчестве, либо благодаря, либо вопреки своей душевной болезни стремится к сохранности психики, к преодолению распада личности и сознания. И фактором интеграции личности может выступать именно доминанта. Согласно Ухтомскому, каждое движение организма определяется характером взаимоотношения корковых и подкорковых центров, актуальными потребностями организма, а также историей жизни всего организма как целостной биологической системы: «Организм мыслится как некая единица, реагирующая целиком, как интегральное целое, – писал Ухтомский в статье „Доминанта как фактор поведения“. – Это уже не агрегат более или менее случайно связавшихся в пачку рефлекторных дуг, а это – единица, способная на текущие раздражители действовать целиком». Мозг рассматривался ученым как орган предупредительного восприятия, предвкушения и проектирования среды.
Ухтомский полагал, что доминанта не просто представляет собой очаг возбуждения, а является организующим принципом поведения. «Всякий раз, когда имеется налицо симптомокомплекс доминанты, имеется и предопределенный ею вектор поведения». Доминанта определяет не только поведение, но и характер восприятия мира. От доминанты, писал исследователь, зависит «общий колорит, под которым рисуются нам мир и люди». При этом доминанта, влияя на характер восприятия мира, в свою очередь имеет тенденцию отбирать в нем преимущественно такое познавательное содержание, которое способствовало бы ее подкреплению. «Человеческая индивидуальность склонна впадать в весьма опасный круг: по своему поведению и своим доминантам строить себе абстрактную теорию, чтобы оправдать и подкрепить ею свои же доминанты и свое поведение».
Иными словами, и поведение, и ход мыслей человека (его соображения, убеждения, доводы) оказываются в зависимости от некоторого интегрального состояния всего его организма (в широком смысле этого слова). Воздействуя на образное и познавательное содержание психической жизни, отбирая и интегрируя его, доминанта, будучи независимым от рефлексии поведенческим актом, «вылавливает» в этом содержании те компоненты, которые способствуют укреплению уверенности субъекта в ее преимуществах перед другими доминантами.
При анализе поведения человека говорится о доминанте физиологического и психологического (в том числе поведенческого) характера. А поскольку речевая деятельность человека – это одно из проявлений его сущности, представляется оправданным говорить и о доминанте речевого поведения и доминанте текстовой деятельности.
Само по себе приложение понятия доминанты к анализу художественного текста не ново. Оно используется в работах по эстетике и литературоведению В. В. Виноградова, Р. Якобсона, Г. Г. Шпета, Вл. Соловьева, Б. Эйхенбаума, Ю. Н. Тынянова, Г. А. Гуковского, М. М. Бахтина, А. А. Потебни, Я. Мукаржовского, А. Белого, М. Риффатера и многих других. Ограничимся упоминанием о том, что доминанта текста может быть выделена по разным основаниям – по идеологическому, образно-композиционному, жанровому, языковому и др.
Важной составляющей доминанты является ее эмоция, оценка: «В сверхзадаче <автора. – В.Б.> наряду с познавательным <присутствует. – В.Б.> эмоциональный компонент» (Симонов, 1980, с. 42). Именно в силу того, что художественный текст является образным отражением реальности и, следовательно, несет эмоционально-смысловую нагрузку, то применительно к нему целесообразно говорить не просто о доминанте, а об эмоционально-смысловой доминанте художественного текста. Определим эмоционально-смысловую доминанту как систему когнитивных и эмотивных эталонов, характерных для определенного типа личности и служащих психической основой метафоризации и вербализации картины мира в тексте.
В художественном тексте, который мы относим к определенному типу, существует гомогенность лексического плана, однородность семантического пространства, которое мы определим словами В. Ф. Петренко как «операциональные модели категориальной структуры индивидуального опыта» (Петренко, 2002, с. 94).
В целом же речь идет об эмоционально-смысловой направленности текста, о попытке понять через стиль текста стиль личности автора.
Мы полностью согласны с Ухтомским, который писал, что «…наши доминанты стоят между нами и реальностью. Общий колорит, под которым рисуются нам мир и люди, в чрезвычайной степени определяется тем, каковы наши доминанты и каковы мы сами» (Ухтомский, 1966, с. 90).
Будет логичным признать, что сказанное относится и к писателям. Именно общепсихологические закономерности восприятия и интерпретации мира позволяют рассматривать художественные тексты как проявление типологических черт личности в целом. И если соглашаться с Л. С. Выготским, определявшим психику как субъективное искажение действительности в пользу организма, то станет очевидной возможность соотнесения особенностей образной системы текста с особенностями внутреннего мира автора.
Цель данной работы – показать, что особый индивидуальный ракурс внешнего и внутреннего мира, отображенный в том или ином художественном тексте, является определенной структуризацией, упорядочением и вербализацией картины мира автора как личности, обладающей определенными типологическими характеристиками. Одну из задач работы мы видим в построении основ психостилистики, психосинтаксиса и психопоэтики как разделов, находящихся на границе психологии творчества, психолингвистики и экспериментальной эстетики.
Глава 2. Отражение типологических черт личности в художественных текстах
Анализ литературы, описывающей психологические типы авторов, их доминанты, а также знакомство с психолингвистическими работами, исследующими художественные тексты, позволили сформулировать гипотезу, согласно которой типологическим чертам личности автора соответствует определенный тип текста. В свою очередь, каждому типу текста соответствует собственный набор объектов описания (тем) и специфические сюжетные построения. Более того, в рамках каждого типа текста можно выделить семантически довольно ограниченный список вербальных индикаторов, которые характеризуют выбранные тем или иным типом авторов объекты материального, социального, ментального и эмоционального мира человека. Этим индикаторам будут соответствовать наборы лексических элементов, которые встречаются наиболее часто в текстах одного типа. Если они встречаются в текстах другого типа, то там они входят в другие семантические пространства, имеют иные смыслы (назовем такие слова психологическими синонимами).
В последующих разделах будет представлена психологическая типология текстов, основанная на их эмоционально-смысловой доминанте. Описание текстов будет дано в их соотнесенности с типологическими чертами личности их авторов.
Список текстов создавался на основе реального речевого (текстового) материала, ни один тип текста не был результатом умозрительного конструирования. Построение типологии (Белянин, 1990; 1997; 2000; 2003) шло следующим образом. Были выделены те типологические черты личности, которые могут иметь проявление в речевой продукции. За основу была взята типология, предложенная П. Б. Ганнушкиным. В работе «Клиника психопатий: их статика, динамика и систематика» (1933) он предложил следующую классификацию психопатических личностей: циклоиды, астеники, неустойчивые, антисоциальные и конституционально-глупые, а также дополнительные подгруппы: депрессивные, возбудимые, эмоционально-лабильные, неврастеники, психастеники, мечтатели, фанатики, патологические лгуны. Данная классификация оказалась существенно шире рамок психопатий: с одной стороны, в типологию Ганнушкина были включены невротические варианты пограничных расстройств, с другой – помимо психопатических личностей, в нее вошли типы характеров, близкие к норме (например, мечтатели, конституционально-глупые). Не вдаваясь в обсуждение различий между акцентуацией характера и психопатией, отметим, что в ряду темперамент – акцентуация – психопатия последнее является патологическим состоянием, а акцентуация – промежуточным между нормой (то есть темпераментом) и патологией (то есть соответствующей психопатией) вариантом.
• Собраны и проанализированы произведения авторов, относительно личностной акцентуации которых есть согласие среди исследователей.
• Тщательный анализ их произведений позволил выделить ряд устойчивых признаков текстов, практически неизменно присутствующих в творчестве лиц одного и того же психологического типа.
• Параллельно во всем массиве художественных текстов шел отбор произведений, содержательная основа которых могла соответствовать образам мира, характерным для выбранных типов личности. Кроме того, учитывалось реальное языковое наполнение текста.
• Затем описывались лексико-семантические поля, коррелирующие с семантикой патологического сознания, составлялись списки слов, которые их наполняли.
• В заключение проводилась корреляция характеристик текстов с выделенными типологическими чертами личности.
Сделаем ряд оговорок в отношении проведенного нами анализа.
1. Мы предполагаем, что использованная нами психиатрическая терминология может быть несколько неточной или термины могут пересекаться. Наша работа опирается на исследования, проводившиеся в разные времена и в разных странах. Одни и те же признаки в них приписываются различным акцентуациям и считаются в равной мере показательными. Среди самих психиатров здесь нет единства, поэтому мы будем приводить все известные нам психиатрические наименования описываемых явлений психического порядка, не претендуя на упорядочение терминов и явлений в этой смежной с психологией области знания.
2. При анализе речь идет не столько о конкретных личностях, сколько о типах личности. Иными словами, приведенные соображения не предполагают вынесения непосредственного суждения об авторах текстов, они используются только для анализа общих возможностей идентификации.
3. Предложенная типология типов текстов не претендует на всеохватность и унифицированность. Это обусловлено принципиальной открытостью человеческой психики, ее возможностью и готовностью к изменениям. Кроме того, предстоит большая работа по дальнейшей детализации и углублению типологии. Многие тексты еще не описаны, а ряд произведений не подпадает под обнаруженные закономерности. И наконец, ни одна типология не может описать все многообразие человеческих типов.
4. В отличие от «чистых» типов текстов многие произведения, особенно признанные классическими и/или популярными, несут в себе несколько доминант. В этом случае обнаруживаются определенные закономерности сочетания доминант из «чистых» типов текстов. Такие тексты обозначены как «смешанные» и выделены в особую группу. О них речь пойдет в главе, посвященной прикладным аспектам исследования.
5. Для построения типологии мы использовали следующие акцентуации: паранойяльную, эпилептоидную, маниакальную, депрессивную, истероидную и шизоидную.
Каждой из этих акцентуаций в массиве художественных текстов соответствует определенный тип текста. В сводной таблице даны соответствия типов текстов и психиатрической основы их эмоционально-смысловой доминанты.
6. Описывая тексты, мы будем выделять их тематику, синтаксис и стиль. Основной типологической характеристикой будем считать единство лексико-семантического наполнения, опираясь на мысль В. Ф. Петренко о том, что «наличие совместной встречаемости, превышающей случайную, между парой единиц в тексте свидетельствует о содержательной связи между ними» (Петренко, 1997).
Описание типологии текстов мы будем строить следующим образом:
– сначала будет приведен наиболее типичный текст данного типа и коротко описана его специфика;
– затем – психиатрическое описание той психопатии, на которой базируется эмоционально-смысловая доминанта текста;
– после этого будет дан разбор характеристик текста, который затрагивает когнитивные, лингвокогнитивные и психостилистические стороны наиболее показательных фрагментов.
Порядок следования типов текстов отражает условную семиотику оппозитивного толка и служит лишь целям легкости чтения.
2.1. Проявления паранойяльной акцентуации в «светлых» текстах
Типичный «светлый» текст
В качестве примера «светлого» текста приведем стихотворение поэта-футуриста Василия Каменского «Развесенье» (1918). Подчеркнем в тексте слова, которые особенно характерны для «светлых» текстов.
Развесенились весны ясные На весенних весенях — Взголубились крылья майные Заискрились мысли тайные Загорелись незагасные На росистых зеленях Зазвенело сердце зовами Поцелуями бирюзовыми — Пролегла дорога дальняя Лучистая Пречистая. Стая хрустальных ангелов Пронеслась в вышине. Уронила Весточку – веточку МнеВ тексте со всей очевидностью выделяются следующие семантические компоненты: 'я' (мне); 'сердце'; 'чистота' (ясные, заискрились, незагасные, зазвенело, лучистая, пречистая, хрустальных); 'пространство' (дорога дальняя, в вышине); 'природа' (весны, роса, веточка); 'идея' (мысли тайные) (мысли тайные, ангелы, весточка). Основное содержание текста можно свести к тому, что «лирическому герою» (автору) ангел приносит весть.
Паранойяльная акцентуация
Паранойяльная акцентуация характера личности – это повышенная подозрительность и болезненная обидчивость, стойкость отрицательных аффектов, стремление к доминированию, непринятие мнения другого и, как следствие, высокая конфликтность (Психология. Словарь, 1990).
Эти особенности выявляет в тесте MMPI шкала паранойяльности (Ра), в тесте Р. Б. Кеттелла – шкала подозрительности (L). Лиц с этими чертами называют не только параноическими или паранойяльными психопатами (Леонгард, 1981), но и застревающими личностями (Ганнушкин, 1984) в силу стойкости доминирующего в их поведении аффекта.
Говоря о паранойяльной личности, П. Б. Ганнушкин отмечает, что «самым характерным свойством параноиков является их склонность к образованию так называемых сверхценных идей, во власти которых они потом и оказываются; эти идеи заполняют психику параноика и оказывают доминирующее влияние на все его поведение. Самой важной такой сверхценной идеей параноика обычно является мысль об особом значении его собственной личности. Соответственно этому основными чертами психики людей с параноическим характером являются очень большой эгоизм, постоянное самодовольство и чрезмерное самомнение. Это люди крайне узкие и односторонние: вся окружающая действительность имеет для них значение и интерес лишь постольку, поскольку она касается их личности; все, что не имеет близкого, интимного отношения к его „я“, кажется параноику не заслуживающим внимания, малоинтересным.
Параноика не занимает ни наука, ни искусство, ни политика, если он сам не принимает ближайшего участия в разработке соответствующих вопросов, если он сам не является деятелем в этих областях; и наоборот, как бы ни был узок и малозначащ сам по себе тот или иной вопрос, раз им занят параноик, этого уже должно быть достаточно, чтобы этот вопрос получил важность и общее значение» (Ганнушкин, 1984, с. 266).
Всех людей, с которыми ему приходится входить в соприкосновение, он оценивает исключительно по тому отношению, которое они обнаруживают к его деятельности, к его словам; он не прощает ни равнодушия, ни несогласия. Кто не согласен с параноиком, кто думает не так, как он, тот в лучшем случае – просто глупый человек, а в худшем – его личный враг.
Для поведения паранойяльной личности характерны лидерство и эгоизм. Лидерство – это умение организовать деятельность и направить других людей на осуществление какой-либо общественно значимой цели. Паранойяльные личности в наибольшей степени подходят для фигуры лидера. Они стеничны (способны преодолевать препятствия), умеют увлечь людей своим примером и в отличие от истероидных личностей – целенаправленны. Сопутствующий лидерству эгоизм проявляется в желании организовать всю деятельность вокруг себя. Недаром другое название для паранойи – мания величия. Считать себя самым главным человеком, приписывая себе все заслуги, – вот характерная черта паранойяльной личности.
«Что касается эмоциональной жизни параноиков, – писал П. Б. Ганнушкин, – то уже из всего предыдущего изложения со всей ясностью вытекает, что это люди односторонних, но сильных аффектов: не только мышление, но все их поступки, вся их деятельность определяется каким-то огромным аффективным напряжением, всегда существующим вокруг переживания параноика, вокруг его „комплексов“, его „сверхценных идей“; излишне добавлять, что в центре всех этих переживаний всегда находится собственная личность параноика. Односторонность параноиков делает их малопонятными и ставит их по отношению к окружающей среде первоначально в состояние отчуждения, а затем и враждебности. Крайний эгоизм и самомнение не оставляют места в их личности для чувства симпатии, для хорошего отношения к людям, активность побуждает их к бесцеремонному отношению к окружающим людям, которыми они пользуются как средством для достижения своих целей; сопротивление, несогласие, борьба, на которые они иногда наталкиваются, вызывают у них и без этого присущее им по самой их натуре чувство недоверия, обидчивости, подозрительности» (Ганнушкин, 1984, с. 267).
В психодиагностическом опроснике Р. Б. Кеттелла этот фактор так и назван – подозрительность. Это, пожалуй, самая важная черта личности параноика, если говорить о межличностных взаимоотношениях.
Параноики «неуживчивы, агрессивны: обороняясь, они всегда переходят в нападение, и, отражая воображаемые ими обиды, сами, в свою очередь, наносят окружающим гораздо более крупные; таким образом, параноики всегда выходят обидчиками, сами выдавая себя за обиженных. Всякий, кто входит с параноиком в столкновение, кто позволит себе поступать не так, как он хочет этого, и требует, тот становится его врагом; другой причиной враждебных отношений является факт непризнаний со стороны окружающих дарований и превосходства параноика. В каждой мелочи, в каждом поступке они видят оскорбление их личности, нарушение их прав. Таким образом, очень скоро у них оказывается большое количество „врагов“, иногда действительных, а большей частью только воображаемых» (там же). При этом мания величия может переходить в манию преследования.
Говоря о параноиках, П. Б. Ганнушкин отмечает, что такого рода отношения с другими людьми «делают параноика по существу несчастным человеком, не имеющим интимно близких людей, терпящим в жизни одни разочарования. Видя причину своих несчастий в тех или других определенных личностях, параноик считает необходимым, считает долгом своей совести – мстить; он злопамятен, не прощает, не забывает ни одной мелочи» (там же).
Лица с паранойяльной акцентуацией отличаются наклонностью не только к аффективному истолкованию ситуации, подозрительностью, недоверчивостью, но и эгоцентрической убежденностью в своей правоте, искаженным пониманием справедливости; не выносят возражений и чужого мнения, склонны к образованию сверхценных идей и к ревности.
Для таких лиц характерна крайне выраженная энергичность, самодовольство, самомнение, кипучая деятельность. При этом может проявляться враждебность по отношению к тем, кто стоит на их пути. Они никому не доверяют, считают своих друзей способными на нечестность и обман (Леонгард, 1981; Мельников, Ямпольский, 1985; Практический…, 1981; Пулатов, Никифоров, 1983).
Вот, к примеру, что говорил подросток с подобным паранойяльным состоянием, которому мать пыталась угодить, готовя его любимые блюда: «Мать стремится задобрить меня, чтобы я ей верил, хотя на самом деле она меня не любит и может, войдя в доверие, принести вред, даже отравить» (Ковалев, 1985, с. 95).
«В борьбе за свои воображаемые права параноик часто проявляет большую находчивость: очень умело отыскивает он себе сторонников, убеждает всех в своей правоте, бескорыстности, справедливости и иной раз, даже вопреки здравому смыслу, выходит победителем из явно безнадежного столкновения, именно благодаря своему упорству и мелочности.
Но, потерпев поражение, он не отчаивается, не унывает, не сознает, что он не прав, наоборот, из неудач он черпает силы для дальнейшей борьбы» (там же).
Справедливости ради надо добавить, что «пока параноик не пришел в стадию открытой вражды с окружающими, он может быть очень полезным работником; на избранном им узком поприще деятельности он будет работать со свойственным ему упорством, систематичностью, аккуратностью и педантизмом, не отвлекаясь никакими посторонними соображениями и интересами» (там же).
Говоря о параноиках, П. Б. Ганнушкин отмечает среди них и подгруппу фанатиков. «Этим термином, – пишет он, – …обозначаются люди, с исключительной страстностью посвящающие всю свою жизнь служению одному делу, одной идее, служению, совершенно не оставляющему в их личности мест ни для каких других интересов. Таким образом, фанатики, как и паранойи, люди „сверхценных идей“, как и те, крайне односторонние и субъективные» (Ганнушкин, 1984, с. 268).
«Отличает их от параноиков то, что они обыкновенно не выдвигают так, как последние, на передний план свою личность, а более или менее бескорыстно подчиняют свою деятельность тем или другим идеям общего характера. Центр их интересов лежит не в самих идеях, а в претворении их в жизнь – результат того, что деятельность интеллекта чаще всего отступает у них на второй план по сравнению с движимой глубоким, неистощимым аффектом волей» (там же).
П. Б. Ганнушкин упоминает и «о довольно многочисленной группе», как он выражается, фанатиков чувства. К ним он относит «восторженных приверженцев религиозных сект, служащих фанатикам-вождям слепым орудием для осуществления их задач. Тщательное изучение таких легко внушаемых и быстро попадающих в беспрекословное подчинение людям с сильной волей лиц показывает, что они почти не имеют представлений о том, за что борются и к чему стремятся. Сверхценная идея превращается у них целиком в экстатическое переживание преданности вождю и самопожертвования во имя часто им совершенно непонятного дела.
Подобная замена (отодвигание на задний план) сверхценной идеи соответствующим ей аффектом наблюдается не только в области фанатизма и религиозного изуверства, но является также характерной особенностью, например, некоторых ревнивцев, ревнующих не благодаря наличию мысли о возможности измены, а исключительно вследствие наличности неотступно владеющего им беспредметного чувства ревности» (Ганнушкин, 1984, с. 269).
Итак, природа паранойяльности заключается в наличии сверхценной идеи, в оценке себя как основного центра вселенной.
Говоря о когнитивной установке паранойяльной личности, следует отметить, что она неодномерна, как у любой акцентуированной личности. Если у человека без акцентуации преобладает, к примеру, мотив зарабатывания денег, то он понимает, что другие люди тоже стремятся к этому и будут мешать ему; у акцентуированной же личности вторая часть деятельности – та, что обусловлена противодействием другим людям, – становится подчас ведущей. Видя, что ему мешают, акцентуированная личность придает этому такую сверхценность, что борьба с другими людьми превращается для нее в самостоятельную деятельность.
И тем самым когнитивная установка словно раздваивается, она сама становится конфликтной, двуплановой. С одной стороны, параноик полагает, что он «несет свет истины» людям, с другой стороны, он насаждает свое представление о действительности и о делах. Он требует от других подчинения ему и его программе, пытаясь объединить всех под одним знаменем. Естественно, что при этом его действия вызывают противодействие. Именно это и рождает вторую часть когнитивной установки: «меня не понимают, меня хотят предать не только враги, но и друзья».
Предпочитаемые роды деятельности паранойяльной личности – политика, религия и наставничество. Политика в наибольшей степени соответствует доминанте личности с паранойяльной акцентуацией. Наличие идей, необходимость поиска людей, которые вступили бы в ту или иную партию и при этом поддерживали бы эту идею, – все это словно подпитывает паранойю. Можно даже утверждать, что сама идея политики как особого вида человеческой деятельности в определенной степени паранойяльная. Если вспомнить недавнее советское прошлое, то мы увидим, что политики стремились сделать всех людей политиками. Они всячески распространяли свои идеи на всех членов общества. (И им это в определенной степени удавалось.) В демократическом же обществе политика – удел немногих избранных…
Что касается религии, то при интересе паранойяльной личности к религии возможно появление фанатизма в отношении своих идей и нетерпимости к другим мнениям. Характерно, что от призывов «возлюбить ближнего своего как самого себя» (!) фанатики религии переходят к проклятиям с пожеланиями врагу гореть в «геенне огненной».
Интересы паранойяльной личности направлены преимущественно на классику, реалистическое искусство и в целом на традиционную культуру. Неприятие авангарда, нетрадиционного искусства очень велико. Если говорить о литературных предпочтениях, то максимальное неприятие вызывает научная фантастика. Причина этого лежит в том, что в фантастике часто реализуется совершенно противоположная установке паранойяльной личности к целостности – установка на разорванность мышления, то есть шизоидная установка (Белянин, Ямпольский, 1985).
Если говорить о внешности, то чаще всего паранойяльная личность имеет крупное телосложение и «представительный вид», обладает громким голосом.
В речи паранойяльной личности преобладают три семантических квантора. Первый квантор: 'за' – 'против'. Он реализуется, например, в таком высказывании, как «Кто не с нами, тот против нас». Второй квантор: 'истина' – 'ложъ'. Иллюстрацией может служить лозунг «Партия – ум, честь и совесть нашей эпохи», где слова честь и совесть характеризуют именно паранойяльную установку. Третий квантор: 'доверять' – 'подозревать'. Он проявляется, к примеру, в поговорке «Доверяй, но проверяй».
В основе картины мира «светлых» текстов лежит описание мира личности и того природного мира, который окружает эту личность. «Я» выступает как субъект жизнедеятельности и получает следующие предикаты: 'честный', 'чистый', 'неповторимый', 'уникальный'.
Группировка лексических смыслов вокруг тем 'единство' и 'борьба' является ядром эмоционально-смысловой доминанты «активных» текстов, что в рамках предлагаемой нами концепции может быть объяснено следующим образом: в основе их концепта находится паранойяльная акцентуация.
Психолингвистические особенности «светлых» текстов
Содержание «светлых» текстов может быть сведено к двум следующим мыслям. Первая: «Все живое уникально, неповторимо и самоценно». Вторая: «Я знаю истину и несу свое понимание жизни другим людям».
Посмотрим, как в текстах отражается мир личности, Я. Местоимение первого лица единственного числа я встречается преимущественно в именительном падеже, в то время как в «красивых» текстах оно чаще бывает в косвенных падежах. В этой связи любопытно наблюдение А. А. Россохина о том, что «соотношение частотности активного и пассивного употребления местоимения „я“ представляется возможным рассматривать как речевой эквивалент психологического понятия „локус контроля“ (Россохин, 2002, с. 299). При всей сложности решения этого вопроса отметим, что в „светлых“ текстах скорее присутствует интернальность, а в „красивых“ же – чаще экстернальность.
К «светлым» текстам могут быть отнесены многие тексты на тему экологии, а также религиозные тексты, прежде всего дзен-буддистские. «Уважение к природе, будь то объективный мир или внутренняя природа человека, – вот то основное, из чего исходит дзен <…> в своих положениях», – пишет одна из исследовательниц этой религии (Николаева, 1975, с. 67). Примерами «светлых» текстов могут также служить японские танка (пятистишия) и хокку (трехстишия):
Вкруг бадьи моего колодца Вьюнок обвился… У соседа воды напьюсь.Кроме того, «светлые» тексты достаточно часто посвящены актуальным проблемам общества, истории, культуры и религии.
Стиль «светлых» текстов нередко бывает публицистичным, «журналистским», динамичным и назидательным. Для них характерны призывы к добру, к уважению человека, к порядочности; авторы часто обращаются к этическим и моральным (нормативным) представлениям.
Так, автор многих очерков на темы морали и нравственности в 70-е гг. в «Литературной газете» Евгений Богат писал о том, что один из читателей подсчитал, какие слова тот употребляет в своих статьях наиболее часто. Ими оказались следующие: сострадание (оно встретилось в обследованной выборке 233 раза), удивление (145), сопереживание (84), восхищение (70), волнение (25). Среди частотных лексических единиц оказались также слова чудо, святыня, кощунство. Приводя эти данные, Богат, правда, спорит с приписыванием ему «веры в Бога», но когда он говорит о «безрелигиозной нравственности, нравственности коммунистической, наследующей все лучшее, что содержится в этическом опыте человечества», пишет он, по сути дела, в религиозном ключе. Показательным в плане принадлежности текстов Евг. Богата к «светлым» может быть аннотация к его книге «Ничто человеческое…», изданной в серии «Личность. Мораль. Воспитание». Она начинается с фразы «Нет ничего более ценного в мире, чем сам человек».
К «светлым» следует отнести и тексты лауреата Нобелевской премии мира (1952) А. Швейцера, который «оставил преподавание в Страсбургском университете, игру на органе и литературную работу, чтобы поехать врачом в Экваториальную Африку <…> с великой гуманистической задачей». Одна из его книг носит название, давшее общее обозначение его отношению к миру – «Учение о благоговении перед жизнью». К «светлым» следует отнести и такие произведения, как «Эта странная жизнь» Д. Гранина об энтомологе А. А. Любищеве, «Дом на набережной», «Обмен» Ю. Трифонова, «Дети Арбата» А. Рыбакова о Саше Панкратове – юноше с чистым взором.
Для «светлых» текстов характерно обращение к предметам и явлениям, в которых может быть усмотрена «целостность». Характерно, однако, что под это обозначение могут попадать предметы или поступки вовсе не целостные. Так, в рамках одного из исследований по эстетике (кстати, многие собственно искусствоведческие тексты также оказываются «светлыми»), проводился эксперимент по номинации разных объектов материального мира (Крупник, 1985). Испытуемым предъявлялся неровный корень дерева, которому они должны были дать название. Среди ответов были и «Сгусток всего ушедшего из мира», и «Эволюционное дерево», и «Потусторонний мир», и даже «Хаос». Но все эти названия охарактеризованы автором исследования как такие, для которых характерно «видение мира во всей его целостности» (там же, с. 153).
Семантика «светлых» текстов тесно связана с их стилем. Он эмоционально приподнят, возвышен, что соответствует описанию благородных целей, к которым стремятся персонажи «светлых» текстов. При описании неблаговидных, нечестных поступков или недобрых идей в «светлых» текстах появляется пафос гневного разоблачения. Иногда возможна ритмизация текста (А. Салынский «Ной и его сыновья»).
Синтаксис «светлых» текстов характеризуется частыми красными строками. Вот как, к примеру, располагает свой текст В. Шкловский (Шкловский, 1919):
Жизнь течет обрывистыми кусками, принадлежащими разным системам.
Один только наш костюм, не тело, соединяет разрозненные миги жизни.
Сознание освещает полосу соединенным между собой только светом отрезков, как прожектор освещает кусок облака, море, кусок берега, лес, не считаясь с этнографическими границами.
А безумие систематично, во время сна все связано.
В другой книге Шкловского, «О теории прозы», почти каждая фраза написана с красной строки.
«Светлые» тексты описывают мир идей и поступков, которые могут быть названы возвышенными. Лексика «светлых» текстов в полной мере соответствует их стилю. Особое место среди средств создания выразительности «светлых» текстов занимает возвышенная лексика русского литературного языка, пришедшая из языка русских церковных книг, обрядов, песнопений, языка религиозной речи, отличающаяся «особенно значительным и величественным содержанием» (Введение в литературоведение, 1976).
Прилагательные в «светлых» текстах большей частью группируются вокруг смысла 'уникальный':
Он не был красив в общепринятом смысле этого слова, но и простоватым она тоже бы не назвала его. Ни то ни другое определение не подходило к нему. В нем таилось что-то такое, чему нет названия – нечто очень древнее, на чем годы оставили свой след, – не во внешности, конечно, а в глазах.
(Д. Уоллер «Мосты округа Мэдисон»)Кроме того, этот ведущий семантический компонент в текстах получает следующую языковую реализацию: прямой, честный, искренний, чистосердечный; с душой; чистый, ясный, звонкий, прозрачный, светлый; самоценный, несравнимый, отличающийся от всего другого.
Как уже отмечалось ранее, подобные слова следует назвать психологическими синонимами, то есть словами, которые независимо от их общеязыковой несинонимичности передают сходное психологическое содержание.
Рассмотрим в качестве примера следующий отрывок. «Илья Ильич Обломов, – пишет Овсяннико-Куликовский, – на редкость хороший и чрезвычайно симпатичный человек. Недаром так любит и ценит его Штольц, недаром полюбила его Ольга. Вспомним его характеристику, сделанную Штольцем в конце романа:
Ни одной фальшивой[6] ноты не издало его сердце, не пристало к нему грязи. Не обольстит его никакая нарядная ложь, и ничто не совлечет на фальшивый путь; пусть волнуется около него целый океан дряни, зла, пусть весь мир отравится ядом и пойдет навыворот – никогда Обломов не поклонится идолу лжи, в душе его всегда будет чисто, светло, честно… Это хрустальная, прозрачная душа; таких людей мало; они редки; это перлы в толпе!..»
(цит. по Овсяннико-Куликовский. «История русской литературы XIX века» т. 2, с. 243)Ведущей в произведении Н. Гончарова «Обломов» является «светлая» эмоционально-смысловая доминанта (а сопутствующей – «печальная»). В этом фрагменте психологическими синонимами «светлого» типа будут следующие лексические элементы: 1) фальшивый, грязь, дрянь, зло, яд; 2) душа, сердце; 3) чисто, светло, честно, хрустально, прозрачно.
Кроме того, этот ведущий семантический компонент в текстах получает следующую языковую реализацию: прямой, честный, искренний, чистосердечный; с душой; чистый, ясный, звонкий, прозрачный, светлый; самоценный, несравнимый, отличающийся от всего другого. Эти слова также являются психологическими синонимами.
В качестве еще одного примера «светлого» текста рассмотрим повесть Ричарда Баха «Чайка по имени Джонатан Ливингстон», считающуюся литературным манифестом дзен-буддизма 60-х годов. Чайка по имени Джонатан Ливингстон начинает осознавать, что смысл жизни состоит не в том, чтобы искать пропитание и воспитывать детей, но в том, чтобы летать высоко в чистом небе. Он начинает совершенствовать технику своего полета, поднимаясь все выше в небо. Другие чайки относятся к нему с непониманием и враждебностью, но Джонатан Ливингстон летает все быстрее и все выше. И вскоре он приобщается к избранным чайкам, которые «сияли как звезды и освещали ночной мрак мягким ласкающим светом» и которые являются его «чайками-единомышленниками». Эти лучезарные чайки учат его летать еще быстрее, со скоростью мысли, учат жить без пищи, без потребностей ради чистого и светлого неба. Этот «путь к свету», это обучение происходит согласно постулатам дзен-буддизма. Один из них звучит так: «Истина должна быть пережита, а не преподана» (Завадская, 1977, с. 91). И Чайка Джонатан Ливингстон переживает истину, реализуя смысл жизни в своем полете на пути к свету.
Суть в том, – говорят ему учителя, эти сияющие создания с ласковым голосом, – чтобы понять: истинное «я», совершенное как ненаписанное число, живет одновременно в любой точке пространства в любой момент времени.
А кроме того, необходимо не только достигнуть совершенства, не только глубже понять всеобъемлющую невидимую основу вечной жизни, но и рассказать об этом другим.
Конечно же, Стая, к которой принадлежал Джонатан, оказывается враждебной по отношению к нему: кто-то считает его Сыном Великой Чайки, а кто-то дьяволом. Но Джонатан видит в каждой чайке истинно добрую чайку.
Кончается рассказ смертью Чайки. Но смерть эта не материализована – Ливингстон просто растворяется в просторах неба, чтобы никогда не вернуться.
Следует сказать, что «светлые» тексты довольно часто завершаются гибелью главного героя. В них присутствует элемент депрессивности (см. ниже о «печальных» текстах). Однако при этом смерть в них как таковая не описывается, она как бы отсутствует, поскольку жизнь представляется в рамках этого мироощущения бесконечной и вечной. Смерть здесь не является прекращением бытия, это продолжение движения к вечности. Прошлое обладает статусом единственного, безальтернативного пути, настоящее – это движение по дороге жизни; будущее видится бесконечным.
Описание смерти как формы пространственного передвижения можно найти уже в фольклоре (Пропп, 1929). Но сохранение такого восприятия в наше время трудно объяснить только фольклорными традициями. Видимо, есть какие-то психологические предпосылки такого мироощущения, диктующие именно такое завершение текста.
Возможно, это покажется несколько парадоксальным, но наиболее ярко подобного рода мироощущение представлено в таком жанре, как газетный некролог советской прессы 80-х годов.
Советский некролог разворачивался на трех уровнях. Первый уровень чисто биографический. Тут описывается фактологическая сторона дела, реальные жизненные события. В нем преобладает денотативная основа, которая формирует его логико-фактологическую цепочку. Второй уровень – и по стилю, и по содержанию – максимально публицистичен. Он описывает политическую деятельность человека, которому посвящен текст. Третий уровень – мировоззренческий, который включает в себя оценку всей жизни умершего человека. Это уровень оценочный – он формирует коннотацию текста, которая сопряжена с эмоциональной моделью его порождения. На этом уровне текста-некролога дается оценка всей жизни человека, оценка смысла жизни вообще и говорится о том, что его дело будет жить в веках. Именно на этом уровне представлены соображения обобщенного характера, которые напрямую связаны с эмоционально-смысловой доминантой «светлого» текста.
К примеру, текст, кончавшийся фразой «Его дела и мысли живут в наших сердцах», начинается так: «История всегда хранит имена людей, которые…» Это тот контекст, в который помещается жизнь «человека с большой буквы». Так, газетный текст о лауреатах Ленинской премии «За укрепление мира между народами» начинается фразой «Как бы ни была богата наша земля дарами природы, самое драгоценное на ней – это человеческая жизнь» («Правда», 1 мая 1985).
«Светлыми» являются и многие тексты Аркадия Гайдара. Его сказка «Горячий камень», провозглашая уникальность и неповторимость жизни, не может не оставить именно такое ощущение. Содержание текста можно свести к следующему. Мальчик находит камень, на котором написано, что тот, кто занесет этот камень на гору и разобьет его там, получит возможность заново прожить жизнь. Ивашка предлагает этот камень старому человеку, покрытому шрамами. Но тот отказывается, говоря, что его жизнь ему нравится. Тем самым в рассказе жизни приписывается предикат 'неповторимый', 'уникальный'.
Показательным в этом плане является и «светлый, как жемчужина» рассказ «Чук и Гек», заканчивающийся мелодичным звоном кремлевских часов.
Много света в рассказе «РВС»: отсвечивает блеском речка, блестят звезды, блестят глаза у Жигана, блестит звездочка и наган у раненого командира, герои говорят с сердцем и т. д.
Как уже отмечалось, в рамках того же паранойяльного мироощущения находятся тексты «активные», которые очень близки «светлым» текстам. В ряде случаев провести разделение текстов на «светлые» и «активные» бывает достаточно трудно.
Так, в других текстах А. Гайдара есть шпионы («Судьба барабанщика», «Маруся»). К примеру, герои рассказа «РВС» с тревогой ожидают опасностей и прислушиваются к тому, что делается вокруг, они должны быть осторожны, внимательно осматриваться вокруг. В конце рассказа «Чук и Гек» есть такая фраза, выделенная в отдельный абзац:
И конечно, задумчивый командир бронепоезда, тот, что неукротимо ждал приказа от Ворошилова, чтобы открыть против кого-нибудь бой, слышал этот звон <кремлевских часов. – В.Б.> тоже.
Вот как описана кульминационная сцена повести «Судьба барабанщика», где герой стреляет в шпиона, выдававшего себя за его дядю (он выполняет там функцию умершего отца, о котором часто говорится в «светлых» и «активных» текстах):
Раздался звук, ясный, ровный, как будто кто-то задел большую певучую струну, и она, обрадованная, давно никем не тронутая, задрожала, зазвенела, поражая весь мир удивительной чистотой своего тона.
Звук все нарастал и креп, а вместе с ним вырастал и креп я.
«Выпрямляйся, барабанщик! – уже тепло и ласково подсказал мне все тот же голос. – Встань и не гнись! Пришла пора!».
Такой переход в целом достаточно типичен для «активных» текстов. Вот пример из песни к многосерийному телеспектаклю по «активному» роману О.А. и А. С. Лавровых «Следствие ведут знатоки»:
Если кто-то кое-где у нас порой Честножить не хочет, Значит, с ними нам вести незримый бой.В том случае, если в «светлом» тексте появляется субъект с отрицательными чертами характера, то возможна слабая оппозиция между положительным и отрицательным персонажами. Отрицательному герою могут быть приписаны следующие характеристики: стремящийся все объяснить, планирующий жизнь, ищущий выгоду, делающий карьеру, копающий под себя, не видящий красоты жизни, недобрый, злой.
Это в полной мере относится к произведениям А. Гайдара, которые несут не только лексически подтвержденное ощущение «светлости», но и призывают к борьбе за идеалы. Анализируя творчество этого «активного участника жизни», С. Маршак писал, что он «превосходно умел сливать воедино светлую романтику, возвышенную мечту с самой сущностью нашей действительности. Он умел увлечь юного читателя разговором на <…> „взрослые“ темы – о защите Родины, о ненависти к врагам, о добрых людях <…> Но разговор это был особый – необыкновенно ясный, поэтический, очень близкий ребячьим сердцам».
Вышеизложенное свидетельсгвует о сходстве проявления этих двух типов отношения к миру в художественной литературе и позволяет отнести тексты А. Гайдара к «смешанным» текстам «светло-активной» разновидности.
«Активные» тексты как разновидность «светлых»
В качестве примера переходного текста от «светлого» к «активному» приведем начало романа Ю. Трифонова «Обмен».
В июле мать Дмитриева Ксения Федоровна тяжело заболела, и ее отвезли в Боткинскую, где она пролежала двенадцать дней с подозрением на самое худшее. В сентябре сделали операцию, худшее подтвердилось, но Ксения Федоровна, считавшая, что у нее язвенная болезнь, почувствовала улучшение, стала вскоре ходить, и в октябре ее отправили домой, пополневшую и твердо уверенную в том, что дело идет на поправку. Вот именно тогда, когда Ксения Федоровна вернулась из больницы, жена Дмитриева затеяла обмен: решила срочно съезжаться со свекровью, жившей одиноко в хорошей, двадцатиметровой комнате на Профсоюзной улице.
Разговоры о том, чтобы соединиться с матерью, Дмитриев начинал и сам, делал это не раз. Но это было давно, во времена, когда отношения Лены с Ксенией Федоровной еще не отчеканились в формы такой окостеневшей и прочной вражды, что произошло теперь, после четырнадцати лет супружеской жизни Дмитриева. Всегда он наталкивался на твердое сопротивление Лены, и с годами идея стала являться все реже. И то лишь в минуты раздражения. Она превратилась в портативное и удобное, всегда при себе, оружие для мелких семейных стычек. Когда Дмитриеву хотелось за что-то уколоть Лену, обвинить ее в эгоизме или в черствости, он говорил: «Вот поэтому ты и с матерью моей не хочешь жить». Когда же потребность съязвить или надавить на больное возникала у Лены, она говорила: «Вот поэтому и я с матерью твоей жить не могу и никогда не стану, потому что ты – вылитая она, а с меня хватит одного тебя».
<…> Он упрямо пытался сводить, мирить, селил вместе на даче, однажды купил обеим путевки на Рижское взморье, но ничего путного из всего этого не выходило. Какая-то преграда стояла между двумя женщинами, и преодолеть ее они не могли. Почему так было, он не понимал, хотя раньше задумывался часто. Почему две интеллигентные, всеми уважаемые женщины <…> горячо любившие Дмитриева, тоже хорошего человека, и его дочь Наташку, упорно лелеяли в себе твердевшую с годами взаимную неприязнь?
Мучился, изумлялся, ломал себе голову, но потом привык. <…> И успокоился на той истине, что нет в жизни ничего более мудрого и ценного, чем покой, и его-то нужно беречь изо всех сил. Поэтому, когда Лена вдруг заговорила об обмене с Маркушевичами <…> Дмитриев испугался. Кто такие Маркушевичи? Откуда она их взяла? Двухкомнатная квартира на Малой Грузинской. Он понял тайнуюи простую мысль Лены, от этого понимания испуг проник в его сердце, и он побледнел, сник, не мог поднять глаз на Лену.
Сюжет романа разворачивается вокруг попытки жены лирического героя съехаться с его больной раком матерью и тем самым поступить нечестно, аморально.
Выделенные в тексте слова могут быть разбиты на следующие группы: 'я' (Дмитриев, тоже хороший человек), 'близкие люди' (мать Дмитриева – Ксения Федоровна, жена Лена); 'единство' (соединить, мириться); 'вражда' (вражда, сопротивление, стычки, перепалки, озлобление, преграда, неприязнь, обвинить, оружие); 'зло' (эгоизм, черствость); 'идея' (идея, истина, в жизни, ценного); 'обман' (обмен[7]), с подозрением, уверенную, затеяла, тайную мысль, испуг проник в сердце, не мог поднять глаза).
«Активные» тексты – это такие тексты, которые описывают борьбу положительного персонажа и его единомышленников с противостоящими силами. Стиль «активных» текстов энергичный, динамичный и местами резкий. Содержание эмоционально-смысловой доминанты «активных» текстов связано с тем, что все события (реальные или вымышленные) описываются как борьба честного человека, любящего свою родину и объединившего вокруг себя друзей, с людьми нечестными, которые предали идеалы добра, честности и справедливости.
В «активном» тексте герой, обладающий рядом достоинств, пытается реализовать свои идеи, которые представляются ему чрезвычайно ценными и важными для всех членов общества. Он собирает вокруг себя единомышленников, друзей, помощников, которые верят в его идею, в его бескорыстие и честность. Враги же, по его мнению, это – злые, подлые, коварные люди, которые не только мешают ему, но и часто пользуются его наивностью, доверчивостью и неосведомленностью во многих темных и грязных делах, которые творятся вокруг него.
В «активных» текстах возможны два финала. Первый – «победа добра над злом» и развенчивание врагов и предателей. Другим возможным финалом активных текстов является смерть главного героя от рук убийц.
Эта эмоционально-смысловая доминанта реализована в большом количестве детективов. Вот, к примеру, как начинается книга 3. Каменкович и Ч. Хачатуряна «Его уже не ждали»:
Из темноты, в клубах белого пара, словно разъяренный буйвол, преследуемый роем оводов, под высокую стеклянную аркаду ворвался локомотив. <…> Из открытого окна вагона второго класса настороженно выглянул Кузьма Гай.
Даже локомотив – это разъяренный буйвол, преследуемый роем оводов.
В аннотации к этому детективу сказано, что это произведение о людях, «чья жизнь полна тревог и опасностей, о самоотверженной борьбе любви и верности». Все в романе пронизано идеей борьбы, движения, активности. Героев преследуют за их убеждения и предают те, кто притворялся верными друзьями.
Роман максимально реалистичен и политизирован. Все эпитеты, метафоры и сравнения подчинены именно этой, «активной» доминанте, в основе которой лежит паранойяльная акцентуация.
На мотиве подозрения всех действующих лиц в совершении убийства построены многие романы А. Кристи («Десять негритят», «Убийство в Восточном экспрессе», «Азбука убийств»).
Детектив Р. Макдоналда с характерным названием «Вокруг одни враги», где лейтмотивом звучат слова о предательстве и изменах, о совести и порядочности, начинается так:
Как всегда ранним утром, машин на Сепульведе было немного. Когда я миновал по шоссе нижний перевал, из-за синих гор <…> поднялось пылающее огнем солнце. Минуту-другую, пока не начался обычный день, все выглядело таким новым, свежим, вызывающим чувство благоговения, словно только что сотворенный мир.
Как отмечает литературный критик, главные черты частного детектива Арчера при этом – «предельная честность и бескорыстие» (Анджапаридзе, 1987).
Счастье в соответствии с эмоционально-смысловой доминантой «активного» текста заключается в служении идее, в борьбе за счастье. Смерть героя «активного» текста – это, с одной стороны, победа зла над добром, но, с другой стороны, это символ для тех, кто будет продолжать борьбу за правое дело борца, погибшего от руки злодея.
Прошлое является чередованием светлых и темных периодов, в нем много несправедливости. В настоящем – борьба. Будущее представляется светлым и справедливым.
В качестве «активного» текста рассмотрим роман Э. Л. Войнич «Овод». В этом тексте две доминанты (в том числе «темная»), но преобладает доминанта «активного» текста.
Здесь две параллельно развивающиеся темы – политика и религия. Обе они характерны для «активных» текстов. Содержание романа заключается в том, что молодой человек по имени Артур Бертон, обучаясь в духовной семинарии, заинтересовался политикой и вступил в организацию «Молодая Италия». Его идеалы – честность, откровенность, доверие и порядочность. Ложь, обман, недоверие, предательство и клевета неприемлемы: совесть должна быть чиста.
В организации «Молодая Италия» Артур знакомится с девушкой по имени Джемма и ревнует ее к другому члену кружка – к своему соратнику по борьбе Болле. Во время отъезда его наставника Монтанелли Артур на исповеди признается в своей ревности и упоминает об обстоятельствах, при которых он встречается с девушкой. Священник сообщает полиции о тайной организации, и Артура арестовывают. Из тюрьмы Артура отпускают, но как информатора. После того как он узнает, что Монтанелли приходится ему отцом, Артур исчезает, сымитировав самоубийство.
Через несколько лет он появляется. Под псевдонимом Овод будет писать колкие статьи в адрес церкви. За время его отсутствия Джемма выйдет замуж за Боллу.
Во время операции по перевозке оружия Овода снова арестовывают. К нему в камеру приходит Монтанелли. Овод призывает его убежать с ним за границу. Он говорит: «… Я уведу вас в светлый мир <…> Заря близко <…> неужели вы не хотите, чтобы солнце вышло и над вами?». Священник отказывается. Тогда Овод пытается бежать из тюрьмы, но болезнь подкашивает его и побег не удается. Овода расстреливают.
Герой романа обладает высоким представлением о ценности человеческой жизни. Это представление противостоит пониманию человека как машины или как игрушки и орудия в чьих-то руках. Благоговение перед жизнью и вера в высокие нравственные идеалы пронизывают мысли героев романа.
Вокруг Овода обилие подслушивающих, выслеживающих врагов и шпиков. Это делает его очень подозрительным: «Постоянное напряжение этой борьбы начинало заметно сказываться на нервах Артура. Зная, как зорко за ним наблюдают <в тюрьме. – В.Б.>, и вспоминая страшные рассказы о том, что арестованных опаивают незаметно для них белладонной, чтобы подслушать их бред, он почти перестал есть и спать. Когда ночью мимо него пробегала крыса, он вскакивал в холодном поту, дрожа от ужаса при мысли, что кто-то прячется в камере и подслушивает, не говорит ли он во сне».
Овод постоянно испытывает тревогу, недоверие и страх перед опасностью. Появляются даже неприязнь, раздраженность и ярость, вызванные необходимостью борьбы против несправедливости.
При этом в тексте постоянно звучат чистые звуки, ясные, серебристые и красивые голоса героев, лица героев озаряет вдохновение.
При том, что в порождении текста первичны именно субъективные переживания, в книге в качестве первопричины выступают обоснования «внешнего» (сюжетного) характера: «Жандармы старались поймать его на слове и уличить <…> И страх попасть нечаянно в ловушку был <…> велик…»
Такого рода ссылки на реальность делают текст убедительным и достоверным для читателя, а художественность достигается описанием психической реальности, «верного перевода языка чувств на язык слов». Отражение этой психической реальности выступает как вербализация типологических черт личности.
Интересным в этом плане является вопрос о природе описываемых в тексте психологических состояний. Слова Э. Л. Войнич, как нам представляется, проливают свет на это: «Если бы меня спросили, почему я решила <писать. – В.Б.> <…> моим единственным ответом было бы, что я не могла иначе <…> Я знаю только, что на протяжении всей моей долгой жизни <…> бесплотные создания моего духа, некоторые в человеческом образе, другие в форме музыкальных звуков, приходили и уходили, не спрашивая моего разрешения, и мне оставалось лишь одно – по мере сил своих поспевать за ними» (Войнич, 1945).
Многие другие писатели произносили очень похожие слова на эту тему. Подобные высказывания говорят о том, что процесс художественного творчества может быть обусловлен бессознательными психическими процессами. Видимо, многое из того, что традиционно относится к эстетике художественного текста, определяется построением текста по законам индивидуальной психологии. Индивидуальное семантическое пространство, авторское мироощущение диктуются личностной акцентуацией писателя.
2.2. Проявление эпилептоидной акцентуации в «темных» текстах
Еще Ц. Ломброзо полагал, что в целом «мания писательства есть не только своего рода психиатрический курьез, но прямо особая форма душевной болезни» (Ломброзо, 1892, с. 6). По его мнению, вся художественная литература создается людьми упорными, настойчивыми, способными на длительное и подчас многократное переписывание своего текста, людьми, готовыми к мелочной и детальной проработке каждого абзаца, каждого своего написанного предложения (там же, с. 21). А это, в свою очередь, коррелирует с определенной мрачностью и угрюмостью характера, с некоторыми другими характерологическими чертами личности, которые часто сопутствуют эпилепсии.
Мы не можем согласиться с тем, что в основе всего литературного творчества лежит только одна личностная особенность. Разнообразию типов литературных направлений, жанров и школ соответствует такое же разнообразие психологических типов личностей писателей.
Опишем тексты, которые можно атрибутировать как вербализацию эпилептоидной акцентуации. Их мы назвали «темными». По нашим наблюдениям, в современной культуре они встречаются чаще всего, поэтому в данной работе им уделено особенно много внимания.
Эмоционально-смысловая доминанта «темных» текстов базируется на психических состояниях, схожих с теми, которые возникают при эпилепсии. В психиатрической литературе отмечается, что при этом заболевании возможны изменения как в церебральных процессах, так и в общесоматических. Приступообразно возникающие расстройства сознания сопровождаются зрительными, слуховыми и обонятельными галлюцинациями (Жариков и др., 1989; Портнов, Федотов, 1971; Практический…, 1981; Справочник…, 1985).
Рассмотрим коротко сущность эпилептоидной акцентуации.
Эпилептоидная акцентуация
Эпилепсия – тяжелое психическое заболевание, одним из главных проявлений которого являются судорожные припадки с потерей сознания, тогда как эпилептоидность – комплекс личностных особенностей, акцентуация. Но в том и в другом случае говорят об эпилептоидном характере.
Эпилептические припадки протекают следующим образом. Человек внезапно падает, начинает биться в конвульсиях, затем замирает, происходит мышечная релаксация (вплоть до мочеиспускания), затем возможен сон. Именно эта готовность к судорожным припадкам и дала старое название болезни – «падучая».
При эпилептическом припадке происходит помрачение сознания, возникают сумеречные состояния, состояние спутанности сознания. Оно характеризуется следующими признаками: оторванностью от реальности, дезориентацией в месте и времени и утратой способности к абстрактному мышлению (Сараджишвили, Геладзе, 1977).
Возможны неосознаваемые автоматические действия, в частности, такая их разновидность, как фугизм (от лат. fuga — бегство, бег), которая проявляется в форме стремительных движений и действий: человек сдирает с себя одежду, куда-то бежит. По окончании эпизода расстроенного сознания отмечается амнезия (Блейхер, 1994).
Перед припадком человек может ощущать различные предвестники или ауры (от греч. aura — ветерок): дуновение ветерка, он может слышать смех, различные шорохи, ему может казаться, что все вокруг стало либо маленьким, либо, наоборот, большим. Вызвать припадок может нахождение в темноте, яркий свет, вспышки, появление низкочастотного гула либо определенного ритма, нахождение человека в воде – различные внешние причины. Кроме того, судорожную готовность усугубляют нарушения водного и солевого обмена организма.
Для эпилептоидной личности характерны тяжелые расстройства настроения, которые выражаются в раздражительности, вспышках гнева и ярости, приступах злобы. Когда они заканчиваются, возможно раскаяние, обещания исправиться, угодливость, слащавость, льстивость. «Отсюда, – пишет Д. Е. Мелехов, – определение старых учебников эпилептика как человека с камнем за пазухой и молитвенником в кармане» (Мелехов, 1992, с. 72).
Это скорее стеничная, чем астеничная, личность с направленностью на конкретное дело. Люди этого склада часто занимаются физическим трудом, счетом мелких предметов (например, фишек, денег), работой руками (печатание на машинке, вязание и т. п.); организуют чужую работу. Среди них встречаются воспитатели и преподаватели.
Что касается творческих видов деятельности, то здесь преобладают «вторичное» творчество и трансляция результатов чужого умственного труда. Нередки использование чужого сюжета, пересказ известных произведений.
Когнитивная установка эпилептоидной личности основана на противопоставлении «Я» – человека простого, природного, делающего свое дело, и «Он» – умного и потому опасного.
Психолингвистические компоненты «темных» текстов
Приведем пример типичного текста, порожденного лицом с эпилептоидной акцентуацией (начало повести Валентина Катаева «Сын полка»):
Была самая середина глухой осенней ночи. В лесу было очень сыро и холодно. Из черных лесных болот, заваленных мелкими коричневыми листьями, поднимался густой туман.
Луна стояла над головой. Она светила очень сильно, однако ее свет с трудом пробивал туман.
Лес был смешанный. То в полосе лунного света показывался непроницаемый черный силуэт громадной ели, похожий на многоэтажный терем; то вдруг в отдалении появлялась белая колоннада берез; то на прогалине, на фоне белого, лунного неба, тонко рисовались голые ветки осин, уныло окруженные радужным сиянием.
И всюду, где только лес был пореже, лежали на земле белые холсты лунного света.
В общем, это было красиво той древней, дивной красотой, которая и заставляет воображение рисовать сказочные картины: серого волка, несущего Ивана-царевича, огромные лапы лешего, избушку на курьих ножках – да мало еще что!
Но меньше всего в этот глухой, мертвыйчас думали о красоте чащи три солдата, возвращавшиеся с разведки.
Больше суток провели они в тылу у немцев, выполняя боевое задание. А задание это заключалось в том, чтобы найти и отметить на карте расположение неприятельских сооружений.
Работа была трудная, очень опасная. Почти все время пробирались ползком. Один раз часа три подряд пришлось неподвижно пролежать в болоте – в холодной, вонючей грязи, накрывшись плащ-палатками, сверху засыпанными желтыми листьями.
Обедали сухарями и холодным чаем из фляжек.
Но самое тяжелое было то, что ни разу не удалось покурить. <…>
Луна тоже сильно мешала. Идти приходилось очень медленно гуськом, метрах в тринадцати друг от друга, стараясь не попадать в полосы лунного света, и через каждые пять шагов останавливаться и прислушиваться.
Необходимо отметить следующее. При всем сходстве с «активными» текстами, где герои также должны проявлять осторожность, эмоциональный ореол «темных» текстов оказывается значительно более «мрачным». Сопутствующая тексту 'озлобленность' является производной от иного психологического состояния, нежели 'конфликтность' «активного» текста.
В тексте нами подчеркнуты слова следующих семантических категорий:
1) БОЛЬШОЙ (громадный, огромный, многоэтажный, большая точность, не больше двух километров);
2) МАЛЕНЬКИЙ (мало, словечко, ножки, меньше всего думать о);
3) ДЕЛО (выполнить задание, опасный);
4) ЗАМИРАНИЕ (останавливаться, замирать, мертвый лес);
5) НИЗ (ложиться, лежать, неподвижно пролежать, ползком, пробираться, земля, леший);
6) ВОДА (сыро, болото, чай, грязь);
7) ЛУНА (лунное небо, лунный свет);
8) СУМРАК (туман, осенняя ночь, черный, уныло).
9) ЗАПАХ (вонючая грязь).
Каждый из этих элементов закономерен для «темных» текстов и имеет свое объяснение.
Смысл жизни для героя «темного» текста состоит в том, чтобы делать свое дело и бороться с врагами, которые умны и опасны. Жизнь тяжела и неприятна, человек в ней нередко становится игрушкой в руках враждебных сил.
Для «темного» текста характерно наличие более жесткой, чем в «активном» тексте, оппозиции добра и зла. Если в «активном» тексте враг – это бывший друг, предатель, то в «темном» тексте враг – чужой человек, умный и опасный. Враг несет зло, которое может состоять в том, что он обижает маленького, соблазняет невинную, изобретает смертоносное оружие, проводит опасные опыты над людьми и т. п. Добро состоит не только в том, чтобы делать свое дело, но и убить умного и опасного врага. В «темном» тексте могут быть и антигерои – существа без памяти, марионетки, зомби, подвластные чужой (как правило, злой) воле.
Время в «темных» текстах «импульсивно»; пространство обладает способностью сжиматься.
Среди «темных» текстов можно выделить несколько подвидов: «собственно темные», «простые», «жестокие», «вязкие», «щемящие», «вычурные», «разорванные». Они несколько отличаются друг от друга, однако не так значительно, как от других типов текстов.
В целом же описанная выше эмоционально-смысловая доминанта в «темном» тексте реализуется с помощью следующих ключевых компонентов: 'простой', 'тоска', 'враг', 'дело' и др.
Семантический комплекс ПРОСТОИ получает реализацию в следующих лексических единицах: обыкновенный, обычный, делающий свое дело, незамысловатый, незатейливый, неприметный и др.
ТОСКА: боль, беспомощность, гнев, грусть, злоба, ненависть, одиночество, страх (смерти); дождь, мрак, сумерки, темнота.
ВРАГ: непонятный, опасный, умный (очень умный, заумный), чужой; замышляющий зло, затаившийся; ненавидеть, окружить со всех сторон, погибнуть, убить.
БОРЬБА: бороться (за справедливость/ с опасными планами/ в защиту обездоленных/ сирот/ маленьких), выступать против угрозы человечеству/мирному труду, стремиться к справедливости, сопротивляться злу/несправедливости.
ДЕЛО: делать (свое) дело, знать, просто, уметь.
Кроме того, для «темных» текстов характерна лексика, связанная с сенсорными ощущениями (слуховыми, зрительными, осязательными) и биологическим уровнем человеческого существования (физиологические отправления, голод, боль, смех).
Героями «темных» текстов, как правило, бывают люди так называемых опасных профессий. Это пограничники и разведчики (В. Богомолов «Момент истины»); солдаты (Б. Лавренев «Сорок первый») и достаточно часто моряки (Вс. Вишневский «Оптимистическая трагедия»; В. Пикуль «Моонзунд»).
Действие происходят, как правило, в суровых природных условиях – на море, на корабле (Ю. Крымов «Танкер „Дербент“»), в тылу у врага (В. Тельпугов «Парашютисты»), в шахте, на севере, в замкнутом пространстве одной комнаты (пьеса П. Шено «Будьте здоровы»), космического корабля (М. Пухов «Семя зла») или психиатрической лечебницы (К. Кизи «Над кукушкиным гнездом»; W. Blatty «The Exorcist») и т. п. Тем самым «темные» тексты описывают действия простого человека в трудных условиях.
«Темные» тексты достаточно часто встречаются в публицистике (например, документальная повесть Л. Якушенко «Линия напряжения», посвященная строителям высоковольтной линии напряжения, написана сниженным языком с обилием бранной лексики); они могут быть также посвящены политической тематике (Ф. Нибел, Ч. Бейли «Семь дней в мае»; Л. Уайт «Рафферти», Н. Велтистов «Ноктюрн пустоты»), что делает их близкими «активным» текстам.
«Темные» тексты существуют и в жанре научно-художественной литературы. В центре их внимания находится описание конкретных, приносящих пользу действий. Примером могут служить книги для детей Б. Житкова («Очерки») и А. Маркуши («А.Б.В…», «А я сам…», «Мужчинам до 16»).
Много «темных» текстов среди произведений о животных (Э. Сетон-Томпсон «Рассказы о животных»; Ф. Зальтен «Бемби»; Б. Житков «Мангуста»), а также среди сказок для детей (Б. Брагин «В стране дремучих трав», братья Гримм, Р. Киплинг, Я. Корчак, С. Лагерлеф, Н. Носов, Д. Свифт, К. Чуковский, С. Маршак и мн. др.).
Жанры, в которых достаточно распространены «темные» тексты, – это детективы (А. Конан Дойл «Приключения Шерлока Холмса», С. Жапризо «Ловушка для Золушки»; П. Буало, Т. Нарсежак «Волчицы») и научная фантастика (Г. Дж. Уэллс «Машина времени», «Человек-невидимка», А. Толстой «Аэлита», «Гиперболоид инженера Гарина»).
Опишем ситуацию, которая могла бы служить моделью, базовой основой «темного» текста.
Граница между двумя государствами. С одной стороны «наши ребята», с другой – хитрый и опасный противник. Противник строит коварные планы, он в любой момент готов напасть на нас, захватить нас врасплох, а затем превратить нас в своих рабов, оболванить, одеть в одинаковую форму, заставить нас забыть свою историю, заставить выполнять только ему понятную работу. Что мы должны делать, чтобы избежать плена, захвата, порабощения? Понимая, что противник может оказаться умнее нас или даже в чисто физическом плане выше нас мы должны быть готовы к неожиданному нападению. Пусть по незначительным, мелким деталям, но мы должны разгадать его возможные шаги, наблюдая за противником, должны догадаться о готовящемся нападении. А уж если нападение совершено, то мы должны противопоставить ему ответные действия и, конечно, уничтожить врага.
Именно такова «референциальная основа когнитивной интерпретации» (Дейк, 1989, с. 141) ряда ментальных ситуаций в «темных» текстах. В данном случае это соответствует «наиболее рациональному <…> поведению <…> при силовом задержании», называемому контрразведчиками приемом «качание маятника» (В. Богомолов «Момент истины»). Эта базовая ситуация может обрастать большим количеством подробностей и деталей. Например, противника можно угадать по различным звукам (по шороху листвы под ногами, по шуршанию одежды, по скрипу обуви и т. д.). Противник может ударить нас по голове или даже в пах, у защитника может потемнеть в глазах, он может упасть, при этом противник засмеется злобным смехом.
Рассмотрим более подробно характеристики героев, систему образности и стилистические особенности «темных» текстов.
Персонажи «темного» текста
Простой герой
Как правило, положительный герой «темного» текста – это простой человек, который хорошо знает свое дело, а еще лучше делает свое дело. Он нормальный, естественный человек, с простыми желаниями и устремлениями. Он звезд с неба не хватает, «академий не кончал», но при этом он не глупый: когда надо, он может понять, а самое главное – сделать. Этот простой человек работает, как правило, своими руками в большей степени, чем головой, он занят ежедневным физическим трудом, что подчеркивает его простоту и естественность, обыкновенность.
Часто герой «темного» текста бывает маленького роста или ниже других персонажей. Это своего рода «психологический комплекс» главного героя, который все время хочет вырасти, стать большим и взрослым. При этом он страшно не любит, когда с ним обращаются как с маленьким, не проявляют к нему должного уважения, не уважают его человеческого достоинства.
Вот как, например, характеризуется героиня повести Б. Лавренева «Сорок первый» Мария Басова – Марютка:
Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка <…>. С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на скамье, вспарывая серебряно-скользкие сельдяные брюха. А когда объявили набор добровольцев в Красную гвардию, встала и пошла записываться в красные гвардейцы. Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой.
Марютка – тоненькая тростиночка прибрежная <…>.
Главное в жизни Марюткиной – мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи.
Несла стихи в редакцию <…> (В редакции стихи читали. – В.Б.) и рот (секретаря. – В.Б.) расползался от несдерживаемого гогота, и сотрудники (тоже. – В.Б.) <…> катались по подоконникам.
Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила с замечательной меткостью.
Как известно, благодаря своему умению стрелять она и убила своего возлюбленного – гвардии поручика Говоруху-Отрока.
В сказке для детей Р. Киплинга «Слоненок» рассказывается о маленьком слоненке, который был необычайно любознателен и приставал ко всем с вопросами. В частности, его интересовало, что едят на обед крокодилы. Вместо ответа на этот вопрос, он получает колотушки. Попав с помощью птицы Колоколо в то место, где живут крокодилы, слоненок не узнает крокодила, цветом и формой похожего на бревно, и задает ему свой обычный вопрос. И здесь вместо ответа (коммуникативный провал, также частый в «темных» текстах) крокодил хватает слоненка за нос и пытается втащить его в воду. Слоненок отчаянно упирается и обретает таким образом хобот, который помогает ему расправиться со своими обидчиками:
И так разошелся этот сердитый слоненок, что отколотил всех до одного своих милых родных <…>. Он выдернул из хвоста у долговязой тетки Страусихи чуть не все ее перья; он ухватил длинноногого дядю Жирафа за заднюю ногу и поволок его по колючим терновым кустам; он разбудил громким криком свою толстую тетку Бегемотиху, когда она спала после обеда, и стал пускать ей прямо в ухо пузыри, но никому не позволял обижать птичку Колоколо.
Тем самым простой герой, испытавший унижения, отомстил тем, кто его унижал.
Достаточно часто целью борьбы становится стремление уничтожить врага. Характерно, что модель борьбы реализуется здесь иначе, чем в «активных» текстах, более жестко: 'бороться против сильного надо с помощью обмана, хитрости и жестокости'. Приведем пример из романа В. Дудинцев «Белые одежды», когда один из персонажей советует главному герою, как бороться с врагом – академиком Касьяном:
Касьян <…> ночью нападает. Какую дилемму он ставит? Сдавай научные позиции. Капитулируй на милость сатаны. Или – бери в руки его же оружие и падай, как будто убит, притворись. И когда рогатый, приученный к нашей искренности, подойдет, чтоб пописать на тебя, пнуть ногой, восторжествовать – поражай его в пах. И если есть возможность повторить выпад – повтори.
Если в «активных» текстах борьба идет за истину высшего, так сказать, порядка, то в «темных» текстах речь идет об экзистенциальных истинах.
Опасный умник
Простой герой не любит, когда над ним смеются, когда ему в лицо ухмыляются. Кто же этот человек, который смеется и тем самым издевается над ним? Кто этот отрицательный герой?
Противник простого и маленького героя большого роста, иногда даже великан, верзила, громила. Но самое опасное состоит в том, что он наблюдает за простым героем, что-то знает такое, чего не знает простой герой, что-то хочет понять, но не для того, чтобы принести пользу, а для того, чтобы причинить зло человечеству и главному герою в том числе.
Оппозиция 'простой' – 'чужой' и 'опасный враг' играет в «простых» текстах существенную роль. В них очень подробно, даже с некоторым смакованием, рассказывается, как 'враг' замышляет недоброе дело, как он готовится к нему, как нападает на положительного героя. Складывается впечатление, что автор не разоблачает зло, а смакует его, любуется им, хотя и описывает отрицательного героя как 'жестокого'. Сам же положительный герой нередко прибегает (а по логике автора, вынужден прибегнуть) к жестокости. Весь мир враждебен герою «темного» текста, и он отвечает враждебностью.
Вот, например, что утверждает один из персонажей рассказа Р. Брэдбери «Здесь могут водиться тигры»:
– Надо бить планету ее оружием, – сказал Чаттертон. – Ступите на нее, распорите ей брюхо, отравите животных. Запрудите реки, стерилизуйте воздух, протараньте ее, поработайте как следует киркой, заберите руды и пошлите ко всем чертям, как только получите все, что хотели получить. Не то планета жестоко отомстит вам. Планетам доверять нельзя. Все они разные, но все враждебны нам и готовы причинить вред, особенно такая отдаленная, как эта, – в миллиарде километров от всего на свете. Поэтому нападайте первыми, сдирайте с нее шкуру, выгребайте минералы и удирайте живее, пока эта окаянная планета не взорвалась вам прямо в лицо. Вот как надо обращаться с ними.
Тем самым отрицательный персонаж (в данном случае это планета) вызывает злобное отношение у положительного персонажа. При этом, по логике автора, он, однако, не превращается в отрицательного.
Отрицательный герой «темного» текста – УМНИК, который замышляет злое дело, его ум злой, недобрый, коварный. Его ум порой приносит ему самому же несчастье: этот «умник» (именно в кавычках) нередко погибает от своего изобретения первым.
Очень часто в «темных» текстах угроза исходит от «маньяков, совершивших страшное научное открытие, грозящее уничтожением планеты, полным истреблением людей» (Парнов, 1978). В научной фантастике большое распространение получила тема «mad scientist» – тема сумасшедшего ученого. Можно назвать немало произведений на эту тему, где фигурирует ученый, осуществивший или намеревающийся провести антигуманный эксперимент.
Как считается, первым произведением на эту тему был роман «Франкенштейн, или Современный Прометей» М. Шелли. В нем идет речь о высоком человеке-роботе, созданном ученым из трупа и вышедшем из-под его контроля (он убегает от создателя и начинает убивать людей).
К «темным» следует отнести и текст о необыкновенном и гибельном эксперименте Гриффина – героя произведения Г. Уэллса «Человек-невидимка». Гриффин ищет средство, которое обесцвечивало бы органическую ткань. Но неудачный опыт – невозможность стать видимым – озлобил его и сделал «злым гением». Он крушит все вокруг и становится убийцей.
Похож на Невидимку и инженер Петр Петрович Гарин, создавший смертоносное оружие (А. Толстой «Гиперболоид инженера Гарина»). Гарин тоже зол на весь мир, он грозится его уничтожить и стать диктатором. И лишь всеобщее восстание предотвращает гибель Земли.
Итак, отрицательный герой «темного» текста – человек, который замышляет злое дело, его ум злой, коварный. Это именно умник, профессор, названный так со злой усмешкой. Отрицательному персонажу в «темном» («простом») тексте как бы приписывается предикат 'сложный', который имеет следующее значение: очень умный, заумный, много знающий, наблюдающий, злой. Знания этого врага – это вредные знания, позволяющие ему делать его дела-делишки.
Приведем пример, иллюстрирующий такой тип взаимоотношений.
Товарищи ученые, доценты с кандидатами! Замучились вы с иксами, запутались в нулях, Сидите, разлагаете молекулы на атомы, Забыв, что разлагается картофель на полях. Товарищи ученые, кончайте поножовщину, Бросайте ваши опыты, гидрит и ангидрит: Садитеся в полуторки, валяйте к нам в Тамбовщину, — А гамма-излучение денек повременит. <…> Товарищи ученые, не сумлевайтесь, милые: Коль что у вас не ладится, – ну там, не тот эффект, — Мы мигом к вам заявимся с лопатами и вилами, Денечек покумекаем – и выправим дефект! (Вл. Высоцкий «Товарищи ученые»)Ироническое отношение к отрицательному герою проявляется в обзывании его умником, профессором (В. Тельпугов «Парашютисты»), беззлобном подшучивании. Но гораздо чаще встречается злобное отношение.
Это связано с тем, что положительному герою «темного» текста непонятны эти идеи, он ненавидит их и ненавидит того, кто их выражает. Эта своего рода психологическая несовместимость вызывает борьбу «темного» героя со «сложным», а смысл этой борьбы состоит в том, чтобы доказать, что умные теории вредны.
Вот как эта мысль звучит у Конан Дойла: «Ох, сколько зла на сеете, и хуже всего, когда злые дела совершает умный человек!..» — говорит писатель устами Шерлока Холмса в рассказе «Пестрая лента». Или, описывая своего главного врага – высокого и тощего профессора Мориарти, он дает ему убийственную характеристику (рассказ называется «Последнее дело Холмса»):
У него наследственная склонность к жестокости. И его необыкновенный ум не только не умеряет, но даже усиливает эту склонность и делает ее еще более опасной… Он организатор половины всех злодеяний и почти всех нераскрытых преступлений в нашем городе. Это гений, философ, это человек, умеющий мыслить абстрактно. (Вспомним об умении Холмса обращать внимание именно на мелочи. – В.Б.) У него первоклассный ум. Он сидит неподвижно, словно паук в центре своей паутины, но у этой паутины тысячи нитей, и он улавливает вибрацию каждой из них. Сам он действует редко. Он только составляет план <…> профессор хитро замаскирован и <…> великолепно защищен <…>.
Так описывается опасный враг знаменитого сыщика – скромный учитель математики.
Если отрицательный герой – это враг, солдат вражеской армии, представитель другой банды, нарушитель границы, то отношение к нему очень злобное. Такого рода отрицательные персонажи описываются как люди, которые много знают и в силу этого считают, что могут победить. Поэтому задача положительного героя состоит не только в борьбе с ними, но и в раскрытии нечеловеческих замыслов врагов, которые считаются извергами, изуверами. И в этом случае борьба может идти не на жизнь, а на смерть.
Приведем пример такой «злобной» характеристики из газетного очерка об одном из организаторов фашистских концлагерей: «Изощренный убийца с университетским образованием, доктор общественно-политических наук, христианского вероисповедания» (Тарасенко, 1985). Обратим здесь внимание не на то, что текст создан в годы советской власти и в эпоху социалистической идеологии, а на эмоциональный тон характеристики, на языковые средства ее выражения, которая несет большой заряд язвительности и злости.
Образ 'умного и опасного' в рамках эпилептоидного мироощущения оказывается близок образу дьявола, сатаны, черта. В «простых» текстах речь идет о грехе человека (примерами могут служить брошюры против СПИДа) и о его искуплении (W. P. Blatty «The Exorsist»; Зальтцер «Знамение»), о другой инфернальной тематике (К. Кастанеда «Дверь в иные миры»).
Характерно, что «неожиданное наступление припадков, <…> вызывающих впечатление какого-то постороннего чужого для личности воздействия в прежние времена, – как пишет Д. Е. Мелехов, – давало основание расценивать эти приступы как результат вмешательства злой силы, одержимости бесами» (Мелехов, 1992, с. 74).
Нередко деятельность злого умника связана с порошком (у Ф. Достоевского в «Двойнике» врач-немец дает какой-то порошок настоящему Голядкину, после чего у того появляется двойник; Урфин Джюс у А. Волкова также пользуется порошком чтобы оживить деревянных солдат-зомби).
Особым типом отрицательного героя является герой-красавец. Он красив, но развратен, за его красотой и непорочной внешностью тщательно скрывается такая бездна зла, которую только можно представить. Таков герой упоминавшегося выше «Знамения» (Д. Зальтцер), который является дьяволом в образе ребенка. Таков герой О. Уайлда Дориан Грей («Портрет Дориана Грея»). Он очень красив, самовлюблен. Продав дьяволу душу, он получает возможность быть вечно молодым и красивым. Дориан Грей становится причиной смерти чистой Сибиллы Вэйн, убивает своего друга Бэзила Холлоурда. Но за это он наказан. Дориан Грей встречает в деревне простую невежественную девушку, обладающую всем тем, что он утратил, и решает убить своего двойника – свой нестареющий портрет, – но тем самым убивает себя. Так реализуется идея «развратник должен быть наказан».
«Промежуточный» персонаж
В «темных» текстах может присутствовать, кроме положительного и отрицательного героев, и «промежуточный» герой, которого мы назвали так в силу того, что он занимает положение между ними. Он выполняет как минимум две функции.
Так, промежуточный герой может быть проводником идей зла, может быть марионеткой, которой манипулирует злой гений, и тем самым он также может нести зло.
Примерами таких персонажей являются спутники главного героя мистической повести «Знамение»
(Д. Зальтцер) – гувернантка, помогающая ребенку столкнуть свою мать с балкона, офицер военной школы, говорящий мальчику-дьяволу о книге Бытия, где сказано о его дьявольском предназначении.
В других случаях «промежуточный» персонаж бывает пассивен и не выделяется как личность. Как правило, этот персонаж не один, их много, и они организованы в стаю, свору, толпу. Они страшны не сами по себе, они страшны тем, что они нелюди, нечеловеки или даже недочеловеки, которые потеряли человеческий облик, которые забыли все святое, не помнят своего прошлого, потеряли всякое уважение к другим людям.
В этом случае они становятся предостережением для главного героя, примером того, каким не должен быть человек, но каким может стать, если попадет под влияние умного и злого или не будет бороться за свои права.
Вот какая характеристика дается Бандерлогам, Обезьяньему народу, похищающему Маугли:
Они жили на вершинах деревьев, а так как звери редко смотрят вверх, то обезьянам и Народу Джунглей не приходилось встречаться. Но когда обезьянам попадались в руки больной волк или раненый тигр, или медведь, они мучили слабых и забавы ради бросали в зверей палками и орехами, надеясь, что их заметят. Они поднимали вой, выкрикивая бессмысленные песни, звали Народ Джунглей к себе на деревья драться, заводили из-за пустяков ссоры между собой и бросали мертвых обезьян где попало, напоказ всему Народу Джунглей. Они постоянно собирались завести и своего вожака, и свои законы и обычаи, но так и не завели, потому что память у них была короткая, не дальше вчерашнего дня. В конце концов они помирились на том, что придумали поговорку: «Все джунгли будут думать завтра так, как обезьяны думают сегодня», и очень этим утешались.
(Р. Киплинг «Маугли»)Схожими характеристиками наделены и Морлоки из повести Г. Уэллса «Машина времени». В этом фантастическом романе Путешественник во Времени попадает в 802701 год и является свидетелем того, как мир разделился на Верхний Мир и мир людей, которые жили под землей (о категории 'верх' – 'низ' см. дальше). Описание этого «второго рода людей», ведущих подземный образ жизни, которых автор называет Морлоками, очень похоже на описание Бандерлогов.
Герой произведения падает в колодец и лежит, весь дрожа. «Воздух был наполнен гулом и жужжанием машины, накачивавшей в глубину воздух». Его «привело в себя мягкое прикосновение чьей-то руки, ощупывавшей его лицо». Он вскакивает и видит Морлоков, «которые проводили свою жизнь в темноте, и потому глаза их были ненормально велики». Затем герой видит «небольшой стол из белого металла, на котором лежали куски свежего мяса. Оказалось, что Морлоки не были вегетарианцами!». Позднее герой догадывается, что это было человеческое мясо.
Все кругом было очень неясно: тяжелый запах, большие смутные контуры, отвратительные фигуры, притаившиеся в тени и ожидающие темноты, чтобы снова напасть на меня! <…> Меня поразил какой-то особенно неприятный запах. Мне казалось, что вокруг себя я слышал дыхание целой толпы этих ужасных маленьких существ. <…> они <…> приблизились снова, издавая странные звуки, похожие на тихий смех. <…> Морлоки <…> жужжали и шелестели в тоннеле, словно листья от ветра. <…>
В одно мгновение меня схватило несколько рук. Морлоки пытались оттащить меня назад. Я зажег новую спичку и помахал ею прямо перед их ослепшими лицами. Вы едва ли можете себе представить, как омерзительно, нечеловечески они выглядели, эти бледные, как бы обрубленные лица, с большими лишенными век красновато-серыми глазами! Как они дико смотрели на меня в своем слепом замешательстве!
Похожи на Морлоков и Бандерлогов бараны с Дурацкого острова из повести Н. Носова «Незнайка на Луне». Целыми днями катаясь на качелях и каруселях, они из «обычных» коротышек медленно, но верно превращаются в баранов.
Близки к ним и пролы, о которых Уинстон – герой роман «1984» Д. Оруэлла писал: «Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и главное – азартные игры – вот и все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно».
В фантастическом рассказе С. Гансовского «День гнева» тоже есть некие существа (также получившие необычное наименование – в данном случае это отарки), ставшие мутантами в результате научного эксперимента), которые загнаны в особые резервации и поедают своих мертвых сородичей, не знают свою историю, имеют короткую память, желают навязать свои мысли другим, но при этом владеют устным счетом.
Очевидно, что и йеху (yahoo) Д. Свифта («Путешествия Гулливера») – эти «грязные, эгоистические, с животными инстинктами человекообразные существа» – в противопоставлении жителям идеальной страны гуингнмов (houynhnhm) – попадают в эту же группу. Любопытно, что животные (обезьяны) противопоставляются одичавшим людям как более умные и в антиутопии «Планета обезьян» П. Буля.
В повести Ч. Айтматова «Буранный полустанок: И дольше века длится день…» также есть существа, которые выполняют функцию противопоставления человеку. Это манкурты, не помнящие своего прошлого, превращенные жуаньжуанами в чучело прежнего человека.
Очевидно, что такую же роль выполняет Полиграф Полиграфович Шариков – результат эксперимента профессора Преображенского («Собачье сердце» М. Булгаков).
Иными словами, приведенные здесь характеристики оказываются достаточно типичными для построения многих на первый взгляд разных художественных текстов.
Двойник
В «темных» текстах у главного героя нередко имеется двойник. Отметим только те стороны проблемы двойника, которые имеют отношение к нашей теме. В «простых» текстах двойник выполняет две функции.
Во-первых, двойник является помощником положительного персонажа или даже выступает с ним в одной роли. Таковы Сашка и Колька из повести А. Приставкина «Ночевала тучка золотая». Братья-близнецы очень похожи друг на друга, чем постоянно сбивают с толку окружающих. Такую же функцию выполняет и двойник изобретателя Гарина (А. Толстой «Гиперболоид…»), спасающий его от разъяренной толпы, желающей смерти опасного для человечества инженера. Для того чтобы не быть убитым, делает себе восковую фигуру Шерлок Холмс, имеющий помощника доктора Ватсона (А. Конан Дойл «Приключения…»).
Во-вторых, двойник может быть антагонистом положительного персонажа.
Именно такую функцию выполняет Голядкин-младший в повести Ф. М. Достоевского «Двойник», где он появляется для того, чтобы занять место персонажа, появившегося первым. Портретное изображение Дориана Грея, будучи наделенным его душой благодаря дьяволу, стареет, отражая все злодеяния, совершенные «оригиналом» (О. Уайлд «Портрет Дориана Грея»). Естественным финалом становится убийство Дорианом Греем своего почти живого двойника, что приводит к его собственной смерти. Мистер Хайд из романа Г. Уэллса «Странная история доктора Джекила и мистера Хайда», появляясь на свет в результате эксперимента, приведшего к раздвоению личности, становится убийцей своего создателя – доктора; есть двойник и у героя Э. Гофмана («Эликсир сатаны»).
В рамках эпилептоидного мироощущения разделение личности на «положительную» и «отрицательную» части может быть проявлением двойственного отношения к себе, имеющему как бы две ипостаси – до припадка (спокойный, нормальный) и во время (возбудимый, гневливый). «Такие сочетания, – отмечает Д. Е. Мелехов, – одновременно проявляющихся или меняющих друг друга противоположных полярных признаков производят тяжелое впечатление двойственности, двойниковости, противоречивости» (Мелехов, 1992, с. 74).
Названные функции положительных, отрицательных и «промежуточных» персонажей и двойников существуют не сами по себе, а как элементы образной системы «темных» текстов.
Отметим, что проблема двойника в литературе не исчерпывается теми характеристиками, которыми он наделен в «темных» текстах. Рассмотрение же этого вопроса в культурологическом плане является самостоятельной проблемой.
Образность «темных» текстов
«Темные» тексты очень колоритны по образности и насыщены повторяющимися семантическими компонентами, являющимися по функции психологическими предикатами. Они встречаются при описании почти всех действий героев «темного» текста, создавая вполне определенный коннотативный ореол, и составляют основу его образности. Отметим также, что мы оставляем в стороне такое существенное измерение художественного текста, как его художественность. Мы лишь полагаем, что оно связано с богатством системы образности, а в психологическом плане – скорее всего с когнитивной сложностью. Тексты «малохудожественные» будут скорее когнитивно простыми.
По содержанию семантические компоненты «темного» текста связаны с физиологической и психофизиологической сторонами жизни человека, с ощущениями, коррелирующими с дисфорией, сумеречными и другими состояниями, характерными для эпилептоидной личности. В частности, в них много описаний эмоциональных состояний 'злобы' и 'тоски', проприоцептивных ощущений, ощущений равновесия, всевозможных зрительных, слуховых и обонятельных ощущений.
Перейдем к описанию их вербальной реализации в литературных текстах.
Эмоциональные состояния
В «темном» тексте преобладает такой семантический компонент, как 'тоска'. Она отличается от печали и грусти в «печальном» тексте (см. ниже). Здесь 'тоска' не только сопровождает события, разворачивающиеся в «темном» тексте, она давит, заставляет героя активно действовать, избавляться от нее.
По модальности и семантике описание 'тоски' в «темном» тексте близко по содержанию к интериоцептивным ощущениям, которые А. Р. Лурия относил к сфере «темных чувств» (Лурия, 1975). Однако в рамках нашей типологии эквивалентом этого психосоматического компонента становится дисфория – расстройство настроения, сопровождающееся чувством тоски, злобы и страха.
На следующий день после совершения убийства Раскольников «шел, смотря кругом рассеянно и злобно» (Ф. Достоевский «Преступление и наказание»). Тоска и неудовлетворенность преследуют героя романа Ф. Кафки «Замок». Безысходная, невыносимая, нарастающая тоска охватывает персонажей романа «Плаха» (Ч. Айтматов).
«Ночью у зека Абарчука, – пишет В. Гроссман в «вязком» по эмоционально-смысловой доминанте тексте «Жизнь и судьба», – был приступ тоски. Не той привычной и угрюмой лагерной тоски, а обжигающей, как малярия, заставляющей вскрикивать, срываться с нар, ударять себя по вискам, по черепу кулаками».
Смена эмоционального состояния
Тесно связан с предыдущим и семантический компонент 'смена эмоционального состояния'. Психологическое состояние персонажа «темного» текста меняется быстро, неожиданно, резко, вдруг, сразу. Но кроме того, возможен также переход от тоски к ярости и от состояния удовлетворения к злобе. Так, «в течение всего января <…> сограждане (города Орана, где была чума. – В.Б.) воспринимали происходящее самым противоречивым образом. Точнее, от радостного возмущения их тут же бросало в уныние» (А. Камю «Чума»).
Психическим эквивалентом этого явления оказывается неожиданное изменение настроения при эпилепсии, при котором возможно как «состояние злобной тоски и тревоги», так и «состояние экзальтации, беспричинная восторженность» (Портнов, Федотов, 1971).
Смех
В «темных» текстах важную роль играет смех. Наиболее часто встречаются такие глаголы и существительные, как улыбаться, улыбка, усмешка, ухмыльнуться, насмешка, хохот, ухмылка, хохотать, захохотать, разразиться смехом (хохотом).
Положительный герой «темного» текста не любит, когда над ним смеются, насмехаются, когда в лицо ухмыляются, он ненавидит ухмылки, которыми его может удостоить отрицательный герой, он считает это издевательством, унижением своего достоинства, и это вызывает у него ответную ярость.
К примеру, постоянно преследуют смех и ожидание смеха, ухмылки и насмешки Артура Ривареса – героя романа Э. Л. Войнич «Овод». «Это у него навязчивая идея: ему кажется, будто люди над чем-то смеются. Я так и не понял – над чем», – говорит товарищ Овода Мартин.
Даже улыбка врага вызывает у Овода злость: «Артур поднял глаза на улыбающееся лицо полковника. Им овладело безумное желание наброситься на этого щеголя… и вгрызться ему в горло». Однако Овод на очень многих страницах романа сам смеется и хохочет над другими. В конце романа говорится о том, что Овод заболел, и вот как описывается его состояние во время болезни: «Он смеялся непрерывно во время приступа весь день, и смех его, звучащий резко и монотонно, стал к вечеру почти визгливым».
Обычно смех героя «темного» текста связан не с радостью, а со злорадством:
«…Теперь мы его поймали, Уотсон, теперь мы его поймали! И клянусь вам, завтра к ночи он будет биться в наших сетях, как бьются его бабочки под сачком. Булавка, пробка, ярлычок – и коллекция на Бейкер-стрит пополнится еще одним экземпляром».
Холмс громко расхохотался и отошел от портрета (Беспутного Гуго Баскервиля. – В.Б.). В тех редких случаях, когда мне приходилось слышать его смех, я знал, что это всегда предвещает какому-нибудь злодею большую беду.
(Конан Дойл «Собака Баскервилей»)С одной стороны, смех снимает напряженность у персонажа: «Опять сильная, едва выносимая радость <…> овладела им (Раскольниковым после преступления. – В.Б.) на мгновенье <…>. Все кончено! Нет улик! – и он засмеялся. Да, он помнил потом, что засмеялся нервным, мелким, неслышным долгим смехом, и все смеялся, все время, как проходил через площадь» (Ф. Достоевский «Преступление…»).
С другой стороны, появление и этого компонента не случайно в «темных» текстах. Его можно связать с явлениями физиологического уровня – с судорогами в лицевых мышцах во время эпилептических припадков, со слуховыми галлюцинациями со смехом, с возможностью возникновения припадка под влиянием смеха (Сараджишвили, Геладзе, 1977; Портнов, Федотов, 1971).
Говоря об этом, необходимо отметить, что сам по себе смех как выражение удовольствия или радости возникает, когда человек видит какое-либо несоответствие и это несоответствие не представляется ему опасным, то есть не связан ни с какой личностной акцентуацией (Белянин, Лебедев, 1991). М. М. Бахтин в своей книге «Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса» (Бахтин, 1990) посвятил первую главу проблеме смеха, назвав ее «Рабле в истории смеха». Эпиграфом к этой главе он поставил слова А. И. Герцена: «Написать историю смеха было бы чрезвычайно интересно». Придерживаясь культурологического подхода, исследователь пишет: «Отношение к смеху в Ренессансе можно предварительно и грубо охарактеризовать так: смех имеет глубокое миросозерцательное значение, это одна из существеннейших форм правды о мире в его целом, об истории, о человеке; это особая универсальная точка зрения на мир; видящая мир по-иному, но тем не менее (если не более) существенно, чем серьезность; поэтому смех так же допустим в большой литературе (притом ставящей универсальные проблемы), как и серьезность; какие-то очень существенные стороны доступны только смеху» (там же, с. 78).
М. М. Бахтин справедливо подчеркивает «неразрывную и существенную связь» смеха со свободой. Он пишет, что средневековый смех был абсолютно внеофициален, и предполагает преодоление страха (о страхе смерти в «темном» тексте см. ниже).
Возвращаясь к «темному» тексту, отметим, что смех в нем связан с высвобождением физического, природного в человеке. Смех призван проявить такие качества, как простота, естественность героя, его погруженность в быт, приземленность. Указание на связь смеха и физического начала есть и у Бахтина: «Смех на празднике дураков <в средние века. – В.Б.> вовсе не был, конечно, отвлеченной и чисто отрицательной насмешкой над христианским ритуалом и над церковной иерархией. Отрицающий насмешливый момент был глубоко погружен в ликующий смех материально-телесного возрождения и обновления. Смеялась „вторая природа человека“, смеялся материально-телесный низ, не находивший себе выражения в официальном мировоззрении и культе» (Бахтин, 1990, с. 88).
Такая интерпретация категории 'смех' вполне укладывается в предлагаемую здесь концепцию в той части, которая относится к «темным» текстам.
Автоматизмы
Во многих «темных» текстах встречается описание повторяющихся действий. Так, постоянно играет на пианино (до изнеможения) герой кинофильма «Shine». бегает герой фильма «Forest Gump», считает предметы герой фильма «Rain Man».
Не случайно появление жевунов в сказочной повести А. Волкова «Волшебник Изумрудного города». Есть такая разновидность эпилептического припадка, которая характеризуется ритмическими жевательными движениями и слюноотделением на фоне нарушенного сознания (Блейхер, 1994).
Пространственные ощущения
Семантические группы слов, содержание которых связано с проприоцептивными ощущениями (обеспечивающими сигналы о положении тела в пространстве), занимают значительное место в создании образности «темных» текстов. В них можно выделить ряд подгрупп.
Размер
Такие характеристики персонажей, как большой, крупный, высокий, громадный, с одной стороны, а с другой – маленький, короткий, невысокий, небольшой, тонкий, чрезвычайно частотны в «темных» текстах.
Приведем пример из повести «Приключения Алисы в стране чудес» Л. Кэрролла, одной из доминант которой мы считаем эпилептоидность. В этом произведении очень много жестокостей. Алиса периодически проваливается в ямы, колодцы, она постоянно не узнает никого из окружающих, в тексте неоднократно появляются призывы отрубить кому-либо голову. Кроме того, сама Алиса то уменьшается, то увеличивается в размерах:
Вот самое первое уменьшение Алисы:
– Какое странное ощущение! – воскликнула Алиса. – Я, верно, складываюсь, как подзорнаятруба.
И не ошиблась – в ней сейчас было всего десять дюймов росту.
За этим уменьшением последовало увеличение:
– Все страннее и страннее! – вскричала Алиса. <…> – Я теперь раздвигаюсь, как подзорная труба. Прощайте, ноги!
В эту же минуту она взглянула на ноги и увидела, как стремительно они уносятся вниз. Еще мгновение – и они скроются из виду.
<…> В эту минуту она ударилась головой о потолок: ведь она вытянулась футов до девяти, не меньше <…>.
Алису беспокоят эти изменения роста, и она обсуждает их с другими персонажами:
Наступило молчание.
– Ах мне все равно, – быстро сказала Алиса, – Только, знаете, так неприятно все время меняться…
– Не знаю, – отрезала Гусеница. <…>
– А теперь ты довольна? – спросила Гусеница.
– Если вы не возражаете, сударыня, – отвечала Алиса, – мне бы хотелось хоть капельку подрасти. Три дюйма – это такой ужасный рост!
В других местах текста также встречаются нелогичные, кажущиеся даже неуместными, не связанные с содержанием всего текста разговоры о росте.
Наличие этого семантического комплекса 'большой'—'маленький' обусловлено так называемой психосенсорной аурой, которая «сопровождается ощущением увеличения или уменьшения размеров собственного тела или его частей» (Портнов, Федотов, 1971, с. 183), с ощущениями, возникающими при микропсиях, макропсиях, метаморфопсиях, и другими изменениями «схемы тела», происходящими в акцентуированном сознании при эпилепсии (Справочник, 1985). В этих случаях человеку «вдруг начинает казаться, что все кругом изменилось, предметы удаляются, становятся меньше или же, наоборот, приближаются, валятся <на него. – В.Б.>, <…> части тела <…> увеличиваются, уменьшаются, исчезают» (Гуревич, Серейский, 1946). Характерно, что для описания таких состояний существует и соответствующий термин – «Алисы в стране чудес синдром», который наблюдается, в частности, при эпилепсии.
Возвращаясь к противопоставлению 'большой'– 'маленький', отметим, что главный герой, как правило, бывает маленького роста, а враг – большой, высокий. В частности, большинство противников Шерлока Холмса (из «Приключений Шерлока Холмса» Конан Доила) – высокие люди.
Перечислим некоторых из них. Это Тэнер из рассказа «Тайна Боскомской долины», Аб Слени, пишущий записки не словами, а крошечными пляшущими человечками (рассказ «Пляшущие человечки»); Пэтрик Кэрнс – убийца из рассказа «Черный Питер»; дворецкий Брантон из рассказа «Обряд дома Масгрейвов», который хотел похитить ценности, – рослый мужчина; Гилкрист, который пытался переписать экзаменационный текст до экзамена, – высокий и стройный (рассказ «Три студента»); Джефро Рукасл, угрожавший Вайолетт Хантер, – это толстый-претолстый человек («Медные буки») и к тому же обладатель огромного, величиной с теленка, дога. Гримсби Ройлотт из рассказа «Пестрая лента» – владелец болотной гадюки – субъект колоссального роста; капитан Кроукер в рассказе «Убийство в Эбби-Грейндж», совершивший убийство, выше Шерлока Холмса на три фута, то есть на 90 сантиметров, несмотря на то что Шерлок Холмс сам высокий (об этом говорится в рассказе «Пустой дом») и у него длинные ноги (об этом упоминается в рассказе «Медные буки»).
Отметив, что у главного героя во многих случаях оказывается маленький рост, а у того, кто ему угрожает, – большой, следует привести и обратные примеры.
В частности, некоторые противники Шерлока Холмса – маленького роста. И они тоже несут угрозу сыщику. К примеру, маленькие и гибкие преступники пытаются ограбить банк («Союз рыжих»). Маленький краснолицый человечек украл драгоценный камень («Голубой карбункул»); гибкая темная фигурка, быстрая и подвижная как обезьяна принадлежит похитителю жемчужины Борджиев (рассказ «Шесть Наполеонов»).
Можно увидеть некоторую закономерность в том, что герои большого роста угрожают персонажам рассказов о Шерлоке Холмсе, а герои маленького роста – самому Шерлоку Холмсу. Но для более точного вывода необходимы дальнейшие исследования. Здесь же важно другое – рост героев постоянно автором «темного» текста подчеркивается.
Интересно, что «по размеру» делятся на положительных и отрицательных персонажи одного из самых сложных романов в мире – «Преступление и наказание» Ф. М. Достоевского. «Плохие всегда толстые, хорошие – тонкие. Если, скажем, в описании дурака Лебезятникова мы отмечаем „худосочность“, то неизбежным становится и благородный поступок <…> именно он спасает Соню от навета Лужина. Напротив, Лужин, появляющийся в романе без указания на комплекцию, перед своим окончательным посрамлением сопровождается замечанием автора о „немного ожиревшем за последнее время облике“» (Вайль, Генис, 1991, с. 162).
Такое постоянное переключение с большого на маленького и с маленького на большого характерно для «темных» текстов. Например, в сказке братьев Гримм «Мальчик-с-пальчик» самый маленький герой выручает своих братьев и побеждает злого и большого великана. Тем самым маленький герой – положительный, и он несет угрозу большому великану. В сказке «Волк и семеро козлят» спасителем оказывается также самый маленький по росту козленок, который спрятался в часах и благодаря этому спасся. Во многих других сказках братьев Гримм также побеждают герои маленького роста («Храбрый портняжка», «Великан и портной» и др.).
Очень интересно развивается отношение 'маленький'—'большой' в тексте книги К. Кизи «Над кукушкиным гнездом». Повествование ведется от лица индейца, которому все говорят о его слишком высоком росте. По ночам он слышит голос своего отца, утверждающего, что он еще маленький. Герою произведения Макмерфи постоянно кажется, что главный врач психиатрический лечебницы слишком умная и использует свой ум во вред. Он подстрекает индейца к бунту против властей больницы. Индеец убеждает себя, что он уже большой, и начинает бороться со своими врагами. Таким образом, наличие оппозиции 'маленький'—'большой' служит исходным моментом для развертывания конфликта произведения, являющегося по своей эмоционально-смысловой доминанте «темным».
В России достаточно популярен такой жанр городского фольклора, как «черный юмор», где особое место занимают стишки про «маленького мальчика». Приведем показательный в плане данного анализа пример:
Малые дети в песочке играли, Умному дяде думать мешали. Жалобно пули в воздухе выли. Гробики только по метру и были.Обращение текстов в этом жанре к физиологии и к смерти позволяет относить их к «темным» (Белянин, Бутенко, 1996).
На небольшом или уменьшенном росте действующих лиц построены сюжеты многих книг для детей. Можно было бы это объяснить тем, что сами дети маленького роста, но, говоря о типе текста, следует отметить не только наличие одного признака (в данном случае – рост героя), но и комплекс сопутствующих элементов, которые позволяют относить текст к определенному типу.
Так, в книге «Чудесные путешествия Нильса с дикими гусями» С. Лагерлеф есть и уменьшение в результате колдовства лесного гнома, и восстановление роста, есть нежелание учиться, и злая бронзовая статуя-великан (не человек), которая ходит только по ночам, и серые крысы, которых Нильс уводит в озеро. В «Путешествиях Гулливера» (Д. Свифт) есть и лилипуты («Путешествия в Лилипутию»), и великаны («Путешествие в Бробдигнег»), и глупые ученые («Путешествия в Лапуту»). Главный герой в книге Я. Корчака «Король Матиуш Первый» невысокого роста, и его преследует тоска и неудовлетворенность. В книге Н. Носова «Приключения Незнайки и его друзей» герой-коротышка многого не знает, зато многое умеет делать, а затем попадает на Луну («Незнайка на Луне»). В книге Б. Брагина «В стране дремучих трав» уменьшенный рост героев помогает понять простые истины в отношении природы.
Можно вспомнить и о «простом» тексте «Дядя Степа» С. Михалкова, где именно рост героя играет основную роль: с постовым такого роста спорить запросто не просто.
Немало примеров, связанных с ростом, можно найти в повести Вронской Джин «…И один высокий карлик», где речь идет о пребывании в сумасшедшем доме (в предисловии эта повесть сравнивается с романом Кена Кизи «Над кукушкиным гнездом»). К подгруппе слов, связанных с размером, примыкают слова, в том числе имена собственные, с уменьшительно-ласкательными суффиксами: пятнышко, ларчик, слоненок, елочка, зайчишка, серенький, лошадка, мужичок, корешок, детишки. Наличие их в тексте однозначно указывает на то, что текст «темный».
Падение
«Темный» текст может начинаться (Л. Кэрролл «Приключения…») или заканчиваться (В. Липатов «И это все о нем», где в результате расследования гибели главного героя высокого роста оказывается, что он выпал из вагона поезда) семантическим компонентом 'падение'.
Говоря о корреляции с эпилепсией, уместно вспомнить, что сам термин происходит от греческого слова epileopsia, что означает «внезапно падать, неожиданно быть охваченным».
Вот как описывается у Конан Дойла имитация Шерлоком Холмсом падения, напоминающего внешне эпилептический припадок:
– Мы думаем, что если бы нам только удалось найти… Боже! Мистер Холмс, что с вами?
Мой бедный друг внезапно ужасно изменился в лице, Глаза закатились, все черты свело судорогой, и, глухо застонав, он упал ничком наземь. Потрясенные внезапностью и силой припадка, мы перенесли несчастного в кухню, и там, полулежа на большом стуле, он несколько минут тяжело дышал. Наконец он поднялся, сконфуженно извиняясь за свою слабость.
(Конан Дойл «Рейгетские сквайры»)Иногда в качестве эквивалента 'падения' выступает компонент с общим смыслом 'резкая остановка', что можно расценивать как соответствие оцепенению, застыванию, замиранию, описываемыми при эпилепсии (Карлов, 1990). Например: «Опять передо мной та глухая стена, которая вырастает на всех моих путях к намеченной цели» (Конан Дойл «Собака Баскервилей»).
Опускание вниз
Также достаточно регулярно наравне с падением и спотыканием в «темном» тексте встречается 'спуск вниз', в подвал, в подземелье, в нору.
В частности, большое количество таких «движений в низ» можно встретить в сказке «Алиса в стране чудес» Л. Кэрролла.
Алиса успела заметить, что он (кролик. – В.Б.) юркнул в нору под изгородью.
В этот же миг Алиса юркнула за ним следом <…>.
Нора сначала шла прямо, ровно, как туннель, а потом вдруг круто обрывалась вниз. Не успела Алиса и глазом моргнуть, как она начала падать, словно в глубокий колодец.
Для того чтобы попасть к коротышкам-селенитам (жителям Луны), должен был провалиться в яму и Незнайка (Н. Носов «Незнайка на Луне»); попадает в темный и теплый чулан, который называется желудком кита, моряк из рассказ Р. Киплинга «Откуда у кита такая глотка»; попадает в подземную пещеру к Белой кобре и Маугли.
К этим примерам можно добавить и эпизоды со спуском героя в преисподнюю из книги «Гаргантюа и Пантагрюэль» (Ф. Рабле). По словам М. М. Бахтина, «ведущий образ „Пантагрюэля“ – разинутый рот, то есть, в конце концов, та же gueulle d'enfer <преисподняя. – В.Б.> средневековой мистерийной сцены. Все образы Рабле проникнуты движением в низ (низ земной и телесный), все они ведут в преисподнюю» (Бахтин, 1990, с. 418).
М. М. Бахтин рассматривает падение, опускание вниз как некоторый литературный прием, основа которого усматривается им в традициях культуры. «В средневековой картине мира, – пишет он, – верх и низ, выше и ниже, имеют абсолютное значение как в пространственном, так и в ценностном смысле. Поэтому движение вверх, путь восхождения, или обратный путь нисхождения, падения играли в системе мировоззрения исключительную роль. Такую же роль они играли и в системе образов искусства и литературы, проникнутых этим мировоззрением. <…> Та конкретная и зримая модель мира, которая лежала в основе средневекового образного мышления, была существенно вертикальной» (там же, с. 444).
В рамках же нашей концепции, ориентированной на соотнесение текстовых символов с мироощущением автора, возможна иная трактовка. Допуская возможность сходства в описании падения с психологическим описанием ощущения равновесия, свойственного всем людям, мы полагаем, что появление в «темных» текстах лексики с общей семой 'низ' (внизу, дно, дыра, колодец, нора, подвал, подземелье, яма и др.) обусловлено существованием в клинической картине эпилепсии «припадков головокружения, связанных с ощущениями поднимания и опускания, как это наблюдается в лифте» (Сараджишвили, Геладзе, 1977, с. 155).
Падение в воду
Достаточно часто компонент 'падение' имеет вид 'падение в воду'. Функцию воды при этом может выполнять озеро, река, море, лужа и др. Вода в любом виде просто преследует персонажа.
– Поди-ка сюда, вождек <говорят высокому индейцу черные санитары. – В.Б.>. Суют мне тряпку, показывают, где сегодня мыть, и я иду. Один огрел меня сзади по ногам щеткой: шевелись!»
(Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом»).– Час от часу не легче! – подумала бедная Алиса. – Такой крошкой я еще не была ни разу! Плохо мое дело! Хуже некуда <…>.
Тут она поскользнулась и бух! – шлепнулась в воду.
(Л. Кэрролл «Приключения…»)Вдруг выдра пронзительно взвизгнула, перекувыркнулась и шлепнулась прямо в воду.
(С. Лагерлеф «Чудесное путешествие Нильса с дикими гусями») «Нам бы только до взморья добраться, Дорогая моя!» – «Молчи…» И по лестнице стали спускаться, Задыхаясь, искали ключи. (А. Ахматова «Побег»)Вода
Очевидно, что вода имеет несколько функций в культурных текстах. Так, Ф. Ленц трактует падение волка в колодец в «Волке и семеро козлят» братьев Гримм следующим образом: «Вода колодца, образ оживляющего созидательного начала, не может утолить его жажду <частый мотив в «темных» текстах. – В.Б.>, она несет ему смерть» (Ленц, 1995, с. 63). 3. Фрейд толкует падение в воду во сне как символ рождения (Фрейд, 1990).
В «темных» текстах достаточно часто идет дождь (кинофильм «Shine»), герои оказываются на море, под водой, падают в лужи, пьют алкоголь. Иногда 'вода' встречается и в названиях текстов (кинофильм «Rain Man»). He заметить устойчивости этого образа нельзя.
В рамках нашего подхода близость этих двух компонентов ('падение' и 'вода') не случайна, что подтверждается наличием в психиатрической литературе сведений о возможности возникновения эпилептического припадка при погружении тела в воду (Справочник…, 1985), поскольку «судорожная предрасположенность возрастает прямо пропорционально количеству жидкости в мозгу» (Жариков и др., 1989, с. 481). Есть данные и о том, что при эпилепсии имеется нарушение водно-солевого обмена, и о том, что после припадка возможно мочеиспускание (Портнов, Федотов, 1971; Карлов, 1990 и др.).
Зрительные ощущения
Важным признаком «темного» текста является наличие в нем описания зрительных ощущений с семантическим компонентом 'сумрак'. Относя этот компонент формально к зрительным ощущениям, отметим его близость как к органическим ощущениям, так и к эмоциональным состояниям в силу ярко выраженного эмоционального тона, который ему сопутствует.
Среди лексики, связанной со зрительными ощущениями, выделяются две подгруппы слов. Первая из них отражает резкое изменение световых ощущений (блеск, блики, вспышка, мерцание, пятно), вторая – постепенное, связанное также и с изменением цвета (позеленеть от злости, покраснеть, побледнеть, измениться в лице).
Сумерки
Дым, мрак, сумрак, туман, тучи, тьма нередко встречаются при описании обстановки, которая представляется положительному персонажу «темного» («простого») текста угрожающей.
На наш взгляд, внешнее (сюжетное) обоснование появления того или иного семантического компонента является вторичным. Так, в рассказе Конан Дойла «Собака Баскервилей» Шерлока Холмса постоянно окружают туман и сумерки. Нарративно это обусловлено пребыванием героя на болотной местности, однако можно утверждать, что в модели порождения (психологически) первична именно модальность мироощущения, а описываемые в тексте реалии вторичны.
В целом, сталкиваясь с угрожающей его жизни ситуацией, герой «темного» текста оказывается в ее эпицентре, как бы стремясь к собственной смерти, к аутодеструкции (саморазрушению). Мир для героя «темного» текста враждебен, он словно физически ощущает, что вокруг него сжимается пространство, замыкается или сжимается кольцо врагов либо вокруг него становится темно. Сюжетно это, как уже отмечалось, связано с тем, что он спускается вниз (в подземелье, в нору, в пещеру, в шахту и т. п.). Но факт остается фактом – сумрак и ограниченное пространство наиболее часто встречаются именно в «темном» тексте.
Огонь
Появление этих лексических элементов в «темных» текстах объясняется наличием при эпилепсии галлюцинаторной ауры, во время которой видятся пожары, зрительных аур со всевозможными зрительными припадками – фотопсиями, фотогениями и паропсиями в виде фосфенов, а также с возможностью припадка «под влиянием световых мельканий» (Портнов, Федотов, 1971; Сараджишвили, Геладзе, 1977; Карлов, 1990; Справочник…, 1985).
Кроме того, в «темном» тексте возможно появление слов, связанных с семой 'огонь' (пожар, гореть, поджигать, загореться, вспыхнуть), причем 'огонь' может играть и ключевую роль в тексте, и быть фоном.
Луна
Любопытно, что наравне с видением предметов во время сумерек, в сумраке, во тьме, иногда описывается, что герой видит предметы при лунном свете, что похоже на описания сомнабулизма, снохождений или лунатизма при эпилепсии. Встречается слово Луна и в названии «темных» текстов (Н Носов «Незнайка на Луне»; С. Павлов «Лунная радуга»; К. Циолковский «На Луне»).
Появление Луны нередко связано с возбуждением злых, низменных начал:
Трещит заискренным забором Сухой рождественский мороз; И где-то ветер вертким вором Гремит заржавленным запором; И сад сугробами зарос. Нет, лучше не кричать, не трогать То бездыханное жерпо: Оно черно, – как кокс, как деготь… И по нему, как мертвый ноготь, Луна переползает зло. А. БелыйСлуховые ощущения
В «темных» текстах много лексических элементов со значением 'неприятный звук': треск, шорох, шуршание; грохнуть; затрещать, зашелестеть, зашуршать, хрипеть и др.
Так, в повести Ч. Айтматова «Плаха» многократно встречается описание воя, который может быть длительный, тягостный, заунывный; горестный, яростный и злобный; гула, который может быть мощный, странный; грохота выстрелов и поездов, стона; который может принадлежать зверю, быть печальным и тяжким, все может гудеть – голова, поезд, земля и громыхать – гроза, поезда.
Психологическим коррелятом этого явления представляются «ложные слуховые ощущения (паракузии), которые выражаются в ощущении различных звуков, шумов, звона, беспрерывного или прерывистого» (Сараджишвили, Геладзе, 1974, с. 154).
Обонятельные ощущения
Достаточно часто в «темных» текстах встречается описание того, как герой почувствовал запах горелой резины, резкий запах, ему пахнуло, ударило в нос.
Вот пример из повести В. Катаева о «прирожденном разведчике» – «Сын полка»:
Непрерывный звенящий гул стоял как стена вокруг орудий. Едкий, душный запах пороховых газов заставлял слезиться глаза, как горчица. Даже во рту Ваня чувствовал его кислый запах.
А вот фрагмент стихотворения И. Бродского:
Тлеет кизляк, ноги окоченели; пахнет тряпьем, позабытой баней.Коррелятом этих семантических компонентов может быть обонятельная аура, при которой ощущается неприятный, зловонный запах гнили, дыма, паленого, горелого.
Другие психосемантические компоненты «темного» текста
Не приводя дополнительных развернутых примеров (число которых может очень быть велико), отметим наличие в «темных» текстах и ряда других семантических компонентов.
Гады
Достаточно регулярно в «темных» текстах встречаются мыши (Э. Т. А. Гофман «Щелкунчик и Мышиный Король»; Дж. Стейнбек «О людях и мышах»), гусеницы (Л. Кэрролл «Алиса…»), змеи, муравьи. Похож на паука Крошка Цахес (Э. Т. А. Гофман). Есть тараканы у Булгакова и в «Роковых яйцах», и в «Белой гвардии». Особую роль играет таракан, как известно, у Чуковского в стихотворении «Тараканище»:
– Принесите ко мне, звери, ваших детушек, Я сегодня их за ужином скушаю.Можно, конечно, свести образ насекомого, в которого превращается Грегор Замза Ф. Кафки («Превращение»), к таракану (Елистратов, 1996), но факт остается фактом – это насекомое.
Наиболее частотны крысы. Так, эпидемия чумы (мрак чумы) в Оранге началось с того, что «доктор Бернар Риз, выйдя из квартиры, споткнулся на лестничной площадке о дохлую крысу» (А. Камю «Чума»).
В кульминационной сцене главному герою романа Дж. Оруэлла «1984» Уилсону Смиту угрожают тем, что на его лицо наденут маску и приблизят к нему клетку с крысами: «Гнусный затхлый запах зверей ударил в нос. Рвотная спазма подступила к горлу, и он почти потерял сознание. Все исчезло в черноте. <…> Черная паника <…> накатила на него. Он был слеп, беспомощен, ничего не соображал».
Увечье
Иногда в «темных» текстах описывается герой, обладающий каким-либо физическим уродством, из которых наиболее часто встречается хромота (к примеру, хромает Адыгей из «Буранного полустанка» Ч. Айтматова или напарник главного героя в к/ф «Полуночный ковбой») или умственная отсталость (Д. Стейнбек «О людях и мышах», Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом», У. Фолкнер «Шум и ярость», к/ф «Rain Man»).
Дно общества
Достаточно часто описывается так называемое 'дно общества': трущобы, пивнушки, проститутки, бандиты и пр. При этом описание злодеяний превалирует над описанием борьбы с ними.
В этом легко увидеть корреляции с неупорядоченностью жизни как личностной особенностью или с бродяжничеством, возможном при эпилепсии.
Физиология
В целом для «темных» текстов характерен интерес к уровню физиологии человека. Приведем достаточно показательный пример из финала повести «Сорок первый» Б. Лавренева:
Поручик упал головой в воду <sic! – В.Б.>. В маслянистом стекле расходились красные струйки из раздробленного черепа. <…>. Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.
В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее неудоменно-жалостно.
А вот пример более мягкого описания физиологической стороны жизни человека в сцене тушения пожара Гулливером, находившимся в Лилипутии:
«Накануне вечером я выпил много превосходнейшего вина <…>, которое отличается сильным мочегонным действием. По счастливой случайности я еще ни разу не облегчался от выпитого. Между тем пожар от пламени и усиленной работы по его тушению подействовали на меня и быстро обратили вино в мочу. Я выпустил ее в таком изобилии и так метко, что в какие-нибудь три минуты огонь был совершенно потушен».
В «темных» текстах уделяется особое внимание сексуальной жизни человека. Так, ходит в публичный дом получивший бессмертие от дьявола Дориан Грей (О. Уайлд «Портрет…»). Бунтующий против порядков в больнице Макмерфи, любящий карты, сигареты и вино, приводит в клинику девушку и спит с ней, а сам роман начинается со следующих фраз: «Они там. Черные в белых костюмах встали раньше меня, справили половую нужду в коридоре и подотрут, пока я их не накрыл» (Кен Кизи «Над кукушкиным гнездом»).
Не останавливаясь на этой проблеме подробно, отметим возможность «возбужденности сексуального чувства» в связи с эпилептическим припадком (Клиническая…, 1967).
Труп
В «темном» тексте большую роль может играть семантический компонент 'труп' и тесно связанный с ним 'смерть'. Иногда эквивалентом смерти может выступать 'сон' как временная смерть.
Как известно, в философии экзистенциализма центральное место занимает проблема смерти. Тексты большинства экзистенциалистов мы относим к «темным».
В этой связи интересно отметить, что один из переводов сказки Л. Кэрролла звучит как «Соня в царстве дива».
В целом анализ показал, что частотность слов, относящихся к этой лексико-семантической группе, в «темных» текстах значительно превышает частотность этих слов в текстах других типов. Более того, очень велика вероятность того, что при появлении слова одной из групп ('тоска', 'запах' и т. п.) встретятся и слова другой группы.
Стилистические особенности «темных» текстов
Говоря о типе текста, мы имеем в виду не столько его сюжет или композицию, сколько эмоциональный замысел, который лежит «за текстом» и проявляется в каждом элементе текста, в том числе в его стиле.
Стиль «темного» текста существенно отличается от стиля других типов текстов. Собственно говоря, называя этот тип текста в свое время «простым» (Белянин, 1988), мы в первую очередь имели в виду характеристики его стиля. Ощущение «сумеречности» и «вязкости» создается в таком тексте не только одним описанием обстановки или упоминанием о том, что вдруг все потемнело, этому способствует и весь его стиль. Говоря об «освобождении литературного слова <…> от ига выраженной упорядоченности», Р. Барт вводит понятие «белое письмо» (Барт, 1983, с. 343). Он пишет: «…Письмо, приведенное к нулевой степени, есть в сущности <…> внемодальное письмо; его можно было бы даже назвать журналистским письмом <…> нейтральное письмо располагается посреди <…> эмоциональных выкриков и суждений, но сохраняет от них полную независимость; его суть как раз состоит в их отсутствии… Этот прозрачный язык, впервые использованный Камю в „Постороннем“, создает стиль, основанный на идее отсутствия, которое оборачивается едва ли не полным отсутствием самого стиля» (там же).
Это ценное для нас наблюдение необходимо проиллюстрировать цитатой из упоминаемого Р. Бартом произведения А. Камю, философа экзистенциализма:
Вечером за мной зашла Мари. Она спросила, думаю ли я жениться на ней. Я ответил, что мне все равно, но если ей хочется, то можно и жениться. Тогда она осведомилась, люблю ли я ее. Я ответил точно так же, как уже сказал ей один раз, что это никакого значения не имеет, но вероятно, я не люблю ее.
– Тогда зачем же тебе жениться на мне? – спросила она.
Я сказал, что это значения не имеет, если она хочет, мы можем пожениться и т. д. и т. п.
(А. Камю «Посторонний»)Такой стиль, основанный, по словам Р. Барта, на «идее отсутствия», создает впечатление иллюзорности (дереализации) всего происходящего и адекватно описывает мироощущение, возникающее при сумеречном состоянии сознания во время эпилепсии.
Подтверждением гипотезы о том, что экзистенциализм связан с той же эмоционально-смысловой доминантой, что и «темные» тексты, может служить факт, отмеченный переводчицей «Алисы в стране чудес», отнесенной нами к «темным» текстам, Н. М. Демуровой. Она приводит фрагмент текста и дает к нему следующий комментарий: «Дайте-ка вспомнить: сегодня утром, когда я встала, я это была или не я? Кажется, уже не совсем я… кто же я в таком случае? Это так сложно…» «М. Хит, – пишет в комментариях Н. М. Демурова, – усматривает здесь первый из ряда кризисов, переживаемых личностью Алисы («кризисы идентичности»), которым мог бы позавидовать любой экзистенциалист».
Интересно, что даже при описании внешне динамичных событий возможно использование «белого стиля»:
Он прыгнул, покатился вниз, и ему не сразу удалось остановиться и подняться обратно. Он казался неутомимым, словно был не из плоти и крови, будто Игрок, который как пешку, передвигал его по доске, одновременно вдыхал в него жизнь.
(У. Фолкнер «Перси Гримм»)Схожими в этом плане представляются по стилю и такие тексты, как «Взгляни на дом свой, ангел» Т. Вульфа и «Привычное дело» В. Белова.
Среди других особенностей построения «темных» текстов важно отметить чередование в номинации, в назывании героев: не всегда понятно, кто из них говорит, читателю трудно уловить, кто сейчас действует.
В целом по ходу развития сюжета «темного» текста герои часто терпят коммуникативные провалы и сами вводят в заблуждение тех, кто претендует на то, что все знает. В «темных» текстах герой часто не понимает окружающих.
Важной характеристикой стиля «темного» текста является, как мы уже отмечали, его сниженность и использование просторечных и разговорных форм.
Так, лирический герой Вл. Высоцкого – человек с упрощенным взглядом на мир, его речь полна отклонений от литературной нормы:
Мне бы выпить портвейна бадью, А принцессы мне и даром не надо. Чуду-юду я и так победю. («Про дикого вепря»)Пестрит инвективной лексикой «Москва – Петушки» Вен. Ерофеева.
Вот пример, взятый тоже из поэзии:
– В мире подобного нет безобразия!
– Темная масса!
– Татарщина!..
– Азия!..
– Хамы!..
– Мерзавцы!..
– Скоты!..
– Подлецы!..
(Д. Бедный «Главная улица»)Характерно, что в предисловии к текстам «одного из зачинателей поэзии социалистического реализма» отмечается: «Стремление приспособиться к вкусам самых широких слоев читателей иногда приводило Демьяна Бедного к упрощению мысли, снижению художественного уровня его произведений».
Приведем пример из повести Б. Лавренева «Сорок первый»:
Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.
Встал, отряхнул с куртки снежок.
– Кончь! Мой приказ – на заре в путь. Може не все дойдем, – шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос, – а идти нужно… потому, товарищи… революция вить… За трудящих всего мира!
Мы не склонны расценивать это только как отражение «романтики революции, ее героических характеров» (Советский…, 1984, с. 680). За такого рода стилизацией мы видим сверхзадачу автора «темного» текста – показать жизнь простого, обычного человека.
Стилизация под бескультурного человека, характерная, в частности, для Вл. Высоцкого и М. Зощенко, представляется нам проявлением личностного, а не только жанрового стиля автора.
Кроме того, очевидно, что бранные слова оказываются по преимуществу связанными с физиологией человека (Жельвис, 1992), характерной именно для «темных» текстов.
Было бы неоправданным упрощением трактовать сниженность стиля только как проявление личности автора. Возможности культурологического подхода показаны, в частности, М. М. Бахтиным в работе по народной культуре Средневековья и Ренессанса, вторая глава которой носит название «Площадное слово в романе Рабле» (Бахтин, 1990). И тем не менее сниженность стиля в рамках психиатрического литературоведения мы связываем преимущественно с тем психологическим содержанием, которое обусловлено эмоционально-смысловой доминантой «темных» текстов.
Психологический синтаксис «темных» текстов
Как мы отметили выше, при описании состояний человека в «темных» текстах обращается внимание на смену психического состояния героя, на импульсивность его поведения. Герой сталкивается с массой препятствий, и описание их преодолений делает текст не столько динамичным, сколько резким и отрывистым.
Эта отрывистость проявляется в пропусках глаголов, местоимений и союзов. Кроме того, в «темных» текстах заметно обилие таких пунктуационных знаков, как тире, двоеточий, кавычек, многоточий в начале и в конце абзацев. Есть и сочетания восклицательного знака с многоточием, и вопросительного с многоточием, и вопросительного с восклицательным. Такая «морзянка» подчеркивает резкость и отрывистость.
Так, детектив В. Богомолова «Момент истины» носит подзаголовок «В августе сорок четвертого…», в который включено многоточие. В самом тексте, изобилующем документами, «текстуально идентичными подлинным документам», есть целые страницы, где каждая фраза прерывается многоточием. Приведем небольшой фрагмент из этого произведения с сохранением авторской пунктуации:
Выжженная солнцем трава… Зной… Пыль… Духота… Чтобы заставить его отойти и захватить колодец, немцы подожгли степь… огонь, клубы густо-едкого дыма надвигались на боевые позиции роты с трех сторон. И за этой завесой наступали немцы: пехотный батальон – полного состава! А в роте было девятнадцать человек, два станкача и пэтээр….
Именно такой синтаксис может быть одним из проявлений эпилептоидной акцентуации.
2.3. Проявление гипоманиакальной акцентуации в «веселых» текстах
Психологический и психолингвистический анализ по методу эмоционально-смысловой доминанты позволяет выделить из числа других типов «веселые» тексты. Определим их как тексты, описывающие поведение человека, который сталкивается с препятствиями или опасностями, но успешно преодолевает их и достигает высшей степени успеха.
Типичный «веселый» текст
В качестве типичного «веселого» текста рассмотрим детектив Иоанны Хмелевской «Что сказал покойник».
Героиня романа, выиграв на ипподроме четыре тысячи шестнадцать крон, отправляется в нелегальный игорный дом. Там, находясь в восторженном состоянии, она, не зная сама почему, выиграла. При этом ее сумка до отказа забита деньгами, но она продолжает упорно выигрывать. Внезапно в казино начинается перестрелка. Героине удается услышать последние слова одного из убитых гангстеров, и она узнает о кладе, который зарыт где-то в горах на каком-то острове. Ее похищает международная шайка гангстеров и самолетом вывозит в Южную Америку. «Тема и напряженность действия, – пишет в послесловии к детективу В. Хорев, – возрастает с каждой главой, с героиней происходят совершенно невероятные приключения. Неистощимая фантазия автора, кажется, не знает границ. Побеги и пытки, перестрелки и убийства, переодевания, предательства и измены, любовные истории, дворцы и сырые подземелья, яхты, лимузины, игра в прятки с вертолетом и даже морской бой, который героиня успешно ведет в одиночку на похищенной у гангстеров чудо-яхте. <…> Хмелевская мастерски создает сцены и ситуации <…> взять хотя бы эпизод, когда героиня, располагая одним лишь вязальным крючком, делает подкоп из подземелья средневекового замка во Франции, куда ее заточили гангстеры» (Хорев, 1988, с. 588). Конечно, в конце концов она становится обладательницей несметных сокровищ.
Мы не будем рассматривать вопрос об эстетических и художественных достоинствах, поскольку он выходит за пределы нашей работы, а лишь отметим, что у этих текстов есть свои читатели.
Поскольку, как мы покажем далее, многие «веселые» тексты существуют и в виде песен, приведем три примера, где с удовлетворением отметим наличие самого прилагательного «веселый»:
Если бы парни всей Земли Вместе собраться однажды могли, Вот было б весело в компании такой И до грядущего подать рукой. (Е. Долматовский «Если бы парни всей Земли») В буднях великих строек, В веселом грохоте, в огнях и звонах, Здравствуй, страна героев, Стран мечтателей, страна ученых! (А Д'Актиль «Марш энтузиастов») Путь далек у нас с тобою, Веселей, солдат, гляди! Вьется, вьется знамя полковое: Командиры впереди. (М. Дудин «В путь!»)Гипоманиакальная ацентуация
Рассматривая типы психопатий, П. Б. Ганнушкин отмечает среди психопатов людей, которые характеризуются богатством мыслей, предприимчивостью, ловкостью и изворотливостью (Ганнушкин, 1984). Он относит их к конституционально-возбужденному типу психопатов.
Описывая такие состояния личности, когда наблюдается «постоянно повышенное настроение и безудержный оптимизм», психиатры дают им разные наименование – гипомания, мания, маниакальные состояния, маниакальный синдром, циклотимная мания. Личность, у которой преобладает повышенное настроение, называется гипертимной, а само состояние – гипертимичностью (Справочник…, 1985, с. 241; Леонгард, 1981, с. 117–120).
Близка этим состояниям и маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза – МДП, которая имеет две формы – легкую (циклотимия) и выраженную (циклофрения) (Справочник…, 1985, с. 100).
По имеющимся у психиатров данным, около 7 % населения подвержены МДП, причем заболевание может начаться в любом возрасте, хотя чаще оно встречается в зрелом и позднем. В его возникновении высока роль наследственности и конституционального фактора – преобладают пикники, у 60 % которых встречается МДП.
Эта патология характеризуется рядом симптомов.
1. Повышенное настроение, при котором люди пребывают в радостном состоянии, в их воспоминаниях только прекрасное, будущее в розовых красках, они полны планов (Гуревич, Серейский, 1946, с. 360). Их повышенная продуктивность бывает, однако, беспорядочной и хаотичной. Нередко они начинают писать стихи или рисовать даже в том случае, если раньше не проявляли никаких признаков подобного творчества. Появляется наклонность к рисованию или интерес к таким областям знания, которые раньше оставались вне поля их зрения (Гиляровский, 1945, с. 287).
2. Интеллектуальное возбуждение, проявляющееся в быстрой смене идей и представлений, объясняется тем, что в мышлении нет должного контроля со стороны «руководящих представлений». Сочетание ассоциаций происходит больше по внешним признакам. На каждый вопрос они отвечают фонтаном слов, каждое из которых влечет за собой новую цепь образов. Отсюда поверхностность мышления, симптом скачки идей (fuga idearum), приводящей даже к спутанности. Иногда создается впечатление бессвязности речи, что объясняется выпадением многих промежуточных звеньев (Гуревич, Серейский, 1946, с. 360).
Внимание у таких людей обострено – они очень наблюдательны, все замечают, даже мелкие детали. Они быстро делают соответствующие выводы, поражая своей догадливостью и сообразительностью. Правда, выводы их нередко слишком поспешны, недостаточно продуманы и не верны, так как основываются не на всех подлежащих рассмотрению данных. При этом их внимание непрочно, неустойчиво, они легко отвлекаются.
3. Психомоторное возбуждение. Очень высоко стремление к деятельности. При легкой степени расстройства можно наблюдать некоторое повышение работоспособности. С усилением психомоторного возбуждения человек переходит от одного дела к другому, ничего не заканчивает (так называемая полипрагмазия) (там же).
В структуру маниакальной фазы МДП не входят галлюцинации. Однако иллюзия узнавания – симптом, чрезвычайно характерный для маниакальной фазы (Портнов, Федотов, 1971, с. 159). Человек в таком состоянии видит большое количество знакомых лиц. Он со всеми знакомится, во все вмешивается. К проявлениям психомоторного возбуждения следует отнести и некоторое неистовство (Гуревич, Серейский, 1946, с. 361), при котором, однако, в отличие от шизофрении и эпилепсии сохранена некоторая грациозность движений.
При маниакальности бывает повышена сексуальность. В легких случаях дело ограничивается особенной кокетливостью, наклонностью одеваться в яркое платье, украшая его всем, чем можно, в склонности к разговорам на легкомысленные и эротические темы. При большей степени возбуждения повышенный эротизм ведет к легкому завязыванию связей часто с малознакомыми или совершенно незнакомыми людьми. Порой возникает стремление обнажаться, не стесняясь присутствия других людей. Выражением эротизма психиатры считают и цинизм (Гиляровский, 1954, с. 386).
Нередко наблюдается и повышенная возбудимость: иногда уже оклик, замечание вызывают резкое раздражение. Это обстоятельство ведет нередко к конфликтам с окружающими, к сутяжничеству. Стремление к деятельности выражается и в речевом возбуждении: люди в таком состоянии могут говорить без умолку, кричать до хрипоты, могут начать петь. Характерно отсутствие чувства усталости и потребности во сне. Больные иногда находятся месяцы в беспрерывном возбуждении.
4. Маниакальные личности отличаются переоценкой собственной личности, гармонирующей с общим настроением и доходящей до бредовых идей величия, правда, не стойких. Наблюдается отсутствие всяких жизненных тревог. Присутствует довольно туманная житейская бодрость, доведенная самопереоценкой, слабостью критики и расторможенностью импульсов до карикатуры. При мании чувство собственной ценности приобретает эйфорическую окраску. Возникает желание заключить в свои объятия весь мир: «Обнимитесь, миллионы!» (Ганнушкин, 1984, с. 153).
Таким людям свойственна самоуверенность, бесцеремонность, что при обычно повышенной самооценке делает их несносными спорщиками; нередко они лживы, завистливы, склонны к рискованным приключениям при полном отсутствии критического отношения к своим недостаткам. У них отмечается постоянная потребность в увеселениях, «предприимчивость ведет к построению воздушных замков и грандиозных планов, кладущих начало широковещательным, но редко доводимым до конца начинаниям» (там же, с. 154). «Предприимчивые и находчивые, такие субъекты обыкновенно выпутываются из самых затруднительных положений, проявляя при этом поистине изумительную ловкость и изворотливость. <…> Многие из них знают чрезвычайно большие достижения и удачи: остроумные изобретатели, удачливые политики, ловкие аферисты…» (там же, с. 254–255). Иногда при столкновении с препятствием появляются идеи преследования или ущерба.
В целом же маниакальные психопаты – это «одаренные субъекты, которые изумляют окружающих гибкостью и многосторонностью своей психики, богатством мыслей, часто художественной одаренностью, душевной добротой и отзывчивостью, а главное, всегда веселым настроением» (Крепелин, цит. по Ганнушкин, 1984, с. 254). Их интересы поверхностны и неустойчивы, общительность переходит в чрезмерную болтливость.
Психолингвистические особенности «веселых» текстов
Опишем в общих чертах особенности «веселого» текста. Тематически «веселые» тексты посвящены людям так называемых отважных профессий. Это романы о парашютистах, влюбленных в свою профессию и совершающих подвиги, или об отважных ребятах-шоферах, которые пробиваются с важным грузом сквозь снежные заносы. Героями могут стать и жулики, шулеры, воры, музыканты, военные, путешественники, полицейские. Главный персонаж – удачливый, остроумный, оптимистичный, находчивый и эрудированный. В таком тексте обилие событий и их участников, происходит частая смена места действия.
Нередко принадлежность текста к тому или иному типу проявляется в самом его начале. Так, «веселый» текст начинается обычно с того, что главный герой случайно оказывается в такой ситуации, когда ему надо действовать смело и энергично, а за это он имеет шанс получить большое вознаграждение. Далее с героем происходят совершенно невероятные приключения, в результате которых он становится сказочно богатым человеком. В финале герой побеждает всех противников и устремляется к новым приключениям. Девиз героев «веселых» текстов: «Вся жизнь – игра».
Атрибуция произведения как авантюрного или плутовского романа в большинстве случаев также свидетельствует о том, что текст создан в соответствии с этой эмоционально-смысловой доминантой. Немало кинокомедий об удачливых гангстерах и охотниках за ними созданы той же основе.
Стиль «веселых» текстов легкий и свободный.
Как правило, основу «веселого» текста составляют похождения положительного персонажа.
Физическая сила
В литературных произведениях человек нередко страдает, мучается, болеет. В литературе экзистенциализма он находится в критической ситуации. В «веселых» же текстах у героя всегда хорошее самочувствие, он весел, бодр, деловит, физически вынослив и очень силен, знает разные приемы борьбы. Так, Мюнхгаузен с легкостью переносит карету, когда он оказывается на узкой дороге с другой каретой:
Делать нечего, я вылезаю из кареты и выпрягаю моих лошадей. Затем взваливаю карету на плечи – а карета тяжело нагруженная! – и одним прыжком переношу карету опять на дорогу, но уже позади <чужого. – В.Б.> экипажа.
(Э. Распэ «Приключения барона Мюнхгаузена»)Описаниям большой физической силы персонажей «веселых» текстов соответствует необычайно повышенное самочувствие, ощущение бодрости, свежести, необычайного прилива сил, что, как мы уже отметили, типично при маниакальных состояниях.
Преодоление пространства
Герой «веселого» текста с легкостью преодолевает большое пространство. За несколько суток пересекает Атлантический океан на сверхскоростной яхте героиня детектива И. Хмелевской «Что сказал покойник»; также на яхте пересекает весь земной шар капитан Врунгель (А. Некрасов «Приключения капитана Врунгеля»); объезжает всю Землю герой романа Ж. Верна «Вокруг света за 80 дней»; попадает в заснеженную Россию барон Мюнхгаузен, чтобы проявить и тут свои способности (Э. Распе «Приключения…»); много ездит Остап Бендер, мечтая о Рио-де-Жанейро (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев», «Золотой теленок»); все время в пути друзья-мушкетеры (А. Дюма «Три мушкетера»), четыре танкиста (Я. Пшимановский «Четыре танкиста и собака»), Джордж, Гаррис, автор и пес Монморанси (Дж. Джером «Трое в одной лодке, не считая собаки»).
Полет
Характерным моментом является ощущение легкости тела и полета, которое испытывает герой «веселого» текста. К примеру, барон Мюнхгаузен летает за утками, мчится на лошадях, перемещается на пушечном ядре, вытаскивает себя за волосы из болота:
Болото с ужасной быстротой засасывало нас <с конем. – В.Б.> глубже и глубже <…> Что было делать? Мы непременно погибли бы, если бы не удивительная сила моих рук. Я страшный силач. Схватив себя за косичку, я изо всех сил дернул вверх и без большого труда вытащил из болота и себя, и своего коня, которого крепко сжал обеими ногами как щипцами.
Летает на ковре-самолете герой Л. Лагина Волька из «Старика Хоттабыча». Целиком на мотиве полета без каких-либо приспособлений построена фантастическая повесть А. Ломма «Ночной орел». Сержант Кожин – «боевой парень, спортсмен, комсомолец, сто прыжков с парашютом! К тому же сибиряк, шахтер, ни бога, ни черта не боится!» — прыгает с самолета без запасного парашюта. Падая, он понимает, что основной парашют не раскрылся.
Кожин изо всех сил сжал зубы. Тренированное мускулистое тело напряглось, яростно сопротивляясь падению. <…> Это было отчаянное желание жить <…>.
(И тут. – В. Б.) каждая клетка в теле Кожина прониклась вдруг ликующим чувством свободы и беспредельного счастья. Страшная сила, влекущая к земле, <…> куда-то вдруг ушла. Воздух <…> теперь нес, держал, пружиня, как туго натянутая парусина.
Летает «маленький толстенький самоуверенный человечек» по имени Карлсон (А. Линдгрен «Малыш…»):
На самолетах и вертолетах летать могут все, а вот Карлсон умеет летать сам по себе. Стоит ему только нажать кнопку на животе, как у него за спиной тут же начинает работать хитроумный моторчик <…> Карлсон взмывает ввысь и летит, слегка покачиваясь, с таким важным и достойным видом, словно какой-нибудь директор <…>.
А вот что поется в «Песне о Гагарине» (стихи В. Бокова):
Земля – Луна, Рукой подать. Давно, давно пора Туда слетать. И мы безотлагательно Слетаем обязательно.Общительность
Герой «веселых» текстов никогда не унывает, он всегда в хорошем настроении, разговорчив и стремится к общению. Например, у автора «веселого» текста «Джельсомино в стране лжецов» Дж. Родари есть такое детское стихотворение:
Пускай за границу везет меня скорый В чужие края, за высокие горы, Встречу я в дальних, невиданных странах Мальчиков, девочек иностранных. Увижу детей, говорящих по-русски, По-чешски, по-гречески, по-французски. «Здравствуйте!» – скажет мне кто-нибудь в Дании. Я не пойму и скажу: «До свидания!» «Доброе утро!» – скажет мне швед. «Добрый вечер!» – скажу я в ответ. Будут смеяться шведы, датчане, Русские, немцы и англичане, Китайцы, индусы, испанцы и греки, И тут же мы станем друзьями навеки! (Дж. Родари «Поезд, идущий за границу»)Вот так, запросто приветствуя людей на разных языках, по всем континентам путешествует герой «веселого» текста, со всеми он находит общий язык и завязывает дружбу. При этом герой часто не столько общителен, сколько болтлив. Так, описывая характер Хлестакова «для господ актеров», Н. В. Гоголь дает следующую характеристику его речевого поведения: «Говорит и действует без всякого соображения. Он не в состоянии остановить постоянного внимания на какой-нибудь мысли. Речь его отрывиста, и слова вылетают из уст его совершенно неожиданно» («Ревизор»). Это то, что в специальной литературе называется «словесным поносом».
Как мы уже отметили, при подобных психологических состояниях превалирует идея всеобщего единства и возникает «желание заключить в свои объятия весь мир („Обнимитесь, миллионы!“)». Это напоминает слова из известной советской песни:
Эй, товарищ! Эй, прохожий! С нами вместе песню пой!Пение
Герой «веселого» текста очень любит петь и разговаривать громко.
С крика младенца, сила голоса которого разбила все окна в городке, начинается повесть Дж. Родари «Джельсомино…». Поет Винни-Пух, взлетая с помощью воздушного шарика:
Я маленькая тучка, а вовсе не медведь. А как приятно тучке по небу лететь. (А. Милн «Винни-Пух…» в пер. Б. Заходера)В другой известной песне поется:
А ну-ка песню нам пропой, веселый ветер…Или еще пример:
Мы будем петь и смеяться как дети…Экранизации многих «веселых» текстов не случайно делаются в виде музыкальных фильмов («Три мушкетера», «Трое в лодке», «Some Like it Hot», известный в России под названием «В джазе только девушки»). О кинофильме «Веселые ребята» и говорить не приходится. Поют и танцуют все!
Движение, жизнерадостность и пение идут рука об руку.
Вместе весело шагать по просторам! И конечно, напевать лучше хором.Аппетит
Вот что поет Карлсон, играя в кубики:
Ура, ура, ура! Прекрасная игра! Красив я и умен, И ловок, и силен! Люблю играть, люблю… жевать! (А. Линдгрен «Малыш и Карлсон…»)Характерно, что появившийся здесь мотив еды также присутствует и в других «веселых» текстах. К примеру, постоянно голоден Винни-Пух: он не удержался от того, чтобы съесть мед из горшочка, с которым шел в гости к ослику; всю ночь думал о меде, якобы оставленном им в западне на слонопотама; летит за медом к пчелам; объевшись опять-таки в гостях (у Кролика), не может вылезти из норы (А. Милн «Винни-Пух и все-все-все»). Постоянно подчеркивается, что Чичиков не страдает отсутствием аппетита (Н. Гоголь «Мертвые души»). Все свои истории барон Мюнхгаузен рассказывает именно за столом. Здесь нет того экзистенциального голода, который есть в «темных» текстах, есть просто повышенный аппетит.
В научной литературе отмечается, что при депрессии «пропадает совершенно желание есть. Первым признаком начинающегося улучшения нередко бывает появление аппетита и прибавление в весе» (Гиляровский, 1954, с. 390).
Эрудиция
Герой «веселого» текста эрудирован и обладает всевозможными умениями. Так, образован и начитан Остап Бендер, его речь пестрит литературными именами и цитатами. Не случайно и то, что общительный герой «веселого» текста знает много языков. Показательным в этом отношении является утверждение героини романа И. Хмелевской «Что сказал покойник»:
Насчет языков у меня были свои соображения. Французский, как известно, я знала, по-итальянски худо-бедно могла объясниться, латынь немного помнила, так что все романские языки могли представлять для моих похитителей определенную опасность (так как героиня могла бы понимать их переговоры. – В.Б.). Славянские <…> отпали в полуфинале (героиня – полька по национальности). Мое длительное пребывание в Дании позволяло предполагать некоторое знакомство со скандинавскими языками (а их, как известно, пять. – В.Б.), на английском я хоть и не очень хорошо, но говорила. <…> С немецким языком дело обстояло так: говорить на нем я не умела, но понимала почти все.
Такое возможно лишь в рамках картины мира гипоманиакальной личности.
Мания величия
Героя «веселого» текста часто принимают за более значительную персону, чем он является на самом деле. Например, постоянно выдает себя за другого человека Остап-Сулейман-Берта-Мария Бендер (И. Ильф, Е. Петров «Двенадцать стульев»); принимают за ревизора простого чиновника Хлестакова (Н. В. Гоголь «Ревизор»); ходят слухи о том, что Чичиков – это Наполеон («Мертвые души»). «Лучший в мире специалист по паровым машинам», «лучший в мире рисовальщик петухов», «лучший в мире мастер на всевозможные проказы» и даже «лучшее в мире привидение – это Карлсон, который живет на крыше» (А. Линдгрен «Малыш…»). Самым Лучшим Медведем во Всем Мире называет Винни-Пуха Кристофер Робин (А. Милн «Винни-Пух…»).
И для этого семантического компонента можно найти черты в поведенческой симптоматике маниакального синдрома: «Типичны идеи переоценки – происхождения, общественного положения, своей личности, способностей и достижений, в выраженных случаях возникают бредовые идеи величия» (Практический…, 1981, с. 89). П. Б. Ганнушкин отмечал, что для конституционально-возбудимых психопатов характерна «склонность ко лжи и хвастовству, связывающаяся обыкновенно с чрезмерно развитым воображением и проявляющаяся в фантастических измышлениях о своем высоком положении и о никогда в действительности не совершавшихся подвигах, а иной раз – просто в рассчитанных на создание сенсации выдумках о каких-нибудь небывало грандиозных событиях» (Ганнушкин, 1984, с. 255). О «переоценке собственной личности и ее значимости для окружающих» пишут и другие исследователи этого явления (Пулатов, Никифоров, 1983).
Деньги
Герою «веселого» текста постоянно везет, особенно в деньгах. Мечтает о миллионе и получает его Остап Бендер; находит клад с алмазами героиня романа И. Хмелевской «Что сказал покойник»; барону Мюнхгаузену за то, что его друг-скороход доставил бутылку китайского вина за один час, предлагается взять из кладовых египетского султана столько золота, сколько может унести за один раз один человек. Барон позвал своего друга-силача. Он взвалил себе было на плечо все золото, какое было в кладовых у султана, и они побежали к морю. Там он нанял огромный корабль и доверху нагрузил его золотом.
Характерно, что семантический компонент, связанный с получением денег, психологически антонимичен «синдрому обнищания», возникающему при зеркально противоположной депрессии (см. о «печальных» текстах). Следует отметить также, что герои «веселого» текста легко расстаются с деньгами. Так, на протяжении всего романа Бендер ни разу не считает денег.
Обилие героев
У главного персонажа «веселого» текста может быть друг или главных героев может быть несколько. Так, находит себе друзей барон Мюнхгаузен – скорохода, слугу, который слышит, как растет в поле трава, слугу, который целился в воробья из Турции в Берлин, человека, который вертит мельницы тем, что дует из ноздрей.
Герою словно не хватает себя одного. Четыре героя ищут сокровища в стуле (Остап Бендер, Ипполит Матвеевич Воробьянинов, Шура, Паниковский, Адам Козлевич в «Золотом теленке»); дружат всю войну четыре танкиста; неразлучны четыре мушкетера, лозунгом которых является «Один за всех и все за одного»; путешествуют вместе трое в лодке; охотятся за привидениями четверо друзей; заманивают четвертого для поимки невесты Шурика трое хулиганов в к/ф «Кавказская пленница».
Женщина
Нередко в «веселых» текстах присутствует женщина: мадам Грицацуева, Эллочка – в «Двенадцати стульях» И. Ильфа и Е. Петрова; Марыся у четырех танкистов (Я. Пшимановский «Четыре…»); есть секретарша и у героев фильма «Охотники за привидениями»; фрекен Бок у Малыша (А. Линдгрен «Малыш…»); целый оркестр полуодетых женщин окружает двух удачливых музыкантов в фильме «В джазе только девушки»; стремится к возлюбленной в гарем Ходжа Насреддин (В. Соловьев «Возмутитель спокойствия»); недостающим пятым элементом является любовь к женщине в фильме «Пятый элемент».
Обоснование особой роли этого символа мы находим в возможной при маниакальности повышенной сексуальности (Гиляровский, 1954).
Животное
Достаточно часто в «веселых» текстах присутствует животное: собака у четырех танкистов и у троих в лодке; собака по имени Эйнштейн у изобретателя из фильма «Назад в будущее»; Малыш мечтает и получает собаку Бимбо; автомобиль у Остапа Бендера носит имя «Антилопа-Гну», а вторая часть романа называется «Золотой теленок»; есть странное существо Лизун у охотников за привидениями; дог у Ришелье и лошади у мушкетеров (А. Дюма); кошка у Джельсомино (Дж. Родари); белки у капитана Врунгеля (А. Некрасов); корова у героев Э. Успенского «Каникулы в Простоквашино»; осел у Ходжи Насреддина (В. Соловьев) и Шурика (к/ф «Кавказская пленница»); заяц у Балды (А. Пушкин «Сказка о попе и работнике его Балде»); голуби у бандитов в комедии «Бей первым, Фредди»; постоянно охотится барон Мюнхгаузен (Э. Распе), населен животными мир Кристофера Робина (А. Милн «Винни-Пух…»); целое стадо поедает роскошное угощение в кинокомедии «Свинарка и пастух», и т. д.
Эквивалентов психологического порядка этому в научной литературе мы не обнаружили.
Враги
Если в «веселом» тексте есть противоборствующие персонажи, то возможны два варианта. Во-первых, они наделяются практически теми же чертами, что и положительный персонаж, между ними сходства гораздо больше, чем различий (например, «ворюга» Корейко мало чем отличается от Остапа Бендера, собиравшего деньги по самым разным поводам, те же цели преследует его конкурент отец Федор (И. Ильф и Е. Петров «Двенадцать…»). Авантюрист Брэт Мэверик и его подружка в приключенческом фильме Ричарда Доннера «Мэверик» (Мэл Гибсон, Джоди Фостер и Джеймс Коберн) не прочь сорвать куш в полмиллиона долларов на турнире по покеру. Но на пароходе, где соберутся отменные картежники, не обойдется без шерифа, который будет действовать теми же методами, да и подружка Мэверика попытается завладеть всеми деньгами своего друга.
Отрицательные персонажи или просто не «прописываются», или им не уделяется особого внимания. Имплицитно присутствует только оппозиция 'смелый', 'сильный', 'ловкий' с одной стороны, и 'трусливый', 'паникер' – с другой.
Во-вторых, у положительного персонажа может быть много противников, целые преступные сообщества: международная шайка гангстеров (И. Хмелевская «Что сказал…»; к/ф «Бей первым, Фредди!»; Дж. Родари «Джельсомино…»), итальянская мафия, замаскировавшаяся под любителей итальянской оперы, – о любви к пению см. выше (к/ф «В джазе только девушки»); фашисты (к/ф «Большая прогулка»); белые (фильм «Неуловимые мстители»); воры (А. Линдгрен «Малыш…»); похитители невесты (к/ф «Кавказская пленница»).
При этом сами герои «веселых» текстов вовсе не обязательно в ладу с законом (герои к/ф «Ва-банк» I и II; Остап Бендер, который знает много способов «честного» отъема денег; приворовывающий Карлсон и др.).
Обилие событий
Как ясно из вышеизложенного, в «веселом» тексте наблюдается обилие событий. Если не углубляться в теорию вопроса о единицах измерения объема и насыщенности текстового пространства, то, взяв за единицу текста одну страницу, можно сказать, что на одной странице «веселого» текста описано событий больше, чем на одной странице какого-либо другого типа текста.
Печальный компонент
Говоря о гипертимичности, мы упомянули о том, что «веселый» текст отражает верхнюю фазу маниакально-депрессивного состояния. Неудивительно, что в «веселом» тексте существуют признаки «печального» текста, основанного на депрессивности.
К примеру, Хлестаков (Н. Гоголь «Ревизор») беден; Чичиков (Н. Гоголь «Мертвые души») то становится богатым, то беднеет; нищ Плюшкин, у которого, кстати, Чичиков отказывался от чая и угощений (сухаря из кулича). Остап Бендер получает деньги, за которыми он охотился, но в конце романа румынский пограничник отнимает у него все.
Целиком на мотиве охоты за деньгами построен кинофильм «Этот безумный, безумный, безумный мир», кончающийся тем, что деньги разлетаются по всему городу; имитацией выбрасывания денег из самолета завершается и кинофильм «Блеф»; ищет и теряет деньги упоминавшаяся героиня И. Хмелевской; теряет, обретает и раздает деньги X. Насреддин у В. Соловьева; без цента появляются герои в начале комедии «В джазе только девушки».
К «печальным» могут быть отнесены целые главы текста Милна о Винни-Пухе, относящиеся к Ослику Иа-Иа. Подчеркивается то, что он выглядит как-то печально, имеет печальный вид, находится в очень тяжелом состоянии и мрачно настроен, отвечает мрачно, говорит вздыхая или упорно молчит; он и сам соглашается с тем, что он несчастен.
Стилистические особенности «веселых» текстов
Что касается стиля «веселого» текста, то основная характеристика его состоит в том, что он оставляет впечатление легкости и поверхности, поскольку события и персонажи чередуются очень быстро. По-видимому, это является причиной того, что многие «веселые» тексты относятся к детской и приключенческой литературе.
У А. С. Пушкина в романе «Евгений Онегин» есть одна характерная для «веселого» текста строфа. Приведем ее:
…Вот уж по Тверской Возок несется чрез ухабы. Мелькают мимо будки, бабы, Мальчишки, лавки, фонари, Дворцы, сады, монастыри, Бухарцы, сани, огороды, Купцы, лачужки, мужики, Бульвары, башни, казаки, Аптеки, магазины моды, Балконы, львы на воротах И стаи галок на крестах (XXXVIII, гл. 7)В этом отрывке дано перечисление всего того, что видно из окна кареты. Дано без особого порядка, так, как это видится.
Финал «веселых» текстов
В финале «веселого» текста герой нередко устремляется к новым приключениям. Вот как кончается повесть «Барышня-крестьянка»:
Читатели избавят меня от излишней обязанности описывать развязку.
(А. Пушкин).Писатель словно говорит, что ему некогда писать о том, что и так ясно.
Вот как завершается книга «Дети капитана Гранта» Ж. Верна:
Возвращение капитана Гранта в Шотландию стало национальным праздником, а сам он – самым популярным человеком во всей древней Каледонии. Его сын Роберт <…> не оставляет мысли основать шотландскую колонию на островах Тихого океана.
Недаром любимый писатель авантюрного изобретателя из кинофильма «Назад в будущее» именно «веселый» Жюль Верн (а не «темный» Герберт Уэллс).
В целом «веселые» тексты написаны легко и свободно, они хорошо воспринимаются, и их с удовольствием читают даже люди, занятые преимущественно интеллектуальным трудом. Понимая, что вопрос о популярности разных типов текстов должен быть рассмотрен в специальном социологическом исследовании, отметим, что появление и популярность такого рода текстов могут быть одним из сигналов выхода общества из периода депрессии.
2.4. Проявление депрессивной акцентуации в «печальных» текстах
Типичный «печальный» текст
Определим «печальные» тексты как тексты, лиричные по стилю, герой в них либо молод, жизнерадостен и полон надежд, но умирает в расцвете сил, либо уже стар, беден и оплакивает свою несостоявшуюся жизнь. Смысл жизни, выраженный в «печальном» тексте – его эмоционально-смысловая доминанта, – состоит в том, чтобы дорожить каждым прожитым днем, любить жизнь. Вместе с тем жизнь в рамках такого мироощущения тяжела и изнурительна, поэтому смерть приходит как избавление от страдания, она сладка.
Эмоциональная окраска и оценка времени в «печальном» тексте меняются от прошлого, которое прекрасно, но в нем сделано много ошибок, через настоящее, несущее страдания и чувство вины за прошлое, до будущего, в котором ждут только одиночество, холод, смерть.
Целевая установка «печальных» текстов может быть определена как коммуникативно-слабая: герой «печального» текста словно надеется на мягкость, снисходительность и благосклонность читателей, просит пожалеть его, войти в его положение. Содержание произведения воспринимается как призыв о помощи.
В качестве примера типичного «печального» текста рассмотрим повесть И. С. Тургенева «Ася». Речь в ней идет о годах юности одного молодого человека, названного автором Н.Н., который путешествует по Германии и встречает двух своих соотечественников – Гагина и девушку по имени Ася. Герой повести полюбил Асю – эту миловидную и грациозно сложенную семнадцатилетнюю девочку. Они обмениваются различными знаками внимания – она бросает ему из окна цветок, пишет ему записки. Потом от Гагина он узнает, что Ася – незаконнорожденная сводная сестра Гагина. Н.Н. в смятении и не решается сказать то, что хотел, что должен был сказать. Когда он принял решение – было уже поздно: Гагин и Ася уехали. Он бросается на их поиски, но безрезультатно.
Сожаление об упущенном счастье явно присутствует в финале повести:
Осужденный на одиночество бессемейного бобыля, доживаю я скучные годы, но храню, как святыню, ее записочки и высохший цветок гераниума, тот самый цветок, который она некогда бросила мне из окна. Он до сих пор издает слабый запах, а рука, мне давшая его, та рука, которую мне только раз пришлось прижать к губам моим, может быть, давно уже тлеет в могиле… И я сам – что сталось со мною? Что осталось от меня, от тех блаженных и тревожных дней, от тех крылатых надежд и стремлений? Так легкое испарение ничтожной травки переживает все радости и все горести человека – переживает самого человека.
Эта повесть трактовалась как «неудавшееся свидание» (Левидов, 1977) и даже как пример «вырождения дворянского общества в заурядных либералов» (Н. Г. Чернышевский). При этом Чернышевский говорит даже больше, он считает, что герой – «дряннее отъявленного негодяя». Скорее всего такого рода социологический (точнее, педагогический) вердикт имеет под собой основания в мировоззрении литературного критика. Психологический же анализ этого типа текстов позволяет считать такой вывод совершенно неверным.
Культурно-историческая школа литературоведения рассматривает произведение как «документ», «памятник» своей эпохи, что имеет обоснования в тексте. Нам ближе подход к литературе как к индивидуальному, личностному взгляду на мир, как к мировоззрению и мироощущению автора.
Если в научном тексте денотативную основу составляет предмет или явление внешнего мира, которые могут быть объективно описаны не только автором данного текста, то в художественном тексте такая объективная (событийная) основа составляет лишь часть внешней формы – его тематику и сюжет. Композиция художественного текста и его образная система могут не иметь внешней опоры в реальности.
Возвращаясь к повести «Ася», скажем, что в ней есть главная мысль «печального» текста: герой стар, он живет прошлым, все время возвращаясь к переживанию несостоявшегося счастья.
Такого рода мироощущение (в данном случае и основная идея художественного текста) вполне соответствует депрессивному видению мира: окружающее воспринимается в мрачном свете, прошлое видится как цепь ошибок, в настоящем и будущем мрак и безысходность.
Еще одним показательным примером «печальных» текстов является миниатюра И. С. Тургенева из «Стихотворений в прозе» под названием «Повесить его!». В ней описывается, как честного и смирного денщика.
Егора хотят повесить по подозрению в не совершенном им воровстве двух кур. Он реагирует так:
Тут он совсем помертвел – и только два раза с трудом воскликнул: «Батюшки! Батюшки!» А потом вполголоса: «Видит Бог, не я!» <…> Я был в отчаянии. «Егор! Егор! – кричал я, – как же ты это ничего не сказал генералу!» – «Видит Бог – не я», – повторил, всхлипывая, бедняк.
В психодиагностических работах о лицах с диагнозом «депрессия» говорится следующее: «Видя причину всех бед в самих себе, в собственной неполноценности и „греховности“, они считают бессмысленным бороться, сопротивляться, не способны ни к какой действенной инициативе. Они покорно склоняют голову под ударами судьбы, отличаются бессловесностью и долготерпением» (Мельников, Ямпольский, 1985, с. 226).
Во внутренней картине мира есть установка на поражение, безнадежность, бессмысленность борьбы. Страдание воспринимается как данность.
Психолингвистический анализ показывает, что депрессивность проявляется, в частности, в творчестве таких русских писателей, как А. Пушкин, Н. Гоголь, М. Лермонтов, И. Тургенев, И. Бунин. В. Руднев даже пишет о «русском депрессивном реализме». Многие их произведения можно назвать «печальными» на основании сходства вербализованной в них картины мира с мироощущением депрессивной личности.
Приведем еще один пример типичного печального текста.
Как страшно жизни сей оковы Нам в одиночестве влачить. Делить веселье – все готовы: Никто не хочет грусть делить. Один я здесь, как царь воздушный, Страданья в сердце стеснены, И вижу, как, судьбе послушно, Года уходят, будто сны. И вновь приходят, с позлащенной, Но той же старою мечтой. И вижу гроб уединенный, Он ждет; что ж медлить над землей? Никто о том не покрушится, И будут (я уверен в том) О смерти больше веселиться, Чем о рождении моем… (М. Ю. Лермонтов «Одиночество», 1830)Это стихотворение, написанное юношей в 16 лет, наполнено грустью, сожалением об уходящих годах, видением гроба, желания смерти.
Пессимизм, безысходность, усталость от жизни пронизывают и многие произведения, объединенные Тургеневым под названием «Стихотворения в прозе». Вот одно из них, под названием «Старик»:
Настали темные, тяжелые дни… Свои болезни, недуги людей милых, холод и мрак старости… Все, что ты любил, чему отдавался безвозвратно, – никнет и разрушается. Под гору пошла дорога. Что же делать? Скорбеть? Горевать? Ни себе, ни другим ты этим не поможешь.
На засыхающем, покоробленном дереве лист мельче и реже – но зелень его та же. Сожмись и ты, уйди в себя, в свои воспоминания, – и там, глубоко-глубоко, на самом дне сосредоточенной души, твоя прежняя, тебе одному доступная жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и лаской и силой весны! Но будь осторожен… не гляди вперед, бедный старик!
Оно также отражает сознание депрессивной личности. Рассмотрим психиатрические основания депрессии.
Депрессивная акцентуация
Выделяя среди заболеваний психопатического круга депрессию, П. Б. Ганнушкин называет людей, подверженных депрессии, «конституционально-депрессивными» личностями. При этом он пишет о том, что в чистом виде эта группа немногочисленна. Речь идет о лицах с постоянно пониженным настроением. Картина мира как будто покрыта для них траурным флером, жизнь кажется бессмысленной, во всем они отыскивают только мрачные стороны. Это прирожденные пессимисты.
Жизнь перед всеми ставит проблемы, но для депрессивной личности они кажутся столь сложными, что такой человек всегда готов к худшему исходу. Нередко жизненный путь таких людей преждевременно обрывается самоубийством, к которому они словно готовы в любую минуту жизни. При этом они «никак не могут отделаться от уверенности в своей собственной виновности, окрашивающей для них чрезвычайно тяжелым чувством воспоминания о самых обычных поступках юности. Это заставляет их сторониться других людей, замыкаться в себе. Иной раз они настолько погружаются в свои самобичевания, что совсем перестают интересоваться окружающей действительностью, делаются к ней равнодушными и безразличными. Вечно угрюмые, мрачные, недовольные и малоразговорчивые, они невольно отталкивают от себя даже сочувствующих им лиц» (Ганнушкин, 1984, с. 252–254).
Они «чрезвычайно чувствительны ко всяким неприятностям, иной раз очень остро реагируют на них, а кроме того, какое-то неопределенное чувство тяжести на сердце, сопровождаемое тревожным ожиданием несчастья, преследует постоянно многих из них» (там же). Неудивительно, что «всякое радостное событие сейчас же отравляется для них мыслью о непрочности радости, от будущего они не ждут ничего, кроме несчастья и трудностей, прошлое же доставляет только угрызения совести по поводу действительных или мнимых ошибок, сделанных ими» (там же).
Отмечается, что «за этой угрюмой оболочкой обычно теплится большая доброта, отзывчивость и способность понимать душевные движения других людей…» (там же).
Психиатры при этом описывают и такое свойство депрессивности, как ларвированность – за улыбкой может быть скрыта угнетенность. Депрессивная личность может и шутить, однако юмор их – это юмор висельников, черный юмор, юмор очень печальный. И афоризмы тоже мрачные (Например: «Жизнь – вредная штука: от нее умирают».) Такой пессимизм присутствует и в высказываниях, и в мыслях. Кроме того, их иногда посещают мысли о болезни или даже смерти (своей или близких людей).
Общение в целом их утомляет – они устают и от шума, и от разговоров. Им хочется побыть одним в тишине и спокойствии. Их трудно назвать разговорчивыми. Кроме того, в межличностном поведении депрессивная личность характеризуется пассивностью. Такие люди редко вступают в контакт первыми, в споре готовы уступить другому, лишь бы не портить с ним отношения.
Если говорить о внешности депрессивной личности, то следует отметить, что «во внешних их проявлениях, в движениях, в мимике большей частью видны следы какого-то заторможения, опущенные черты лица, бессильно повисшие руки, медленная походка, скупые, вялые жесты – от всего этого так и веет безнадежным унынием» (там же).
«Какая бы то ни была работа, деятельность по большей части им неприятна, и они скоро от нее утомляются. Кроме того, в сделанном они замечают преимущественно ошибки, а в том, что предстоит – столько трудностей, что в предвидении их невольно опускаются руки. К тому же большинство из них обычно не способны к продолжительному волевому напряжению и легко впадают в отчаяние. Все это делает их крайне нерешительными и неспособными ни к какой действенной инициативе» (там же).
При этом, как показывают результаты психологических исследований, депрессивность положительно коррелирует со склонностью к употреблению алкоголя. Не умея решать стоящие перед ним проблемы, такой человек подменяет действия беседами о своих проблемах, как правило, с малознакомыми людьми. Алкоголь притупляет тревогу, снимает тягостное настроение, создает видимость простого выхода из ситуации.
Таким образом, психологический портрет депрессивной личности содержит противоречивые черты. С одной стороны, мягкость, спокойствие, приветливость, чуткость и доброе отношение к людям, с другой – пессимизм, неуверенность в себе, склонность к чувству вины. Это и есть основа амбивалентной (конфликтной в данном случае только внутренне) установки личности с депрессивной акцентуацией.
Психолингвистические особенности «печальных» текстов
Семантические классы слов, несущие эмоциональную образность, расположены не в соответствии с их упорядоченностью в системе языка и даже не в соответствии с научной картиной мира. Их наличие, соположенность и противопоставленность обусловлены системой конструктов личности, мироощущением акцентуированной личности того или иного типа.
В структуре эмоционально-смысловой доминанты «печальных» текстов ключевую роль играют следующие семантические комплексы: возраст (юность/ радость), богатство/нищета, радость/печаль, жизнь/ смерть, сожаление, подчиненность, немота, тяжесть, вдох, запах.
Рассмотрим их подробнее.
Возраст
В «печальном» тексте герой, как правило, молод или вспоминает о своей молодости, когда он был силен, красив, жизнедеятелен. При этом прошлое идеализируется, что также связано с психологической доминантой – депрессивностью.
Так, герой повести «Ася» вспоминает свою молодость и несостоявшуюся любовь. Молоды погибшие герои повестей Б. Васильева «А зори здесь тихие…» и «Завтра была война». Юны герои А. С. Пушкина – Дубровский, Татьяна, Ленский (убитый во цвете лет), Ольга, Моцарт (отравленный Сальери), Герман.
Смерть
«Печальные» тексты очень часто завершаются смертью главных героев. Умирает лермонтовский Мцыри («Мцыри»), погибает Бэла, играет со смертью Печорин («Герой нашего времени»). Умирают герои повести Б. Васильева «А зори здесь тихие…». Его же повесть «Завтра была война» начинается с сообщения о смерти многих учеников класса выпуска лета 1941 года. Начинается со слов о находящемся при смерти дяде пушкинский «Евгений Онегин». О смерти и первая фраза повести Э. Сигала «История любви»: «Что можно сказать о двадцатипятилетней девушке, которая умерла? Что она была красивой и умницей. И что она любила Моцарта и Баха. И меня». Кончает жизнь самоубийством юная героиня Н. Карамзина, брошенная богатым любовником («Бедная Лиза»). Целиком на мотиве неизбежности и сладости смерти построена пьеса Т. Уайлдера «Наш городок». Она также начинается с того, что автор сообщает о смерти всех обитателей городка, жизнь в котором он описывает. Главная героиня – красивая девушка – умирает. На кладбище, в могиле, она узнает о возможности вернуться в мир живых. Другие мертвые отговаривают ее от этого шага, но она стремится туда, видит себя молодой, веселой и возвращается в могилу с еще большей тяжестью на сердце.
Доминанта, содержанием которой является депрессия, характерна для многих произведений И. С. Тургенева. Повесть «Первая любовь» кончается смертью Зинаиды. Умирает молодым Базаров («Отцы и дети»), погибает на баррикадах Дмитрий Рудин («Рудин»), умирает Инсаров («Накануне»). Роман «Дворянское гнездо» завершается размышлениями Лаврецкого:
…Он, одинокий, бездомный странник, под долетавшие до него веселые крики уже заменившего его молодого поколения, – оглянулся на свою жизнь. Грустно стало ему на сердце… «Играйте, веселитесь, растите, молодые силы… жизнь у вас впереди. А мне <…> остается отдать вам последний поклон и <…> сказать, ввиду конца, ввиду ожидающего Бога: „Здравствуй, одинокая старость! Догорай, бесполезная жизнь!“»
На первой странице романа Т. Уайлдера «Мартовские иды» есть такой абзац:
К 45 году (до Р.Х. – В.Б.) многие из моих персонажей давно уже были мертвы: Клодия убили наемные бандиты на проселочной дороге; Катулл <…> умер в возрасте 30 лет; Катон-младший погиб за несколько месяцев до описываемых событий в Африке <…>; тетка Цезаря, вдова великого Мария, скончалась еще до 63 года. Более того, вторую жену Цезаря, Помпею, давно сменила третья жена Кальпурния.
Роман, как известно, заканчивается описанием убийства Цезаря, то есть подтверждает простую мысль: мы все смертны, но подтверждает ее в нарративной форме, сопровождая подробностями смерти, которая, по мнению автора, неизбежна. Вот другой фрагмент из этого же романа:
Ты говоришь о прошлом.
Я не позволяю своим мыслям надолго в него погружаться. Все, все в нем кажется прекрасным и – увы! – неповторимым. Те, что ушли, – как я могу о них думать? Вспомнишь один только шепот, только глаза – и перо падает из рук и беседа, которую я веду, обрывается немотой. Рим и все его дела кажутся чиновной суетой, пустой и нудной, которая будет заполнять мои дни, пока смерть не даст мне избавления.
Опять смерть выглядит спасением от тяжестей жизни.
Помимо этого, в «печальных» текстах встречается сопряженность семантических компонентов 'юность', 'старость' или 'радость' и 'смерть'. Они находятся тут в одном конкордансе:
Представь себе <…> меня – немного помоложе; влюбленного… с красоткой… Я весел… Вдруг: виденье гробовое…
(А. Пушкин «Моцарт и Сальери»)Ты молода… Но когда пора пройдет, когда твои глаза впадут и веки, сморщась, почернеют, и седина в косе твоей мелькнет… Тогда – что скажешь ты?
(А. Пушкин «Каменный гость»)В «печальном» тексте и обнищание, и трудности, и смерть неизбежны. Все фатально предрешено.
Эпиграфом ко многим «печальным» текстам может быть фраза: «Все будет так, как должно быть, даже если это будет иначе», высказанная персонажем фантастического рассказа Р. Силверберга «Тихий вкрадчивый голос». В нем рассказывается о человеке, который купил машинку, подсказывающую ему из будущего, какие акции покупать. Кончается этот рассказ тем, что нарушение временных событий замечено и равновесие восстановлено – человек лишается всех богатств и покупает билет на самолет (тема возможного, но несостоявшегося полета из «веселых» текстов), который разбивается.
Герой «печальных» текстов практически не сопротивляется обрушивающимся на него бедам. Неспособность к активному действию характерна, в частности, для тургеневского Герасима из рассказа «Муму», старательного, добросовестного, обязательного человека.
Многие другие миниатюры Тургенева также пронизывает мысль о бесцельности существования и неизбежности самоубийства («Враг и друг», «Насекомое», «Порог», «Мои деревья», «Конец света», «Старик», «Куропатки», «Старуха», «Песочные часы», «Я встал ночью»).
Категория бессмысленности характерна для произведений Л. Андреева. Министр из «Рассказа о семи повешенных», узнавший о готовившемся покушении, понимает, что могло быть «совершенно бессмысленно пить кофе, надевать шубу, когда через несколько мгновений все это, и шуба, и тело, и кофе, <…> будет уничтожено взрывом, взято смертью».
Без всяких объяснений отказывается от борьбы гордый и властный Вернер:
Барин, а что, если бы конвойных того… а? Попробовать?
– Не надо, – так же шепотом отвечал Вернер. – Выпей до конца.
В целом для текстов Л. Андреева характерны мотивы усталости и пессимизма:
И тогда наступило для него самое ужасное: беспощадно светлое сознание, что пришел новый день и скоро ему нужно вставать, чтобы бороться за жизнь, без надежды на победу («В подвале»).
Одиночество
Герой «печальных» текстов в молодости совершает ошибки и, оценивая свою жизнь как череду ошибок, неудач и трудностей, постоянно ощущает одиночество. «Там рано жизнь тяжка бывает для людей», – пишет лермонтовский турок в «Жалобах турка». Исполнены тоской песни соседа по тюрьме («Сосед»); «одна и грустна» пальма («На севере диком…»); одиноко стоит в пустыне утес («Тучка»). И лишь тучка золотая, которую большинство испытуемых фоносемантического эксперимента оценивают как желтую (Парачев, 1981), привносит в его жизнь какое-то счастье. Однако
Утром в путь она умчалась рано, По лазури весело играя, Но остался влажный след, В морщинах старого утеса. Одиноко он стоит, Задумался глубоко, И тихонько плачет он в пустыне.Обнищание
Герой «печальных» текстов нередко беден изначально или лишается всех средств к существованию, нищает по ходу развития сюжета. Отнимают шинель у отдавшего за нее сэкономленные на еде деньги гоголевского Башмачкина («Шинель»), чувствуют себя нищими его же Плюшкин и пушкинский рыцарь («Скупой рыцарь»). Так и не смог обогатиться Чичиков (Н. В. Гоголь «Мертвые души») в отличие от приехавшего в уездный город без денег Хлестакова («Ревизор»).
…Когда сон овладел им, ему пригрезились карты <…> кипы ассигнаций и груды червонцев. Он <…> выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись <…> он вздохнул о потере своего фантастического богатства.
(А. С. Пушкин «Пиковая дама»)Это не мечты о дворце (как в «красивом» тексте), это именно мечты о деньгах – символе энергии. Постоянно находится в поисках заработка отказавшийся от средств отца-миллионера юный Баррет (Э. Сигал «История любви»); подробно описаны финансовые проблемы похороненного в общей могиле Моцарта (Д. Вейс «Возвышенное и земное»); разоряется (перед гибелью на самолете) герой Р. Силверберга из рассказа «Тихий вкрадчивый голос».
Герой повести Ежи Ставинского «Час пик» прожил три недели с мыслью о неизбежности смерти от рака. Придя через три недели к врачу на прием, он узнает, что прочитал этот диагноз в чужой истории болезни. Но, несмотря на это, кончается повесть так:
И может быть, мне уже до самой смерти придется существовать на подачки, которые мне будут протягивать из жалости более способные коллеги…
Старики в «Стихотворениях в прозе» И. С. Тургенева почти всегда бедны. Его новеллы так и называются: «Милостыня», «Нищий».
Проводя параллели с психологической доминантой – депрессивностью, – отметим, что эти идеи напрямую связаны с мыслями об обнищании, возникающими при этих психологических состояниях.
Немота
Если в «темных» текстах герой может хромать, а в «красивых» ослепнуть, то в «печальном» тексте герой может быть немым. Так, в повести И. С. Тургенева «Муму» Герасим не случайно глухонемой. Как мы упоминали выше, крайней формой отказа от общения при депрессии является мутизм как неспособность говорить. Тургенев словно не дает Герасиму сил ни на сопротивление, ни на речевую деятельность. Проблема немоты мучает и персонажа Т. Уайлдера:
Настоятельница вдруг останавливалась в проходе и говорила:
– Я все думаю, ведь можно же помочь глухонемым. Кажется мне, что терпеливый человек мог бы <…> мог бы изобрести для них язык. Вы знаете, в Перу их сотни и сотни. Вы не помните, может быть, в Испании нашли какое-нибудь средство?.. Что ж, когда-нибудь найдут.
(«Мосты короля Людовика Святого»)Вот показательный фрагмент из «Мертвых душ» Н. Гоголя:
«Прежде, давно в лета моей юности, в лета невозвратно мелькнувшего моего детства, мне было весело подъезжать в первый раз к незнакомому месту <…> Теперь равнодушно подъезжаю ко всякой незнакомой деревне <…> и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О моя юность! О моя свежесть!»
Есть сопряженность 'юности', 'смерти' и 'немоты' у Лермонтова:
…Без жалоб он Томился, даже слабый стон Из детских губ не вылетал, Он знаком пищу отвергал И тихо, гордо умирал. (М. Ю. Лермонтов «Мцыри»)Холод
В «печальных» текстах частотен и психологически релевантен такой семантический компонент, как 'холод'.
И опричник молодой <…> упал замертво <…> на холодный снег.
(М. Ю. Лермонтов «Песня про купца Калашникова…»)
Мгновенным холодом облит, Онегин к юноше спешит…. напрасно: Его уж нет. Младой певец Нашел безвременный конец! (А С. Пушкин «Евгений Онегин»)При этом холодно бывает персонажам как перед смертью, так и после чьей-то гибели.
Похороны совершились на третий день. День был ясный и холодный.
(А. С. Пушкин «Дубровский»)На улице (куда Оливер вышел после смерти Дженни. – В.Б.) было очень холодно – в некотором роде совсем неплохо для меня, ибо мое тело оцепенело и ему надо было ощутить хоть что-нибудь <…> Я забыл пальто, и холод начинал меня одолевать.
(Э. Сигал «История любви»)Запах
Рассматривая типологию текстов Р. Мюллера-Фрейнфельса, предвосхитившего идеи так называемого нейролингвистического программирования, мы отметили его мысль о возможности анализа художественных текстов с позиции того, с помощью какого органа ощущения преимущественно воспринимается и соответственно отражается мир.
Так, в «активном» тексте преобладает зрение, в «красивом» – движение (тела), в «темном» – уровень физиологии, в «печальном» же типе текстов частотны описания обонятельных ощущений и, в частности, приятного запаха.
В финале повести «Ася» есть фраза о запахе травки, который переживает самого человека. В целом в «печальных» текстах семантический компонент 'запах' встречается достаточно регулярно. Причем это не запах резины и железа или неистребимый запах выгоревшего шлака в топке (Ч. Айтматов «Буранный полустанок»), характерный для «темного» текста, а именно слабый и приятный запах.
Этот компонент обнаруживается в прозе И. А. Бунина, тексты которого можно отнести к «печальным». Вот что пишет одна исследовательница его творчества: «Образы-детали запахов особенно богаты, необычайно точны и изощрены у Бунина. Читая бунинские строки, мы словно въяве вдыхаем запах меда и осенней свежести, запах талых крыш, свежего теса, накаленных печей, ржаной аромат соломы и мякины, душистый дым вишневых сучьев, славный запах книг, запах приятной кисловатой плесени, старинных духов и даже „запах“ самой истории» («Дикою пахнет травою, запахом древних времен…») (Колобаева, 1980, с. 65).
Достаточно много совместной встречаемости компонентов 'смерть' и 'запах' у М. Ю. Лермонтова.
Когда я стану умирать… / Ты перенесть меня вели / В наш сад… где… свежий воздух так душист.
(«Мцыри»)Ни разу не был в дни веселья / Так разноцветен… Тамары… наряд. / Цветы… Над нею льют свой аромат / И сжаты мертвою рукою, / Как бы прощаются с землею.
(«Демон»)Известный российский психотерапевт М. Е. Бурно, приводя примеры миниатюр, которые писали его пациенты с тем же семантическим компонентом 'приятный запах', отмечает, что стремление «приобщения к запахам цветов» характерно, в частности, при психастении и циклоидности (Бурно, 1989, с. 90–91).
Вздох
Психолингвистический анализ показывает, что семантические элементы типа 'запах', 'испарение' находятся в конкордансе в «печальных» текстах с другими элементами – словами, обозначающими дыхание и вздох.
…И пред кончиною взор обратил / С глубоким вздохом сожаления / На юность светлую, исполненную сил.
(М. Ю. Лермонтов «Умирающий гладиатор»)Так, у И. А. Бунина есть новелла, ставшая особенно известной благодаря Л. С. Выготскому, – «Легкое дыхание». Исследователь пересказывает ее так: «Оля Мещерская, провинциальная, видимо, гимназистка, прошла свой жизненный путь, ничем не отличавшийся от обычного пути хорошеньких, богатых и счастливых девочек, до тех пор пока жизнь не столкнула ее с несколько необычными происшествиями. Ее любовная связь с Малютиным, старым помещиком и другом ее отца, ее связь с казачьим офицером, которого она завлекла и которому обещала быть его женой, – все это „свело ее с пути“ и привело к тому, что любивший ее и обманутый казачий офицер застрелил ее на вокзале среди толпы народа, только что прибывшей с поездом. Классная дама Оли Мещерской, рассказывается дальше, приходила часто на могилу Оли Мещерской и избрала ее предметом своей страстной мечты и поклонения. Вот и все так называемое содержание рассказа» (Выготский, 1987, с. 145).
Л. С. Выготский предлагает очень обстоятельный анализ этого рассказа, который является несколько противоречивым. С одной стороны, «доминантой <…> рассказа <…> является, конечно, „легкое дыхание“ „на фоне тоскливо затаенного настроения“», – пишет исследователь. С другой стороны, смысл произведения сводится им к описанию нравственного падения Оли Мещерской и «житейской мути»: «Едва ли можно определить яснее и проще характер всего этого, как словами „житейская муть“» (там же, с. 147).
Л. С. Выготский полагает, что столкновение этого легкого дыхания, возникающего при чтении текста с «житейской мутью», описанной в нем, – борьба формы с содержанием – и рождает эстетическую реакцию. При этом он замечает, что «самый этот рассказ об ужасном почему-то носит странное название легкого дыхания» (там же, с. 152).
Вот как завершается этот рассказ. Оля Мещерская рассказывает своей подруге:
Я в одной папиной книге прочла, какая красота должна быть у женщины <…> главное, знаешь ли что? – Легкое дыхание! А ведь оно у меня есть, ты послушай, как я вздыхаю, ведь правда есть?
Теперь это легкое дыхание снова рассеялось в этом холодном осеннем ветре.
Если согласиться с тем, что доминанта этого текста – депрессия, то само появление компонента 'вздох', а точнее, 'желание глубокого вздоха' вполне обосновано – оно коррелирует с затрудненностью вздоха при депрессии. Именно желание вздохнуть является как бы сквозной доминантой, вокруг которой группируются все основные смыслы в тексте.
В этой связи трудно считать случайностью, что рассказ Бунина о нежной и лиричной, но трагичной любви мальчика по имени Митя также заканчивается фрагментом со словом вздохнуть:
…Он нашарил и отодвинул ящик ночного столика, поймал холодный и тяжелый ком револьвера и, глубоко и радостно вздохнув, раскрыл рот и с силой, с наслаждением выстрелил.
(«Митина любовь»)Л. С. Выготский считал, что этот рассказ «по своим художественным достоинствам <…> принадлежит, вероятно, к лучшему из всего того, что создано повествовательным искусством, и <…> почитается образцом художественного рассказа» (там же, с. 144). То, что рассказ относится к типу «печальных», позволяет яснее увидеть еще одну сторону его внутренней формы, тот первоэлемент концепта, из которого может «разворачиваться» весь текст.
Тяжесть
Некоторая мрачноватость депрессивных личностей обусловливает появление в «печальных» текстах семантического компонента 'тяжесть':
Наступило молчание…
Великая тяжесть давила ей на сердце – тяжесть мира, лишенного смысла.
(Т. Уайлдер «Мост короля Людовика Святого»)Настали темные, тяжелые дни <…> Свои болезни <…> Холод и мрак старости <..>. На замирающем <…> дереве лист мельче и реже <…> Сожмись и ты <…> – и там <…> на самом дне <…> души, твоя прежняя <…> жизнь блеснет перед тобою своей пахучей, все еще свежей зеленью и <…> силой весны!
(И. С. Тургенев «Стихотворения в прозе»)Нередко ощущение 'тяжести' предшествует смерти.
Вот она… о, тяжело / Пожатие каменной его десницы! / Я гибну – кончено – / О, Донна Анна!
(А. С. Пушкин «Каменный гость»)Говорить, что у каменной статуи заведомо тяжелое пожатие, – значит, идти на поводу у затекстовой реальности. Статуя потому и каменная, что ее пожатие несет смерть, – логика авторской вербализации мироощущения реверсивна по отношению к реальности. Иными словами, сначала в сознании автора формируется «конечный концепт» (смерть), затем ему подбираются концепты реальности, которые для него связаны с этим концептом (камень), и только потом он находит объекты, которые могут в реальности соответствовать им (статуя).
* * *
В творчестве одного автора обнаруживается значительное постоянство текстовых структур и соответственно эмоционально-смысловой доминанты на протяжении всей жизни писателя.
Обращаясь к творчеству И. А. Бунина, одна из исследовательниц пишет следующее: «Писательская индивидуальность Бунина отмечена в огромной мере таким узлом – соединение в его мироощущении острого, ежечасного „чувства смерти“, памяти о ней, с сильнейшей жаждой жизни. Когда одно вытекает из другого, усиливает и подогревает друг друга…» (Колобаева, 1990, с. 82). «Иван Алексеевич мог бы и не признаваться в том, о чем он сказал в автобиографической заметке „Книга моей жизни“, потому что об этом говорит само его творчество». И далее исследовательница приводит высказывание самого писателя: «Постоянное сознание или ощущение этого ужаса (смерти. – В.Б.) преследует меня чуть не с младенчества, под этим роковым знаком я живу весь век. Хорошо знаю, что такой знак есть участь общая. Но мне кажется, что я всегда чувствовал и чувствую его гораздо сильнее, чем многие другие» (там же).
Депрессия сопровождает все творчество и такого писателя, как Тургенев.
Так, «Стихотворения в прозе» И. С. Тургенева представляют собой миниатюры разных форм: пейзажные зарисовки, диалоги, полемику, дневниковые записи, философские миниатюры и др., но никак не стихотворения. Но эмоционально-смысловая доминанта проявляется независимо от жанра.
Да и само это название – «Стихотворения в прозе» – было дано издателем И. С. Тургенева М. М. Стасюлевичем, которого привлекла поэтичность и лиричность стиля, но которому показалось неудачным для широкой публики заглавие, предложенное автором. – «Senilia» («Старческое»). Именно авторское название, помимо прочего, позволяет утверждать, что психологическая доминанта нами определена верно, и «Стихотворения в прозе» следует отнести к «печальным» текстам.
Иными словами, в творчестве И. С. Тургенева звучит рефрен «Как хороши, как свежи были розы» с логическим ударением на глагол прошедшего времени «были». «А потом все умерли, умерли, умерли» (именно так завершается это «стихотворение» под названием «Как хороши, как свежи были розы»).
Можно предположить, что оно написано под влиянием стихотворения И. Мятлева «Розы», также говорившего о смерти (девы рая):
И где ж она?.. В погосте белый камень, На камне – роз моих завянувший венок.Многие произведения Н. В. Гоголя также могут быть охарактеризованы как «печальные». «Старосветские помещики» пронизаны предчувствием смерти и кончаются смертью Пульхерии Ивановны. Классической стала завершающая фраза из «Повести о том, как поссорились…»: «Скучно на этом свете, господа!». Погибают оба сына Тараса Бульбы – Андрий и Остап, – убивают и Тараса («Тарас Бульба»), целиком связан с мотивом смерти рассказ «Вий».
Сожаление (об упущенном счастье) соположено с тяжестью (лежащей на сердце), которая связана, в свою очередь, со вздохом. Наличие в текстах компонента подчиненность можно связать с астеничностью депрессивной личности. Крайней степенью депрессии является мутизм – отказ от общения, – именно поэтому в «печальных» текстах имеется такой компонент, как немота. Отдельно стоит компонент запах, который почему-то является ведущим в модальностях «печальных» текстов. Все эти семантические компоненты очень частотны прежде всего в «печальных» текстах, и именно они создают их эмоциональную образность.
Естественно, что речь в данном случае идет не столько о самих словах, сколько о том лексическом разнообразии, которое за ними стоит. Кроме того, для нас не важна грамматическая принадлежность слова. Общим для слов одного класса является их психологическое содержание.
Завершая описание «печальных» текстов, дадим обобщенную характеристику их лексико-семантического уровня, имея в виду предложенное А. Н. Леонтьевым различие значений и смыслов. Тезаурус «печального» текста характеризуется наличием ряда специфических значений (семантических компонентов), которые приобретают в печальных текстах следующий смысл:
РАДОСТЬ: счастье, мир; веселье, смех, улыбка, живость, жизнелюбие, жизнерадостность; буря, вихрь, движение, действие, борьба.
МОЛОДОСТЬ: детство, молодость, юность; душа; глаза, взгляд, губы, приятные запахи, яркий.
ДОБРОТА: понимание, любовь, смотреть в глаза, чувствовать родственную душу; добрый, чуткий, внимательный, заботливый.
ПОДЧИНЕННОСТЬ: еле-еле, всхлипнуть, испугаться, усталость, грусть, покорно.
ОДИНОЧЕСТВО: один, сидеть, лежать, молчать, немой; печальный, тихий, вечность; море, океан, остров, звезды.
ГРУСТЬ: грустно, тоскливо, печаль, сомнения.
СТАРОСТЬ: воспоминания, холодно, одиноко; быть забытым, ненужным; нуждаться в заботе; желать смерти.
ХОЛОД: холод, прохлада, осень, зима.
ТЯЖЕСТЬ: тяжелый, нелегкий, (при)давить, камень, груз.
ВЗДОХ: спокойствие, усталость, дышать, дыхание, легко.
ЗАПАХ: приятный.
СМЕРТЬ: вечер, ночь, бродить; умирать/умереть, угасать, тлеть, уснуть вечным сном, сладко спать (в сырой земле, в могиле); отпевать, хоронить, кладбище, погост, плита, камень, могила, могильный холм, крест; труп, гроб, мертвец, череп и мн. др.
Более частое употребление (по сравнению с нормой, зафиксированной в частотном словаре) и описанное выше распределение этих лексических единиц в «печальных» текстах являются вербальной манифестацией депрессивной эмоционально-смысловой доминанты.
* * *
Современная жизнь человека полна ежедневных стрессов: и по дороге на работу, и на службе, да и отношения с близкими порой не добавляют ни здоровья, ни настроения. Мировые новости не радуют, личное финансовое состояние не позволяет забыть о борьбе за «хлеб насущный». Депрессия поражает почти 15 % населения планеты. Особенно она распространена в развитых странах.
Но если «обычный» человек, не умея справиться со сниженным настроением, обращается к психиатрам и психотерапевтам, принимает медикаменты, то у творческой личности происходит «переработка» сниженного настроения в поэтические образы. Как писал Байрон, «Абидосская невеста» была написана в четыре ночи, чтобы отогнать грезы. «Если бы это не было так, я бы никогда ее не написал; и если бы ничего не делал в это время, я бы сошел с ума, разрывая свое сердце». Не желая оставлять в себе ту горечь и тоску, которая привносится депрессивным состоянием, писатель, изливая душу, облекает свою тоску в слова, «выливая» ее на читателя. При этом отметим, что для написания текста нужна энергия, которой у истинно депрессивной личности мало.
М. Арнаудов полагает: «Счастье менее продуктивно, чем несчастье… Несчастье сильнее потрясает, дольше продолжается, и формы его проявления более многообразны, поэтому, с чисто человеческой точки зрения, оно нас интересует больше, чем счастье… Так и Ламартин, говоря о безмолвии и бесплодности счастья, раскрывает источник своих песен:
На этой несчастной земле… Лира дана нам лишь для того, Чтобы смягчить наши страдания. В каждой песне звучат Лишь сожаления и неутоленные желания, А струна счастья безмолвствует».2.5. Проявление истероидной акцентуации в «красивых» текстах
Демонстративная акцентуация
Эмоционально-смысловую доминанту «красивых» текстов составляет демонстративность (истероидность), которая связана с таким психопатологическим вариантом развития, как истерия.
При всех различиях в подходе к истерии все исследователи отмечают, что она проявляется особым, рассчитанным на внешний эффект поведением, и особыми – истерическими – реакциями, которые обусловлены ситуативно.
У человека нередко возникает проблема, которую он не может решить своими силами за короткий срок (конфликт в семье, проблемы на работе, когда от человека требуют большего, чем он может, недостача денег, которую он хочет скрыть). Адекватным в таком случае было бы поведение, направленное на улучшение ситуации: объясниться с людьми, перезанять деньги, попросить прощения. При истерической же модели поведения личность выбирает иной путь.
Достаточно часто им становится «бегство в болезнь». Это и сумеречные состояния, головные боли, тошнота, постоянная рвота, икота, слабость в ногах, различные припадки, параличи, не имеющие органических признаков, мутизм (пропадает речь). Возможна и истерическая слепота, глухота. Могут возникнуть патологические идеи «порчи» или одержимости. Возможен и синдром «мнимой смерти». Все симптомы имеют большое сходство с реальными заболеваниями, но носят они истерический характер. Во-первых, они направлены на то, чтобы воздействовать на психику и воображение окружающих. Во-вторых, все проявления болезни обусловлены ситуативно. С исчезновением угрозы состояние улучшается.
Для демонстративных личностей характерна небольшая глубина, наигранность переживаний и совершенно определенная ситуативная их обусловленность. Истероидная личность капризничает, манерничает, притворяется только до тех пор, пока на нее обращают внимание, причем любое – с положительным знаком или с неприязнью. Невыносимо только равнодушие.
«Желание рисоваться, играть какую-то роль, обращать на себя внимание <…> проявляется в манере держать себя, отличающейся вычурностью и театральностью» (Портнов, Федотов, 1971, с. 363). Психиатры отмечают, что «они охотно перед зрителями читают стихи, танцуют, поют, и многие из них действительно обнаруживают неплохие артистические способности». Их даже называют «виртуозами тела». «Кажущаяся эмоциональность, – пишет А. Е. Личко, – в действительности оборачивается отсутствием глубоких искренних чувств при большой экспрессии эмоций, театральности, склонности к рисовке и позерству» (Личко, 1983, с. 159–160).
Остановимся на гендерных особенностях истероидных проявлений. Истерия гораздо чаще наблюдается у женщин, чем у мужчин. Истероидные женщины инфантильны, их мышление ситуативно-эмоционально, привязано к произошедшему недавно событию. Они очень внушаемы, легко поддаются уговариванию, принимают позицию авторитетного для них собеседника некритически. Они не умеют отвлекаться от ситуации, зависят от сиюминутных переживаний.
Основные отклонения при истерии имеют эмоционально-аффективный характер. При этом они чаще всего выступают в виде колебаний настроения.
Истерическое поведение характеризуется театральностью, нарочитостью, стремлением представлять совершенные действия в выгодном свете, приписывать себе несуществующие достоинства, просто придумывать эффектные события, в которых рассказчик играет главную, зачастую героическую роль. Склонность к фантазерству, измышлениям также часто встречается при истерии.
К истероидным личностям близки псевдологи и патологические лгуны, которые обладают, «с одной стороны, <…> чрезмерно возбудимой, богатой и незрелой фантазией, а, с другой – выраженными моральными дефектами» (Ганнушкин, 1984, с. 273). К числу именно таких лиц исследователи относят, например, писателя Карла Мея, утверждавшего, что он лично знаком с персонажем своих произведений – Чингачгуком.
В этой связи не будет неожиданным наблюдение, согласно которому истероидные лица предпочитают род деятельности, связанный с миром искусства. Театр, кино, выставки, оперетта, моды, дизайн привлекают к себе именно таких лиц. Если человек принадлежит к другому профессиональному кругу, то ему важна хотя бы возможность упомянуть о своем знакомстве со знаменитостью, это доставляет огромное удовольствие. В одежде истероидной женщины много украшений (крупные бусы, клипсы, бантики, повязки на голове, яркие ленты), они носят яркую одежду даже в пожилом возрасте. Предпочтение часто отдается белому цвету.
У мужчин таким средством обратить на себя внимание могут быть мундштук, папиросы, курительная трубка с табаком в кисете (вместо сигареты), цепочка или даже кулон, перстень, шляпа, белый шарф, трость с резьбой, яркий пиджак, значок и т. п. Нередко они носят усы.
В речи лиц с истероидной акцентуацией обращает на себя внимание не столько содержание, сколько форма. Они говорят преувеличенно громко, любят перебивать собеседника. Они «захватывают» пространство общения, главной становится их сольная партия. При этом они обычно не умеют связно изложить собственный взгляд, поскольку их речь подчиняется ассоциациям, эмоциям, а не законам логики. Да и свой взгляд у них отсутствует. Если же собственная позиция есть, то носит она парадоксальный или эпатажный характер и содержит многочисленные обвинения и оскорбления. Анализ и оценка событий подменяется обсуждением лиц, в них участвующих.
Эпатажность мужчин может проявляться в беседах на скабрезные темы, с пошлостями и грубостями, которые говорятся с достаточно серьезным видом. По функции их речь представляет собой вызов, оскорбление, провокацию. У истероидных мужчин нередко в речи возникают паузы и останавливается взгляд после сказанного: они словно ожидают эффекта, который должны были произвести их слова.
Обилие жестов и телодвижений сопровождается особой интонацией: она прерывистая, с подъемом на каждом слове (особенно у женщин). Следует также отметить – как очень характерную черту – смех истероидной личности. Он резкий, взрывной, хриплый. Достаточно часто он сопровождает собственную шутку.
Говоря об особенностях жизненного пути, можно отметить, что истероидная личность описывает свою жизнь как полную унижений, измен, склок, притеснений и неудач. В восприятии своей жизни как унизительной заложены противоречивые когнитивные установки истерика: «Я хочу быть в центре внимания» и «Я заслуживаю презрения».
Истерический тип характера достаточно подробно описан в психоанализе. Согласно положениям психоанализа, такое развитие характера закладывается в возрасте до семи лет, когда ребенок уже сознает половые различия. Чаще всего данный тип характера встречается среди женщин. Огромную роль в формировании характера играет отец. Отец любит ребенка в ранние годы и демонстрирует ему любовь, но «замораживает» свои чувства, когда ребенок достигает половой зрелости, опасаясь и не принимая своей сексуальной реакции на него. Он отталкивает ребенка и может реагировать на него, только когда тот бывает расстроен. Тогда отец сопереживает и помогает ребенку преодолеть трудную ситуацию.
Тело у взрослой личности, по наблюдениям психоаналитика В. Жикаренцова, «выглядит соблазняющим. Это и ребенок, и женщина одновременно, которая призывает, заманивает и соблазняет в одно и то же время. Это детское тело на оформившейся по-женски нижней части. В нем существует раскол между верхней и нижней половинами: верхняя часть – жесткая и сдерживающая, а нижняя – мягкая и уступающая. В верхней части тела существует мощный блок – защита, который делает сердце непроницаемым. Движения – катящиеся, мягкие, соблазняющие. Голову такой человек держит прямо, гордо. Челюсть твердая и решительная. Лицо может быть неподвижным и неживым. Глаза – испуганные и широко открытые (как в прямом, так и в переносном смысле). Голос у него выразительный, может быть пронзительным и визгливым; речь, как правило, быстрая».
Вырастая, человек остается привязанным к состоянию ребенка и стремится иметь родительскую опеку.
Он легко огорчается и преувеличенно реагирует на то, что с ним происходит. Этот человек, как правило, нервный, театрально-драматичный и преувеличивает свои эмоции, когда сталкивается с проблемами. У него в любой момент готовы хлынуть слезы. Повышенная внушаемость также является одной из главных черт характера. Такую личность не интересуют детали и интеллектуальное понимание проблемы или ситуации. Он имеет тенденцию быть рассеянным, разбросанным, то есть он с трудом концентрируется на том, что его интересует. Он непоследователен, противоречив и склонен к неожиданному, непредвиденному поведению или перемене эмоций. Поскольку он очень привязчив, им легко овладевает чувство разочарования.
Чувства, которые он переживает, – это чувство обмана, поражения и чувство, что на него не обращают внимания. Он тоскует по тому, чтобы его любили и опекали, но одновременно боится глубокой эмоциональной вовлеченности. В нем также живет глубокое чувство нанесенной ему раны, глубокое чувство предательства. Его психологическая защита направлена на то, чтобы быть все время рядом с людьми. Он может использовать секс в качестве защиты против сложных и трудных ситуаций. При близких взаимоотношениях, сближаясь с кем-то, он может проявлять безрассудство и совершать отчаянные поступки.
Образы, которые могут мелькать перед внутренним взором, – это сказочные королевы, царевны и принцессы. Кричащие журавли, светлячки, птицы с ярким оперением и яркие цветы – это то, что привлекает его внимание. В психоанализе отмечается, что человек с истерическим типом характера обладает большим количеством энергии, но она неровная, взрывная. Это означает, что он может быстро и внезапно переходить из состояния полной пассивности в состояние активности.
Общается такой человек, в основном соблазняя других – особенно это касается взаимоотношений с противоположным полом. Отношения также могут быть покровительственными и заботливыми, как у матери, или подобны детским. Он все время ищет доказательств, что о нем проявляют заботу, и не переносит, когда его отстраняют от себя. С другой стороны, он может пытаться саботировать отношения, особенно близкие, выставляя партнеру неразумные требования. В силу своего характера он не может объективно оценивать происходящее. Он также может идеализировать другого человека, но, как отмечалось выше, за этим практически всегда следует разочарование. Он стремится к любви, но боится проявлять свои чувства. Другие люди при взаимоотношениях с таким человеком могут чувствовать, что их подавляют, ими манипулируют, они ощущают себя пойманными в ловушку.
Основные убеждения носителя такого типа характера, как полагает В. Жикаренцов, состоят в следующем:
1. Никто не понимает меня и не прислушивается ко мне, к моему мнению.
2. Он/она/они не принимают мои чувства.
3. Я не могу получить внимание, которое мне необходимо.
С другой стороны, лица с истерическим типом характера – это очень восприимчивые люди, гибкие и тонко чувствующие. Они полны энтузиазма, спонтанны, и если связывают свою жизнь с искусством, то из них получаются хорошие актеры и актрисы. В них много настойчивости. Они могут потратить годы, десятилетия на достижение цели и добьются желаемого.
Практически все описанные особенности поведения истероидной личности проявляются в литературных текстах, которые мы называем «красивыми».
Психолингвистические особенности «красивых» текстов
«Красивые» тексты – это тексты, которые описывают переживания и страдания героя, а чаще героини, оказавшейся в необычных обстоятельствах. В них большое внимание уделяется внешнему выражению эмоциональных переживаний.
Они близки «веселым» текстам тем, что в них тоже большое количество действующих лиц и обилие диалогов. Но если в «веселых» текстах герои преуспевают, не волнуясь и не переживая, то в «красивых» текстах речь идет преимущественно о страданиях и унижениях, о частой смене настроения. В них много красочных описаний, необычных и нередко драматических событий.
Само название этих текстов – производное от существительного «красивость» (чисто внешняя красота, украшения с притязаниями на красоту, по Ожегову; в английском языке этому соответствует слово beauteous в отличие от beautiful),), нежели от слова «красота». Такой стиль описывает Л. Н. Толстой в статье «Что такое искусство?». Некая «не умная, но цивилизованная <…> дама» читала ему сочиненный ею роман. «В романе, – пишет он, – дело начиналось с того, что героиня в поэтическом лесу у воды в поэтической белой одежде, с поэтически распущенными волосами, читала стихи. Дело происходит в России, и вдруг из-за кустов появляется герой в шляпе с пером a la Guillaume Tell (так и было написано) и с двумя сопутствующими ему поэтическими белыми собаками. Автору казалось, что все это очень поэтично» (Толстой, 1985, с. 209).
Комментируя это высказывание писателя, Л. С. Выготский пишет, что даже если бы роман был написан художественно, если бы автор смогла нас «заставить почувствовать белую собаку и распущенные волосы и шляпу с пером <…> тем нестерпимо пошлее был бы роман» (Выготский, 1987, с. 62).
По мнению Л. Н. Толстого, одним из приемов такого «подобия искусства» состоит в том, чтобы описать «до малейших подробностей внешний вид, лица, одежды, жесты, звуки, помещения действующих лиц со всеми случайностями, которые случаются в жизни». Другой прием – это «воздействие на внешние чувства <…> то, что называется поразительностью, эффективностью (по-видимому, имеется в виду эффектность. – В.Б.)».
Еще один прием, по мнению Л. Н. Толстого, – это «занимательность», которая состоит в том, что в «романе описывается египетская или римская жизнь, или <…> жизнь приказчиков большого магазина». Л. Н. Толстой описывает и возможный результат восприятия таких текстов: читатель заинтересован и этот интерес принимает за художественное впечатление (Толстой, 1985).
Для того чтобы была яснее специфика сюжетных и образных построений данного типа текстов, приведем краткое содержание двух типичных текстов.
Одним из них является повесть Б. Гимараенса «Рабыня Изаура». Написанная в сентиментальной бразильской традиционной манере «слезы сердца», изданная в 1875 году, по словам автора послесловия, она взволновала самые широкие массы читателей.
Очаровательная и несчастная Изаура, претерпевает невероятные мучения и унижения потому, что щепетильность и деликатность ее натуры, честность и искренность сердца сталкиваются со злодейством и жестоким оскорбительным издевательством со стороны рабовладельца Леонсио. После неудачной попытки выкупить ее у имеющего похотливые притязания развратного и разнузданного ее хозяина отец уводит Изауру от него. Леонсио дает объявление в газете с описанием беглянки.
Гонимые обществом, отец и Изаура поселяются в тихом городе, но волей судьбы в нее влюбляется отпрыск знатной и богатой семьи с благородным выражением лица Алваро. Оказавшись жертвой гнусного предательства со стороны некоего ничтожного Мартинио, Изаура опять, словно беззащитный заяц, попадает в когти снедаемого роковой и неукротимой страстью и похожего на хищного ястреба с окровавленным клювом Леонсио. Но обладающий живым воображением и впечатлительным сердцем Алваро скупает за половину цены все векселя предававшегося излишествам и безумствам хозяина Изауры. Величественной и обольстительной рабыне даруется свобода. Леонсио обесчестен и предпочитает позору смерть.
Финальная фраза повести «Выстрелом из пистолета Леонсио разнес себе голову» нисколько не похожа на финалы «темных» или «печальных» текстов, она лишь усиливает мелодраматичность этого произведения.
Можно очень негативно оценивать такого рода тексты, но не признавать за ними право на существование только потому, что рассчитаны они на «непритязательного» читателя, было бы, на наш взгляд, неверно. Тем более важным представляется их психологический анализ, что такого рода тексты совершенно выпадают из научного рассмотрения.
В качестве еще одного примера «красивого» текста рассмотрим повесть В. Железнякова «Чучело». Повесть построена как рассказ героини (Бессольцевой Лены) своему дедушке (Николаю Ивановичу) о тех (необычных) событиях, которые произошли с ней в школе. Этот прием – представление событий в жанре рассказа-исповеди – характерен для «красивых» текстов.
Лена приехала в маленький городок недалеко от Москвы и пошла в новую для нее школу. В классе объявляют, что школьников во время осенних каникул повезут в Москву. В последний день занятий ребята решили вместо урока пойти в кино. Случайно мальчик, который нравился героине (Димка), вернулся в класс, где его застала учительница (Маргарита Ивановна). Димка говорит учительнице о планах ребят – предает их. Школьники лишены долгожданной поездки. Подслушавшая тот разговор Лена берет вину на себя, и за это ее начинают преследовать одноклассники, всячески оскорбляют ее, насмехаются. Лена упрашивает дедушку увезти ее из города. В день отъезда дедушка дарит городу коллекцию картин своего предка и в том числе картину, где изображена девочка XIX века, очень похожая на героиню. Ребятам становится стыдно, тем более что они узнают имя настоящего предателя.
В «красивых» текстах нами обнаружены различные индикаторы истероидной акцентуации.
Имя собственное
Главным персонажем в «красивых» текстах обычно бывает женщина, которая оказывается во всевозможных трагических ситуациях. Названия текстов также достаточно часто содержат имена – «Дженни Герхард», «Сестра Керри» у Т. Драйзера; «Приключения Тома Сойера» М. Твена; «Габриэль Конрой» у Ф. Брет-Гарта; «Лелия» Ж. Санд.
Внешний вид
Важной характеристикой «красивого» текста является внешность персонажа. Вот, в частности, как характеризуется главная героиня повести Ж. Б. Гимараенса:
Из поместья сеньора Леонсио Гомеш де Фонеска, муниципальный округ Кампус, провинция Рио-де-Жанейро, бежала рабыня по имени Изаура со следующими приметами: цвет кожи светлый, лицо нежное, как у любой белой женщины, глаза черные и большие, волосы того же цвета, длинные, слегка вьющиеся, рот маленький, розовый, красиво очерченный, зубы белоснежные и ровные, нос прямой, талия тонкая, фигура стройная, рост средний. На левой щеке маленькая черная родинка, над правой грудью след ожога, очень похожий на крыло бабочки. Одевается со вкусом и элегантно, хорошо поет и виртуозно играет на пианино. Так как она получила прекрасное образование и обладает хорошей фигурой, где угодно может сойти за свободную сеньору из хорошего общества. <…>.
(Это текст объявления, которое поместил Леонсио в местной газете о своей сбежавшей рабыне.)
Характерно, что современные объявления о знакомствах также обладают чертами «красивых» текстов.
28/163/56, красивая, стройная, темноволосая, сероглазая, приятная, женственная, гуманитарное образование, умеющая создать уют, хочет встретить порядочного, делового, весьма обеспеченного, нежадного мужчину. Москва, 113534. Пас. №…
(Газета «Из рук в руки»)Образное воображение героев «красивых текстов» явно предшествует логическим рассуждениям.
– Вероятно, вы живете не один? В вашей хижине есть еще кто-нибудь?
– О да! Я поселился здесь не один. Со мной… Прежде чем мустангер закончил свою речь, в воображении Луизы встал образ девушки ее лет, с бронзовым оттенком кожи, с миндалевидным разрезом глаз. Зубы у нее, должно быть, белее жемчуга, на щеках алый румянец, волосы как хвост Кастро (лошади. – В.Б.), бусы на шее, браслеты на ногах и руках, замысловато вышитая короткая юбочка, мокасины с бахромой на маленьких ножках. Таким представила себе Луиза второго обитателя хижины мустангера.
<…> Мой молочный брат очень общительный человек.
– Ваш молочный брат?
(М. Рид «Всадник без головы»)Гонения
Героиня часто испытывает унижения, страдания. По ходу развития сюжета ее оскорбляют, издеваются над ней, но и без этих проявлений плохого к ней отношения она чувствует себя несчастной, страдающей, гонимой.
Одним из немногих русских писателей, писавших «красивые» тексты, был Н. С. Лесков. О его поведении (как человеческом, так и писательском) Д. С. Лихачев писал, что «он был оскорблен и оскорблял сам», что вполне укладывается в модель поведения истероидной личности.
Герой «Левши» – неубранный и в пыли тульский мастер становится известным государю за то, что смог подковать блоху. Попав в Лондон, он также оказывается в центре внимания. По возвращении без тугамента <здесь: без документа, паспорта. – В.Б.> в Россию он как человек неведомого сословия оказывается ограбленным и избитым и умирает в коридоре больницы. Фрейм 'незнатного рода, но благородный человек страдает от оскорблений' проявляется в этом тексте в полной мере.
Как правило, с героями происходят трагические события, которые меняют их жизнь в худшую сторону (автомобильная катастрофа в начале карьеры Клайда Гриффитса из «Американской трагедии» Т. Драйзера; попадание в плен путников дилижанса в повести Г. де Мопассана «Пышка»). Но иногда они могут и улучшать положение (заболевание певицы, вместо которой выступает героиня в кинофильме «Мое последнее танго» – частое начало оперетт).
Манерности поведения героини сопутствует провокационность ее сексуального поведения. Быстрая перемена настроения не позволяет ей, однако, оставаться последовательной, а лишь превращает в ее сознании истолкование адекватной (для мужчины) реакции как домогательство и преследования.
Мало кто из читателей, прочитав нижеследующий отрывок, сможет угадать его автора.
– Мадемуазель, – обратился к ней чрезвычайно почтительным тоном Роден, – вы, несомненно, обманываете меня, представившись мне как ищущая место служанки. Это никак не вяжется ни с вашим прекрасным сложением, ни с вашей нежной кожей, ни с вашими сияющими глазами, ни с вашими великолепными волосами. Ваша безупречная манера общения безусловно превосходит то, что необходимо особам, идущим в услужение. Нет, мадемуазель, столь щедро одаренная природой, вы не можете быть жертвой роковых обстоятельств, вы не из тех, кому пристало выслушивать приказания, скорее я могу ждать от вас распоряжений и с готовностью исполнить их.
Несмотря на явную принадлежность к «красивому» тексту, такому на первый взгляд нежному и романтичному, данный отрывок взят из романа Донасьена Альфонса Франсуа де Сада «Новая Жюстина». Не останавливаясь на вопросе об эротике в литературе, отметим, что тексты маркиза де Сада носят явно эпатажный характер.
Эмоциональность
В «красивых» текстах имеется значительное количество метафор и эпитетов со значением большой степени выраженности признака.
С детских лет она проявляла полную независимость. Ей свойственна была смелость, граничащая с безрассудством, едва ли можно было надеяться, что она посчитается с обычаями своей среды.
(М. Рид «Всадник без головы»)При этом не обязательно даются описания самих действий, может быть только предположение об их возможности.
В «красивых» текстах огромное количество прилагательных и наречий с семой 'необыкновенный': На словообразовательном уровне необходимо отметить частое употребление превосходной степени имен прилагательных: сочнейший, сильнейший; самый совершенный. Приведем основные группы с достаточно близкими значениями, которые мы обнаружили в повести «Чучело»:
НЕОБЫЧНЫЙ: интересная паутина, интереснейшие истории о разных людях, необыкновенное лицо, редкостные люди, особенный город, особенные люди, причудливые костюмы, сказочный дворец.
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ: замечательные истории; замечательный человек; чудная, восхитительная бабушка.
ИНТЕНСИВНЫЙ: ошеломляющее впечатление, чудовищная история, предельная преданность.
Оценка в тексте, как известно, представляет собой функционально-семантическую категорию, передающую отношение к действительности. Оценки могут быть интеллектуальными, рациональными или эмоциональными (иррациональными). В «красивых» текстах они преимущественно эмоциональные, логические встречаются очень редко.
Герои «красивого» текста ведут себя очень импульсивно, спонтанно, эмоционально. Их чувствам присуща быстрая переменчивость:
И наконец, веселая и оживленная, она уехала. Но ее оживление было мимолетным. Приподнятое настроение, вызванное новизной впечатлений, исчезло. Снова она глубоко задумалась. И вдруг у нее мелькнула мысль, которая обдала ее сердце мучительным холодом. Печаль, омрачившая ее лицо, была вызвана <…> (тем, что. – В.Б.) весь день Морис Джеральд был с ней только вежлив и корректен.
(М. Рид «Всадник без головы»)Причина для смены настроения самая простая: на героиню недостаточно обратили внимания. Обычная смена настроения от печали к радости и от нее к досаде дается через внешнее выражение.
Казалось, ни ясное утро, ни пение птиц не радовали ее – тень печали лежала на прекрасном лице. <…>
Из зарослей появился всадник <…>
Воображаю, как возмутились бы наши пуританские мамаши (если бы героиня также ездила верхом. – В.Б.). Ха-ха-ха! можно представить себе их ужас!
Но смех сразу оборвался. Выражение лица креолки мгновенно изменилось, словно кочующая тучка заволокла диск солнца. Но это не была грусть, которая перед этим омрачала лицо девушки, хотя, судя по внезапно побелевшим щекам, ею овладело не менее серьезное чувство. <…> Тень набежала на лицо креолки. <…> Эта тень была вызвана не удивлением, нет, – совсем иным чувством, мыслью гораздо более неприятной. <…> «Неужели же, неужели это она?»
Быстрая смена эмоций мотивируется как происходящими вокруг событиями, так и «чисто внутренним» состоянием персонажа:
Пока больной чувствовал, что ему грозит смерть, он был как будто мягче к окружающим. Но это длилось недолго. Как только Колхаун почувствовал, что начинает выздоравливать, к нему сразу вернулась вся его дикая необузданность, усиленная горьким сознанием недавнего поражения (во время дуэли. – В.Б.).
(М. Рид «Всадник без головы»)Нередко герой/героиня домысливает чувства, которые могут стоять за тем или иным внешним проявлением (так сказать, чтение мыслей).
Что промелькнуло в его взгляде? Гнев? Замешательство? Одобрение? Сначала он нахмурился, потом лицо его просветлело. Какой-то груз упал у него с души, когда он смотрел на Эван, идущую по больничному коридору, и с улыбкой типа «будь я проклят» Линк направился следом.
(Кэрол Дин «Мечты не ждут»)Сами мысли героев «красивых» текстов достаточно размыты:
У мустангера было три мысли – вернее, три чувства, когда он следил за этим прыжком (героини. – В.Б.). Первое из них – изумление, второе – преклонение, третье не так просто было определить. Оно зародилось, когда прозвучали слова: «Мой мустанг мне слишком дорог» (а он был подарен ей мустангером. – В.Б.).
(М. Рид «Всадник без головы»)В целом чувства и эмоции импульсивных героев группируются вокруг нескольких смыслов:
БЕСПОКОЙСТВО: ужас, страх, тревога (встревоженный, настороженно, испуг(анный), (охваченный испугом), паника, отчаяние, угнетать, (угнетающе, гнетущий), возбужденно, нетерпение, нетерпеливо, напряженно, изнеможение; волнение, озабоченность, беспокойство, замешательство, рассеянность, недоумение (недоумевать), растерянность (-ный, – но), задумчиво(сть), колебаться, сомнение, оцепенение, поражать, взволнованно (-ый).
СПОКОЙСТВИЕ, которого гораздо меньше и которое очень показное: беззаботно, непринужденно, успокоение, утомленный.
ИЗУМЛЕНИЕ: удивление (удивить[ся]), изумление, интерес, подозрение, любопытство, озадачен(ный), поражать (поразить).
ОБИДА: досада, обида, стыд, стыдно, позорный.
УВЕРЕННОСТЬ: самообладание, уверенность, верить, уверенный, бодрость, надежда.
Происхождение
Миропонимание героини во многом определяется ее сословной принадлежностью. Как правило, она принадлежит к классу «униженных и оскорбленных»: живет в провинции, в грязном районе города, работает прислугой или по найму. Но в душе она полна благородства и самоуважения. Если же она родилась в знатной семье и ее окружает роскошь, то она, в свою очередь, может воспылать страстью к представителю не столь именитой семьи (Д. Лоуренс «Любовник леди Чаттерлей» и «Дева и цыган»).
Характерно, что герои как бы возвращают другим то презрение, которое они сами получают. Так, герой романа Ч. Диккенса «Большие ожидания» Пип постоянно слышит «Подмастерье кузнеца далеко не уйдет от наковальни». Но при этом отношение Эстель к Пипу с постоянным подчеркиванием его низкого социального происхождения аналогично невыраженному отношению Пипа к бывшему каторжнику, благодаря которому он и стал джентльменом.
– Да, Пип, милый мой мальчик, это я сделал из тебя джентльмена! Я, и никто другой! <…> А для того я это говорю, чтобы ты знал: загнанный, шелудивый пес, которому ты жизнь сохранил, так возвысился, что из деревенского мальчишки сделал джентльмена, и этот джентльмен – ты, Пип!
Отвращение, которое я испытывал к этому человеку, ужас, который он мне внушал, гадливость, которую вызывало во мне его присутствие, не были бы сильнее, если бы я видел перед собой самое страшное чудовище.
Упоминание о происхождении людей может всплывать в «красивых» текстах и совершенно немотивированно:
Пусть платит (за разбитые во время дуэли бутылки и зеркала. – В.Б.) тот, что заварил кашу, а не вы, потомок Джеральдов из Баллибалаха!
(М. Рид «Всадник без головы»)Порой упоминается и происхождение предметов:
Как только стрелка голландских часов, нежно тикавших среди разноцветных бутылей, подошла к 11-ти, в бар один за одним стали заходить посетители.
(М. Рид «Всадник без головы»)Можно отметить наличие как минимум трех типов профессий. Первый – обычная профессия (адвокат, чиновник, почтальон, письмоносец, курьер, стрелок, охотник, повар), причем это может быть общее обозначение: пехотинец, колонист, земледелец, плантатор. Второй – начальник: король, надсмотрщик, хозяин, хозяйка. К этому типу можно отнести и военные должности: капитан, офицер, комендант, сержант, интендант, драгун, майор, полковник, лейтенант. Третий тип профессий принадлежит героям, находящимся в самых низких слоях общества: раб(ыня), пленник(ца), слуга, служанка, (негр) невольник, лакей, горничная, сборщик (хлопка), бармен, трактирщик, торговец.
Мысли героини о том, что ей необходимо унижаться, постоянно терзают ее, она чувствует иное предназначение. Именно поэтому героиня «красивого» текста нередко является графиней, княгиней или принцессой (М. Твен «Принц и нищий»), а действие разворачивается в замках или поместьях. Отнесенность событий к старине также выполняет функцию романтизации переживаний (как в многочисленных романах Б. Картланд).
Тайна родства
Для героини «красивых» текстов характерен конфликт между спонтанностью, эмоциональностью ее натуры и социальными требованиями общества, в котором она вынуждена находиться, но без которого она не может жить.
Это противопоставление чувственности и социальных ограничений создает когнитивный фрейм 'тайна родства'. Многократно осмеянное в литературной критике неожиданное (для окружающих) раскрытие высокого происхождения героини (голубая кровь) составляет главный (и нередко финальный в нарративном плане) «козырь» героини, словно доказывающей этим свое право на своенравие и высокомерие по отношению к тем, кто не ценил ее, не обращался с ней достойно.
Примеров тут можно привести много: Р. Хаггард «Дочь Монтесумы»; Ф. Брет-Гарт «Габриэль Конрой»;
В. Скотт «Айвенго»; Ч. Диккенс «Большие ожидания»; В. Гюго «Отверженные»; Э. Берроуз «Тарзан – приемыш обезьяны» и мн. др.
Связан с ним необычный с точки зрения обыденного мышления фрейм 'появление ребенка, о рождении которого отцу неизвестно' (А. Риплей «Скарлетт»; К. Маккалоу «Поющие в терновнике»; Б. Босуэл «Двойная игра»).
Ложь
В «красивых» текстах нередко присутствует ложь, которая сближает их с «веселыми», но не носит характера значительного преувеличения своих достоинств, а лишь служит средством создания романтического мира, который противопоставляется миру обыденному.
Молоденькая девушка работает в парикмахерской, но делает вид, что она утомилась от балов и вечеринок, которые она обязана посещать (О'Генри «Пока ждет автомобиль»). Бедный мальчик Том разыгрывает из себя принца Англии, мечтая о богатой одежде и слугах (Марк Твен «Принц и нищий»). Рабыня Изаура характеризуется ее владельцем следующим образом: «Так как она получила прекрасное образование и обладает хорошей фигурой, где угодно может сойти за свободную сеньору из хорошего общества».
Тело человека
Огромное внимание в «красивых» текстах уделяется частям тела человека. Трудно назвать такую часть тела, которая бы не упоминалось в них. Отметим, что это не физиологичная телесность, которая характерна для «темных» текстов.
Вот примеры из повести В. Железнякова «Чучело»: лицо покрылось бледностью, и голова упала на грудь; он обнял ее за шею; она закрыла лицо руками; подняла глаза; вскинула брови; распустила волосы; надул губы; щеки покраснели; у нее был приоткрыт рот и дрожали губы; она махнула рукой; сжала пальцы, ладонь; толкнул в грудь; повернулась спиной; он упал на колени у ее ног; он бежал, сверкая пятками.
Нередко даже злодей обладает в таком тексте красивой внешностью и аристократическим происхождением, впрочем, в его внешности часто бывает какой-нибудь изъян, отражающий его ущербность по сравнению с положительными персонажами:
Я увидела теперь впервые его открытое умное лицо, его большие ясные голубые глаза, блестящие волнистые волосы светлого каштанового цвета, длинные нежные белые руки, стройную шею и грудь. Уродство, унижавшее и портившее мужественную красоту его головы и туловища, было скрыто пестрым покрывалом в восточном вкусе, накинутом на его кресло. Его рот <…> был мал и изящен, его нос, самой правильной греческой формы, был, может быть, слишком тонок в сравнении с полными щеками и с высоким, массивным лбом. Глядя на него <…> я могу только сказать, что это был замечательно красивый человек <…> молодая девушка, увидев его и не зная, что скрывалось под восточным покрывалом, сказала бы про себя: вот герой моих мечтаний.
Для автора большое значение имеют пластика персонажа, его телодвижения, жесты, мимика. В целом уровень внешней выраженности эмоций – ведущий для «красивого» текста.
Эротизм
Многие «красивые» тексты пронизаны эротизмом. Любопытно, что это встречается и в религиозных текстах. Основу сюжета таких текстов может составлять описание встречи героини (чаще всего создательницами и персонажами таких текстов выступают женщины) с каким-либо «трансцендентным» явлением. Ей являются ангелы, путем усиленной медитации или молитвы она встречается с небесным Женихом, открывающим ей ее избранничество. Особое внимание уделяется ярким переживаниям, которые испытывает при этих встречах героиня.
Наиболее показательным примером могут служить воспоминания католических визионерок Средневековья (хотя тексты, созданные не в XX веке, не являются объектом данного исследования, приведем отрывки из этих трудов exempli gratia):
Однажды взирала я на крест с Распятием на нем, и когда взирала я на Распятие телесными очами, вдруг зажглась душа моя такою пламенною любовью, что даже члены моего тела чувствовали ее с великою радостью и наслаждением. Видела же я и чувствовала, что Христос обнимает душу мою рукою, которая пригвождена была ко кресту, и радовалась я величайшей радостью. И иногда от теснейшего этого объятия кажется душе, что входит она в бок Христов.
(«Откровения блаженной Анжелы», 1918, 150–151)Любовь, которую испытывает визионерка к небесному другу, не остается без взаимности:
Дочь Моя, сладостная Моя, очень Я люблю тебя. Был Я с апостолами, и видели они Меня очами телесными, но не чувствовали Меня так, как чувствуешь ты; Дочь Моя, сладостная Моя, дочь Моя, Храм Мой, дочь Моя, услаждения Мое, люби Меня, ибо очень люблю Я тебя, много больше, чем ты любишь Меня».
(там же, 96)Святой Терезе Авильской после многочисленных своих явлений Христос якобы сказал: «С этого дня ты будешь супругой Моей. Я отныне не только Творец твой, Бог, но и Супруг» (Тереза Авильская, 1985, 154). Оценивая ее мистический опыт, известный американский психолог У. Джеймс писал, что «ее представление о религии сводилось, если можно так выразиться, к бесконечному любовному флирту между поклонником и его божеством» (Джеймс, 1993, с. 337).
Эротический, чувственный компонент ярко выражен в текстах цитируемых писательниц. Особенно наглядно он выступает в таких, например, отрывках:
Часто Христос мне говорит: «Отныне Я – твой и ты – Моя». Эти ласки Бога моего погружают меня в несказанное смущение. В них боль и наслаждение вместе. Это рана сладчайшая… Я увидела маленького Ангела. Длинное золотое копье с железным наконечником и небольшим на нем пламенем было в руке его, и он вонзал его иногда в сердце мое и во внутренности, а когда вынимал из них, то мне казалось, что с копьем вырывает он и внутренности мои. Боль от этой раны была так сильна, что я стонала, но и наслаждение было так сильно, что я не могла желать, чтобы окончилась эта боль. Чем глубже входило копье во внутренности мои, тем больше росла эта мука, тем была она сладостнее.
(цит. по Мережковский, 1988, 72–75)Тут очевидна аналогия копья с фаллосом. Еще пример:
Когда богатейший супруг желает обогатить ее <душу> и ласкает ее еще больше, Он так вовлекает ее в себя Самого, что подобно человеку, который лишается чувств от чрезмерного удовольствия и радости, она ощущает себя как бы несомой на этих Божественных руках, прилепившейся к этому священному боку, к этим божественным сосцам.
(Тереза Авильская, 1985, 154)В последнем примере выступает такой характерный для «красивых» текстов семантический компонент, как части тела. Как правило, они нередко упоминаются в текстах подобного типа, в религиозных текстах, а также в художественных. Например, блаженная Анжела «увидела Христа, склоняющего голову на руки мои. И тогда явил Он мне Свою шею и руки. Красота же шеи Его была такова, что невыразимо это. Он же не являл мне ничего, кроме шеи этой, прекраснейшей и сладчайшей» («Откровения блаженной Анжелы», 1918, с. 137); «Видела же я и тело Христово часто под различными образами. Видела я иногда шею Христову, столь сияющую и прекрасную, что исходящее из него сияние было больше сияния солнца <…> Хотя дома в той шее и горле видела я еще большую красоту, такую, что не утрачу, как верю, радости об этом видении впредь» (там же, 159).
Таинственная болезнь
Одним из способов обратить на себя внимание является какая-нибудь таинственная болезнь героини. Это может быть и амнезия в результате автокатастрофы.
Деньги
В «красивых» текстах деньги приходят неожиданно. Так, герой по имени Пип из романа Ч. Диккенса «Большие ожидания» постоянно жалуется на тупое однообразное существование. Неожиданно он получает крупное состояние для того, чтобы получить воспитание, соответствующее джентльмену. Отметим, что героини не любят жадных, но сами денег зарабатывать не умеют.
Чужая речь
Спонтанность, порывистость и противоречивость чувств героини словно требуют и обсуждения, и осуждения со стороны окружающих. Само сознание героини словно наполнено другими людьми, что проявляется, в частности, в постоянной имитации, передразнивании, пересказе речи других лиц.
Повествование в «красивых» текстах при этом ведется от лица героини в форме воспоминания о произошедших с ней событиях. В кинофильмах этого типа герой (героиня) комментирует происходящее с ним (ней) в сторону, как это бывает иногда на театральной сцене. Такое комментирование создает эффект театральности и эффект присутствия наблюдающей публики.
Родственники
Эта же несамодостаточность приводит и к тому, что у героини «красивых» текстов есть сестры, братья, кузины, дяди, тети, бабушки, дальние родственники, подруги и, конечно, недоброжелатели.
Цвет
В «красивых» текстах высока частотность слов с обозначением цвета предмета.
Так, в повести «Чучело» очень частотны светлые тона (светлое пальто, светлая фигура, белые глаза, зайка беленький, белая стена); очень светлые (прозрачно-белая рубаха, шрам на щеке вспыхнул ослепительно белой полосой, ослепительно светлая фигура, ослепительно белые мундиры) и близкие к нему (золотые горы, сапоги с золотыми и серебряными шпорами, королева с раззолоченного трона, сверкающие диадемы). Часто упоминается красный цвет и его оттенки (ярко-красные угли, ярко-красные пятна на лице, красноватые лучи солнца, красновато-синий цвет неба, новое красиво-красивое розовое платье, серовато-розовый цвет угасающего дня).
Другие цвета встречаются реже (синие глаза, мерцающе-синие угли, зеленая кошка). В целом же во всем тексте видение мира цветное (веселая, нарядная толпа; веселые, многоцветно раскрашенные домики).
Именно это – яркость, нетусклость предметов – является отличительной чертой колористики «красивых» текстов.
(На стойке. – В.Б.) красуются полочки, уставленные графинами и бутылочками, содержащими жидкость не только всех цветов радуги, но всевозможных их сочетаний.
(М. Рид «Всадник без головы»)Скорее всего эту функцию яркости выполняет и прилагательные с семой 'блестящий' и даже 'свет', характерные, прежде всего для «светлых» текстов:
Лед, вино и вода, переливаясь из стакана в стакан, искрятся и создают что-то вроде радужного сияния за его плечами или же ореол, окружающийего напомаженную голову.
Он был под огнем двадцати прекрасных глаз – некоторые из них сияли как звезды. Вспомните, что среди них были глаза Луизы Пойндесктер, и едва ли вы будете удивляться желанию мустангера блеснуть.
(М. Рид «Всадник без головы»)Белый цвет проявляется в следующих оттенках: ослепительно белый, белоснежный, белее жемчуга, бледный, бледнолицый серебряный, серебристый, седой, чистый, кристальный.
Красный – ярко-красный, рыжий, порыжевший, багровый, розовый, бронзовый, алый, смуглый.
Оранжевый не обнаружен.
Желтый – желтоватый, пожелтевший, золотой.
Зеленый – изумрудный, бутылочно-зеленый, зелень.
Голубой – голубой, небесно-голубой, лазоревый, лазурь.
Синий – синева.
Фиолетовый – не обнаружен.
Что касается реализации таких категорий, как время и пространство, то можно сказать следующее.
Нередко действия в «красивых» текстах происходят в необычных местах, Так, пьесы А. В. Луначарского редко называются просто пьесами – обычно они носят названия «мистерий», «драматических сказок», «идей в масках» и т. д. Действие его произведений происходит в средневековых замках с романтическими названиями. Так, пьеса «Василиса Премудрая» разыгрывается в замке Меродах Романа, «Медвежья свадьба» в замке Мединтилтас, «Три путника и оно» в замке Шлосс-ам-Флусс. Иногда действие перебрасывается в «платановые сады», на «высокие скалы с глубокими провалами», в «высокую черную лодку, которой управляют два ассирийца», на «курящуюся предутреннюю гору», на «лестницу о бесчисленных ступенях», в «Монастырь Святых Терний на острове Презос», в «страну Аэ-Вау, где всегда голубой, даже синий свет», в «черную бездну о рваных краях» или совсем просто в «иные пространства, в безбрежность». Одна идея в маске разыгрывается даже у Божьего престола.
Здание
События в «красивом» тексте происходят, как правило, в двух местах: в красивом (замок, вилла, курорт) и/ или некрасивом (хижина, провинция, маленький городок).
Особенно большое место уделяется зданию.
Это и общее НАИМЕНОВАНИЕ: здание, усадьба, форт, жилище, хижина, замок, король, каземат, постройка, архитектура, казарма, крепость, поместье, квартира, монастырь, гостиница, таверна, постройка, клуб, биржа, площадь, кабачок, бар, гарнизон, бивуак, палатка.
НАЗЫВАНИЕ ЧАСТЕЙ ДОМА: навес, крыша, мебель, пол, утварь, кухонный двор, порог, фундамент, фасад, труба, фонтан, стиль архитектурный, расположение.
Описание того, что ВНУТРИ ДОМА: лестница, коридор, столовая, гостиная, мозаика (мозаичный), помещение, буфет, стойка, полочки, внутри.
ОПИСАНИЕ КОМНАТЫ: табурет, ковер, кровать, стол, постель, полка, сундучок, подстилка, сиденье, одеяло, кресло, зеркало, диван, обстановка, убранство.
Вспомнив о том, что называл 3. Фрейд «женской комнатой», отметим, что важное место в «красивом» тексте занимает преграда, ограда, ограждение, по-видимому, выполняя функцию социального запрета на импульсивные действия.
Так, несчастного принца сразу отбросили за ограду, куда он потом с трудом попадает (М. Твен «Принц и нищий»), «Том Сойер» начинается с покраски забора. Мустангер окружает себя от змей веревкой (М. Рид «Всадник без головы»).
В тексте при описании зданий постоянно упоминаются преграда, ловушка, вход, дверь, решетка, ограда, парапет, стена, ворота, загон, жерди, изгородь, овраг; даются глаголы окаймлять, окружить.
Важно также отметить, что, когда героиня перемещается в пространстве, акцент делается не на движении, а на изменении ее социального статуса (например, при ее переезде из столицы в провинцию или наоборот). Говоря метафорически, основное измерение «текстового» пространства «красивого» текста – это ситуация. Она, в свою очередь, либо необычная, либо трагическая.
Время
Изменения во времени в «красивом» тексте не акцентируются. Даже если события отделены временными промежутками («Прошло 6 лет»), то акцент делается не на этом, а на изменении психологического статуса героини; либо упоминается, что она повзрослела, либо говорится, что все это время глубоко страдала. Тем самым «текстовое» время «красивого» текста – это время волнений, переживаний и страданий героини. В философии время определяется как промежуток между разными состояниями объекта. В «красивом» тексте – это промежуток между разными психологическими состояниями субъекта («Возникшие было у него подозрения, для которых, надо сказать, имелись основания, начали рассеиваться». – М. Рид «Всадник без головы»). И все события текста развиваются на основе тех эмоций, которые героиня переживает.
Итак, реальное время как бы стоит; пространство находится как бы за окном поезда, в котором едет героиня. Образно говоря, в «красивом» тексте пространство не протяженности, а пространство эмоций, время не внешних изменений, а время субъективных переживаний.
Животные
Животные в «красивых» текстах играют особую роль. Они часто оказываются вовлечены в события, с ними сравнивают героев, названия животных используются для выражения эмоций по отношению к человеку. Рассмотрим это на примере образа лошади – одного из наиболее часто встречающихся в «красивых» текстах животных. Встречаются слова из следующих тематических групп:
– единичные животные: лошадь, конь, кобыла, жеребец, мустанг;
– и прилагательные, к ним относящиеся, – лошадиный, конский;
– группы животных: табун, караван, кавалькада, вожак;
– тело лошади: копыто, хвост, спина, лопатки, грива, шкура, конина;
– действия, производимые лошадьми: пастись, (по)скакать, (по)ехать, затрусить; верхом, галопом, во весь опор, рысцой, аллюром, брыкаться; топот, ржание (отрывистое), след, отпечаток;
– характеристики лошадей и их действий: отрывистый, быстроногий, быстрый, выносливый;
– сопутствующие лошадям предметы: седло, седельный, сбруя, стремя, шпора, уздечка, лука, поводья;
– обозначение действий человека по отношению к лошади: езда; пришпорить, подковать;
– предметы, которые использует человек: кнут, шпора, лассо, петля; карета, фургон;
– слова, несущие дополнительное эмоционально-оценочное, чаще негативное, значение: кляча (в отношении тощей лошади), колымага (в отношении разбитой телеги).
Довольно обычным для речевого поведения персонажей «красивого» текста является использование имени животного для сравнения с человеком или в качестве оскорбления человека.
– Собака! – свирепо прошипел «благородный южанин». – Проклятая ирландская собака! Я отправлю тебя (обращается он к мустангеру. – В.Б.) выть в твою конуру! Я…
Достав нож, он швырнул его в противоположный угол и сказал:
– Для этой расфуфыренной птицы он мне не нужен – я покончу с ним (с мустангером. – В.Б.) первым же выстрелом.
Что является характерологическим, так это:
– очень большая населенность мира именно животными, выбор темы, связанной с животными и местами их обитания;
– отношение к ним как к людям.
Объяснения тому, что сравнение с животными особенно частотно именно в «красивых» текстах, в психиатрической литературе мы не нашли.
По опушкам лесных зарослей скрывается тощий техасский волк, одинокий и молчаливый, а его сородич, трусливый койот, рыщет на открытой равнине с целой стаей своих собратьев. В этой же прерии, где рыщут свирепые хищники, на ее сочных пастбищах пасется самое благородное и прекрасное из всех животных, самый умный из всех четвероногих друзей человека – лошадь. Здесь живет она, дикая и свободная, не знающая капризов человека <…> Но даже в этих заповедных местах ее не оставляют в покое. Человек охотится за ней и укрощает ее.
Эти же характеристики применяются и к людям. Люди и их поступки нередко сравниваются с животными и их действиями: Перескочив через овраг, они с мустангером поскакали рядышком; совсем спокойно, как два барашка (М. Рид). Пажи, нарядные, словно бабочки, <…> По коридорам пронеслось пчелиное жужжанье: – Принц! Смотрите, принц идет! (М. Твен).
Стиль «красивых» текстов приподнятый, изысканный и нарочито красивый; он словно копирует устную возбужденную речь истерички, полную инверсий.
Жанры
«Красивые» тексты, занимая свое особое место в культуре, очень часто составляют основу для театральных и киносценариев, являются текстовой основой для оперетт и водевилей. Они очень распространены в виде «мыльных опер» и сценариев для индийских кинофильмов. В публицистике «красивые» тексты существуют преимущественно в жанре рецензий на театральные постановки и репортажей с художественных выставок, с конкурсов красоты, с показов мод. И конечно же, их много в художественной литературе. Это всевозможные «душещипательные» романы, написанные женщинами и преимущественно для женщин. Особого внимания, с точки зрения психолога, заслуживает распространение «дамских» романов в разные эпохи и в разных культурах (Белянин, 1995).
Говоря о роли жанрообразования в порождении текста, следует отметить, что жанр выступает как когнитивная модель, в которую вписывается тот или иной текст.
В лингвистике существуют ряды, обозначающие отношение абстрактной единицы и ее реализации в языке: фонема – звук, морф – морфема, лексема – слово, синтагма – словосочетание. Следующим уровнем языка является текст, но традиционно считается, что текстемы не существует (А. А. Леонтьев). Мы же полагаем, что представленные нами модели реализуются в большом количестве текстов и являются текстемами – единицами плана содержания, получающими обобщенное выражение в единицах акцентуированного сознания.
2.6. Проявление шизоидной акцентуации в «сложных» текстах
Из числа литературных текстов следует особо выделить тексты с усложненной семантикой и синтаксисом, содержание которых составляет описание теоретических положений, умозрительных концепций и теорий. Такие тексты встречаются достаточно часто в сфере науки, прежде всего в философии и логике.
На наш взгляд, порождение многих из них обусловлено шизоидностью.
Шизоидная акцентуация
Шизофренические расстройства в целом характеризуются фундаментальными и специфическими расстройствами мышления и восприятия, а также неадекватным или сниженным аффектом. Как правило, сохраняются ясное сознание и интеллектуальные способности, хотя с течением времени могут появиться некоторые когнитивные нарушения. Расстройства, свойственные шизофрении, поражают фундаментальные функции, которые придают нормальному человеку чувство своей индивидуальности, неповторимости и целенаправленности. Зачастую наиболее интимные мысли, чувства и действия как будто становятся известными другим или ими разделяются. В таких случаях может развиться разъяснительный бред, будто существуют естественные или сверхъестественные силы, которые воздействуют, часто причудливым образом, на мысли и действия человека. Такие люди могут рассматривать себя как центр всего того, что происходит. Нередки слуховые галлюцинации, комментирующие поведение или мысли человека. Восприятие также часто нарушается: цвета или звуки могут казаться необычно яркими или качественно измененными, малозначащие черты обычных вещей могут казаться более значимыми, чем весь предмет в целом или общая ситуация. Растерянность также часто встречается на ранних стадиях заболевания и может привести к мысли, что повседневные ситуации обладают необычным, чаще зловещим, значением, которое предназначено исключительно для данного человека. Характерным нарушением мышления при шизофрении является то, что незначительные черты какой-либо концепции (которые подавлены при нормальной целенаправленной психической деятельности) становятся преобладающими и заменяют те, которые более адекватны для данной ситуации. Таким образом, мышление становится нечетким, прерывистым и неясным, а речь иногда непонятна.
Одним из проявлений шизофрении может быть нарушение коммуникативной способности личности. Возможно, что весьма существенную роль в нарушении речевого и неречевого поведения шизофреников играют генетические факторы. Имеются также гипотезы о нарушениях нейронных механизмов, межполушарного баланса и, следовательно, изменении функциональной асимметрии мозга при шизофрении. Возможно, что патология (врожденная или приобретенная) правого полушария вызывает своего рода избыток функций левого полушария. Образно говоря, речь левого полушария, высвобожденная из-под контроля правого полушария, и есть речь шизофреника.
Речь шизофреника абстрактна, псевдонаучна и не ориентирована на собеседника; она может быть фонетически однотонной и содержать слова, произнесенные собеседником (эхолалия), или бессмысленные выкрикивания одного и того же слова (вербигерация). Мысли больного непоследовательны и разорваны, написанные им тексты приобретает форму зашифрованного письма, не подчиняются правилам правописания и с трудом поддаются пониманию.
Все или ничего – так называется цель, которая ущемляет здоровье. Исключения из правил – это достигнутые цели, которые даны на счастье. Правилом является и подписанный шизоидом текст, иначе говоря, больным шизофренией. В качестве псевдонима изымается вещь – объект здоровье. Вопрос о деньгах действует так же просто, как рубль. Глупость является преимуществом богатых. Это всегда раздражает бедных. Манифест – это импульс ожидания своего перевоплощения. Террористы заслуживают приветствия. Для успеха этого манифеста необходим только террор. Для того чтобы дать горилле исходную точку, нужно сказать последние главные слова. Перескакивание мыслей на бумагу – это результат интеллекта и прежде всего Кельнского суда. Мировая революция для меня – исходная точка, польза с помощью работы. Труд освобождает, как заверял Вальдхейм папу римского.
Высказывания больных этой категории часто бывают долгими, а если попытаться изложить их содержание, то порой совершенно невозможно дойти до сути вещей, понятной для слушателя. Обычно в таких высказываниях неявно содержатся признаки символического мышления; возникают странные ассоциации, больной создает причудливые неологизмы (и даже целые оригинальные словари и своеобразные языки). Бывает и так, что при странном и в целом непонятном содержании сохраняется, в общем, правильная фонетика, грамматика и даже синтаксис. Словотворчество адекватно, хотя и содержит иногда необычные словосочетания. Языковые ошибки чаще всего не отличаются от ошибок, которые бывают у здоровых людей.
Одни и те же больные могут временами говорить вполне нормально, а иногда – диссоциированно (рвано). Высказывания пульсируют либо нарастают, могут появляться диссоциированные фрагменты. Это явно выражено, например, в следующей иронической жалобе больного с диагнозом бредовой шизофрении.
Я действительно крайне ослабевший благодаря безответственным махинациям семей и редактора X, который нахальным образом считал уместным вмешиваться в мою жизнь и личные взгляды. Врачи, которые все это одобряли, – это одна клиника, послушная приказам тех, кто из Нафты, нафтовцев, нафцяжей, нафциков, нафцюков. Это они хотят меня заканистировать, кастрировать, да, я – психический кастрат, не верю ни в какие лекарства врачей, не доверяю людям, потому что это помачане, помахтане, вэрхмахтане, Вэрмахт. Я это знаю, ты не имеешь понятия об этом. Я знаю эти скелеты рыб, это подговаривание в пивнушках, потому что это все пивнушка, говорят, может, селедка, может, компотик, может, без компотика, может, чай, может, бата. Знаю это хорошо, о чем тут говорить.
Склонность к игре слов и высмеиванию воображаемых врагов реализуется в этом высказывании посредством нагромождения похожих по звучанию слов, включая неологизмы, исходным для которых является название учреждения (Нафта) и которые больной искусно довел до совершенно иных, негативных понятий (Вэрмахт). Здесь имеются сохранная правильность грамматики, модификация суффиксов, выражающих эмоциональные оттенки (нафц-ик, нафц-юк), плавное изменение корня слова, но ассоциации необычайные. Подобная игра со словотворческими конструкциями, своеобразная ирония и абсурдный юмор, встречаемый у больных, позволяют выделить в рамках шизофренического стиля «гебефренический стиль». Такие больные могут использовать понятные только им «заклинания», отгоняя мучающих их «дьяволов».
На потрылу! На фуку! На выбратнэ!
В целом галлюцинации (восприятие без объекта) рождают очень причудливое языковое поведение.
Обратимся к жанру, который в значительной степени представлен «сложными» текстами, а именно – к научной фантастике.
Научная фантастика
Своим возникновением научная фантастика как жанр художественной литературы обязана связи с наукой как логической формой постижения мира (по английски science fiction – «научный вымысел»). В частности, Р. Нудельман пишет: «Фантастическая гипотеза по природе своей – логическая конструкция, квазинаучное допущение, и как таковое оно допускает и предполагает именно логическое свое развитие путем надстройки и все большего усложнения исходной идеи и последующих вариантов. Фантастические идеи, – продолжает он, – играют в фантастике ту же роль, что в науке ее методы, и имеют сходную природу. Вот почему так сходны пути их развития» (Нудельман, 1970, с. 8).
Иногда в научной фантастике события разворачиваются в двух плоскостях – в плоскости реального мира и мира вымышленного. Причем между ними возможен взаимопереход.
Рассмотрим в качестве примера рассказ Р. Брэдбери «И грянул гром». В нем описывается, как во время путешествия группы экскурсантов на машине времени в далекое прошлое оказалась раздавленной бабочка. В результате этого произошли такие изменения, которые привели к смене политического режима (в сторону диктатуры) в том времени, откуда отправились путешественники. В этом рассказе налицо существование двух планов. Первый план: имеющаяся в данный момент (художественного времени) определенная политическая ситуация. Второй план: некогда существовавший и доступный благодаря машине времени мир прошлого.
В «Пикнике на обочине» братьев Стругацких каждое столкновение Сталкера с новым проявлением внеземной цивилизации происходит по своим правилам, подобно тому как в шахматах за каждой фигурой закреплен свой ход.
Разнообразие тем, к которым обращается научная фантастика, не позволяет достаточно полно описать закономерности структурного построения этих текстов. Отметим лишь несколько моментов, касающихся преимущественно построения второго – вымышленного – плана.
Как правило, второй план текстов занят миром, «на порядок» выше обычного, это второй этаж по отношению к первому миру, традиционному. Это описание сверхвысоких или подземных городов, транспорта со сверхвысокими скоростями, сочетающего в себе достоинства нескольких привычных нам видов (летающие машины, атомные такси, безрельсовые поезда и т. п.), роботов, обладающих человеческими способностями, и др. Социальные последствия могут оцениваться и как положительные, и как отрицательные. В последнем случае изображаемый в научной фантастике мир «на порядок» хуже обычного: техника выходит из-под контроля человека, загоняет супергород под землю, роботы порабощают людей, человека подавляет урбанизация (С. Лем «Возвращение со звезд») и т. д.
Мир «второго этажа» существует вне пространства, словно сам по себе. Действие может происходить в параллельных пространствах, пространств много или они существуют в разных плоскостях (Р. Силверберг «Тихий вкрадчивый голос»; Л. Кэрролл «Алиса в стране чудес», «Алиса в Зазеркалье», Д. Финней «Меж двух времен»).
В научной фантастике может существовать и третий план («этаж»), особенностью которого является его деформированность во времени. Можно предположить, что у автора, говоря словами Л. Кэрролла, возникает «состояние своего рода транса, когда человек, вернее, его нематериальная сущность, не осознавая окружающего и будучи погружена в сон, перемещается в действительном мире или в Волшебной стране и осознает присутствие фей».
Время в «сложных» научно-фантастических текстах останавливается (Г. Уэллс «Чудесные таблетки»), повторяется (Ф. Пол «Туннель под миром»), замедляет или убыстряет свой бег (Ф. Колупаев «Качели отшельника»), коллапсирует, а прошлое может идти навстречу настоящему (см. линию A-Януса и У-Януса в повести А. и Б. Стругацких «Понедельник начинается в субботу»).
Если на «втором этаже» перемещение во времени происходит с помощью техники, то на «третьем этаже» – с помощью мысли (Д. Финней «Меж двух времен»). Возникает так называемая фантастика внутреннего ландшафта, в текстах появляется упоминание о телепатии, телекинезе и прочих «гипотетических способностях». Форма перестает сковывать содержание, сознание становится бестелесным (А. Кларк «Космическая одиссея 2001») или свободно меняется тело (Р. [Пекли «Обмен разумов»), «выворачиваются наизнанку» глубины подсознания (С. Лем «Солярис»; А. и Б. Стругацкие «Пикник на обочине»), возникает мир «чистого разума». В разреженном мире чистых идей и существует «сложный» научно-фантастический текст.
В плане социологии чтения интересно отметить, что опубликованный в 70-е годы в СССР роман А. Кларка «Космическая одиссея 2001» в русском издании не имел авторского завершения. Дело в том, что советских издателей смутило присутствие в конце романа «высшего космического разума», который не имеет вещественной оболочки и представляет собой чистую энергетическую «субстанцию», свободно перемещающуюся в пространстве. «Последние страницы романа, – объяснял известный советский фантаст И. А. Ефремов, – совершенно чужды <…> реалистичной атмосфере романа <и это о жанре фантастики! – В.Б.>, не согласуются с собственным, вполне научным мировоззрением Кларка, что и вызвало отсечение <! – В Б. > их в русском переводе».
Для «сложных» текстов характерно стремление к использованию знаков, символов, иероглифов. Здесь можно провести параллели литературы с другими видами искусства. Так, к примеру, художник В. Кандинский говорил о треугольниках как об «абсолютных духовных сущностях», в том же ключе описывал квадраты К. Малевич, а П. Мондриан – прямые углы. В литературе у Г. Гессе появляется особая игра с особыми правилами («Игра в бисер»), у Дж. Стейнбека – обращение к символике дзен-буддизма («Девять рассказов»), а у Дж. Джойса – к древней мифологии («Улисс»), вводит свои символы В. Хлебников:
Эль – это легкие Лели. Точек возвышенный ливень, — Эль – это луч весовой, Воткнутый в площадь ладьи. Нить ливня и лужа. Эль – путь точки с высоты, Остановленный широкой Плоскостью. (В. Хлебников «Слово об Эль»)Психолингвистический анализ научно-фантастических текстов показал, что чем «фантастичнее» («сложнее») такой текст, тем дальше находятся его лексические элементы от норм смысловой сочетаемости.
Приведем пример, взятый из рассказа Р. Силверберга «Тихий вкрадчивый голос». Герой рассказа Робертсон приобрел шкатулку, которая подсказывала ему наиболее вероятный исход того или иного события и позволяла неоднократно избегать смерти и разорения. Явившийся из будущего пришелец пытается объяснить ему назначение предмета:
Вариостат миновал один дехрониксный интервал и был утерян в Риг-241 241 форре в 7-68/8 абсолютного времени. Он описал внепространственную кривую, которая вернула его в континуум, в девятое августа по местному исчислению. В цепи событий вы были первым, кто послушался совета вариостата, а потому все ваши поступки с того момента до настоящего времени образуют несомненный и все расширяющийся противотемпор, который следует отрегулировать. Я создам дехрониксный интервал, перенесу сначала вариостат, а затем и вас по вселенской трубе к моменту приобретения и помогу вам вернуться в положенную фазу. Этим делом лучше заняться безотлагательно, иначе противотемпор будет расширяться.
Затем пришелец возвращает героя в прошлое и тем самым ликвидирует результаты изменений, произведенных с помощью шкатулки-вариостата.
Создавая такого рода неологизмы, фантасты словно следуют совету автора абсурдистских пьес С. Беккета: «Писатели должны следовать примеру художников и композиторов, отказываясь от буквальных значений и разрешая поверхностям слов растворяться».
Создание неологизмов происходит за счет вычленения разных основ слова и дальнейшей агглютинации их в одно слово или изменением устоявшегося значения слова. Это похоже на процессы, имеющие место при расщеплении сознания (шизофрении). Высказанное положение подтверждается также результатами исследований P. M. Фрумкиной, которая связывает появление необычных слов в тексте с аутизмом автора (Фрумкина, 1981).
При исследовании границ «образа тела» было выявлено, что у больных шизофренией ощущаемые границы тела иногда размываются или даже исчезают. Смещаются события, которые происходят внутри и вне физических границ тела. Как отмечают специалисты, при шизофрении наблюдаются отгороженность личности от внешней жизни (аутизм), преобладание холодной, рассудочной оценки действительности, склонность к символической форме мышления.
В. В. Налимов приводит следующий диалог из «Звездных дневников Иона Тихого» С. Лема, который должен был бы прояснить значение слов сепульки, сепулъкарий и сепуление: герой, оказавшись на планете Интеропия, заинтересовался назначением предмета по названию сепулька и зашел в магазин с рекламой сепулек.
Я подошел к прилавку и с наигранным безразличием спросил сепульку. – Для какого сепулькария? – поинтересовался продавец, снимаясь со своей вешалки. – Ну, для какого… Для обычного, – ответил я. – Как для обычного? – удивился он. – Мы держим только сепульки с присвистом… – Вот и дайте одну… – А где у вас щересь? – Э, мгм… Я не захватил с собой… – Но как же вы возьмете ее без жены? – произнес продавец, в упор посмотрев на меня. Он медленно мутнел. – У меня нет жены! – воскликнул я неосторожно. – У вас… нет… жены?! – пробормотал почерневший продавец, глядя на меня сужасом. – И вы хотите сепульку?.. Без жены?.. – Он дрожал всем телом.
Комментируя этот диалог, Налимов пишет, что «пространный и логически правильно построенный текст оказывается недостаточным для понимания смысла чуждого нам слова. Как математик, он поясняет: «В нашем распоряжении нет того множества смысловых значений, на котором можно было бы построить функцию распределения. Мы не можем не только понять, но даже смутно уловить смысл слова. Логически нормальное его употребление еще не раскрывает его смысл» (Налимов, 1974, с. 103).
Символы в «сложном» тексте олицетворяют нечто такое, что иным путем, помимо символов, не может быть выражено и тем самым может быть понятно только через символ. Получается замкнутый круг, замкнутое само на себя мышление, которое посылает сообщение самому себе.
Такие соображения вполне укладываются в результаты исследований психологических особенностей писателей-фантастов, которые показывают, что писатели научной фантастики отличаются от генеральной популяции. В исследовании, осуществленном с помощью опросника Кэттелла в рамках изучения креативности, участвовали люди, занятые творческим трудом (писатели и художники), и представители обычных профессий. В выборке была группа писателей-фантастов.
Результаты показали, что среднегрупповой профиль личности писателей-фантастов отличается от профиля лиц, не занимающихся писательским трудом, по всем факторам. Содержательно эти различия характеризуют писателей-фантастов следующим образом: они отличаются более высоким уровнем тревожности, что показывает их обеспокоенность будущим. Это заставляет думать о превентивных мерах для предотвращения грядущих неудач и неприятностей. В решении вставших перед ними жизненных проблем они полагаются только на себя, не идут на поводу у группы и общественного мнения, могут действовать смело и решительно, без колебаний. Писатели-фантасты не считают необходимым придерживаться общепринятых норм поведения и морали. Во всех их поступках много нестандартного, неожиданного и нетривиального. Мир фантазий, вымысла для них так же реален и вещественен, как окружающая действительность, поэтому, несмотря на высокий интеллект, они часто ведут себя непрактично, мало внимания проявляют к повседневным бытовым проблемам.
Писатели-фантасты отличаются и от писателей других жанров. В частности, у них ниже уровень сознательного контроля над своим поведением, в своих поступках они в большей степени руководствуются чувствами и эмоциональными порывами, менее последовательны и аккуратны в выполнении дел.
Таким образом, результаты описанного эксперимента позволяют выделить особенности личности, отличающие писателей-фантастов от других групп людей.
Можно найти соответствие между особенностями научно-фантастического текста, описанными литературоведами, и эмоционально-смысловой доминантой авторов. Так, описание опасностей, которые могут возникнуть в будущем, может быть связано с выявленной тревожностью (факторы F-, Q4+); фантастичность, нереальность содержательных построений текста может быть связана с рационализмом и мечтательностью (факторы Q1 +, М+); необычность предлагаемых решений, очевидно, связана со смелостью и стремлением к доминантности писателей как личностей (Е+, Н+). Как писал канадский фантаст Р. Брэдбери, «лучшую научную фантастику пишут в конечном счете те, кто чем-то недоволен в современном мире и выражает свое недовольство немедленно и яростно».
Конкретная поэзия
К «сложным» следует отнести и произведения, написанные в жанре так называемой конкретной поэзии:
EYEYE (Можно перевести как глазалг)
(Aram Saroyan)Или вот такое произведение, посвященное Шенбергу[8], чья музыка тоже может быть признана «сложной»
Schoenberg SChoenberg SCHoenberg SCHOenberg SCHOEnberg SCHOENberg SCHOENBerg SCHOENBERg SCHOENBERG (John Shakley)А вот как мысль о возможности свободного обращения со словом представлена в известном диалоге Шалтая-Болтая:
– Когда я беру слово, оно означает то, что я хочу, не больше и не меньше, – сказал Шалтай презрительно. – Вопрос в том, подчинится ли оно вам, – сказала Алиса. – Вопрос в том, кто из нас здесь хозяин, – сказал Шалтай-Болтай. – Вот в чем вопрос.
(Л. Кэрролл «Алиса в Зазеркалье»)Вяч. Иванов, рассматривая процесс усвоения речи ребенком, пишет, что «на раннем этапе усвоения родного языка ребенок еще не знает значений подавляющего большинства слов, но быстро выучивается их свободному грамматическому соединению». Исследователь полагает, что в сказку «Алиса в стране чудес» Кэрролла подобные «грамматически правильные, но неосмысленные тексты» проникли именно под влиянием детской речи. Вслед за этим Иванов пишет, что сходными оказываются и высказывания при некоторых формах нарушения мышления, в частности, шизофрении (Иванов, 1978, с. 29).
Приведем еще один пример из сказки Л. Кэррола:
Twas brillig, and the slithy toves Did gyre and gimble in the wabe; All mimsy were the borogoves, And the mome raths outgrabe. Варькалось. Хливкие шорьки Пырялись по наве. И хрюкотали зелюки, Как мюмзики в мове. («Алиса в Зазеркалье»)Дальше следует комментарий, объясняющий, что, к примеру, хливкие – это хлипкие и ловкие, а шорьки – это помесь хорька, ящерицы и штопора (там же).
«Понимаешь, – говорит Шалтай Алисе, – это слово (хливкие. – В.Б.) как бумажник. Раскроешь, а там два отделения! Так и тут – это слово раскладывается на два».
Трудно не увидеть аналогии между отмеченными лингвистическими особенностями «сложных» текстов и упоминаемыми состояниями сознания при шизоидной акцентуации.
2.7. «Смешанные» тексты как проявление сочетаний типологических черт личности
Взятая за основу типология акцентуаций как система типологических черт личности не может охватить все многообразие личностных типов. Соответственно предложенная нами типология текстов не охватывает все типы художественных текстов, которые существуют и в принципе могут существовать. Типология является принципиально открытой. Кроме того, описанные нами типы текстов достаточно резко выделяются из общего массива литературы, обладают своими тематическими, структурными, семантическими и языковыми особенностями.
Многие тексты, если не большинство, могут заключать в себе описание нескольких типов сознания, разных состояний и типов поведения людей. Тексты, которые однозначно можно отнести к определенному типу, так же редки, как люди, в отношении которых можно утверждать, что они – «чистые» холерики или меланхолики – при любой погоде, в любое время суток или в разных жизненных обстоятельствах. Тексты, которые содержат как минимум два типа мироощущения, две эмоционально-смысловые доминанты, назовем «смешанными».
В самом простом для анализа случае «смешанным» может считаться текст, в котором в рамках одной эмоционально-смысловой доминанты описывается мироощущение, обладающее характеристиками, соотносимыми с другой эмоционально-смысловой доминантой. При этом все персонажи получают оценки посредством предикатов, присущих лишь одной из них. Для таких текстов, как будет показано далее, также существуют определенные закономерности сочетания доминант, которые имеются в «чистом» виде в других текстах.
В качестве примера таких отношений можно привести басню И. А. Крылова «Стрекоза и муравей». Текст по семантическим компонентам и сюжету следует отнести к «темным». Главный герой – маленький, но трудолюбивый. Стрекоза же – это попрыгунья, жизнь ее полна песен, резвости. Она не враг муравья, она не представляет для него угрозы. Она реализует иной тип поведения, соотносимый, на наш взгляд, с поведением красивой (демонстративной) личности. Между ними возникает конфликт, непохожий на конфликт в «простых» текстах, состоящий, скорее, в противопоставлении двух типов отношения к миру, чем в их противоборстве.
Л. С. Выготский рассматривал стрекозу как истинную героиню небольшого рассказа, отмечая особую роль хорея, появляющегося в басне при описании стрекозы. Он приводит следующее высказывание одного из литературоведов: «Благодаря этим хореям сами стихи как бы прыгают, прекрасно изображая попрыгунью-стрекозу» (Выготский, 1987, с. 120). При всей двойственности ситуации победителем из конфликта выходит муравей, не признающий безделья («Ты все пела? Это дело. Так пойди же попляши»).
Следует отметить психологическую недостоверность приписывания стрекозе злой тоски, невозможной для героев «красивого» текста, но часто встречающейся у персонажей «темных» текстов. Вышесказанное позволяет считать рассмотренную басню «смешанным» типом текста.
Согласно А. А. Ухтомскому, в душе могут жить множество потенциальных доминант – следы от прежней жизнедеятельности. Сделаем краткий обзор наиболее часто встречающихся разновидностей «смешанных» типов текстов.
«Светло-печальные»
Среди текстов с доминирующим «светлым» началом отметим «светло-печальные», к которым мы отнесем многие японские танка и хокку. Созданные в рамках неевропейской культуры, они, возможно, связаны с иными личностными особенностями, чем те, о которых пишут европейские исследователи. Тем не менее, поскольку они известны и европейским читателям, мы полагаем возможным их типологизацию по эмоционально-смысловой доминанте.
Ах, в этом бренном мире Итог всегда один… Едва раскрылись сакуры бутоны — И вот уже цветы Устлали землю… Дождь, Бабочка, шаги. Мимолетность жизни.Здесь явно присутствует и благоговение перед природой (характеризующее «светлые» тексты), и мысли о смерти (характерные для «печальных» текстов).
«Светлая» повесть Р. Баха о Чайке завершается смертью («Чайка Джонатан Ливингстоун»). Программное произведение известного распространителя дзен-буддизма в Европе Т. Судзуки «Zen and the Art of Motorcycle Maintenance» также может быть отнесено к «светло-печальным». Оно близко «печальным» в той части, где описывается подготовка к путешествию на мотоцикле, а не само путешествие. Здесь можно видеть усиление депрессии под влиянием мысли о необходимых действиях, о котором писал еще П. Жане (Жане, 1984/1928). Описание же того, как герой повести учит детей писать сочинения на основе их собственного видения мира, сближает его со «светлыми».
К «светло-печальным» мы относим и «Обломова» (И. Гончаров). В этом романе превалируют лексические элементы, характерные для «светлых» текстов:
Она (Ольга. – В.Б.) одевала излияния сердца в те краски, какими горело ее воображение в настоящий момент, и веровала, что они верны природе, и спешила в невинном и бессознательном кокетстве явиться в прекрасном уборе перед глазами своего друга. Он (Илья Ильич. – В.Б.) веровал еще больше в эти волшебные звуки, в обаятельный свет и спешил предстать пред ней во всеоружии страсти, показать ей весь блеск и всю силу огня, который пожирал его душу. Они не лгали ни перед собой, ни друг другу: они выдавали то, что говорило сердце.
В мировоззрении Обломова есть «благоговение перед жизнью»:
«Он чувствовал, что в нем зарыто <…> какое-то хорошее, светлое начало»; «Сколько бы ни ошибался он в людях, страдало его сердце, но ни разу не пошатнулось основание добра и веры в них. Он втайне поклонялся чистоте женщины» и т. д.
Однако образу главного героя сопутствует 'неспособность к действию', соотносимая нами с депрессивностью («Бесплодные сожаления о минувшем, жгучие угрызения совести язвили его как иглы». «В сотый раз раскаяние и поздние сожаления о минувшем подступали к сердцу»). Обнищание и смерть героя в конце произведения также сближают его по тематике с «печальными».
«Светло-печальной» является и повесть Р. и В. Зорза «Путь к смерти. Жить до конца».
«Светло-веселые»
«Светло-веселым» можно считать текст «Каникулы в Простоквашино» (Э. Успенский), который также может быть назван и «добрым», если исходить из понимания доброты как «отзывчивости, душевного расположения к людям, стремления делать добро другим» (Ожегов, Шведова, 1993).
Отметим, что выделение «добрых» текстов не связывается нами ни с каким типом акцентуации.
«Светло-веселые» тексты были характерны, на наш взгляд, для эпохи так называемого социального оптимизма. К примеру, о театрах писалось, что они «призваны активно участвовать в деле воспитания советских людей, отвечать на их культурные запросы, воспитывать советскую молодежь бодрой, жизнерадостной, преданной родине и верящей в победу нашего дела, не боящейся препятствий, способной преодолевать любые трудности» (Постановление ЦК ВКП(б) от 26 августа 1946 года).
«Светло-темные»
Сочетание паранойяльности и эпилептоидности, характерное для «светло-темных» текстов, обнаружено нами в текстах М. Пришвина, где описания природы даются как с позиции преклонения перед ней, так и в натуралистическом ключе:
Возобновилась тишина, морозная и светлая. Вчерашняя пороша летит по насту, как пудра со сверкающими блестками. Наст нигде не проваливается и на поле, на солнце еще лучше, чем в тени. Каждый кустик старого полынка, репейника, былинки, травинки, как в зеркало, глядится в эту сверкающую порошу и видит себя голубым и прекрасным. Я пробовал это снимать в логу, где много натоптала лисица.
(Зарисовка «Голубые ели» из книги «Лесной хозяин»)Здесь элементы «светлого» текста (светлая, солнце) сочетаются с элементами «темного» (былинка, травинка, зеркало, сверкающая).
«Светло-красивые»
К «светло-красивым» текстам можно отнести книгу «Волшебник страны Оз» (F. Baum «The Wizard of Oz») о необычных приключениях девочки по имени Дороти и ее друзей. В русском пересказе этой сказки (А. Волков «Волшебник Изумрудного города», отнесенного нами к «темным» текстам) опушена глава о стране фарфоровых статуэток, через которую Дороти и ее друзья должны пройти, никого не задев.
Но самыми странными существами в этой странной стране оказались все-таки люди. Друзья разглядывали пастушек и доярок; принцесс в роскошных нарядах; пастухов в полосатых штанах до колен – полосы были розовыми, желтыми и голубыми – и в башмаках с золотыми пряжками; королей в атласных камзолах и горностаевых мантиях, с золотыми коронами, усыпанными драгоценными камнями; смешных клоунов с румянцем во всю щеку и в высоких остроконечных колпаках. И люди, и их одежда были, разумеется, из фарфора.
(Перевод С. Белова)Это будет для нас индикатором «красивости», а поиск сердца Железным Дровосеком придает тексту «светлость».
Тогда Оз взял инструменты и проделал в левой части груди Дровосека небольшое квадратное отверстие. Затем он извлек из ящика красивое сердце из алого шелка, набитое опилками.
– Правда, прелесть? – спросил он.
– О да! – искренне ответил Дровосек. – Но доброе ли это сердце?
– Добрее не бывает, – сказал Оз, вставил сердце в грудь Дровосеку и заделал дыру. – Теперь у вас сердце, – заметил он, – которым мог бы гордиться любой человек. Извините, что украсил вашу грудь такой заплаткой, но другого способа вставить сердце у меня нет.
– Заплатка – это не страшно! – воскликнул обрадованный Дровосек. – Вы очень добрый человек, и я никогда не забуду того, что вы для меня сделали.
– Не стоит благодарности, – скромно отвечал Оз.
Дровосек вернулся к друзьям, и они сердечно поздравили его.
(там же)«Активно-темные»
Многие тексты детективного жанра, где представлены действия хитрого и жестокого преступника, относятся к «активно-темным» (или «активно-простым»). Преобладание описаний жестокостей сближает их с «простыми», наличие описаний поведения жертв – с «активными». Динамичность повествования позволяет назвать такого рода тексты также «интенсивными» (об этом см. в описании «Проективного литературного теста»).
«Красиво-темные»
К «красиво-темным» (или к «щемящим») мы относим «Алые паруса» А. Грина. Артур Грэй, как и многие герои «темных» текстов, связан с морем, его кредо – делать счастье своими руками.
На кухне Грэй немного робел: ему казалось, что здесь всем двигают темные силы, власть которых есть главная пружина жизни замка; окрики звучали как команда и заклинание; движения работающих, благодаря долгому навыку, приобрели ту отчетливую, скупую точность, какая кажется вдохновением. Грэй не был еще так высок, чтобы взглянуть в самую большую кастрюлю, бурлившую подобно Везувию, но чувствовал к ней особенное почтение; он с трепетом смотрел, как ее ворочают две служанки; на плиту выплескивалась тогда дымная пена, и пар, поднимаясь с зашумевшей плиты, волнами наполнял кухню. Раз жидкости выплеснулось так много, что она обварила руку одной девушке. Кожа мгновенно покраснела, даже ногти стали красными от прилива крови, и Бетси <…> плача, натирала маслом пострадавшие места. Слезы неудержимо катились по ее круглому перепуганному лицу. Грэй замер <…> он пережил ощущение острого чужого страдания, которое не мог испытать сам.
– Очень ли тебе больно? – спросил он.
– Попробуй, так узнаешь, – ответила Бетси, накрывая руку передником.
Нахмурив брови, мальчик вскарабкался на табурет, зачерпнул длинной ложкой горячей жижи <…> и плеснул на сгиб кисти <…> слабость от сильной боли заставила его пошатнуться. Бледный, как мука, Грэй подошел к Бетси, заложив горящую руку в карман штанишек.
– Мне кажется, что тебе очень больно, – сказал он, умалчивая о своем опыте. – Пойдем, Бетси, к врачу. Пойдем же!
Наличие же в повести цвета (алый) и почти вся линия, связанная с Ассоль, делают текст близким к «красивому».
Играя, дети гнали Ассоль, если она приближалась к ним, швыряли грязью и дразнили тем, что будто отец ее ел человеческое мясо, а теперь делает фальшивые деньги. Одна за другой, наивные ее попытки к сближению оканчивались горьким плачем, синяками, царапинами и другими проявлениями общественного мнения.
То же касается и нагадавшего ей Эгля:
Но перед ней был не кто иной, как путешествующий пешком Эгль, известный собиратель песен, легенд, преданий и сказок. Седые кудри складками выпадали из-под его соломенной шляпы; серая блуза, заправленная в синие брюки, и высокие сапоги придавали ему вид охотника; белый воротничок, галстук, пояс, унизанный серебром блях, трость и сумка с новеньким никелевым замочком – выказывали горожанина. Его лицо, если можно назвать лицом нос, губы и глаза, выглядывавшие из бурно разросшейся лучистой бороды и пышных, свирепо взрогаченных вверх усов, казалось бы вяло-прозрачным, если бы не глаза, серые, как песок, и блестящие, как чистая сталь, с взглядом смелым и сильным.
«Печально-темные»
К таким текстам могут быть отнесены «Красный смех», «Баргамот и Гараська» (с высоким, толстым, громогласным городовым и тощим пьянчужкой), «Петька на даче» Л. Андреева (где самый маленький из всех служащих в заведении, похожий на состарившегося карлика Петька постоянно слышит отрывистый, резкий крик «Мальчик, воды!» и вспоминает о чудесных днях, проведенных за городом).
Также «печально-темными» являются многие рассказы А. Чехова. Так, учитель латыни Беликов из «Человека в футляре» умирает в результате конфликта с братом понравившейся ему девушки – человеком с большими руками и громким хохотом. В «Черном монахе» все действия происходят ночью, в сумерках, в темноте, и Андрей Васильевич Коврин, утомившийся от занятий психологией и философией магистр, мечется между неспособностью к творческой работе и желанием быть непохожим на других. Черный монах, напоминающий ему дьявола (частый персонаж «темных» текстов), приносит и смерть.
Широко известна трактовка «Процесса» Ф. Кафки как произведения, где представлена аллегория чувства вины за возможное преступление эдипового характера (Siegel, 1996). Чувство вины – это то, что характерно для депрессии. Вместе с тем в его текстах присутствует и стилистическая вязкость, и ощущение бессмысленности бытия. Именно поэтому его произведения («Процесс», «Превращение», «Замок») могут быть отнесены к «печально-темным».
Подтверждением сказанного может служить небольшая басня Ф. Кафки:
– Ах, – сказала мышка, — мир с каждым днем делается все меньше. Сначала он был такой огромный, что мне стало страшно. Я пустилась бежать и очень обрадовалась, завидев справа и слева стены, но эти длинные стены так стремительного набегают одна на другую, что вот я уже и в последней комнате, а там в углу мышеловка, в которую я сейчас угожу. – Тебе следует лишь изменить направление, – сказала кошка и съела ее.В этой басне имеются лексические элементы с семой 'размер', что характерно для «темных» текстов, и кончается текст смертью, что сближает его с «печальными». Фатальная безысходность описываемой ситуации позволяет называть такие тексты также «бессмысленными» и выделять их в особую подгруппу.
«Печально-веселые»
При описании «веселых» текстов отмечалось, что психической основой их эмоционально-смысловой доминанты служит маниакальная фаза маниакально-депрессивного психоза. Тем самым становится объяснимым существование «печально-веселого» типа текстов, эмоционально-смысловая доминанта которого базируется на циклоидных состояниях личности, при которых периоды повышенного настроения и состояния чередуются с периодами сниженного настроения и падения тонуса.
Орленок, орленок, взлети выше солнца И степи с высот огляди, Навеки умолкли веселые хлопцы, В живых я остался один. (Я. Шведов. Слова песни «Орленок»)Первая часть этого четверостишья «веселая», вторая – «печальная».
Иллюстрацией такого же рода текстов может служить поэзия А. К. Толстого:
Рассеивается, расступается Грусть под думами могучими, В душу темную пробивается Словно солнышко между тучами! Ой ли, молодец? Не расступится, Не рассеется ночь осенняя, Скоро сведаешь, чем искупится Непоказанный миг веселия! Прикачнулася, привалилася К сердцу сызнова грусть обычная, И головушка вновь склонилася, Бесталанная, горемычная…Простое вычленение ключевых в эмоциональном плане компонентов стихотворения дает такой ряд: рассеивается грусть – миг веселия – сызнова грусть обычная.
Конечно, «смысл и функция стихотворения о грусти, – писал вслед за Л. С. Выготским А. Н. Леонтьев, – вовсе не в том, чтобы передать нам грусть автора, заразить нас ею» (Леонтьев А. Н., 1972, с. 8). Но семантика данного текста основана на описании грусти (чередующейся с мигом веселия), и тем самым весь текст несет в себе именно это состояние. И здесь мы сошлемся на точку зрения С. Эйзенштейна, который, так же как и Л. Толстой, с которым, по-видимому, и спорили ученые, считал, что искусство есть «заражение чувствами» с помощью «внешних знаков» (Толстой, 1985, с. 65; Жолковский, Щеглов, 1996).
К «печально-веселым» текстам можно отнести такие произведения А. С. Пушкина, как «Пиковая дама» (где есть воспоминание о молодости и смерть графини; денежный выигрыш и последовавший за этим проигрыш Германа); «Дубровский» (где героя принимают за более значительное лицо, и есть такие семантические компоненты, как 'смелость' в сценах с убийством медведя и при попытке похищения Маши, 'удача' в разбое и грабежах Дубровского, а также 'потеря' земли, дома, денег, невесты); и даже «Сказка о рыбаке и рыбке» (где есть 'нищета', 'неожиданное богатство' и снова 'нищета' – разбитое корыто).
Отдельно следует упомянуть о «Евгении Онегине», где есть описание молодости (герою, в комнате у которого висит портрет Байрона – тексты которого мы ранее отнесли к «печальным», – осьмнадцать лет) и 'сожаление об упущенном счастье'. «Величайшая ошибка в его жизни, – полагает А. Д. Чегодаев, – то, что он не принял всерьез любви Татьяны <…> Ему приходится тяжело за это расплачиваться. Пушкин, – продолжает культуролог, – становится прямо безжалостным, наглядно показывая, как оказалось невозможным вернуть упущенное… Роман Пушкина – на редкость грустное, глубоко трагическое произведение» (Чегодаев, 1989, с. 132–133). Любопытно, что такая характеристика текста является, по сути дела, объективацией субъективного – вербализация личностного отношения через представление его (отношения) как характеристики объекта.
Характерно, что многие герои «печальных» текстов не только молоды, но и смелы, и сильны. Так, схватка юноши – героя поэмы «Мцыри» М. Ю. Лермонтова – с лесным барсом является когнитивным эквивалентом маниакальной фазы циклоидного состояния (или МДП). Просит, чтобы «сильнее грянула буря», лирический герой его же «Паруса». Обладают большой силой пушкинский Балда, юный царь Гвидон, Руслан («Руслан и Людмила»); убивает медведя потерявший состояние Дубровский. Даже Дон Гуан, соблазнив много женщин, готов весь мир обнять, хотя и погибает от пожатия каменной десницы статуи Командора.
Этот компонент из «веселых» текстов почти всегда встречается в «печальных»:
Но много нас еще живых, и нам Причины нет печалиться. <…> Зажжем огни, нальем бокалы, Утопим весело умы И, заварив пиры да балы, Восславим царствие Чумы (А. С. Пушкин «Пир во время чумы»)'Нищета' соседствует с 'богатством':
На дороге обчистил (обыграл в карты. – В.Б.) меня пехотный капитан <…> Все мне дают взаймы сколько угодно.
(Н. В. Гоголь «Ревизор»)Когда сон овладел им, ему пригрезились карты… кипы ассигнаций и груды червонцев. Он… выигрывал беспрестанно, и загребал к себе золото, и клал ассигнации в карман. Проснувшись… он вздохнул о потере своего фантастического богатства.
(А. С. Пушкин «Пиковая дама»)Присутствует вставная новелла в целом «веселом» тексте «Джельсомино в стране лжецов» о Бенвенуто, который «необыкновенно быстро стареет – для него минута равняется целому дню… Он должен всегда быть на ногах, иначе за несколько дней он превратится в старичка с седой бородой» (Дж. Родари «Джельсомино в стране лжецов»).
Мы уже отмечали, что объектом предлагаемого нами подхода могут быть не только художественные тексты, но и кинофильмы. К числу «печальных» с наличием «веселых» символов отнесем и текст романа, по которому снят кинофильм «The English patient». «Печальными» оказываются мотивы: война и смерти; ранение, приведшее к ожогу лица и к просьбе убить героя; потеря денег. Сам жанр – воспоминание о трагической любви девушки в холодной пещере – тоже типичен именно для «печальных» текстов. «Веселыми» в нем являются такие мотивы, как любовь, перемещение в жаркую страну, проникновение в тыл врага и побег от фашистов, полет на самолете и подъем медсестры на веревках в церкви для осмотра фресок (пожалуй, самый странный и достаточно сильный по воздействию фрагмент фильма). Также «печально-веселыми» можно считать кинофильмы «Зимний вечер в Гаграх» и «Долой стыд».
«Печально-красивые»
Еще одну группу представляют «печально-красивые» тексты. Исследователи отмечают, что в творчестве С. Есенина имеется большое количество слов с обозначением цвета. Это позволяет утверждать, что его доминанта является «красивой». В то же время, в его творчестве присутствуют в конкордансе такие компоненты: 'прошлое' – 'настоящее', 'молодость' – 'увядание', 'жизнь' – 'смерть' (Степанченко, 1991, с. 144–161). Так, его стихотворение «Не жалею, не зову, не плачу…» мы считаем «красиво-печальным» по эмоционально-смысловой доминанте.
Не жалею, не зову, не плачу, Все пройдет как с белых яблонь дым. Увяданьем золота охваченный Я не буду больше молодымЭто подтверждается словами поэта о том, что оно «было написано под влиянием одного из лирических отступлений в „Мертвых душах“ Гоголя. Иногда полушутя, Есенин прибавлял: „Вот меня хвалят за те стихи, а не знают, то это не я, а Гоголь“» (цит. по Толстая-Есенина, 1977, с. 401). «Несомненно, что место в „Мертвых душах“, о котором говорит С. Есенин, – комментирует К. С. Горбачевич, – это начало шестой главы, которая заканчивается словами: что пробудило бы в прежние годы живое движение в лице, смех и немолчные речи, то скользит теперь мимо, и безучастное молчание хранят мои недвижные уста. О, моя юность! О, моя свежесть!» (Н. В. Гоголь «Мертвые души»).
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что в целом в «смешанных» текстах наблюдаются достаточно закономерные сочетания разных типов сознания. Для них характерны определенное сочетание лексических единиц психологически разнородной семантики, пересечение семантических полей и диффузность структурных моделей, которые существуют в «чистом» виде в текстах, созданных в рамках одной эмоционально-смысловой доминанты.
Предложенная нами типология позволяет увязать тему произведения и его психологический стиль. Примем определение темы как «воспроизведения тех явлений, к художественному познанию которых стремится автор» (Тимофеев, 1991, с. 40). Представляя собой предметное и идейное содержание произведения, тема порой неразрывно связана со своим воплощением, с определенной эмоционально-смысловой доминантой. В частности, в рамках предложенной типологии существует определенная связь типа текста с наиболее часто описываемой ими темой: «светлые» тексты описывают, как правило, природу; «активные» – политику, нравственные проблемы; «веселые» – путешествия и приключения; «красивые» – необычные события, происходящие с героиней; «темные» – борьбу за существование; «печальные» – старость и воспоминания о молодости.
Один и тот же предмет или явление оказываются не одним и тем же у разных авторов, в разных поэтических системах. Именно поэтому само по себе обращение, например, к теме смерти, еще не означает принадлежности текста к «печальному» типу. Так, публицистическая статья о кладбище может быть посвящена роли кладбищ в культуре как памятников архитектуры и тем самым быть «светлым» текстом, а повесть Д. Каледина «Смиренное кладбище» является «темной» по эмоционально-смысловой доминанте.
Тем самым, например, понятие 'смерть' и его лексико-семантические синонимы получают разную реализацию или приобретают разные смыслы в разных по эмоционально-смысловой доминанте текстах.
Аналогичным образом наличие в тексте лишь одного семантического компонента 'предательство' не делает его «активным». К примеру, в повести «Чучело» (В. Железняков) Лену Бессольцеву одноклассники считают предательницей, полагая, что это она рассказала учительнице об их побеге с урока в кино. Но и финал повести (раскрытие тайны родства), и отсутствие других компонентов «активного» текста (иными словами – все лексическое наполнение повести) свидетельствуют в пользу отнесения его к «красивым».
В повести «Что сказал покойник» (И. Хмелевская) один из друзей героини преследует ее и предает бандитам. Но этот семантический компонент так и остается «проходным» моментом, не влияя на эмоционально-смысловую доминанту текста (он однозначно остается «веселым»).
Упоминание в тексте о маленьком росте персонажа также не является однозначным указанием на принадлежность текста к «темным». Так, в аннотации к книге А. Линдгрен «Малыш и Карлсон, который живет на крыше» сказано, что это «веселая книжка о мальчике из Стокгольма, по прозвищу Малыш, и о его необыкновенном друге Карлсоне, который живет на крыше в собственном маленьком домике». Повесть эта является «веселой», а не «темной».
Следовательно, анализ литературного текста по эмоционально-смысловой доминанте должен предлагать рассмотрение текста на разных уровнях как совокупность ряда его составляющих. Кроме того, предлагаемая нами концепция эмоционально-смысловой доминанты позволяет решить проблему дифференциации и атрибуции текстов, написанных на один сюжет.
Иными словами, если некоторые тексты являются выражением какого-либо одного психологического состояния человека, концентрируют в себе какое-то одно мироощущение, то во многих других присутствует описание нескольких подходов к одному и тому же явлению жизни, описываются разные фрагменты действительности, присутствуют разные позиции. В них также можно выявить определенные, вполне закономерные сочетания разных типов сознания и разных типов семантических и вербальных структур.
Рассмотрим теперь, как в разных текстах представлены категории времени и пространства.
Время наряду с пространством является не только формой бытия и мышления, но одновременно и категорией поэтики в художественном тексте. Эти категории значимы для человеческого сознания и имеют разные проявления в разных текстах.
В «светлом» тексте действие не ограничено временем, оно предстает во всей своей реальной бесконечности, «космогоничности». Дела и помыслы героя «активного» текста устремлены в будущее. В «печальных» настоящее противопоставляется прошлому, будущего в них нет. В «веселых» текстах время очень насыщенно: в условную единицу художественного времени одновременно в разных местах может происходить несколько разных событий, а в «сложных» текстах время или отсутствует (например, в утопии), или смещается, прерывается, движется в разных направлениях и с разными скоростями (на этом построены все сюжеты, связанные с путешествиями во времени в научной фантастике).
Как отмечают А. Ж. Греймас и Ж. Курте, анализ пространственной организации нарративной схемы побуждает рассматривать использование пространства (специализацию, la spatialisation) как относительно самостоятельную составную часть (субкомпоненту, sous-compasante) дискурсивных структур (Греймас, Курте, 1983).
Не имея возможности рассматривать эту проблему специально, отметим, что пространство играет разную роль в разных типах текстов. Так, например, в «активном» тексте герой, как правило, действует в расширяющемся пространстве, распространяя свои идеи на все большую территорию. С легкостью перемещается в пространстве – путешествует – герой «веселого» текста. В «темных» же текстах, напротив, все действия имеют место, как правило, в замкнутом пространстве, которое должно сужаться вокруг героя.
Завершая эту главу, отметим еще одно обстоятельство. В бесконечном множестве текстов, отражающем бесконечное множество смыслов, имеется специфическая зона художественных текстов и художественных смыслов. Возникая на основе личностных смыслов, эти последние «переплавляют» в себе и возможности языковой системы, и возможные способы видения объектов и отношений, существующих в окружающей действительности.
Основанием предлагаемой типологии является лишь один аспект – эмоциональное отношение автора к изображаемым событиям, явлениям, объектам. Оценка языковой образности и особенно степени эстетической художественности текста (в ее литературоведческой трактовке) оставались в данном случае за скобками исследования. В таком «голом» виде взятый текст, естественно, теряет многое из того, что делает его художественным, но он сохраняет главное в плане настоящего исследования – личностное отношение автора. Очевидно, что на этом строится и образность, художественность текста, и его эстетическая и культурологическая значимость.
Воспринимая произведение, читатель «впитывает» и его художественную форму, и развернутость художественных образов, и многое другое, что в совокупности составляет художественный текст. Вместе с тем восприятие и понимание текста органически сочетается с его семантической компрессией и выделением смысловых опорных пунктов. При этом, поскольку выделяемые смысловые «вехи» художественного текста являются коннотативно отмеченными, они получают определенную оценку со стороны читателя. Даже если такая оценка и не осознается читателем, процесс чтения художественного текста все равно представляет собой процесс пересечения смысловых полей (в том числе и эмотивных) текста и смысловых полей (прежде всего эмоциональных) читателя.
Рассмотрению процесса восприятия художественного текста именно с этих позиций посвящена следующая глава.
Глава 3. Индивидуально-психологические особенности восприятия художественного текста
В этой главе основное внимание будет уделено тому, как тексты воспринимаются другими людьми, условно названными здесь читателями.
Мы рассмотрим несколько сторон читательского восприятия художественных текстов. Сначала речь пойдет о психологических закономерностях восприятия речи, поскольку они лежат в основе процесса чтения. Затем остановимся на чтении как процессе, отражающем общественные тенденции. Юнг говорил в свое время, что… «знает, какие снятся сны его согражданам». В большой степени это относится и к популярным в обществе книгам. И наконец, опишем результаты применения Проективного литературного теста (ПЛТ), открывающего новые аспекты в понимании восприятия текста, – индивидуально-психологические.
3.1. Психологические закономерности восприятия текста
Восприятие речевого сообщения
Восприятию речевого сообщения посвящено много исследований, это хорошо разработанная в науке тема. Здесь мы остановимся только на самых общих представлениях об этом процессе.
Восприятие речи представляет собой процесс извлечения смысла, находящегося за внешней формой речевых высказываний, что требует знания лингвистических закономерностей ее построения. Будучи целостным отражением предметов, ситуаций и событий, оно возникает при непосредственном воздействии физических раздражителей на рецепторные поверхности. Восприятие речи подчиняется общим психологическим закономерностям: оно тесно связано с вниманием, мышлением и памятью, направляется мотивацией, имеет определенную эмоциональную окраску. Различают адекватное восприятие и иллюзии; критерием адекватности считают включенность его в общение и практическую деятельность.
Неосознаваемость. В указанных работах установлен ряд специфических особенностей восприятия речи. Так, получаемые ошушения и результаты не различаются сознанием как два отдельных по времени момента. Иначе говоря, мы не осознаем разницы между объективно данными ощущениями и результатом нашего восприятия. Эта способность не выделять языковую форму речи как самостоятельную не является, однако, врожденной, она развивается по мере нашего освоения мира и овладения грамматикой языка.
Уровневость. Эта особенность обеспечивает ступенчатость самого процесса и последовательность (уровневость) обработки речевого сигнала. К примеру, если объектом нашего восприятия являются изолированные звуки, то восприятие проходит на самом элементарном уровне распознавания и узнавания. В результате многократных различений звуков в сознании человека формируется образ формы и смысла слова, на который человек опирается при восприятии новых элементов.
Осмысленность. На всех уровнях восприятия речи реципиент стремится приписать смысл языковым структурам, предвосхищая их потенциальные значения и затем отбирая в соответствии с продолжением и контекстом.
Восприятие букв и слов. Об этом имеет смысл говорить главным образом применительно к письменной речи. Оно представляет собой проникновение в смысл, который лежит за знаковой формой речи. Физиологически восприятие осуществляется скачкообразными движениями глаз с одного фрагмента на другой, при этом смысл осознается во время остановки движения глаз. Интересно, что даже если слова содержат ошибки, но напоминают слова, знакомые реципиенту, они воспринимаются как знакомые.
Восприятие предложений относится к важнейшим особенностям языковой компетенции человека. Следует отметить, что для реципиента не всегда важно, в какой синтаксической форме предъявляется фраза. Главное для него – это смысл, стоящий за ней.
При понимании многозначных фраз задача слушателя (читателя) состоит в опознании того, какая из глубинных структур имеется в виду говорящим. В целом же многозначными предложения представляются лишь до определенного момента, многозначность снимается, как только реципиент решает, какое из возможных значений имеет смысл (Белянин, 2004).
Соотнесение речи с действительностью. Как и при любом другом акте восприятия, воспринимая речь, человек соотносит сказанное с действительностью и со своими знаниями о ней и будет каждый раз модифицировать свое понимание, стремясь, насколько это возможно, к более адекватному варианту и выбирая наиболее вероятное толкование. Кроме того, воспринимая речь, реципиенты обычно оказываются в состоянии описать затекстовую ситуацию более подробно, чем это можно было бы сделать на основании чисто формального анализа воспринимаемых фраз. Это позволяет утверждать, что понимание речи есть процесс превращения речи в лежащий за ней смысл.
Механизм эквивалентных замен состоит в том, что в самом процессе восприятия речи реципиент заменяет слова и словосочетания, фразы более простыми сигналами или наглядными образами. Это является своего рода необходимостью в силу того, что возникающий в сознании знак отражает первичный знак (стимул) не прямо, а косвенно, «превращенно» и его понимание человеком происходит путем как бы перевода с «языка слов» на «язык образов» и «язык мысли». В сознании реципиента образу (значению) могут соответствовать различные смыслы, облаченные в слова, отличные от тех, что даны в восприятии, хотя и сопряженные с ними по смыслу. Если, однако, стимульные слова не представлены в сознании, то реципиент будет заменять их схожими.
Механизм вероятностного прогнозирования. При восприятии речи реципиент проявляет активность: опирается на свой прошлый опыт (как речевой, так и неречевой), осуществляет вероятностное прогнозирование поступающего сигнала, а также производит эквивалентные замены. В этом процессе задействован механизм апперцепции – зависимость восприятия от прошлого опыта. При восприятии речи реципиент не пассивно ждет того, что ему скажет автор, а сам выдвигает гипотезу о том, что он может услышать или прочитать на следующей странице или строчке. Механизм вероятностного прогнозирования является частью общепсихологических механизмов процесса восприятия.
Понятие апперцепции, предложенное Г. Лейбницем, трактуется как внутренняя спонтанная активность сознания и как результат жизненного опыта индивида. Г. Лейбниц трактовал ее в качестве отчетливого, осознанного восприятия душой определенного содержания. Позже В. Вундт усмотрел в ней универсальный объяснительный принцип, внутреннюю «духовную силу», обусловливающую ход психических процессов. В современной психологии более распространено второе понимание апперцепции, связанное с выдвижением гипотез об особенностях воспринимаемого объекта, его осмысленное восприятие.
В этой связи еще раз процитируем А. А. Ухтомского. «Старинная мысль, что мы пассивно отпечатлеваем на себе реальность, какова она есть, совершенно не соответствует действительности, – писал он. – Наши доминанты, наше поведение стоят между нашими мыслями и действительностью <…> Мы можем воспринимать лишь то и тех, к чему и к кому подготовлены наши доминанты, то есть наше поведение» (Ухтомский, 1973, с. 253).
Исследователи этого явления различают устойчивую и временную апперцепцию. Первая проявляется как мировоззрения и убеждения, вторая отражает ситуативно возникающие психические состояния – эмоции, экспектации, установки.
Субъективность восприятия. Результат восприятия зависит и от объекта, и от воспринимающего субъекта. «С позиций психологии человеческого бытия, – пишет В. В. Знаков, – понимание нужно субъекту для того, чтобы понять мир и самого себя, определить, что он есть, какое место занимает в мире» (Знаков, 2002, с. 39).
В целом восприятие и понимание речи включает в себя рецепцию слышимых или видимых элементов языка, установление их взаимосвязи и формирование личностного представления об их значении. Результатом восприятия является понимание как расшифровка общего смысла, который стоит за непосредственно воспринимаемым речевым потоком, придание воспринимаемой речи определенного смысла.
Как показывает И. А. Зимняя, восприятие текста, являясь процессом посинтагменного второсигнального отражения действительности, представляет собой процесс раскрытия опосредованных словами связей и отношений, которое результирует в их осмыслении и приводит к пониманию всего текста (Зимняя, 1976).
В ходе понимания реципиент устанавливает между словами смысловые связи, которые составляют в совокупности смысловое содержание высказывания. Начальный, самый общий уровень понимания свидетельствует о понимании только основного предмета высказывания – того, о чем идет речь. Второй уровень – уровень понимания смыслового содержания – определяется пониманием всего хода изложения мысли автора, ее развития, аргументации. Этот уровень характеризуется пониманием не только того, о чем говорилось, но и того, что было сказано. Высший уровень понимания определяется пониманием не только того, о чем и что было сказано, но самое главное – пониманием того, зачем это говорилось и какие языковые средства использованы.
Такое проникновение в смысловое содержание позволяет слушателю понять мотивы, побуждающие говорящего говорить так, а не иначе, понять все, что подразумевает говорящий, внутреннюю логику его высказывания. Этот уровень понимания включает и оценку языковых средств выражения мысли, использованных говорящим.
Библиопсихологический подход к проблеме восприятия текста
Проблема восприятия текста – одна из ключевых для современной психологии и психолингвистики. Находясь на стыке психологии и лингвистики, психолингвистика, с одной стороны, основывается на данных психологии речи, с другой – на результатах, полученных в рамках общего языкознания и лингвистики текста. В соответствии с этим исследуется психологическая модель восприятия, ее уровневый характер или обусловленность восприятия внешними (объективными) и внутренними (субъективными) факторами (Ушакова, 2001).
Понимание предложений как минимальных единиц речи оказывается недостаточным для понимания текста как целостности. Являясь интегральным единством предложений и сверхфразовых единств, текст обладает множеством значений, как собственно текстовых, так подтекстовых и затекстовых. Восприятие текста, опираясь на процесс посинтагменного второсигнального отражения действительности, раскрывает опосредованные словами связи и отношения. Результатом становится осмысление и понимание всего текста.
Чтение художественного текста требует от читателя умения ориентироваться в композиции (авторской организации последовательности описываемых событий), авторских отступлениях, во вторых планах, аллюзиях, прецедентности и т. п. В комплексе это составляет текстовую компетенцию как умение ориентироваться в текстовом пространстве.
Существенна для читателя художественного текста и способность к эмпатии – пониманию характеров и настроения, приписываемых персонажам. Тогда результатом восприятия становится понимание авторской концепции в целом.
Многочисленные исследования показывают, что для более глубокого понимания художественного текста его содержание должно соотноситься с жизненным опытом читателя как личности. Читатель реагирует интеллектуально (размышляет над описанными в тексте проблемами) и эмоционально. Происходит проникновение в авторский замысел, общение с писателем.
Известно, что как предмет психологического анализа «текст не существует вне его создания или восприятия» (Леонтьев А. А., 1969, с. 15). Иногда даже утверждают, что нельзя найти двух людей, которые вкладывали бы идентичное содержание в один и тот же текст. Так, согласно Р. Ингардену, всякий текст принципиально не полон и процесс чтения и понимания есть одновременно процесс реконструкции, восполнения недостающего (Ингарден, 1962).
Исследования показывают, что художественный текст создает вокруг себя поле возможных интерпретаций, порой очень широкое. Структура текста задает характер восприятия, но результат понимания текста не может программироваться автором текста жестко: характер понимания и особенно интерпретации смысла художественного текста оказывается в зависимости и от ряда внутренних, субъективных факторов. К их числу относят обычно следующие: социальное положение читателя, его культурный уровень (степень включенности в социокультурные отношения), знание языка текста, личную восприимчивость, прежний опыт, включенность в культуру и др.
Существует подход, согласно которому текст является стимулом для читателя, образующего собственную проекцию текста в своем сознании. Он носит название библиопсихологического и предполагает, что эта проекция может отличаться от авторского представления о смысле текста.
Французский исследователь XIX века Э. Геннекен предложил изучать психологию автора и аудитории, основываясь на сочетании эстетического, психологического и социологического подходов. Он полагал, что проекция (понимание) читателей является ментальным аналогом произведения. Тем самым произведение перестает быть просто поводом и превращается в средство передачи вербализованных значений (Ishill, 1927; The John Hopkins. 1997; Legouis, 1997), а рожденные им смыслы являются овнешнением (термин Е. Ф. Тарасова) психики автора.
Э. Геннекен сформулировал законы библиопсихологии, описывающие, как именно книга влияет на читателя:
1. Изучение особенностей книги и тех реакций, которые она вызывает в читателе, позволяет судить об особенностях различных читателей и читающей публики в целом.
2. Читатель реагирует на книги: зная читателя, мы можем понять, почему он реагирует таким или иным образом на книгу, которую читает, и какие именно писатели популярны в тех или иных культурах, среди различных классов, и кто находит среди определенных людей особый прием и приобретает титул их «любимых авторов».
3. Между читателем, книгой и ее автором существует вид психологической, социологической и исторической связи (цит. по Рубакин, 1977).
Видный отечественный исследователь чтения Н. А. Рубакин (1862–1946) отмечал, что эти законы подтверждаются разнообразными и многочисленными психологическими экспериментами (сделанными в духе того времени, что несколько снижает их значимость, но не умаляет достоинства его теоретических изысканий). Рубакин полностью разделял гипотезу Э. Геннекена о психическом сходстве читателя и писателя, вступающих в общение посредством текста, и давал ее в следующей формулировке: «Почитатели произведения обладают душевной организацией, аналогичной организации художника, и если последняя благодаря анализу уже известна, то будет законно приписать почитателям произведения те самые способности, те недостатки, крайности и вообще все те выдающиеся черты, которые входят в состав организации художника» (Рубакин, 1977, с. 205). Иными словами, исследователь утверждал, что читатель по своим психологическим характеристиками похож на писателя, книги которого ему нравятся.
Н. А. Рубакин допускал возможность выявления «сложнейших психических <…> интимных переживаний (автора. – В.Б.) <…> — характера, темперамента, типа, склада ума и мышления, преобладающих эмоций, наклонности и активности или пассивности» в художественной литературе» (там же).
Восприятие элементов текста, по его мнению, связано с возникновением у читателя таких реакций, как понятие, образ, ошушение, эмоция, органическое чувство, стремление, действие и инстинкт. На этом основании Н. А. Рубакин считал возможным проводить «библиопсихологический психоанализ личности» субъектов текстовой деятельности и строить личное уравнение читателя и писателя (там же).
Следует отметить, что концепция Н. А. Рубакина была в свое время негативно оценена В. И. Лениным как эмпириокритицическая, что отсрочило публикации многих его работ (исключая научно-популярные). Освещая индивидуально-психологический (а не социологический, как того требовало время) аспект процесса восприятия текста, Н. А. Рубакин писал: «…Не знания и не убеждения человека должны мы считать главнейшими характерными элементами индивидуальной мнемы, а его эмоции, чувства, страсти, аффекты, влечения, стремления и желания, понимая под этими терминами старой психологии такие переживания субъекта, какие он никакими словами не в силах передать другим „я“» (Рубакин, 1977, с. 74, 75). Отмечая далее, что «их совокупность <…> это и есть индивидуальная мнема каждого из нас», Н. А. Рубакин делает понятие индивидуальной мнемы близким современному понятию психического типа личности.
Н. А. Рубакин отмечал необходимость собирать сведения о том, какие именно книги и общественные идеи находят наиболее «благоприятный отклик» в тех или иных общественных группах. Он призывал изучать взаимодействие книги и читателя с учетом определенных условий – экономических, политических, психологических. Тем самым Н. А. Рубакин ставил задачу поиска факторов, влияющих на обращение читателя к той или иной книге, рассматривая характер связей не только в системе «книга – читатель», но и в системе «идея – читатель». Конечной целью при этом, по замыслу Н. А. Рубакина, должно быть создание теории научно обоснованной пропаганды чтения и библиопсихологии как науки о восприятии и распространении книг.
В его концепции наряду с признанием важности выявления индивидуальных и групповых особенностей читателей содержание текста рассматривается и как совокупность семантических образований, и как стимул для образования тех или иных проекций у воспринимающих текст читателей (или типов читателей). При этом под проекцией Н. А. Рубакин понимает результат восприятия текста некоторым реципиентом, а под типом читателя – группу личностей, одинаковым образом воспринимающих текст, реагирующим на него, полагая, что «классифицировать людей по их психическим типам – это значит выяснить, какие именно переживания повторяются у них относительно часто» (там же, с. 163).
Вклад Н. А. Рубакина исключительно высоко оценили представители сразу нескольких дисциплин. Например, венгерские психологи пишут: «Русский исследователь Николай Рубакин вошел в историю мировой культуры как основатель новой дисциплины – библиографической психологии» (Estivals, Savova, 1998).
Таким образом, изучение читательских предпочтений позволяет также приблизиться к ответу на вопрос о том, с чем связано не только предпочтение определенных авторов некоторыми читателями, но и их неприятие другими.
Индивидуальные различия восприятия художественного текста
Воспринимая произведение, читатель «впитывает» и его художественную форму, и развернутость художественных образов, и многое другое, что в совокупности составляет художественный текст. Вместе с тем восприятие и понимание текста органически сочетаются с его семантической компрессией и выделением смысловых опорных пунктов. При этом, поскольку выделяемые смысловые «вехи» художественного текста являются коннотативно отмеченными, они получают определенную оценку со стороны читателя. Даже если такая оценка и не осознается читателем, процесс чтения художественного текста все равно представляет собой процесс пересечения смысловых полей (в том числе и эмотивных) текста и смысловых полей (прежде всего эмоциональных) читателя. Разведение эмотивных структур (текста) и эмоциональных структур (личности) предлагает Ю. А. Сорокин.
Проблема субъективности восприятия знакового продукта была поставлена крупным философом и культурологом В. Гумбольдтом, особое внимание уделявшим процессу понимания речи. Общеизвестно положение Гумбольдта о том, что говорящий и слушающий воспринимают один и тот же предмет с разных сторон и вкладывают различное, индивидуальное содержание в одно и то же слово. «Никто не принимает слов совершенно в одном и том же смысле, – писал он. – <…> Поэтому взаимное разумение между разговаривающими в то же время есть недоразумение, и согласие в мыслях и чувствах в то же время, и разногласие» (Гумбольдт, 1859, с. 62).
Об этом же пишут и многие современные исследователи (Ингарден, 1962; Лотман, 1972). Понимание и особенно интерпретации смысла художественного текста зависят от ряда внутренних, субъективных факторов.
Крайним случаем выражения субъективизма в интерпретации процесса восприятия является такое утверждение: «Смыслы, которые индивид приписывает объектам понимания, он черпает из своего внутреннего мира – мира индивидуального сознания, образующего основу понимания» (Никифоров, 1982, с. 51). Более взвешенным нам представляется другой подход: «Смысл любого рассказа (повести, романа) заключается не в предметном содержании, его фабуле, а в отношении читателя к прочитанному. Отношение проявляется в интерпретации, выводах, предположениях, ответах на вопросы и т. д.» (Знаков, 2002, с. 39).
Многие исследователи полагают, что при обращении к художественной литературе читатель выступает не только как носитель знания, но и как личность со своей структурой ценностей и динамических смысловых систем (Бореев, 1985; Ваину, 1997; Каракозов, 1998; Леонтьев Д. А., 1991; Нишанов, 1985, и мн. др.).
Есть много свидетельств тому, что писатели, оценивая произведения коллег по цеху, выносили иногда прямо противоположные суждения. Так, Гете высоко ценил творчество Шекспира, а Л. Н. Толстой не жаловал великого английского драматурга. Таких фактов очень много, но они не систематизированы и не исследованы, хотя такая работа могла бы многое дать психологии искусства.
Субъективность читательского восприятия может быть доказана и проиллюстрирована множеством примеров. Рассмотрим наиболее типичные оценки «темных» текстов И. А. Крылова. В его баснях присутствует семантический компонент 'злость' и противопоставление «знающего» и «делающего», которым описывается большинство объектов материального и социального мира, что характерно именно для «темных» текстов. Эта доминанта определяет всю систему образных средств, используемых в его текстах.
В качестве одного из проявлений обыденного отношения к «темному» художественному тексту приведем пример из периодической печати:
Мой пятилетний сын преподнес мне урок нового, то есть нормального человеческого мышления. Когда мы с ним прочитали басню «Стрекоза и Муравей», он не принял ее мораль, объяснив, что Муравей – плохой: Стрекозу надо впустить в дом, иначе она на улице умрет от холода.
Характерно, что этот факт отношения к басне как к реальному жизненному событию учитывается и в научном анализе. Так, Л. С. Выготский приводит слова В. Водовозова о том, что в басне «Стрекоза и Муравей» мораль муравья «казалась детям очень черствой и непривлекательной <…> и все их сочувствие на стороне стрекозы, которая хоть лето, но прожила грациозно и весело, а не муравья, который казался детям отталкивающим и непривлекательным» (Выготский, 1987, с. 108).
Интересен в рассматриваемом нами плане пример, который приводит Л. С. Выготский о поэте Измайлове, заканчивающем басню с таким же названием «Стрекоза и Муравей» несколько иначе:
Но это только в поученье ей Муравей сказал, А сам на прокормление из жалости ей хлеба дал.Сам Л. С. Выготский комментирует это так: «Измайлов был, видимо, человек добрый, который дал стрекозе хлеба и заставил муравья поступить согласно правил и морали» (Выготский, 1987, с. 120).
Естественно, что Л. С. Выготский не может не оценить эти две басни с позиции объективной психологии искусства, полагая, что в данном случае «происходит уничтожение всякого поэтического смысла», а сам Измайлов выступает как «весьма посредственный баснописец, который не понимал тех требований, которые предъявлялись ему сюжетом его рассказа» (там же, с. 108).
Не вдаваясь здесь в дискуссию об эстетических достоинствах разных вариантов басни, отметим, что в рамках используемой субъективно-психологической трактовки художественного текста интерес представляет именно выявление причин разной интерпретации одной и той же «затекстовой» ситуации.
Вернемся к И. А. Крылову, анализируя творчество которого Л. С. Выготский пишет: «…Издавна за Крыловым установилась репутация моралиста, выразителя идей среднего человека, певца житейской практичности и здравого смысла». Он приводит, в частности, мнение Н. В. Гоголя, который Крылова «в целом истолковывал <…> как здоровый и крепкий практический ум» (там же, с. 185).
Таким образом, результаты типологизации этого текста не противоречат впечатлению некоторых читателей и исследователей. Достаточно часто речь идет не о понимании текста, а именно о впечатлении от текста. Сам текст несет в себе определенную оценку действительности. Читатель же оценивает и описанный в тексте фрагмент действительности, и оценку, которую дает ей автор. Нередко читатель не соглашается с предлагаемой ему интерпретацией действительности и относится иначе не только к изображаемому, но и к оценке автора. Результат восприятия текста читателями оказывается не таким, как его планировал автор.
«Вряд ли учитель математики и логик Льюис Кэрролл хотел сделать „Приключения Алисы в стране чудес“ жестокой и страшной сказкой, но получилась она вовсе не доброй», – пишет об этом один из исследователей этой сказки Д. Урнов. «Существует мнение, – продолжает он, – что это совсем не детская сказка. Попробуйте <…> прикиньте, сколько раз на протяжении всего повествования Алиса вскрикивает, взвизгивает, и вы убедитесь, что это очень нервная сказка. Что мир, в котором живет маленькая Алиса, на самом деле тревожен. Сколько слез, драк, одна погоня за другой!»
«Кэрролл опасался, – пишет английский исследователь Падни, – что жутковатая фантастичность „Зазеркалья“ может напугать маленьких читателей» (Падни, 1982, с. 94). Иллюстрации Бармаглота и героя, дерущегося с ним, были сняты с фронтисписа по просьбе читателей, полагавших, что «чудище слишком страшное и может напугать нервных и впечатлительных детей» (там же).
Такое восприятие совершенно не противоречит тому, что многие читатели любят «Алису» за ее сказочность, парадоксальность и остроумие, просто не обращая внимания на ее жестокости, и получают от книги огромное удовольствие.
Таким образом, на примере восприятия одного типа текстов мы показали множественность интерпретаций (смыслов), ему придаваемых, и разнобой читательских оценок.
Как отмечал А. Р. Лурия, понимание текста представляет собой «усвоение не только поверхностных значений, которые непосредственно следуют из содержащихся в тексте слов и грамматически оформленных словосочетаний, но и усвоения внутренней, глубокой системы подтекстов и смыслов» (Лурия, 1979, с. 47).
Поскольку замысел текста носит внетекстовый характер, понимание замысла может быть одновременно и пониманием того, что в тексте непосредственно не дано. Это понимание может оказаться неверным в смысловом и коннотативном планах, что не лишает читателя права на личное отношение к произведениям.
Используя рассмотренные в данной главе концепции, мы можем утверждать следующее: ядро личности, установка, акцентуация, доминанта личности в значительной мере определяют направленность и избирательность или перцептивные искажения восприятия окружающего мира. Определению того, как это происходит и что в этом отношении может предложить анализ художественного текста, посвящена следующая глава.
3.2. Эмпирическое исследование индивидуальных предпочтений читателей
Проективный литературный тест
Проективные методы широко применяются при исследовании личности, поскольку они обладают большими возможностями и относительно просты в применении. Как известно, они построены на возможности множественных интерпретаций экспериментальной ситуации испытуемыми. Проективный метод позволяет выявлять уникальную систему личностных смыслов (проекций), равно как и когнитивный стиль испытуемых.
Среди большого разнообразия проективных методов, находящихся в арсенале психологов, различают: визуальные (задача которых стимулировать у испытуемых создание зрительных образов); интерпретационные (предполагающие истолкование ситуации); экспрессивные (рисунки человека, фантастических существ, животных, с которыми испытуемый себя отождествляет) и др. (Соколова, 1980; Батаршев, 2004; Елисеев, 1999; Романова, 2004, и др.).
Особого внимания психологов заслуживают диагностические возможности, связанные с различными вербальными проявлениями личности, прежде всего на уровне слова, а также рассказов и пересказов. Большое внимание в последнее время уделяется также микросемантическому анализу.
Проективные тесты, использующие словесный материал, получили особое распространение и применение в психологии с развитием психолингвистики. Психолингвистика различает объективную и субъективную семантики. Первая является семантической системой значений языка, вторая представляет собой ассоциативную систему, существующую в сознании индивидуума. В связи с этим семантические признаки подразделяются на принадлежащие семантическим компонентам лексики, взятой в абстрактно-логическом (объективном) плане (значения), и на относящиеся к области ассоциаций (субъективные смыслы). Психолингвистическое понятие «семантическое поле» представляет собой совокупность слов вместе с их ассоциациями. Существует целый ряд методик, выявляющих смыслы.
Ассоциативный эксперимент показывает наличие в значении слова (а также предмета, обозначаемого словом) психологического компонента, давая возможность построить семантическую структуру слова. Он вскрывает существующие в психике носителя языка семантические связи слов. Поэтому он широко известен и активно используется в психолингвистике, психологии, социологии, психиатрии.
Метод семантического дифференциала, предложенный Ч. Осгудом, служит для построения субъективных семантических пространств и относится к методам шкалирования. В качестве объекта при этом могут выступать как физические, так и социальные процессы, в том числе слова. Этот метод позволяет осуществлять количественное (и одновременно качественное) индексирование значения слова с помощью двухполюсных шкал, на каждой из которых имеется градация с парой антонимических прилагательных.
Методика дополнения, или восстановления. Сущность ее состоит в деформации речевого сообщения и последующем его предъявлении испытуемым для восстановления. Интересно, что лица, дающие в свободном ассоциативном эксперименте большое количество редких ассоциаций, хуже восстанавливают поврежденный текст. Кроме того, тексты, написанные такими испытуемыми, указывают на их повышенную тревожность.
Методика неоконченных предложений заключается в том, что испытуемым предлагается либо устно, либо письменно закончить начатые экспериментатором предложения.
Методы косвенного исследования семантики заключаются в том, что испытуемых просят высказаться относительно истинности или ложности некоторого суждения или объяснить значение псевдослова.
Градуальное шкалирование. Испытуемым предлагается расположить ряд слов одной семантической группы «по порядку». Результаты этих экспериментов позволяют создавать «градуальные словари», представляющие практическую ценность, в частности, для составления рекламных текстов.
Методика определения грамматической правильности позволяет получить статистически достоверный материал в отношении грамматически допустимых, с точки зрения носителей языка, высказываний.
Методика прямого толкования слова представляет собой описание содержания и объема значения слова.
Наиболее близки нам психосемантические методы, которые позволяют моделировать пространство базисных категорий сознания. Это направление очень глубоко развивается В. Ф. Петренко (Петренко, 1983, 1987; Шмелев, 1983).
Основным методом экспериментальной психосемантики является метод реконструкции субъективных семантических пространств. Семантическим пространством В. Ф. Петренко называет совокупность определенным образом организованных признаков, описывающих и дифференцирующих объекты (значения) некоторой содержательной области. При этом он выделяет некоторое правило группировки отдельных признаков (дескрипторов) в более емкие категории, которые и являются исходным алфавитом этого редуцированного языка – семантического пространства. Этому определению удовлетворяют, в частности, процедуры контент-анализа или информационно-поисковые языки, применяемые в информатике для формализации и упорядочивания информации в рамках больших информационных массивов, как, например, формализованная запись содержания книг и распределение их по различным тематическим разделам в библиотечном деле. В более узком смысле слова семантическим пространством называется такое пространство признаков, для которого правила объединения отдельных признаков-дескрипторов заданы статистическими процедурами. В качестве примера наиболее известного и простого варианта семантического пространства можно привести методику семантического дифференциала Ч. Осгуда. Математически построение семантического пространства является переходом от базиса большей размерности признаков описания к базису меньшей размерности (категориям-факторам). Семантически категории-факторы, являясь формой обобщения исходного языка описания, выступают метаязыком описания значений, позволяющим разложить (описать) значения в фиксированном алфавите категорий-факторов, выносить суждения об их сходстве и различии и т. п.
С учетом возможностей и ограничений коротко описанных выше методов был создан Проективный литературный тест (далее ПЛТ). Он представляет собой набор небольших текстов, созданных на основе реальных произведений художественной литературы, которые были типологизированы на основании отраженных в них акцентуаций.
В ПЛТ представлены следующие типы текстов: «веселые» (маниакальность), «светлые» (паранойяльность), «красивые» (истероиодность), «темные» (эпилептоидность), «печальные» (депрессивность) и «сложные» (шизоидность). Кроме того, в стимульный материал вошли дополнительные типы текстов, о чем подробнее речь пойдет дальше.
Опираясь на гипотезу о сходстве читателя и писателя Геннекена – Рубакина, мы выдвинули предположение, которое заключалось в том, что читатели определенного типа выбирают для чтения произведения авторов той же акцентуации. Иными словами, читатели с депрессивной акцентуацией будут предпочитать «печальные» тексты, эмоционально-смысловая доминанта которых отражает депрессивность автора, читатели с истероидной акцентуацией – «красивые» тексты, и т. п. Причем речь идет не всегда именно о предпочтении (поскольку человеку в состоянии, допустим, депрессии совсем ни к чему читать печальные тексты, а в состоянии маниакальности вообще не до чтения), а скорее об адекватности интерпретации. Тексты, которые соответствуют их акцентуации, будут интерпретироваться максимально адекватно авторскому замыслу.
В список текстов вошли произведения, имеющие признаки выбранных акцентуаций (см. описание принципов отбора в главе 3). Кроме того, произведения не должны были быть известны испытуемым. Для этого привлекались тексты, которые издатели только собирались печатать Основным источником нам служили материалы аннотированного издания для переводчиков «Современная зарубежная художественная литература». Их содержание было сжато в соответствии с их доминантой до размеров высказываний-микротекстов, или аннотаций.
Об этом следует сказать несколько больше. Отсутствие стандартизированных процедур компрессии художественных текстов делает необходимым использование такого «объективного критерия» компрессии, как интуиция. Так, теоретически трудноосуществимое сжатие художественного текста с легкостью, однако, совершается в повседневной жизни каждый раз, когда, например, кто-то пересказывает содержание прочитанного произведения. При этом почти всегда можно убедиться в справедливости утверждения Н. И. Жинкина, который писал: «В конечном счете во всяком тексте, если он относительно закончен и последователен, высказана одна мысль, один тезис, одно положение. Все остальное подводит к этой мысли, развивает ее, аргументирует, разрабатывает» (Жинкин, 1982, с. 250).
При создании аннотаций основным способом компрессии было упоминание о действующих лицах и основных событиях, в которых участвует главный герой (так называемый метод сюжетных схем – Везе, 1985) Например, содержание одного политического романа (Р. Кондон «Зима убивает») было представлено следующим образом: «Пытаясь выяснить, кто убил его брата-президента, герой романа узнает, что в этом был замешан не только его отец, но и огромный механизм секретных служб».
В аннотациях, как правило, указывались время действия, имена и социальный статус основных действующих лиц. Например: «Испанская танцовщица Каролина Карассон – подруга и любовница Наполеона III – завоевывает всемирную известность благодаря светским, политическим и финансовым успехам» («Прекрасная Отера»).
Иногда можно было ограничиться указанием на тематику произведения: «Роман о веселой и шумной жизни цыганского табора» («Цыгане»). В некоторые аннотации было включено указание на жанр произведения: «Герой романа – корреспондент – осмеливается вступить в борьбу с кровавым режимом и трагически гибнет» («Ярмарочный столб»).
Особое внимание при создании аннотаций придавалось тому, чтобы итоговая аннотация представляла собой целостное законченное высказывание. Эдгар По, описывая процесс создания поэмы «Ворон», отмечал, что начало поэмы было определено им после того, как был найден эмоциональный тон (тоска и меланхолия) и конец стихотворения (цит. по Арнаудов, 1970, с. 407–408). Поэтому предложенные испытуемым аннотации содержали в себе и описание развязки произведения, например: «Юноша убежал из дому. Вернувшись через два месяца, он без всякой видимой причины убивает мать, брата, любимую девушку и бросается под колеса автомобиля» («Душа мальчика»).
Создавая аннотации вместе с психиатром Л. Т. Ямпольским, мы стремились сохранить оценочные ключевые прилагательные и эмоционально нагруженные слова, которые присутствовали в авторском тексте: «Сын игрока, обаятельный Дарси Дансер, стремился выйти победителем из всех жизненных трудностей, очаровать всех женщин, выиграть на всех скачках»; «Главная мысль романа – столкновение естественного и ясного мироощущения людей пустыни с обманом и несправедливостью современного цивилизованного общества». Иными словами, мы стремились передать «эмоционально-чувственное состояние», заложенное в тот или иной тексты автором.
Иногда для этого приходилось прибегать непосредственно к цитате: «„Я не знаю, как я должна жить. И как должны жить другие… Я знаю только, как живу я. Как улитка без раковины. А так не проживешь“, – говорит главная героиня, умеющая хорошо работать, но неудачливая и беспомощная в личной жизни».
При создании аннотаций важно было избегать любой дополнительной оценки содержавшихся в оригинале эмоциональных структур. Они включались только в том случае, если непосредственно в нем присутствовали: «Парикмахерша мечтает о роскошной жизни, но не может вырваться из круга безрадостных обязанностей».
К сожалению, это не всегда удавалось, в результате чего появлялись, например, такие аннотации: «Этот поэтический цикл пронизывает холодное отчаяние от ощущения уходящей жизни: надо от всего отказаться, ибо уже измерен срок и сосчитаны шаги и удары сердца».
В целом аннотации были составлены на основе описанной выше типологии текстов, что позволяло сочетать интуитивную оценку эмоциональных структур текста с языковыми фактами (показателями акцентуации), имевшимися в самом произведении. Полученные 80 аннотаций были распечатаны в случайном порядке. Они имели последовательную нумерацию.
Примерами «темных» текстов являются следующие: «Роман повествует о карательной экспедиции, целью которой является расправа над жителями мятежной деревни»; «Юноша убегает из дома. Вернувшись через два месяца, он без всякой видимой причины убивает мать, брата, любимую девушку и бросается под колеса автомобиля»; «Капитан полиции Грегориус допрашивает преступников ударами по почкам, коленом в пах, кулаком в солнечное сплетение и таким образом раскрывает преступления».
В качестве «печальных» текстов выступали тексты следующего содержания: «Безысходно текут дни одиноко живущего пенсионера. Все чаще он думает о том, чтобы принять снотворное и уснуть навеки»; «Этот поэтический цикл пронизывает холодное отчаяние от ощущения уходящей жизни: надо от всего отказаться, ибо уже измерен срок и сосчитаны шаги и удары сердца»; «У могилы матери героиня впервые ощущает пугающую пустоту своей внешне благополучной жизни, горечь мыслей о навсегда упущенной возможности понять и согреть сочувствием близкого ей человека».
«Веселые» тексты были представлены сюжетами следующего характера: «Герой романа – парашютист – влюблен в свою профессию и полон отваги при совершении подвига»; «Роман о силе духа и мощи человеческой личности отважных молодых ребятах-шоферах, пробивающихся с важным грузом сквозь снежные заносы».
В качестве «красивых» текстов использовались такие: «Молодой клерк мечтает о „пути наверх“, рисует в воображении машины лучших марок, дорогие украшения, модные наряды»; «Отец считает сына ленивым и легкомысленным. А тот, рискуя жизнью, спасает попавшую в снежную бурю группу туристов и становится героем фильма»; «Богатый граф полюбил героиню за ее необыкновенную душу и не замечаемую никем красоту. Героиня спасает жизнь графу, и он в знак благодарности делает ей предложение».
«Светлые» тексты были представлены так: «Смелые изобретения ученого наталкиваются на косность, непонимание и зависть. Однако, несмотря на неудачи (увольнение с работы, уход жены к другу и т. п.), он не отказывается от своих исследований и в результате добивается всеобщего признания»; «История финансового консультанта, человека честного и принципиального, который стремится вывести на чистую воду всех недобросовестных клиентов и из-за этого подвергается преследованию»; «Движимый сознанием собственного долга перед своей страной, герой романа претворяет в жизнь программу распространения культуры. Но это вызывает злобу членов правительства, которые пытаются его запугать».
«Сложные» тексты – это, как правило, научные тексты. В художественной литературе они встречаются реже и связаны, как отмечалось ранее, с мистикой, религиозной (а в настоящее время околорелигиозной и философской) тематикой, могут быть написаны в жанре научной фантастики или быть сугубо формальными упражнениями (конкретная поэзия). Примером «сложных» текстов, использованных в ПЛТ, может послужить следующий: «В мертвом городе имеется суд, которому некого судить. Осознав, что он никогда не выйдет отсюда, молодой юрист убивает председателя суда и зачитывает перед новым судьей приговор себе». Или такой: «Пара влюбленных замечает на берегу моря не то червячка, не то жучка, который интересно светится. Разноцветными световыми импульсами этот червячок пытается сообщить им нечто чрезвычайно важное, но непонятное. Но влюбленные не видят того чуда, которое живет и светится рядом, и, проходя, наступают на него».
Подводя итоги описанию стимульного материала, подчеркнем, что наше внимание было сконцентрировано на наиболее явно выраженных текстовых признаках обсуждаемых акцентуаций. Очевидно, что дальнейший анализ позволит детализировать, расширить и углубить представление об этих признаках, уточнить их распределение, равно как и смыслы одних и тех же понятий (например, запах, цвет, смерть, смех) в различных типах текстов.
Процедура эксперимента
Итак, разработанный тест состоял из набора небольших текстов – аннотаций реальных произведений художественной литературы. Задача испытуемых состояла в выборе тех текстов, которые они захотели бы прочитать.
Подобный подход имеет свою историю. Так, в использованном М. Траммером в детской психологии тесте книжного каталога испытуемым предлагалось выбрать по своим интересам 10 названий книг из списка, содержащего 430 названий. Обозначенные в списке книги были сгруппированы в 24 категории соответственно «психовекторам», отражающим возможное распределение интересов. Ответы позволяли выявлять дисгармонии развития и невротические проявления, тем самым выполняя роль диагностического инструмента.
В предлагаемом тесте учитываются и сочетания личностных особенностей, которые проявляются при выборе текстов разных типов. Предпочтение текстов определенной акцентуации может свидетельствовать о некоторой склонности к данному типу реагирования. Результаты теста позволяют выявлять когнитивные структуры личности.
Как известно, о результатах воздействия художественного текста на читателя можно судить только по косвенным показателям, поскольку элементы системы ценностей (а тем более изменения в ней) эксплицируются в очень редких случаях. Наиболее явно результат воздействия текста может проявиться в его оценке читателем, при этом особую роль играет оценка текста как интересного или неинтересного (Сорокин, 1999). Мы хотели решить «научную головоломку» (по выражению Б. Величковского): почему и как мы выбираем тексты для чтения, почему мы помним одни, забываем другие, почему мы перечитываем те, а не иные тексты?
Перед 20 испытуемыми в пилотажном эксперименте ставилась задача оценить, насколько им будет интересно прочитать произведения авторов, аннотации которых им предлагали. Возникавшее противоречие – зачем позже читать роман или повесть, если известно, чем произведение кончится? – испытуемые не замечали и заполняли предложенный бланк. Предлагались градации оценки от «прочитал бы охотно» до «ни за что не стал бы читать».
Оказалось, что фамилия автора (анхистоним) произведения в условиях дефицита информации (3–4 строчки аннотации) значительно влияет на оценку текста. Так, некоторые испытуемые приписывали максимальный балл аннотациям с японскими фамилиями или, наоборот, приписывали минимальный балл текстам писателей, национальности которых вызывали негативное отношение. Случалось, что испытуемым были известны другие произведения указанных в тексте авторов, и они сравнивали предлагаемый им текст с имеющимися у них представлениями о других произведениях этих авторов. Исходя из этого, в основном эксперименте тексты предъявлялись с названием, но без указания фамилии автора.
Испытуемые отмечали номера тех текстов, которые они стали бы читать. Кроме того, они указывали на бланках пол и возраст.
Н. А. Рубакин, полагая, что такого понятия, как «читатель вообще», нет и быть не может, уделял большое внимание индивидуальной работе с читателями. Так, он писал, что «б<иблиологическая> пс<ихология> дает возможность определять и псих<ологический> и соц<иальный> тип читателя путем очень краткого разговора с ним». В ходе своего эксперимента мы также проводили собеседование с испытуемыми, которое позволяло выявлять их личностные черты, особенности и характер интерпретации смысла текстов (степень адекватности эмоционально-смысловой доминанте текста), а также их читательские предпочтения. Дополнительные данные о структуре личности давало заполнение опросника Л. Ямпольского.
В целом нами было проведено несколько серий экспериментов.
Восстановление разрушенного текста, принадлежащего одному жанру (научная фантастика) и «Тест интереса к научной фантастике». Результаты этой серии показали, что наиболее адекватно текст восстанавливается теми испытуемыми, которые предпочитают этот жанр другим.
• Предъявление текстов с фамилиями и без фамилий авторов текстов. Установлено, что испытуемые выше оценивают тексты, которые имеют имена знакомых им авторов.
• Пилотажный эксперимент с предъявлением «Проективного литературного текста», который подтвердил «смещающую» роль имени автора на оценку текста и позволил отобрать тексты для последующего предъявления.
• «Проективный литературный тест» в группах испытуемых, различающихся по полу и профилю образования.
• «Проективный литературный тест» и параллельное предъявление «Психодиагностического опросника» Л. Т. Ямпольского.
• Проективный литературный тест и беседа о предпочтениях и мотивах обращения к тем или иным текстам или жанрам.
Всего в экспериментах приняли участие около 800 человек.
Результаты эксперимента. Индивидуальные предпочтения типов текстов
Предпочтение «активных» текстов
«Активные» тексты имеют ту же доминанту (которую мы соотносим с паранойяльностью), что и «светлые» тексты. В «активных» текстах действуют энергичные, смелые герои. В первую группу испытуемых входят те, кто дал положительные оценки подобных текстов («Целеустремленность нравится», «Добро всегда побеждает зло – это мое убеждение»). Такие ответы можно считать социально желательными. Характерно, что ответы типа «<Нравится потому, что описан> положительный идеал» и «Всегда интересно читать про сильную личность» соответствуют оценкам, дававшимся подобным текстам в советских школьных учебниках по литературе (точнее, по истории литературы).
Во вторую, малочисленную, группу вошли те, кто давал этим текстам отрицательные оценки, главным образом за публицистичность стиля («Сплошная политика. Политику можно в газетах читать»).
Оценки третьей группы испытуемых, которые также отрицательно оценивали «активные» тексты, свидетельствуют о полном неприятии текстов с этой эмоционально-смысловой доминантой. Они объясняли это следующим образом: «Это глупость. Если это весь сюжет – роман писать не стоило»; «Чтобы одному претворить „программу распространения культуры“ – нереально». «Не понимаю этого романа. Так не может быть, чтобы один человек понял, как надо жить. Я таким людям не доверяю. Он не распространяет, а насаждает свою „культуру“. Членов правительства понять можно».
Последнее высказывание интересно тем, что, во-первых, испытуемый вышел за пределы художественного текста в область вполне возможной в реальности жизненной ситуации, что, по-видимому, вызвано явной публицистичностью текста. Во-вторых, испытуемый дал оценку не столько ему, сколько мотивам поведения действующих лиц. Видимо, в данном случае произошло рассогласование мотивов поведения вымышленного героя текста с мотивами возможного реального поведения испытуемого – потенциального читателя.
Естественно, что при чтении художественного текста читатель находится под постоянным воздействием авторского замысла, и текст оказывает на него суггестивное (внушающее) воздействие. Тем не менее можно предположить, что в том случае, если герои текста реализуют мотивы, очень удаленные от системы мотивов читателя, то текст не оказывает должного воздействия. Интерпретация текста, «удаленного» от читателя, оказывается в сильной зависимости от «правдоподобности вымысла» автора текста и системы его художественных аргументов. Чем более убедительными подробностями якобы имевших место событий сопровождает автор свой текст, тем больше его воздействие на читателя и тем более адекватной будет его интерпретация.
Собеседования и результаты психодиагностического тестирования по опроснику Ямпольского показали, что испытуемые, высоко оценивавшие аннотации с эмоционально-смысловой доминантой «активных» текстов, увлечены политикой, интересуются историей и культурой. Они принимают (или принимали) участие в общественной жизни, стремясь к руководящим позициям. В общении они открыты, но склонны к небольшой подозрительности (то есть к недоверию в отношении с другими людьми) и не терпят предательства.
Иными словами, почитатели подобных текстов в большинстве случаев проявляли ряд признаков паранойяльной акцентуации.
Предпочтение «веселых» текстов
Напомним, что в «веселых» текстах гораздо больше слов, описывающих положительные эмоции, состояния и черты характера (радость, оптимизм, надеяться, не сомневаться, быть счастливым; стойкость, мужество, героизм, смелость), чем отрицательные (отчаяние, апатия, уныние, пасть духом, опускаются руки, неуверенность; злоба, ярость – дикая, бешеная, безумная, – паника, неистовство, ненависть). Мы относим ее генезис к гипоманиакальной акцентуации.
Многие испытуемые положительно оценивали такие тексты: «Похоже на сказку. Это хорошо»; «Люблю сильных людей». При этом испытуемые – потенциальные читатели – соотносили мироощущение, представленное в микротексте, со своим отношением к жизни: «Борьба, дружба, преодоление препятствий. Хочется преодолевать препятствия. Часто отступаешь. Беру себя в руки».
Микротекст об «отважных ребятах-шоферах» получил также значительное число и отрицательных оценок. Причины этого были, судя по полученным объяснениям, в следующем: «Не нравятся „ребята-шоферы“ как выражение»; «Духовности нет. Естественности тоже нет»; «У них все на эмоциях. Меня не эмоциональная сторона интересует, а рассудочная. Эмоции мне свойственно подавлять».
С этих же позиций оценивался «Роман о веселой и шумной жизни цыганского табора»: «Не люблю веселые, радостные, бездумные»; «Развлекательная литература в принципе не нравится. Искусство должно человека заставлять задуматься, задеть струны, пробудить духовность, не мысли, не чувства, а дух». – писала одна испытуемая, объясняя низкую оценку этого текста.
Тут можно вспомнить о «тенденции закрепления стабилизации». «Этот закон, – пишет исследователь, – проявляется в реакциях на любой эмоциогенный аспект, например, когда мы веселы, нам нравится веселая музыка, усиливающая радостное состояние, а когда печальны, нас привлекают грустные мелодии, бравурные же ритмы только раздражают» (Шакуров, 2003, с. 26). Думается, что эта закономерность справедлива и для более длительных и устойчивых состояний личности.
Результаты по психодиагностическому опроснику, а также беседы, проведенные с испытуемыми, показали, что те, кто высоко оценивал тексты с эмоционально-смысловой доминантой «веселых» текстов, – люди оптимистичные, с легкостью берущиеся за выполнение разных дел, но не всегда доводящие их до конца. Установка на совместную деятельность, на общение в компании сочетается с поверхностностью в знаниях и в общении. Иными словами, такие лица чаще имеют признаки маниакальной акцентуации.
Предпочтение «красивых» текстов
В нашем эксперименте испытуемым также предлагались тексты, которые получили название «красивых». Многие испытуемые высоко оценили аннотации, содержащие демонстративную эмоционально-смысловую доминанту: «Мне кажется, что роман должен быть написан хорошим языком, и сюжет неплохой»; «Интересная тема о чистой любви». Были и высказывания такого характера: «Я знаю, что мне никогда не жить шикарной жизнью. Хочется иногда хоть помечтать об этом», «Такие тексты нравятся, так как натура у меня сентиментальная и отношения людей, их чувства мне интересны».
Отрицательные оценки того же текста звучали примерно так: «Неинтересно. Обычная внешне красивая история»; «Сентиментальная, банальная история». При этом порой давались обобщающие ответы: «Отвращение к романам про графов с детства. Дюма не люблю»; «„Макулатурную литературу“ не читаю из духа противоречия». Таким испытуемым не нравилась внешняя простота и малая информативность такого текста: «Банально. Ну, спасает. Что дальше?»; «Неестественно»; «Тут больше упор на ширпотреб и приключения. Лучше историческую книгу прочитать»; «„Королева Марго“ – это чтиво. Не увлекательно. А историческая информация – источник знаний».
Характерно, что отрицательные оценки принадлежали в основном испытуемым мужского пола, девушки же оценивали их в основном высоко.
Итак, «красивые» тексты отличаются вычурным стилем и описанием псевдотрагических ситуаций. Результаты психодиагностического тестирования и проведенных бесед показали, что в целом высокие баллы ставят испытуемые, которые любят находиться в центре внимания, любят компании, но при этом могут быть капризными, несколько демонстративными (в понимании К. Леонгарда). Они любят прерывать беседу, если она становится не интересной им, для того чтобы обратить на себя внимание. Их интересы могут быть связаны с миром искусства. Иными словами, здесь можно заметить преобладание лиц с истероидной акцентуацией.
Предпочтение «темных» текстов
Большинство испытуемых оценивали подобные тексты отрицательно. Многие реагировали не столько на сюжет, сколько на психологический, коннотативный уровень текста: «Жестокость не нравится, не интересна»; «Кошмар»; «Ненавижу смакование садизма»; «Не люблю ужас чисто физически»; «Насилие отвергаю» и т. п.
Те испытуемые, которые оценивали такого рода аннотации положительно, никак не мотивировали свои высокие оценки: «Мне интересно почитать»; «Можно почитать, так как это близко, видимо, детективу». Один из участников эксперимента, высоко оценивший такой текст, думал над ответом долго, а смог написать только следующее: «Никак не могу сформулировать». Подобный ответ демонстрирует, что при оценке художественного текста оказываются задействованными невербальные структуры сознания.
В ряде случаев высокая оценка была связана с поиском структур текста, не обусловленных его эмоционально-смысловой доминантой. Например, высоко оценивая аннотацию «Душа мальчика», один испытуемый объяснил это так: «Сначала мне не понравилось, но потом я понял, что это может быть интересно. Почему он убивает? Что же это за „без видимой причины“?». Были и другие подобные объяснения.
Итак, в целом «темные» тексты написаны резко и отрывисто, они отражают несколько «сумеречное» мироощущение. Испытуемые, положительно оценивавшие аннотации с этой эмоционально-смысловой доминантой, по результатам тестирования могут быть охарактеризованы как настойчивые и целеустремленные, стремящиеся к достижению своих целей люди. Они упрямы, не всегда могут разобраться в разных сложных проблемах, но то, что они делают, они делают умело. Это люди несколько ограниченных интересов, но прагматики в жизни, и нередко они достигают успеха там, где требуется кропотливый труд. Очевидно, что в этом описании заметны черты эпилептоидной акцентуации.
Предпочтение «печальных» текстов
Многие испытуемые отрицательно оценивали подобные тексты, объясняя это следующим образом: «Скучная тема»; «Нудно слишком»; «Слишком грустно». Это типичные ответы, и давали их в основном представители мужского пола (у которых «печальные» тексты оказались на предпоследнем месте). Они достаточно откровенно говорили о причинах своего неприятия подобных текстов: «Скучно, так как о стариках»; «Не хочу читать. Мне еще не хочется читать о старости»; «Зачем об этом думать?! К необходимости жизни (смерти? – В.Б.) надо относиться проще!»
Испытуемые женского пола выше, чем мужчины, оценивали «печальные» тексты. «Это чувствует молодая девушка, – писала одна из участниц эксперимента по поводу микротекста „Роза в сердце“. – Она сожалеет, а мы должны на этом учиться. Отношение к близким людям…» Были и такие объяснения высокой оценки: «Мать уйдет и не вернется. Надо ценить сейчас»; «Когда 21 год, начинаешь задумываться, взрослеть. Надо думать о том, что ждет впереди».
Очевидно, что подобные ответы вызваны не только особым воздействием (предвосхищаемым) собственно художественных произведений, но и совпадением когнитивных и глубинных структур текста с психологическими особенностями личности читателя.
Следует отметить, что подобное «созвучие» вызывало и отрицательные оценки ряда испытуемых: «Мне тяжело читать книги на такие темы. Я потом долго плохо себя чувствую». Тем самым можно говорить о том, что степень «принятия» текста читателем зависит от собственного состояния читателя.
«Печальные» тексты базируются на депрессивном мироощущении. Аннотации с этой эмоционально-смысловой доминантой привлекали своей поэтичностью и лиричностью. Лица, заявившие о намерении прочитать эти тексты, в личном общении оказались мягкими, добрыми людьми, которые ценят хорошее к себе отношение, не всегда умея, правда, ответить тем же (они робки и не уверены в себе). Они нередко подвержены заболеваниям, ведут малоподвижный образ жизни, не активны, не склонны участвовать в коллективных действиях. Их тихий голос, застенчивость и невысокий энергетический потенциал не позволяют им достигать особого социального успеха, но близкие люди ценят их за отзывчивость и мягкость. Подобные признаки чаще обнаруживаются у лиц с депрессивной акцентуацией.
Предпочтение «сложных» текстов
Пожалуй, наиболее показательным в этом плане был микротекст «Ледяные яйца»: «Ученый, случайно оказавшийся на островке, вдруг обнаруживает в горячем песке ледяные яйца неизвестной черепахи, и сквозь их прозрачную оболочку на него смотрят лица людей, которых он как будто когда-то видел».
Возможно, что существует семантическая связь между смысловыми компонентами ученый и остров, горячий песок и ледяные яйца, оболочка яйца и лица людей. Но совершенно ясно, что такое количество сложных соединений затрудняет понимание текста.
«Сложные» тексты, обладая низкой внутренней упорядоченностью элементов, оказались трудны для понимания. «Расплывчатый сюжет»; «Странная фантазия»; «Абсурд не нравится»; «Мне текст не понятен» – таковы были их ответы.
Подобные ответы позволяют подтвердить гипотезу Ю. А. Сорокина о том, что «цельность текста не является текстовым феноменом и приписывается знаковому продукту реципиентами» (Сорокин, 1985, с. 66). Невозможность увидеть цельность и связность текстов проявляется в отрицательной оценке текста и интерпретации его как малоосмысленного.
Часть испытуемых положительно оценивала «сложные» тексты, справедливо относя некоторые из них к научной фантастике. Объяснения были однотипными: «Люблю научную фантастику»; «Научная фантастика!». Тем самым можно утверждать, что принадлежность текста к определенному жанру, несомненно, имеет большое влияние на характер его восприятия и оценки.
Для подтверждения мысли о том, что читатель выбирает тексты, близкие его когнитивным структурам, приведем оценку текста «Ледяные яйца» одним испытуемым: «Значимое впечатление. Несомненен вопрос о степени значимости явлений». Такая формулировка (точнее, тип ответов) и высокая оценка свидетельствуют о совпадении эмоционально-смысловой доминанты текста с компонентами языковой личности реципиента, для которого также характерно употребление сложных языковых конструкций, приводящих речь на грань десемантизации.
Интересно также отметить, что при полном понимании содержания текста «Ледяные яйца» некоторые испытуемые увидели в нем эмоциональность: «Драматическая ситуация, ибо чаще вспоминаются люди, которым сделал что-нибудь нехорошее»; «От этого текста становится грустно». Подобный тип ответов подтверждает мысль В. В. Знакова о том, что «понимание как познавательная процедура направлено не на получение нового знания, а на смыслообразование, приписывание смысла знанию, полученному в процессе мыслительной деятельности» (Знаков, 2002, с. 39).
Мы видим, что многозначность любого художественного текста дает простор для совершенно разных интерпретаций, каждый читатель интерпретирует произведение в соответствии со своими представлениями, своими когнитивными структурами. В частности, В. Изер писал о том, что «внутренний читатель» романа Д. Джойса «Улисс» (который мы считаем «сложным») – это личность, являющаяся сама по себе проблемой, личность, ищущая собственного становления.
По данным психодиагностического тестирования, лица, положительно оценившие «сложные» тексты, характеризуются прежде всего повышенной тревожностью. Они могут быть охарактеризованы как интеллектуалы, склонные к размышлениям, рассуждениям, но не действиям. Период интереса к «сложным» текстам совпадает с периодом обучения в вузе и отражает интеллектуальные юношеские искания. В общении люди, предпочитающие «сложные» тексты, любят обсуждение абстрактных проблем, обращают основное внимание на интеллект партнера, а эмоциональной стороной общения пренебрегают. В этих характеристиках заметны черты шизоидной акцентуации.
Предпочтение «усталых» текстов
В качестве «усталых» текстов в эксперименте предлагались такие тексты: «Близорукий врач добр и приветлив со всеми. Но даже и после того, как он попал под машину, его пациенты не испытывают к нему жалости и сочувствия» («Старый мерзавец»); «Бывший студент и участник молодежного движения, растеряв нравственные и идейные ориентиры, устал от общества с его нерешенными проблемами» («Бегство Кербеля»).
Рассмотрим оценки аннотации «Перед человеком», который в «Проективном литературном тесте» выглядел следующим образом «„Я не знаю, как я должна жить. И как должны жить другие. Я знаю только, как живу я. Как улитка без раковины, а так не проживешь“, – говорит главная героиня, умеющая хорошо работать, но неудачливая и беспомощная в личной жизни».
Оценивая этот текст, испытуемые (читатели) соотносили мироощущение, представленное в нем, со своим. Например, если испытуемые писали: «Это жизненная проблема, немного похожая на мою»; «Чуть-чуть про меня»; «Чувствую в себе что-то похожее (частично) с жизнью героини»; «Мне жалко таких людей» и т. п., то они высоко оценивали такой текст. Это позволяет утверждать, что основа понимания художественного текста чаще всего (не значит, что всегда) лежит в сфере субъективного, личностного отношения читателей к тому, что описывается.
В ряде случаев, оценивая этот текст положительно, испытуемые давали рациональные объяснения своим оценкам: «Интересна психология людей»; «Интересна психологическая сторона жизни героини»; «Извечный вопрос – что делать? Интересно его решение»; «Это современная проблема. Может быть, связано с эмансипацией женщины». Возможно, что здесь срабатывали механизмы психологической защиты, так как некоторые участники эксперимента в личной беседе старались не объяснять мотивы высоких оценок текстов этого типа.
Отрицательная оценка «усталых» текстов давалась испытуемыми опять-таки через соотнесение психологических структур текста со своими интересами и тем самым с их собственными личностными особенностями: «Одиночество неинтересно»; «Самокопание, самоанализ, а надо дело делать». При этом, отрицательно оценивая эмоциональную доминанту текста, испытуемые выражали свое отношение к его проблематике: «Ненужная серость»; «Нудно» и т. п. Подобные высказывания подтверждают мысль о том, что нередко при восприятии и оценке художественного текста может происходить «исчезновение эстетической предметности» (Зись, Стафецкая, 1985, с. 171), а текст может выступать в качестве заместителя жизненной ситуации, которая и оценивается.
Таким образом, проблема адекватной оценки подобного текста перерастает не только лингвистическую, но и психологическую проблематику. В частности, наличие отрицательных оценок «усталых» текстов ставит проблему воздействия на некоторые типы читателей текстов о так называемых «маленьких людях». Эмоциональная закрытость, невосприимчивость текстов о смерти, о человеческой усталости, о тяжести жизненных проблем может составить особую проблему педагогической психологии.
Предпочтение «интенсивных» текстов
В эксперименте предлагались также тексты, условно названные «интенсивными». Поскольку ранее (в тексте работы) они не описаны, приведем краткое описание их особенностей.
В «интенсивных» текстах действует «сильная личность», у которой нет ни чувства симпатии к окружающим, ни чувства долга. К таким текстам относится прежде всего «черный роман», в центре которого стоит не расследование преступления, а подробное описание самого преступного поступка; произведение изобилует убийствами, драками, пытками, эротикой и жестокостью. «Интенсивная» текстема часто реализуется в форме детектива. Его отличает динамичное развитие сюжета и отсутствие моральных оценок при описании совершаемых героем убийств. Все это сближает такие тексты с «темными».
«Интенсивные» тексты в эксперименте были представлены аннотациями такого рода: «Роман о банде молодых мотоциклистов, которые носятся по дорогам, терроризируя и калеча всех, кто попадается на их пути» («Вкус крови»); «Азартные игры, пьяные драки, поножовщина – таковы будни того мира, который описывает автор» («Хэтчит»); «Трое молодых людей, оказавшихся по разным причинам без средств к существованию, борются против „организованного“ общественного бытия. В основе сюжета – похищение ребенка богача с целью получения выкупа» («Сентябрь, сентябрь»).
Следует отметить, что более четырех пятых испытуемых оценили подобные тексты так же отрицательно, как и «темные»: «Отвратительно. Читать просто неприятно»; «Кровь не люблю»; «Эта тема недостойна того, чтобы ее обсуждать»; «Предпочитаю этим будням солнечные воскресенья» и т. п. Испытуемые, которые предпочли бы подобные произведения для чтения, также выбирали и «активные» тексты, и «темные», мотивируя это своим интересом к детективной литературе в целом.
Факторизация оценок позволила выявить группы текстов, получивших общее название «динамичных». В эту группу вошли и «интенсивные» тексты. Соотнесение оценок с результатами психологического тестирования показало, что выбор «динамичных» текстов положительно коррелирует с общей активностью и отрицательно – с интроверсией. Такие психологические особенности характерны для испытуемых, предпочитавших «активные» и «темные» тексты.
Индивидуальные предпочтения сочетаний текстов
В целом результаты эксперимента показали, что испытуемые положительно оценивают те аннотации, эмоционально-смысловая доминанта которых соответствует их личностной доминанте.
В отрицательных выборах также обнаруживаются определенные закономерности.
В таблице 1 приведены результаты группировки всех оценок, которые дали испытуемые.
Как видно из таблицы, испытуемые, предпочитавшие «активные» микротексты, также выбирают и «интенсивные», «веселые», «красивые», «темные», но не «печальные», «усталые», «сложные». Это в значительной степени совпадает с выбором тех испытуемых, которые предпочитали «интенсивные» микротексты.
Испытуемые, предпочитавшие «веселые» микротексты другим, как правило, не выбирали «темные» микротексты. Их выбор «печальных» текстов находился в зависимости от направленности их личностных особенностей и от настроения в момент проведения эксперимента.
Предпочитавшие «красивые» микротексты, как правило, отрицательно оценивали «интенсивные», «сложные», «усталые», «печальные» и, конечно, «темные».
Те испытуемые, которые предпочитали «темные» тексты другим, оценивали также положительно преимущественно микротексты «интенсивные».
Таблица 1
Распределение оценок при выборе текстов
Если испытуемые выбирали «печальные» тексты, то почти всегда и «усталые». Им нравились также и «сложные» микротексты, а отрицательную оценку получали тексты с другими эмоционально-смысловыми доминантами.
Те, кто выбирал «сложные» тексты, выбирали также и «печальные», «усталые» и иногда «темные».
Результаты эксперимента позволили также говорить о зависимости лексической квалификации типов текстов от личностных особенностей испытуемых. Поскольку оценки не сводились к односложным высказываниям, мы дали им обобщенные лексические квалификации. Эти данные приведены в таблице 2.
Как пишет Т. Шибутани: «Поскольку любая ситуация может быть определена с нескольких точек зрения, чтобы понять, что делает человек, следует установить предпосылки, с которых он начинает. Прежде всего нужно знать, что он считает само собой разумеющимся» (Шибутани, 1969, с. 212).
Вербальные квалификации могут служить своего рода точками отсчета, шкалами репертуарных решеток, манифестантами индивидуального сознания, которое имеет типологическую природу. Знание этих оценок и вербальных квалификаций, очевидно, может быть использовано в психотерапии для лучшего понимания системы ценностей пациентов.
В целом полученные результаты свидетельствуют о том, что испытуемые так или иначе осознают эмоционально-смысловую доминанту текста и оценивают текст в соответствии именно с ее наличием и ее семантикой. Предпочтение отдается текстам, эмоционально-смысловая доминанта которых соответствует их картине мира.
Предпочтение того или иного текста говорит о сходстве особенностей языковой личности читателей с особенностями проявления личности автора.
Существуют определенные закономерности и в распределении оценок. Они также связаны с психологическими особенностями читателя.
Таблица 2
Лексическая квалификация текстов
Итак, эксперимент подтвердил высказываемые многими исследователями положения о том, что восприятие и оценка художественного текста зависят от ряда субъективных факторов – от начитанности читателей, их профессиональных интересов, факторов биографии, настроения и психологического состояния. При этом полученные в описанных экспериментах результаты позволяют утверждать, что существуют определенные закономерности в предпочтении типа текста, а именно эмоционально-смысловая доминанта предпочитаемого текста соответствует доминанте (акцентуации) читателя, этот тип текста предпочитающего. Иными словами, предложенный тест выявляет искомые характеристики испытуемых, а построенная типология текстов связана с типологией лиц, их предпочитающих.
Глава 4. Психологическое воздействие текста: прикладные аспекты
Возможности применения разработанной методологии чрезвычайно велики, поскольку тексты очень широко используются во всех сферах человеческой жизни. Психологический анализ текста, оценка его воздействия требуются и в психотерапевтической работе, и в судебной экспертизе, и при составлении текстов публичного выступления, и в повседневном общении.
Мы рассмотрим несколько областей, в которых такой анализ успешно применялся.
Библиотерапия
Целительное воздействие слова имеет очень давнюю традицию. С развитием художественной литературы и пониманием ее роли в жизни человека появились, как мы помним, исследования, позволяющие судить об особенностях различных читателей и читающей публики в целом. Так, Н. А. Рубакин составлял рекомендательные списки литературы для лиц, страдающих от различных психических недугов.
В последние годы возросло число исследований, связанных с диагностикой и лечением словом (Бурлакова, Олешкевич, 1999; Доценко, 1999; Шевченко, 1999; Карлов, 2004; Смулевич, 2005 и др.), которые, впрочем, известны давно. «Врачевание словом» используется для лечения соматических больных, отмечается большая терапевтическая роль сказки, особенно когда речь идет о детях; появляются работы, посвященные терапевтическому воздействию литературы в целом, а также собственному словесному творчеству пациентов (Соколов, 2004; Фанталова, 2001; Дорожевец, 1998; Зинкевич, Михайлова, 1998; Яничев, 1999, и мн. др.). В нашей стране широко известен метод психотерапии творческим самовыражением М. Е. Бурно (Бурно, 1989).
Наш подход позволяет сделать эти методы более эффективными за счет индивидуально подобранных лексико-синтаксических средств.
Способность художественного текста передавать чувства и мысли человека, оказывавшегося в трудной ситуации, используются в библиотерапии. Этот метод призван помочь пациенту понять и изучить «типологию характеров в литературе, искусстве, чтобы найти себя как читателя, зрителя в человеческой культуре, утвердиться и таким образом в собственной духовной индивидуальности» (Бурно, 1989, с. 133). Составлены списки произведений, которые рекомендуются при определенных пограничных состояниях, для коррекции отношений между родителями и детьми, для уменьшения подростковых фобий или неврозов, вызванных разводом родителей, для повышения самооценки, вывода из депрессии, после изнасилования, для освобождения от наркотической и в целом химической зависимости (Pardeck J. T.,Pardeck J. A.,1993; Phillips, 1996).
Наша типология позволит подобрать литературу с более полным учетом индивидуальных особенностей пациента.
Новые информационные технологии. Программа ВААЛ
Применение психологических и лингвистических знаний в компьютерных технологиях стало привычным в последние десятилетия. Такие знания нужны при любой обработке текстовых данных: от создания поисковых систем до необходимости «сжать» текст до резюме.
Предложенный нами анализ текста также нашел применение в информационных технологиях. Выявление вербальных признаков эмоционально-смысловой доминанты стало важной составляющей компьютерной психолингвистической системы «Психиатрический анализ текста» – ПАТ, которая проводит психологический контент-анализ текстов, как художественных, так и публицистических или рекламных.
ПАТ выстраивает частотные характеристики текста и проводит факторный анализ на уровне лексики и фразеологии. Новейшие версии учитывают также ряд особенностей синтаксиса. Программа позволяет создать частотный словарь любого исследуемого текста и определить его эмоционально-смысловую доминанту. Распределение лексико-семантических признаков доминант дается в абсолютных (количество слов того или иного класса) и в относительных (% к норме по частотному словарю русского языка) величинах. В результате обработки текста выявляется его эмоционально-смысловая доминанта и соответственно прогнозируется возможное воздействие этого текста.
Данная подсистема (ПАТ) встроена в систему ВААЛ, основным разработчиком которой является В. И. Шалак. Главное назначение программы ВААЛ состоит в оценке воздействия слов и русскоязычных текстов на человека.
Современный взгляд на язык предполагает, что речь может быть средством влияния на поведение людей. В эффективном воздействии важны не только и не столько логичность и аргументированность речи, сколько эмоциональность речевого высказывания. Эмоциональное восприятие оперирует простыми категориями «приятие» – «неприятие». При этом самыми важными оказываются каналы воздействия, не контролируемые сознанием. Эти соображения во многом определили необходимость создания системы ВААЛ.
Система позволяет:
– составлять тексты выступлений или статей, в том числе рекламных, с заранее заданными характеристиками воздействия на потенциальную аудиторию;
– формировать эмоциональный имидж политического деятеля;
– находить названия для новых товаров, которые будут иметь эмоциональный отклик у потребителей;
– проводить психиатрический анализ текстов;
– усиливать речевое воздействие в психо– и гипнотерапии.
В целом с помощью ВААЛ можно усилить воздействие любых рекламных, учебных, пропагандистских и публицистических материалов, а также строить психологические портреты авторов текстов и целевых аудиторий.
Применение экспертной системы ВААЛ с 1993 года показало, что она может быть успешно использована для анализа и корректировки воздействия текстов в самых разных областях – от политической риторики и рекламы до образования и художественного творчества.
Судебная экспертиза
Перед правоохранительными органами часто встает задача идентификации автора текста (допустим, содержащего угрозу), однако, как справедливо отмечают исследователи, одним из самых серьезных затруднений является чрезвычайно слабая разработанность четких экспериментальных процедур, позволяющих диагностировать те или иные черты личности преступника (Иванченко, Асмолов, Ениколопов, 1992).
Мы опишем, как применение программы ВААЛ (ПАТ) и учет эмоционально-смысловой доминанты представленных текстов позволили провести анализ и вынести суждения, отвечающие на сформулированные судом вопросы.
В распоряжении суда были печатные тексты одной религиозной общины (более 260 текстов, более 1000 страниц дела). Предстояло выявить, содержатся ли в них признаки: разжигания религиозной розни (подрыв уважения и неприязнь к другим религиям); принуждения к разрушению семьи; посягательства на личность, права и свободы граждан.
Предстояло также выяснить, содержится ли в анализируемых материалах побуждение граждан к отказу от исполнения установленных законом гражданских обязанностей.
Тексты были подвергнуты лингвистическому, психолингвистическому, литературоведческому анализу[9].
Анализ показал, что в текстах планомерно проводится одна идея: человечеству и каждому отдельному человеку угрожает могущественный враг добра – сатана. Он строит козни, вовлекает людей в грех, ведет человечество к гибели и мучениям; в недалеком будущем настанет день последней битвы – Армагеддон. Человечество постигнет «великая скорбь» – голод, эпидемии, войны, стихийные бедствия; единственное спасение для людей – обращение к Богу, который уничтожит сатану, его приспешников, всех служителей зла, всех не являющихся членами сообщества; после Армагеддона спасшихся ждет счастье, жители Земли будут подчинены справедливому небесному правительству.
В текстах преобладает тематика уничтожения неверных людей волей и силами Бога. Спасутся лишь те, кто присоединится к общине. Они избегнут тяжелых бедствий, мучений и гибели. Это нагнетание страха формирует настрой, зловещие оттенки которого усугублены многократными описаниями человеческих бедствий вообще – бывших, нынешних и будущих.
Сознание воспринимающего должно «оцепенеть» перед фатальным ходом событий. Одновременно этот мотив готовит восприятие к деятельности в режиме катастрофически-военном, осадном, к дисциплинарно-организованному сопротивлению и наступлению.
Эмоционально-смысловую доминанту текстов образует насыщенность лексикой «печального» и «темного» настроя. Автоматический обсчет с помощью экспертной компьютерной психолингвистической программы ВААЛ показал следующее. «Светлая» лексика (Бог, верить, апостол, душа, человечество, вселенная, доверие, истинная ценность, справедливость) составляет в названных текстах до 22 %. «Печальная» и «темная» лексика (насилие, растление, уничтожение, страдать, гонения, умирать, рабство, голод, холод, козни, ложь, клевета) составляет также до 22 %. Тем самым контекст данной печатной продукции можно рассматривать как депрессивный, внушающий представление о мире как античеловечной системе вещей, нагнетающий тревогу, страх, подозрительность и озлобление.
Тексты в целом формируют у аудитории: настроения беспомощно-пассивного ожидания, необходимости спасительных инструкций; а также готовность к нервозно-взвинченному состоянию, поиску в мире и людях врагов, расположенность к агрессивно-озлобленному противостоянию им.
Так, псалом 148:12,13 «Место молодежи в Божьем порядке» начинается как достаточно радостный («веселый») текст (строки 1–6 – нумерация наша. – В.Б.), затем следует «печально-темная» вставка (строки 7–9) и завершается достаточно «светлым» текстом (строки 12–16).
МЕСТО МОЛОДЕЖИ В БОЖЬЕМ ПОРЯДКЕ (183)
(Псалом 148:12,13)
1. Место всем сегодня есть в порядке Бога. Стар и млад – он всех хвалить его зовет.
2. Как чудесно видеть отклик молодежи, что о Царстве весть по всей Земле несет.
3. Их свидетельство повсюду столь успешно, так услужливы, воспитанны, чисты!
4. Их служенье для Иеговы очень ценно. Пожилым в них радость, ими так горды.
5. Молодые, вы, кто знаете Иегову, о, какой счастливый будет это час!
6. То, что в будущем вас ждет, себе представьте – вечно жить в Раю прекрасном Бог вам даст.
7. Мы живем теперь под гнетом злой системы, той, что скоро превратится в пыль и прах.
8. Всею силой нужно с нею нам бороться, чтобы верным Царству быть, отвергнув страх.
9. Вы друзей ищите средь народа Бога, для чего искать вам дружбы с миром злым?
10. Погружайтесь в те дела, что созидают – недостатка в Слове Бога нету им.
11. Если трудно вам, то любящим вас ближним говорите обо всем, что вас гнетет.
12. Но а самый наибольший Друг – Иегова. Милосердье, чуткость каждый в нем найдет.
13. Мы все члены христианского собранья. В нем заботится о нас Иисус Христос.
14. Так что в верности займем с ним рядом место, всем его советам следуя всерьез.
15. Не дадим влиять на нас мышленью мира; пусть Иегова в чистоте наш ум хранит.
16. Будем верными и юн и стар – все вместе; жизнью вечной нас Иегова наградит.
Такие тексты редки в «естественной» коммуникации но нередки в текстах, где задачей является целенаправленное воздействие на сознание, например, в текстах о наркотиках (мир вокруг жесток – ты не одинок – приходи к нам – мы дадим тебе избавление).
В анализируемых текстах заметны существенные изменения в психологическом содержании ряда устойчивых понятий, что способствует переориентации сознания в сторону противостояния миру. В изучаемых текстах осуществлены целенаправленные контекстуально-связанные изменения в семантической структуре слов. Так, осуществляется сдвиг в понятии «общество», направленный на сужение картины мира и связей с ним. Взаимодействие с миром возможно лишь в пределах общины и посредством общины. Понятие «семья» оттесняется, сводится к значению «члены нашей организации». Понятие «счастья» меняется на понятие «служение» (целям нашей организации). Все это создает особый язык со специфическим эмоционально-смысловым наполнением. Основные функции этого языка состоят в психологическом воздействии на сознание, в изменении языкового и неязыкового образа мира, во внушении необходимости покорного подчинения дисциплине.
Стилистика текстов насыщена элементами императивной, командной окраски, что поддерживает характеристику сообщества как организации, тяготеющей к военно-дисциплинарному типу. Участников объединяют устав службы, должностные инструкции, приказы, команды и т. п. В издании «Письмо кандидату на служение…» говорится:
не думай, что ты сможешь всегда поступать по своей воле /…/ Тебе придется отодвинуть на задний план твои личные желания и склонности /…/ чтобы быть в состоянии исполнять поручаемые тебе служебные задания.
Реализуемые в текстах рекламно-пропагандистские технологии дополняются дисциплинарно-уставными, в которых давление на психику проводится через жесткие должностные инструкции, графики выполнения обязанностей и прямые приказания.
Состояние напряженной, настороженной изоляции от мирской жизни и отрешения от мирских связей достигается в текстах использованием императива не думать. Сопровождается такой приказ словами всего и навсегда, которые наиболее часто встречаются в речи людей, находящихся в стрессовом состоянии. Такого же рода стрессовое состояние поддерживается в воспринимающих эти тексты. Религиозный идеал укрепляется в принудительно-распорядительном порядке.
Это позволяет дать обсуждаемым текстам следующую характеристику. Являясь текстами, близкими по своей организации к пропаганде и рекламе, издания этой общины прибегают к разнообразным способам манипуляции сознанием воспринимающих, сужая их кругозор и ориентируя людей на фатальный выбор, прямо или исподволь предрешенный этой организацией.
Эти тексты отличаются резко негативной эмоциональной атмосферой, создаваемой вокруг мировоззренческих вопросов. Фаталистическая обреченность человека перед лицом вселенского зла; высокий уровень страха, внушаемый инструкциями, сильный акцент на отказе от мирских ценностей. Завершает перечень предписание «не думать».
Проводимая в текстах идея о том, что эта организация является единственным достойным членства обществом и единственной структурой с единственно достойными следования правилами, наделяет проповедуемую в текстах идеологию качествами соперничества с иными общественными и правовыми институтами. Тем самым это религиозное объединение само себя квалифицирует как организацию теократического и тоталитарного типа, с признаками секты.
Таким образом, в проанализированных документах обнаружены признаки разжигания религиозной розни в форме подрыва уважения и формирования неприязни к другим религиям; посягательства на такие права и свободы граждан, как право на жизнь и медицинское обслуживание и право на отдых, а также на свободу распоряжаться своим временем. Эти тексты несут негативное отношение к миру, стремятся отгородить человека от мира, запугать его.
Подобные выводы стали возможны в том числе и благодаря нашим разработкам.
Пародия как тип текста
Разнообразие типов текстов – как мы показали – обусловлено разнообразием типов психической деятельности их авторов. Теоретически количество типов текстов является равным числу типов личностей (если это исчислимое явление). Практически же количество типов текстов ограничено количеством акцентуаций, эмоциональных состояний, количеством типов восприятия действительности и типов вебрального выражения личности. В этой связи следует отметить, что в принципе возможно моделирование эмоциональных состояний и их речевого выражения. К ним относятся актерское перевоплощение, психофармакологическое воздействие, внушение эмоциональных состояний в гипнотическом сне. Самым распространенным способом является пародирование автора, то есть создание такого текста, который очень похож на авторский.
Пародия нередко предполагает насмешку и, следовательно, всегда неуважительную, уничижительную характеристику того, что пародируется. Вместе с тем для создания пародийного текста необходима большая пластичность личности пародиста, умение почувствовать стиль и настроение автора. При этом если единицы деятельности автора, его мотив, цель и условия определяются его внутренними переживаниями, его жизненным миром, то в пародии мотив деятельности смещен на высмеивание, цель – принизить значимость объекта (текста), а используемые языковые средства располагаются так, чтобы происходило столкновение смыслов.
Приведем несколько пародий на текст сказки «Красная Шапочка». Все они (кроме последнего) взяты с сайта и называются «Как бы рассказали "Красную Шапочку"».
Эдгар По
На опушке старого, мрачного, обвитого в таинственно-жесткую вуаль леса, над которым носились темные облака зловещих испарений и будто слышался фатальный звук оков, в мистическом ужасе жила Красная Шапочка.
Эрнест Хемингуэй
Мать вошла, она поставила на стол кошелку. В кошелке было молоко, белый хлеб и яйца.
– Вот, – сказала мать.
– Что? – спросила ее Красная Шапочка.
– Вот это, – сказала мать, – отнесешь своей бабушке.
– Ладно, – сказала Красная Шапочка.
– И смотри в оба, – сказала мать. – Волк.
– Да.
Мать смотрела, как ее дочь, которую все называли Красной Шапочкой, потому что она всегда ходила в красной шапочке, вышла, и, глядя на свою уходящую дочь, мать подумала, что очень опасно пускать ее одну в лес; и кроме того, она подумала, что волк снова стал там появляться; и, подумав это, она почувствовала, что начинает тревожиться.
Ги де Мопассан
Волк ее встретил. Он осмотрел ее тем особенным взглядом, который опытный парижский развратник бросает на провинциальную кокетку, которая все еще старается выдать себя за невинную. Но он верит в ее невинность не более ее самой и будто видит уже, как она раздевается, как ее юбки падают одна за другой и она остается только в рубахе, под которой очерчиваются сладостные формы ее тела.
Виктор Гюго
Красная Шапочка задрожала. Она была одна. Она была одна, как иголка в пустыне, как песчинка среди звезд, как гладиатор среди ядовитых змей, как сомнамбула в печке.
Джек Лондон
Но она была достойной дочерью своей расы; в ее жилах текла сильная кровь белых покорителей Севера. Поэтому, не моргнув глазом, она бросилась на волка, нанесла ему сокрушительный удар и сразу же подкрепила его одним классическим апперкотом. Волк в страхе побежал. Она смотрела ему вслед, улыбаясь своей очаровательной женской улыбкой.
Ярослав Гашек
– Эх, и что же я наделал? – бормотал Волк. – Одним словом, обделался.
Оноре де Бальзак
Волк достиг домика бабушки и постучал в дверь. Эта дверь была сделана в середине XVII века неизвестным мастером. Он вырезал ее из модного в то время канадского дуба, придал ей классическую форму и повесил ее на железные петли, которые в свое время, может быть, и были хороши, но ужасно сейчас скрипели. На двери не было никаких орнаментов и узоров, только в правом нижнем углу виднелась одна царапина, о которой говорили, что ее сделал собственной шпорой Селестен де Шавард – фаворит Марии Антуанетты и двоюродный брат по материнской линии бабушкиного дедушки Красной Шапочки. В остальном же дверь была обыкновенной, и поэтому не следует останавливаться на ней более подробно.
Эрих Мария Ремарк
– Иди ко мне, – сказал Волк. Красная Шапочка налила две рюмки коньяку и села к нему на кровать. Они вдыхали знакомый аромат коньяка. В этом коньяке была тоска и усталость – тоска и усталость гаснущих сумерек. Коньяк был самой жизнью.
– Конечно, – сказала она. – Нам не на что надеяться. У меня нет будущего.
Волк молчал. Он был с ней согласен.
Владимир Сорокин
A propos, я лично встречал Красную Шапочку и пробовал ее кал.
Габриэль Гарсия Маркес
Пройдет много лет, и Волк, стоя у стены в ожидании расстрела, вспомнит тот далекий вечер, когда Бабушка съела столько мышьяка с тортом, сколько хватило бы, чтобы истребить уйму крыс. Но она как ни в чем не бывало терзала рояль и пела до полуночи. Через две недели Волк и Красная Шапочка попытались взорвать шатер несносной старухи. Они с замиранием сердца смотрели, как по шнуру к детонатору полз синий огонек. Они оба заткнули уши, но зря, потому что не было никакого грохота. Когда Красная Шапочка осмелилась войти внутрь, в надежде обнаружить мертвую Бабушку, она увидела, что жизни в ней хоть отбавляй: старуха в изорванной клочьями рубахе и обгорелом парике носилась туда-сюда, забивая огонь одеялом.
Б. Акунин
Эраста Петровича Фандорина, чиновника особых поручений при московском генерал-губернаторе, особу 6-го класса, кавалера российских и иностранных орденов, выворачивало наизнанку. В избушке вязко пахло кровью и требухой. Подле его начищенных английских штиблет покоилось распростертое тело девицы Бабушкиной, Степаниды Ивановны, 89 лет. Эти сведения, равно как и дефиниция ремесла покойной, были почерпнуты из детской книжки, аккуратно лежавшей на вспоротой груди. Более ничего аккуратного в посмертном обличье девицы Бабушкиной не наблюдалось.
Татьяна Толстая
Вот радость-то какая, светлый праздничек: вышел первый номер журнала «Red Hat – Linux, Embedded Linux and Open Source Solutions». Красивое имя – высокая честь; название представляется мне неблагозвучным для русского уха, а потому буду называть журнал Красная Шапочка. Вообще говоря, после этих слов все про журнал понятно, все предсказуемо и можно прекратить писать рецензию.
Михаил Зощенко
Волк шумно вздохнул, вытер подбородок рукавом и начал рассказывать:
– Я, братцы мои, не люблю баб, которые в шляпках. Ежели баба в шляпке или корзиночка у ней в руках, то такая аристократка мне и не баба вовсе, а гладкое место. Встречаю раз одну такую в лесу. Гляжу, стоит этакая фря и разворачивет свою идеологию во всем объеме. И решил я лицом официальным к ейной бабушке наведаться. Дескать, как у вас, гражданка, в смысле порчи водопровода и уборной? Действует?
Николай Гоголь
Мрачен и безграничен наш лес в хмурую погоду. Редкая шапочка дойдет до его середины – разве уж самая красная. Ну а которая дойдет, та непременно повстречается там с Волком. – Волк, волк! Куда несешься ты по бескрайнему лесу? – Нет ответа. – Скучно на этом свете, господа.[10]
Мы привели самые яркие примеры пародий в отношении не самого лучшего в художественном плане текста. Но и это показательно. В пародии как бы уничтожается индивидуальное отношение автора к окружающему миру, он превращается в «еще одно». Поскольку «знаки культуры могут быть отчуждены от реальной душевной жизни человека» (Братусъ, 1988, с. 83), пародист имеет возможность вырвать их из личностного контекста переживаний и вставить в контекст иронического отношения к продукту творчества.
На поверхностном уровне тексты пародии и оригинала во многом схожи, но на глубинном уровне они различаются: если подлинный смысл написания художественного текста в самовыражении, в описании личностной картины мира, то смысл, стоящий за пародией, – показать несуразность этой картины мира, высмеять ее. Характерно, что именно такое представление задачи, такой фон интеллектуальной работы (Петухов, 1984) являются как бы беспредметными (см. исследования Вюрцбургской школы), они могут быть направлены на любой объект.
Анализ текстов в политической деятельности
Эффективность речевого воздействия оказывается в круге внимания многих наук. Так, лингвисты пишут о прагматике и лингвопрагматике, специалисты по аудио-и видеоэффектам изучают доходчивость кратких сообщений, и т. п.
Влияние на читателей оказывают не только художественные тексты, но и тексты любого жанра, в том числе и публицистические. В журналистских текстах можно найти разные авторские стили, которые в работе Е. Е. Прониной связываются с разными парадигмами мышления (Пронина, 2002). Каждому типу мышления соответствует свой тип текста: метафорическому – мифологический текст, рационалистскому – убеждающий, позитивистскому – прагматический, драйв-мышлению – гедонистический, гуманистическому – смысловыявляющий текст, net-мышлению – сетевой текст.
Публицистические тексты обладают своим эмоциональным строем, в них можно обнаружить и найденные нами эмоционально-смысловые доминанты.
Особую важность эффективность воздействия публицистических текстов приобретает в политической жизни. В этом параграфе мы кратко коснемся того, как понятие эмоционально-смысловой доминанты позволяет улучшать тексты политического характера, усиливать их воздействие на целевую аудиторию.
Сначала мы остановимся на психолингвистических характеристиках эпатажного текста. Внимание к именно таким текстам связано с их распространенностью в российском политическом пространстве. Анализ позволит понять, какие характеристики обеспечивают их влияние на людей.
Эпатажный текст
Согласно толковому словарю русского языка, эпатаж – это вызывающее поведение, скандальная выходка (Ожегов, Шведова, 1998). Эпатаж есть и в действиях, и в языке. Опишем такие тексты, опираясь на материалы диссертации Е. Репиной, выполненной под нашим руководством (Репина, 2002).
Эпатажный текст является очень ярким по своим лингвистическим и семантическим особенностям, эмоционально насыщенным. Он не оставляет никого равнодушными, заставляет испытывать порой совершенно противоположные эмоциональные состояния. К такому типу текста можно отнести большинство текстов «Демократического союза» (Валерия Новодворская), многие тексты «Национально-патриотического фронта «Память» (Дмитрий Васильев), а также некоторые тексты «Либерально-демократической партии России» (Владимир Жириновский) и «Союза правых сил» (Ирина Хакамада, Сергей Кириенко, Борис Немцов).
Приведем пример эпатажного текста:
Встала из мрака младая с перстами[11] пурпурными, Эос и провалилась (семантическая категория «падение») обратно, стеная ужасно (семантическая категория «тоска»). К зрелищам типа таких не привыкли античные боги. Некий ахейский товарищ (ирон.) (уж мужем и зваться не может; мужи, как зайцы, не бегают от КГБ лет на двадцать в изгнанье) как-то решился разочек смотаться под Трою.
(«Демократический союз»)Немного другая, но также достаточно яркая в эмоциональном плане картина в текстах «Памяти». Они представляют собой не «унылые» рассуждения о том, что и как нужно делать, а чисто театральное, художественное динамичное описание.
Сегодня пышным цветом рапустилась политическая проституция (презр.), сменившая комиссарские тужурки (аллюзия) и заслюнявленные папиросные «бычки» в углах небритого рта с остатками пищи (еда), на смокинги, фраки с официантскими «бабочками», фальшиво киношный звон бокалов, дежурные улыбки, бесконечные фуршеты и прочая лакейская (негат.) «тусовка», как сами «расфранченые» называют свои сборища (разг. неодобр.). Все это происходит в тот момент, когда кругом бунты, недовольство (семантическая категория «тоска»).
(«Память»)В этом тексте часто употребляются просторечные слова. Он близок «агрессивному» типу текста (это еще один тип текстов, тоже выделенный в политических текстах), но в то же время отличается от них. Так, предъявление этих текстов испытуемым показало, что они вызывают сильную ненависть, озлобленность, раздражение и отвращение, побуждение к активным действиям, нередко к насилию и к мести, но не воодушевляют, не вызывают восхищения. Однако, несмотря на это, испытуемые также отмечали, что данные тексты представляются им забавными, вызывая у них и некоторую веселость.
Результаты эксперимента были дополнены психолингвистическим анализом с использованием программы ВААЛ. При этом были выявлены следующие содержательные характеристики эпатажных текстов. Лексика в целом нейтральная. Есть и поэтически окрашенная и разговорная лексика, архаизмы, историзмы, неологизмы, заимствования и сленг, а также вульгаризмы. Это делает язык эпатажных текстов очень ярким, эмоционально насыщенным и претенциозным, придает им «вызывающий» характер.
Будет нудеть (прост. неодобр.) нам ахейский товарищ, что затеяли (разг.) мы зря перестройку (полит. термин), реформы и рынок, и гласность. Благо (разг. ирон.) теперь не ссылают, нет кары (высок.) за это. Ведь «дерьмократы» (бран.) у нас, в доброте их и слабости умный философ уверен.
(«Демократический союз»)Нельзя сегодня жалеть народ, предавший идеалы своего Отечества (высок.), свергнувший Царя как высшую форму божественной (высок.) иерархии на Земле, и не только допустивший противника в свой дом, но и холуйски (презр.) прислуживающий врагу, уничтожающему его родное Отечество (высок.). Люди русские! Снимите с себя пелену (книжн.) сионистского дурмана, вперед к победе в деле национально-освободительной борьбы! Не за горами тот день, когда на наших скрижалях (стар.) засверкают огненные слова – Бог, Царь, Нация!
(«Память»)Характерной чертой эпатажных текстов является постоянное обращение к Богу, напоминание о Боге, что проявляется в тексте в виде эпитетов (божественная иерархия, Богоспасаемая Москва, жители Богоспасаемого града), а также частого употребления самого слова «Бог» отдельно или в словосочетаниях, пословицах, поговорках, обращениях (человека Божьего; Заповеди Божьи; Бог не в силе, а в правде, не в деньгах, а в совести; помазанник Божий, античные боги; Братья и сестры; обратиться к Богу, богоизбранность, живая божья коровка).
Также много церковной лексики и лексики, носящей оттенок божественности (ангел-хранитель, благо и счастье, защитник убогих и страждущих, жертвенная любовь, верующий, Евангельская истина, Царство Веры, гордыня, Богородица).
Есть упоминания о Библии, описание библейских сюжетов (Если царство разделится само по себе, не может устоять царство то…), сюжетов греческой мифологии (…взять Илион, пониманья достигнув, пав, как Ахилл иль Патрокл;…столько троянских коней напихал он, наш Александр Зиновьев, что в пору бега проводить, то есть скачки;…Где же Итака была в тот момент? Полагаю, в Париже).
О какой уж тут совести вспоминать! Да и разве ведомо хаму, что совесть – это СО (сопричастность) ВЕСТИ, а ЕВАНГЕЛИЕ переводится как БЛАГАЯ ВЕСТЬ, из чего следует простая истина: раз не имеешь отношения к Богу, значит, не имеешь отношения к Евангелию, то есть не имеешь совести.
(«Память»)Встречается также употребление слова «Бог» в переносном значении, с оттенком иронии (лубянские боги; на Олимпе-Лубянке).
В противовес этому нередко встречается слово «дьявол» и лексика, связанная с данным словом (мракобесы, сионистская вакханалия, их сам черт связал веревочкой, когда они «Письмо 13» писали, злого тролля с дубиной, сатанинская круговерть, дьявольские игрища). Как правило, данная лексика характеризует так называемых врагов, оппонентов или их действия, умыслы и т. п.
В эпатажных текстах можно найти практически все стилистические приемы: зевгму, метафору, метонимию, оксюморон. В них много иронии, сарказма. Очень большое количество эпитетов, сравнений, гипербол.
Также тексты характеризуются наличием клише, эпиграмм, пословиц и поговорок, цитат, аллюзий. Много слов с переносным значением:
Словом, свинью на ружье не меняют (посл.), но чувствуется какое-то свинство и обоим каналам так и хочется сказать: «Поцелуйтесь со своею свиньею!» (сарказм).
(«Демократический союз») Вам в казармы? Это налево. Послушайте! И не говорите, что Вас не было дома! Вы дома (метаф.), Вы в России, и этот дом рухнет Вам на голову, если на крыше будут сидеть коммунисты! Не ведите себя подобно ребенку (сравн.), тянущему в рот без разбора любую гадость. Не голосуйте за левых всех мастей (неодобр.). («Союз правых сил»)С точки зрения синтаксиса данные тексты характеризуются большим количеством абзацев, вставных конструкций, вводных слов и словосочетаний, противопоставлений, наличием большого количества знаков препинания: тире, двоеточие, восклицательный и вопросительный знаки. Нередко встречаются в них нарративные вопросы. Предложения, как правило, распространенные, сложносочиненные или сложноподчиненные с одним или часто с несколькими придаточными предложениями.
В эпатажных текстах нередко встречается лексика, связанная с едой: объедаться русскими кушаньями, здоровая русская кухня, холуйская пайка, с остатками пищи в углах небритого рта, звон бокалов, бесконечные фуршеты, за чечевичную похлебку, свиная похлебка из корыта, «студент, который только пьет пиво», гостинец, даровой стол (и хороший стол!), а также пословицы, поговорки, эпиграммы, в которых упоминается еда: «хрен редьки не слаще», «Отпусти меня к деточкам, Ванечка! Я за то подарю тебе пряничка» и т. п. Как правило, употребление такой лексики имеет негативный оттенок. Едят, «объедаются», – плохие, голодают – хорошие.
И насчет жены не верю. Какой у бедняжки бизнес? Я своими ушами слышала, что у Лужковых есть корова и они внукам Ельцина молоко продают. И пасека еще есть! Я вот меду мэра хотела купить. Может, он лавочку в мэрии откроет? Мне и творог нужен, и сметана. Разве ж это бизнес?
Однако семантическая категория «голод» представлена не ярко (голодные и чванливые, голодать, на хлеб зарабатывать и др.).
Часто в данных текстах можно обнаружить противопоставление добра и зла (как в сказках), истины (правды) и лжи.
Бог не в силе, а в правде, не в деньгах, а в совести.
Не голосуйте за левых всех мастей… Не отдавайте Ваше право налево! Голосуйте за Союз правых сил!
Робкое, приличное Добро в кисейном платьице с воланчиками испытывает, подобно девочке-отличнице, непобедимое влечение ко Злу – расхристанному чумазому мальчишке, тайком затягивающемуся отцовской сигаретой. Неравный и несчастливый брак.
В эпатажных текстах часто встречаются упоминание тех или иных животных, пословицы и поговорки, где упоминаются различные животные, а также сравнения с животными: «Собаке – собачья смерть»; со зверями в темном общественном лесу; культивировать зверинцы; бассейн с золотыми рыбками; живая божья коровка. Это также придает некоторую «сказочность» данным текстам.
В эпатажных текстах много отвлечений, примеров, которые иллюстрируют простые мысли:
Есть такая современная пародия на знаменитую сказку о Золушке. В этой сказке умная мачеха, которая хотела повредить своей падчерице, не стала держать ее в черном теле, не стала перед нею раскладывать мешок проса и мешок золы, которые она должна была отделить друг от друга. Она сделала все наоборот.
Она свою дочку, родную дочку, заставила работать, научила домашнему хозяйству, сделала ее спортивной, тренированной, подготовила, словом, к жизни, к жизненным трудностям. А падчерицу она уложила в постель, накрыла шелковым одеялом, кормила ее восемь раз в день, не давала пылинке на нее упасть. В конце концов, когда пришел принц, он обнаружил спортивную, в джинсах, в кедах родную дочку, молодую, стройную, красивую, которая все умела, у которой все в руках горело, и эту так называемую Золушку, раскормленную, как домашняя индюшка, которая уже рукой пошевелить не могла, которая лежала в постели, у которой глаза заплыли. Тщетно было бы спрашивать, на ком женился принц. По-моему, это и так ясно. Потому что ноги у Золушки распухли, и никакая хрустальная туфелька уже на нее не налезала. Спортом надо было заниматься.
То же самое происходит с Россией. Казалось, природа нас одарила щедро….
(Валерия Новодворская «Мой Карфаген обязан быть разрушен»)В целом эпатажные тексты интересно читать, даже не вдумываясь в смысл, так как внешняя эстетика, художественность отвлекают читателя, и тем самым эпатажные тексты вносят в процесс потребления массовой информации некоторый игровой момент.
Анализ листовки
Здесь мы приведем пример анализа политического текста с помощью программы ВААЛ и рекомендации по его изменению.
Выявлены следующие характеристики текста.
– Акцентуация: Текст паранойяльный (16 % лексики) и эпилептоидный (11 %) одновременно. Текст достаточно агрессивный (5.5 %).
– Установки: Текст направлен на негатив, в нем отсутствует лексика, несущая позитивное начало.
– Каналы восприятия: Преобладает лексика чувственного канала информации (обработка и трансляция). Воздействие также ведется на уровне рационального канала. Именно с рациональностью связана и агрессивность.
– Организация событий: Основное внимание уделяется причинам событий и в меньшей степени возможным следствиям. Причем причины видятся в настоящем, а в будущем предполагаются некоторые последствия сегодняшних действий.
– Пространство: склонность к ориентации назад и к движению от объекта.
– Эгоцентрические слова: низкая частота использования местоимений.
– Грамматика: Преобладают глаголы несовершенного вида настоящего времени.
– Частотный анализ: часто упоминается слово «женщина» (19 раз), высока частотность слов «дитя» (8), «ребенок» (6), и, кроме того, слов «насилие» (8), «изнасилование» (3), «аборт» (3), «жертва» (3). Немало слов типа «страна» (9), «государство» (5), «Россия» (4), «общество» (4).
Заключение:
1. Текст политизирован и направлен на решение социальных проблем; решение предлагается очень конкретно, энергично, но резко. Автор может быть охарактеризован как желающий добиться успеха путем быстрых и агрессивных действий.
2. Положение дел описывается и оценивается как явно и объективно неудовлетворительное.
3. Позитивного решения проблемы не предлагается, поскольку в решение проблем не вовлекаются возможные избиратели. Предполагается, что сам кандидат попытается решить их путем борьбы. Будущее не видится успешным. Текст, не обладая позитивным началом, не вселяет уверенность, не дает повода для положительных эмоций, скорее запугивает.
4. Текст ориентирован на тех, кто недоволен существующим положением дел и хочет получить быстрый результат.
5. Текст фактологический, публицистический и является агитационно-пропагандистским материалом, ориентированным как на адресную рассылку, так и на публикацию в печати. Общее содержание может быть сведено к мысли о том, что женщина подвергается насилию со стороны мужчин. Он явно ориентирован на женщин 25–45 лет, у которых не сложилась личная жизнь, подвергавшихся реальному насилию или опасающихся этого. Возможна также высокая оценка текста женщинами нетрадиционной ориентации.
Рекомендации:
1. Добавить в текст местоимение «мы» (как эквивалент мы – «женщины», мы – «избирательницы», мы – жители этой страны, мы – жители Москвы).
2. Добавить позитивной информации, чаще использовать слова типа «хорошо», «лучше», «правильно», «верно», «энергично», «оптимистично».
3. Чаще использовать лексику, отражающую зрительный канал обработки информации (выражения типа «точка зрения», «Я вижу эту проблему так…», «Если взглянуть на это с другой стороны, то…», «Посмотрим на то, как…»).
4. Чаще использовать лексику, отражающую слуховой канал обработки информации (выражения типа «То и дело можно услышать, что…», «Мы никогда не слышим о судебных процессах в отношении домашних тиранов…»).
5. Добавить в текст то, что могло бы привлечь (а не отпугнуть) мужчин.
6. Желательно добавить немного иронии и юмора.
Выступление кандидата в депутаты
Еще один пример применения программы покажет особенности речи политика. Затем будут даны рекомендации по усилению воздействия речи.
Конечно же, написание речей – задача профессионалов; политики (а чаще их сотрудники) только отмечают определенные тезисы и ракурсы. Конечный текст – творчество одного, иногда группы специалистов. Поэтому, анализируя такую речь, мы должны отдавать себе отчет в том, что в ней отражается труд (и сознание, и акцентуации) многих. Тем не менее, если иметь в виду образ политика, создаваемый этой речью, мы можем оперировать понятием «личность».
Согласно результатам применения программы ВААЛ, текст достаточно политизированный (18 % лексики) и агрессивный (5 % лексики). В нем много конкретной информации констатирующего и уточняющего плана. При оценке организации событий акцент делается на следствии (а не на причине или на нарушении). Это свидетельствует о большой целеустремленности, серьезности намерений, ответственности и одновременно требовательности к окружающим со стороны кандидата.
Значительно превышена норма употребления местоимения «я» (8 % всех слов), и велики показатели семантической категории «свой». Наблюдается также повышенный показатель местоимения «мы» (3,5 % всех слов), причем – судя по содержанию – речь идет прежде всего о деятельности фирмы, руководителем которой является кандидат. Это свидетельствует о большом эгоцентризме, желании подчеркнуть значимость своей личности или своей собственной деятельности.
Пространственная ориентация лишь в незначительной степени связана с движением «вперед», хотя и одновременно не «назад». При незначительной выраженности ментального канала в речи есть некоторая преобладающая тенденция в ориентации на слуховой канал восприятия информации.
Говоря о грамматических показателях совершенного и несовершенного вида, следует отметить, что категория «состояние» в два раза превышает количество слова категории «результат» (14 % и 7 % соответственно). При этом доля глаголов будущего времени слегка больше средней нормы для аналогичных современных политических текстов. При этом корреляционный анализ показывает связь категории «результат» исключительно с категорией «прошлое», а «будущее» связано с категорией «состояние» (то есть нерезультативно).
Все это указывает на то, что кандидат, ориентируясь в значительной степени на прошлый результат, будущее представляет достаточно статично. Об этом свидетельствует и содержание текста – кандидат полагается в значительной степени на то, что ему даст государство (частью которого он хочет стать). При этом, судя по содержанию, кандидат считает своим сильным качеством достижения, которые имели место в прошлом. Тем самым в речи кандидата проявляется несоответствие его результатов образу будущего результата: кандидат знает, он достиг, хочет достичь большего, но при этом не очень точно знает, как он этого добьется.
Коэффициент лексического разнообразия 0.48. Хотя такой небольшой текст не позволяет сделать однозначный вывод, речь оставляет впечатление лексического однообразия.
Анализ фонетического рисунка текста показал, что звучание является скорее хорошим, красивым, простым, очень величественным, возвышенным. При этом текст звучит как холодный, большой, грубый, сильный. По звучанию он также достаточно угрюмый и зловещий. В целом наблюдается совпадение семантики (содержания речи) с ее формой.
Логико-фактологический анализ содержания показывает, в частности, одно несоответствие (которое может быть истолковано как ложное, прикрывающее финансовые махинации). Говоря о налоговых проверках, кандидат сказал лишь о факте 33 проверок его организации, но не упомянул ни о каком результате этих проверок. Логика же свидетельствует о том, что если есть нарушения, то надо закрывать фирму. В сознании рядового жителя этого региона вызвать сочувствие к финансовой деятельности предпринимателя очень трудно.
Заключение:
1. Речь агрессивная, тяжелая.
2. В тексте слишком много говорится о кандидате и о его фирме.
3. Кандидат считает своей сильной стороной прошлые достижения, не совсем четко представляя, чем он будет заниматься в будущем, прежде всего как политик.
4. Текст не несет позитивного начала, он не вселяет уверенность, не дает повода к положительным эмоциям.
5. Он ориентируется на тех людей, которые недовольны существующим положением дел и хотят получить быстрый результат.
6. Текст ориентирован только на предпринимателей (что в настоящее время явно недостаточно).
Рекомендации:
1. Заменить местоимение «мы» (как эквивалент фирмы «Имярек и К°») на мы – россияне, мы – жители этой страны, мы – жители региона, мы – предприниматели.
2. Добавить позитивной информации, чаще использовать слова «хорошо», «лучше», «правильно», «верно», «энергично», «оптимистично».
3. Добавить в текст то, что привлекает женщин.
4. Сочетать потребительское отношение (фразы типа «нам должны дать», «мы ждем решения») с инициативностью («область может добиться», «люди сами поймут»). При этом применять активные синтаксические конструкции.
5. Сохранять уважительное отношение к оппонентам и другим кандидатам. Хорошо бы добавить немного иронии и юмора… Запустить что-нибудь остроумно-жизнерадостное как информационный повод газетам упомянуть имя кандидата.
6. Чаще использовать лексику, отражающую зрительный канал обработки информации (выражения «точка зрения», «Я вижу эту проблему так…», «Если взглянуть на это с другой стороны, то…», «Посмотрим на то, как…»).
7. В отношении культуры речи следует порекомендовать в начале ответа на вопрос реже использовать конструкцию «Вы знаете…», которая может указывать на неуверенность и оправдательную позицию. Возможные замены: «Дело в том, что…», «Вы совершенно правы», «Конечно…»
Таким образом, анализ текстов по эмоционально-смысловой доминанте позволил учесть эмоциональные потребности и перцептивные возможности целевых групп и скорректировать лексику и семантику ряда рекламных текстов, повысив их привлекательность для более широких аудиторий.
Объявления о знакомствах
Как известно, одиночество рождает немало проблем. Пытаясь защитить свою индивидуальность от унификации и стандартизации и одновременно найти «родственную душу», некоторые дают объявление о знакомстве в газету или Интернет. Такие объявления впервые появились в конце XIX века в Англии. Но сегодня объявления о знакомстве развились в достаточно стандартный жанр опосредованного общения. Рассмотрим тактики самопрезентации при поиске партнера противоположного пола.
Например, среди американских объявлений типа lonely heart advertisement, которые дают женщины в газеты, преобладают запросы о материальном благополучии и сообщения о внешней привлекательности. Мужские объявления соответствуют их запросу, самоописание дается через материальное благополучие и поиск привлекательности.
Тексты публикующихся в России (например, в газетах «Из рук в руки» и «Все для Вас») объявлений в настоящее время достаточно разнообразны. Они обладают следующей структурой.
Как правило, автор упоминает о своей социальной позиции, указывает на свои физические параметры, пишет о своих морально-этических характеристиках.
Авторы выдвигают определенные требования к личности партнера. Для большинства важны: социальная позиция; физические и морально-этические характеристики.
Анализ свыше 300 объявлений показал, что многие из них дают возможность определить тип личности автора по следующим параметрам:
– преобладающей модальности (зрительная модальность – яркая блондинка, жгучая брюнетка; слуховая – люблю музыку; кинестетическая – с мягким характером);
– по стилевым характеристикам: лаконичные (прагматически направленные); стандартные (безэмоциональные); эмоциональные тексты.
– Встречаются тексты эпатажные и даже агрессивные, сложные, демонстративные.
Коротко рассмотрим основные типы текстов.
Есть лаконичные тексты:
Симпатичный москвич, бывший военнослужащий, 68/171, создаст семью с одинокой симпатичной женщиной без жилищных проблем.
Читательское внимание, как правило, привлекают тексты, выделяющиеся из общего ряда. Объявления часто таких особенностей не имеют, они «нормальные», «стандартные».
Мне 47/172/87, свободная, приятная, верная, для дружеских встреч на моей территории познакомлюсь с мужчиной без в/пр. и проблем.
Встречаются тексты эмоциональные.
Найди меня, ты – единственная, кто нужен мне. Я – 20/178/73. Напиши, я так сильно этого жду. Не спонсор.
Наступили зимние холода, так хочется согреть душевным теплом, милую, интеллигентную, сч/ю, желательно высокую девушку, москвич 33/73/182 в/о, подробности по телефону.
Полной противоположностью им являются «сложные» тексты:
Предлагаю обмениваться всеобщими вопросами и ответами, для взаимной критики своих представлений, с целью познания понятий. 142100 г. Подольск…
Вот пример текста с отрицаниями:
Я не урод, не дурак, не бродяга. У меня пока нет в Москве жены, детей, квартиры и работы, но есть серьезные намерения. Если вам нужен в мужья нормальный русский мужичина, то напишите мне. 34/175/77, разведен, юрист, не курю.
Иван, 32/180/66, тихий, скромный, верный, с заметным чувством юмора, проблемами не интересуюсь, зла не держу, со скукой не знаком, живу в творческом одиночестве, по наитию. Ищу девушку не из общества, тем более не из высшего, в общем, не от мира сего!
Эпатажный («красивый») текст:
Милые дамы! Внимательно посмотрите направо. Это все Ваше и никуда от Вас не денется. Ну а теперь посмотри налево: высокий, крепкий, 24 г. Скорпион, без… и с… Давайте подойдем поближе и рассмотрим. Давайте?!
Наличие разных по психологической реализации текстов с одним и тем же коммуникативным замыслом делает возможным реконструкцию личности автора по тексту. В соответствии с типом автора может быть создан психологический портрет реципиента, на которого рассчитан определенный тип текста (по принципу «Рыбак рыбака видит издалека»).
На основании этого подхода были выработаны рекомендации для бюро знакомств, в частности, о том, что можно вычитать из объявлений и что вкладывать в них. Агентства могли оказывать помощь клиентам в написании объявления и подборе кандидатов.
Доминанта личности переводчика
С применением понятия «эмоционально-смысловая доминанта» были проанализированы различные версии перевода одного и того же английского произведения на русский язык.
Как отмечал В. М. Жирмунский, можно «привести двух-трех-четырех разных писателей, которые пишут об одном и том же предмете, об одной и той же исторической эпохе, о тех же самых общественных отношениях, и пишут по-разному, потому что улавливают разные аспекты той же действительности и по-разному осмысливают их» (Жирмунский, 1996, с. 185).
В российской художественной культуре бытуют разные переводы одного и того же текста. Например, это детский и взрослый варианты «Путешествий Гулливера» Дж. Свифта и «Приключений Робинзона Крузо» Д. Дефо.
Немало и пересказов (а не переводов) одного и того же текста: А. Н. Толстой «Золотой ключик, или Приключения Буратино» (К. Коллоди «Пиноккио»), К. Чуковский «Доктор Айболит» (Lofting G. «Doctor Doolitl»); Л. Лагин «Старик Хоттабыч» (Ф. Энстей «Медный кувшин»).
Перевод является составной частью большого класса явлений, которые В. В. Виноградов назвал «вариантными формами воплощения того же замысла» (Виноградов, 1963). К этому классу можно отнести литературные «переделки и подделки», произведения, созданные на основе одного сюжета, новые произведения, созданные на основе иноязычных оригиналов, но не являющиеся переводами, а также переводы одного текста на разные языки, выполненные в разные исторические периоды.
Только стилистическая, литературоведческая или лингвистическая интерпретация таких явлений, возможно, позволяет ответить на многие вопросы, связанные с их жанровой принадлежностью и функционированием в общем контексте определенной культуры, но не раскрывает полностью причины их существования. Важную роль здесь играет именно личность переводчика как «относительно устойчивая совокупность психических свойств».
Поэтому разные переводы одного и того же текста позволяют определить специфику когнитивной и эмоциональной сферы, а также его субъективное отношение к миру, а следовательно, и к тексту самого переводчика.
Под нашим руководством было проведено большое исследование В. Г. Красильниковой (1998), в котором было выявлено, что эмоционально-смысловая доминанта художественного текста при переводе может искажаться, соответственно изменяются и некоторые семантические параметры текста. Основой искажения эмоционально-смысловой доминанты текста при переводе, по ее мнению, служат различия в некоторых аспектах «картин мира» автора текста и переводчика.
Целесообразно рассматривать отношения перекодирования применительно к акту двуязычной коммуникации в виде следующей цепочки:
Хорошо известны такие варианты одного и того же сюжета, как авторская волшебная сказка «Удивительный волшебник страны Оз» Баума (L. F. Baum «The Wonderful Wizard of Oz») и два ее перевода, опубликованных на русском языке (С. Белов «Удивительный волшебник страны Оз»; О. Варшавер, Д. Псурцев, Т. Тульчинская «Великий чародей страны Оз»), а также произведение, созданное по ее мотивам (A. M. Волков «Волшебник Изумрудного города»).
Характерной чертой перевода С. Белова является особый акцент, который делается на образах движения. Фраза Giving a great spring he shot through the air переводится как Распрямившись, как гигантская пружина, он пролетел в воздухе (ср. с другими переводами: Он мощно оттолкнулся. Он сделал огромный прыжок).
При описании пространственного перемещения этот же переводчик часто подчеркивает его постепенность, используя для этого повтор: Река становилась все глубже и глубже, и шесты уже не всегда доставали до дна. Это перевод фразы The water grew so deep that the poles wouldn 't touch the bottom.
В этом переводном тексте много лексики с общим семантическим компонентом 'страх'. Характерно употребление наречий «страшно», «ужасно» в качестве обстоятельств образа действия: Оз страшно рассердился, Злой Волшебнице ужасно не хотелось расставаться с Золотой Шапкой, и т. д.
Сопоставление оригинала и текста, предложенного тремя переводчиками (О. Варшавер, Д. Псурцев, Т. Тульчинская), выявило следующее. В переводе нейтральная лексика оригинала заменяется разговорной. При этом тексту присуще некоторое снижение тона (частое использование разговорных форм), что делает текст «темным». I have always thought myself very big and terrible, yet… Вот те раз! Меня, большого и сильного…
Во втором фрагменте отсутствует эта установка на разговорность и упрощенность синтаксиса; он резко отличается и от третьего фрагмента по выбору лексики, которой оперирует переводчик.
Тон третьего фрагмента возвышенный, характерный скорее для религиозных текстов, что позволяет отнести его к «светлым». В частности, девочка стремится вывести волшебника-обманщика «на чистую воду» (в оригинале нейтрально: Doesg't anyone else know you are a humbug?); она говорит соломенному человеку «со всей искренностью» (simply), что глупым он ей нравится не меньше, чем умным, на что соломенный человек отвечает, что когда он получит мозги, она станет его «ценить больше» (you will think more of me); Оз благодарит девочку за то, что она его ценит (Thank you, – he answered). Иными словами, части перевода, которые предположительно выполнены разными переводчиками, можно выделить на основании определения их «вторичных» эмоционально-смысловых доминант.
Что же касается «Волшебника Изумрудного города» А. Волкова, то он отличается от оригинала гораздо сильнее, чем современные переводы. Его правильнее считать пересказом, переложением, адаптированным к условиям другой социокультурной среды, нежели та, на которую ориентировался автор оригинала. Тут есть и изменения в именах персонажей, и добавление и пропуски отдельных глав. Но главное, значительно изменена эмоционально-смысловая доминанта.
Если текст Баума о необычных приключениях девочки по имени Дороти и ее друзей – по преимуществу «веселый», то текст А. Волкова следует считать скорее «темным».
К примеру, здесь Страшила испытывает определенные трудности при говорении: «Пршт… Фршт… Стрш… прыбры… хрыбры… Я – Страшила, храбрый, ловкий…»; «Пш…Пш…Пшла! Ах, я несчастный! – чуть не захохотал…, простите, чуть не зарыдал я» (в оригинале отсутствует). Часто используется звукоподражание: Она прилетела на убивающем домике и – крак-крак – села волшебнице прямо на голову. Нет, кто тебя надоу… ффффф… – голос волшебницы прервался, она с шипением осела на пол… (эти фрагменты отсутствуют в оригинале).
Значительную роль в тексте играет размер предметов и рост персонажей. До того как налетел ураган, Элли читала книжку о «могучем богатыре Арнаульфе, увидевшем волшебника ростом с башню» — деталь, отсутствующая в оригинале. Некоторые предметы имеют свойство менять свой размер, не присущее им в оригинале: добрая волшебница вынимает из складок своей одежды крошечную книгу, которая тут же превращается в огромный том; затем книга вновь сжимается до размеров наперстка и исчезает в складках одежды волшебницы.
В тексте оригинала к разряду тварей можно отнести только мышей и пауков, которые, однако, являются персонажами – это полевые мыши, чью королеву спасает Дровосек от Кота, и паук, которого убивает Лев. В тексте «Волшебника…» этот разряд пополняется такими существами, как лягушка, пиявка, крыса, крокодил, змея, крот, муха, муравей, червяк.
A. M. Волков внес в сказку элемент предопределенности: ураган, который унес фургончик с Элли, был вызван Гингемой; волшебница Виллина лишила ураган разрушительной силы, позволив ему захватить только один домик, и обрушила его на Гингему; дождь, от которого заржавел Железный Дровосек, был тоже вызван Гингемой; Виллина предсказала Элли, что та вернется домой, если поможет трем существам добиться исполнения их заветных желаний:
Великий Гудвин вернет домой маленькую девочку, занесенную в его страну ураганом, если она поможет трем существам добиться исполнения их самых заветных желаний… Иди, ищи, борись! Я буду время от времени заглядывать в волшебную книгу, чтобы знать, как идут твои дела…
Таким образом, возвращение Элли домой становится наградой за послушание, и сказка приобретает воспитательную направленность, тогда как сказка Ф. Баума – развлечение для того, кто ее читает.
Тем самым перевод художественного текста во многом имеет характер интерпретации. Множественность интерпретаций одного текста может быть обусловлена: (а) непредставленностью в действительности референтной ситуации, соотносимой с текстом; (б) различным эмоциональным отношением переводчиков к описываемой в тексте ситуации. Семантические трансформации в тексте перевода нельзя объяснить только различиями в системах исходного языка и языка перевода, тогда как представление об эмоционально-смысловой доминанте может многое в них прояснить.
Заключение
Типология художественных текстов долгое время представлялась неразрешимой задачей, поскольку казалось, что нельзя преодолеть принципиальное различие между художественным и нехудожественным текстами, что художественный текст всегда уникален.
Использование метода психолингвистического анализа литературных текстов, основанного на выявлении эмоционально-смысловой доминанты, позволило осуществить принципиально новый подход и создать типологию художественных текстов. Были выделены «светлые», «темные», «печальные», «веселые», «красивые» и «сложные» тексты.
Эмоционально-смысловая доминанта как система когнитивных и эмотивных представлений автора – как личности – о мире, квинтэссенция авторского смысла определяют речевую системность текста на всех уровнях – лексическом, стилистическом, синтаксическом, структурном (морфологическом) и систему образных средств текста.
Проведенная работа показывает, что определить тип текста можно не только путем «герменевтического» проникновения в авторский замысел, но и с помощью формализованной процедуры соотнесения элементов текста с компонентами, связанными с соответствующими личностными смыслами. Тем самым постулируется возможность построения формально-семантической модели текста, отражающей авторский смысл.
В основе каждого типа текста лежит мироощущение, схожее с мироощущением человека с соответствующей акцентуацией. Тексты описывают мир акцентуированной личности. В «смешанных» текстах обнаруживается несколько эмоционально-смысловых доминант.
Предложенная типология текстов охватывает только ограниченный круг акцентуаций и вследствие этого не может включать в себя все множество типов художественных текстов, которое принципиально бесконечно и открыто. Допускается возможность существования других типов текстов, строение которых подчиняется другим закономерностям.
Тексты одного типа могут различаться по сюжету, тематике и др., в функциях же персонажей, в концептуальном и в стилевом отношении между ними имеются регулярные совпадения, обусловленные общностью эмоционально-когнитивной структурации мира. Лексические элементы одного типа текста, входящие в одну смысловую группу, могут относиться к разным в структурно-языковом плане группам, но они близки по психологическому смыслу, обусловленному эмоционально-смысловой доминантой текста.
Тип текста может быть рассмотрен как инвариант модели мира в речевом сознании, а конкретные тексты – как его варианты.
Построенная типология позволяет сделать следующий шаг – соотнести эмоционально-смысловую доминанту текста с психической организацией автора произведения. При этом, предполагая, что образная система художественного текста детерминирована акцентуацией автора, мы тем не менее склонны понимать сам факт создания (написания, редактирования, издания) художественного произведения как акт деятельности коммуникативного порядка. Выход личности за пределы акцентуации в область языка, речи, культуры может свидетельствовать о преодолении патологии, о стремлении вписаться в норму.
Следующее важное направление работы – установление закономерностей читательского восприятия. Читатель выбирает или отвергает литературный текст в зависимости от комплекса социокультурных, эстетических и ситуативно-психологических факторов, в зависимости от своей принадлежности к определенной семиотической группе и психическому типу.
При восприятии литературного текста читатель реагирует не только на сюжет произведения, его тему, язык, но и на эмоционально-смысловую доминанту текста.
В читательских предпочтениях можно выделить несколько закономерностей.
• Темы текстов должны удовлетворять читательским интересам, требованиям времени и моды.
• Читатель выбирает тексты знакомых ему авторов, отвергая тексты, написанные авторами, принадлежащими к негативно воспринимаемой им культуре (речь идет прежде всего об эстетической парадигме отвергаемой культуры).
• Читатель может опознавать эмоционально-смысловую доминанту текста и реагировать на нее выбором или отказом от чтения текста, а может и не опознавать ее, обращая преимущественное внимание на другие контексты.
• Описание смысла текста может быть продуктом речевого сознания интерпретатора и не отражать авторский смысл текста.
Степень воздействия текста также зависит от ряда факторов:
• от темы текста, от его информационности для читателя, от степени заинтересованности читателя;
• от удачности словесного воплощения основного содержания текста, от стиля, композиции;
• от степени выраженности в тексте основного мироощущения. Воздействие текста на читателя будет тем больше, чем убедительнее и выразительнее в тексте представлены состояния и идеи, присущие определенному типу сознания.
Художественный текст окажет воздействие на тем большее количество читателей, чем больше типов сознания (эмоционально-смысловых доминант) в тексте выражено.
Чтобы оценить адекватность восприятия текста, можно использовать формализованную процедуру поиска системообразующих факторов, определяющих читательское восприятие. Неадекватные интерпретации соотносятся, в частности, с эмоционально-смысловой доминантой реципиента.
«Проективный литературный тест», созданный на основе предложенной типологии, позволяет выдвигать достоверные предположения о реальных текстовых предпочтениях читателей и об их личностных особенностях.
Предложенный в книге подход к анализу текста открывает большие перспективы для его использования в смежных областях знания. В числе первых находится психолингвистика как наука о закономерностях порождения и восприятия речи в соответствии с законами языка. Свой вклад могут внести и теория языковой личности, структурный анализ текста и фреймовый подход; теория субъектного тезауруса и теория подобия интеллектов; библиотековедение и библиотерапия; психиатрическая лингвистика, герменевтика и теория познания, лингвистика измененных состояний сознания. Нет сомнения, что все они имеют отношение к рассмотренным в работе вопросам и могут быть привлечены для углубления и развития предложенного подхода.
Велики возможности и практического применения предлагаемой методики.
Она может быть использована как основа для тезаурусного описания литературных текстов в целях их библиографического описания и оптимизации информационных процессов. В частности, на основе выявления эмоционально-смысловой доминанты текста его содержание может быть представлено в сокращенном или алгоритмизированном виде в соответствии с его типологическими особенностями.
Учет эмоционально-смысловой основы содержания в рекламных текстах может точнее определять аудиторию, на которую они рассчитаны. Кроме того, построение рекламных текстов по разным алгоритмам может повысить степень их воздействия на потенциальных потребителей рекламируемой продукции.
Идентификация типологических черт личности может использоваться в судебной лингвистике, в судебной психолого-лингвистической экспертизе, а также при дистанционном анализе личности в практике идентификации личности (автора либо исполнителя) по речи.
Полученные результаты уже сейчас применяются в компьютерной психолингвистической программе анализа текста «ВААЛ».
Подводя итоги, хотелось бы наметить дальнейшие перспективы. За этим этапом исследования должно последовать выявление более точных и тонких методов определения акцентуации автора, а также и читателя, по тексту. Возможно обнаружение каких-то новых признаков того или иного типа текста (или ряда типов) на синтаксическом или иных уровнях. Отдельного исследования требует фонетический уровень, содержащий, на наш взгляд, значительный потенциал.
Тем не менее начало исследованиям положено.
Я буду признателен читателям за любые отзывы и комментарии, e-mail: psyhng@mail.ru
Валерий Белянин
Литература
Абульханова-Славская К. А. Стратегия жизни. М.: Педагогика, 1991.
Александровский Ю. А. Глазами психиатра. М.: Медицина, 1977.
Арнаудов М. Психология литературного творчества. Пер. с болг. М.: Прогресс, 1970.
Барт Р. Нулевая степень письма / Семиотика. М., 1983.
Батаршев А. В. Диагностика пограничных психических расстройств личности. М.: Ин-т психотерапии, 2004.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура Средневековья и Ренессанса. М.: Искусство, 1990.
Белянин В. П. К вопросу о функционально-речевой синонимии // Проблемы связности и цельности текста. М.: Ин-т языкознания РАН, 1982. С. 45–49.
Белянин В. П. Психолингвистические аспекты художественного текста. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1988.
Белянин В. П. К построению психостилистики художественных текстов // Ученые записки Тартуского унта. Вып. 879. Поэтика жанра и образа. Тарту, 1990. С. 30–37.
Белянин В. П. Психолингвистическая модель текста-биографии и методика работы с ним // Русский язык для студентов-иностранцев. Сб. метод. статей. № 26. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1990. С. 32–44.
Белянин В. П. Лингво-когнитивные структуры англоязычного романа и русская ментальность // Этническое и языковое самосознание. М.: Изд-во Моск. унта, 1995. С. 55–59.
Белянин В. П. Депрессивный компонент в русской литературе // Rusistica Espanola. Мадрид, 1997. С. 35–41.
Белянин В. П. Основы психолингвистической диагностики. Модели мира в литературе. М.: Тривола, 2000.
Белянин В. П. Расскажи мне о себе (Какие бывают объявления о знакомстве в газетах и Интернете // Московский психологический журнал. 2003. № 8. С. 12–16.
Белянин В. П. Психолингвистика. М.: Флинта, 2004.
Белянин В. П., Бутенко И. А. Антология черного юмора. М.: ПАИМС, 1996.
Белянин В. П., Лебедев Д. О. Моделирование комического текста и его перевод // Перевод как моделирование и моделирование перевода. Тверь, 1991. С. 64–69.
Белянин В. П., Сорокин Ю. А. Значение мены анхистонимов в оценке художественного текста // Общение. Текст. Высказывание. М.: Институт языкознания АН СССР, 1989. С. 50–59.
Белянин В. П., Ямпольский Л. Т. Экспериментальное выявление психологического тезауруса жанра текста // Общение: структура и процесс. М.: ИНИОН РАН, 1982. С. 44–54.
Бехтерев В. М. Объективная психология. М.: Наука, 1991.
Блейхер В. М. Эпонимические термины в психиатрии, психотерапии и медицинской психологии. Киев: Наукова думка, 1994.
Бондаренко О. Р., Савельева Е. А. Психотерапевтические возможности уроков литературы // Журнал практического психолога. 1998. № 1. С. 34–39.
Борее Ю. Б. Теория художественного восприятия и рецептивная эстетика // Художественная рецепция и герменевтика. М.: Просвещение, 1985.
Братусь Б. С. Аномалии личности. М.: Мысль, 1988.
Бурлакова Н. С., Олешкевич В. И. К проблеме понимания проективности детского рассказа в контексте изучения динамики и структуры самосознания ребенка // Журнал практического психолога. 1999. № 5–6. С. 14–19.
Бурно М. Е. О характерах людей. М.: Радуга, 1996.
Бурно М. Е. Терапия творческим самовыражением. М.: Медицина, 1989.
Бурно М. Е. Трудный характер и пьянство. Киев: Политиздат, 1990.
Бутенко И. А. Читатели и чтение на исходе XX века. М.: Наука, 1996.
Буянов М. И. Лики великих, или Знаменитые безумцы. М.: Флинта, 1994.
Буянов М. И. Тяжелые люди. М.: Флинта, 1993.
Вайль П., Генис А. Родная речь. М.: Независимая газета, 1991.
Вайну М. Б. Элементы субъективности в восприятии художественной литературы и их влияние на процесс руководства чтением. АКД. СПб.: Изд-во СПб. гос. ун-та, 1997.
Василюк Ф. Е. Психология переживания: (Анализ преодоления критических ситуаций). М.: Высшая школа, 1984.
Виноградов В. В. Сюжет и стиль. Сравнительно-историческое исследование. М., 1963.
Виноградов В. В. О языке художественной литературы. М.: Наука, 1991.
Винокур Г. О. О языке художественной литературы. М., 1991.
Войнич Э. Л. Овод. Послесловие. М.: Иностранная литература, 1945.
Выготский Л. С. Мышление и речь. М.: Наука, 1956.
Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Высшая школа, 1987.
Гадамер Х.-Г. Герменевтика и деконструкция / Под ред. Штегмайера В., Франка X., Маркова Б. В. СПб., 1999.
Гальперин И. Р. Текст как объект лингвистического исследования. М.: Наука, 1981.
Ганнушкин П. Б. Клиника психопатий. Их статика, динамика, систематика. (1933) // Избр. труды. М.: Медицина, 1964.
Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М.: Медицина, 1964.
Ганнушкин П. Б. Особенности эмоционально-волевой сферы при психопатиях // Психология эмоций. Тексты. М.: Наука, 1984. С. 252–254.
Геннекен Э. Опыт построения научной критики: (Эстопсихология). Пер. с фр. СПб., 1892.
Гиляровский В. А. Психиатрия. М.: Медицина, 1954.
Глухое В. П. Основы психолингвистики. М.: Астрель, 2005.
Гончаренко Н. В. Гений в искусстве и науке. М.: Искусство, 1991.
Громов Е. С. Природа художественного творчества. М.: Педкнига, 1986.
Гумбольдт В. О различии организмов человеческого языка и о влиянии этого различия на умственное развитие человеческого рода. СПб.: Изд-во Енукеева, 1859.
Гуревич М. О., Серейский М. Я. Учебник психиатрии. М.: Медицина, 1986.
Дорожевец Т. В. Использование «Сказочных помощников» для активизации внутренних ресурсов ребенка // Журнал практического психолога. 1998. № 5. С. 34–39.
Егисеев О. П. Конструктивная типология и психодиагностика личности // Практическая психология. Псков, 1994.
Жане П. Страх действия как существенный элемент меланхолии // Психология эмоций. Тексты. М.: Высшая школа, 1984. С. 139–158.
Жариков Н. М., Урсова Л. Г., Хритинин Д. Ф. Психиатрия. М.: Медицина, 1989. С. 474–484.
Жельвис В. И. Психолингвистическая интерпретация инвективного воздействия. АДД. М.: Ин-т языкознания РАН, 1992.
Жинкин Н. И. Речь как проводник информации. М.: Политиздат, 1982.
Жолковский А. К., Щеглов Ю. К. Работы по поэтике выразительности. М., 1996.
Зимняя И. А. Смысловое восприятие речевого сообщения. М.: Наука, 1976.
Зинкевич Т., Михайлова Е. Комплексная сказкотерапия как новая психолого-педагогическая технология // Журнал практического психолога. 1998. № 5. С. 34–41.
Знаков В. В. Понимание в познании и общении. 2-е изд., испр. и доп. М.: Изд-во Ин-та психологии РАН, 1999.
Знаков В. В. Психология понимания и нарративная психология // Уч. зап. кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: Смысл, 2002. С. 37–44.
Иванов Вяч. Вс. Чет и нечет: асимметрия мозга и знаковых систем. М.: Сов. радио, 1978.
Иванченко В. Н., Асмолов А. Г., Ениколопов С. Н. Установки личности и противоправное поведение // Вопросы психологии. 1992. № 2.
Ингарден Р. Исследования по эстетике. М.: Искусство, 1962.
История русской литературы XIX века: в 4-х т. / Под ред. Д. Н. Овсяннико-Куликовского. М., 1911.
Каракозов P. P. Условия формирования смыслообразующей функции художественной литературы. АКД. М.: ВИНИТИ, 1998.
Караулов Ю. Н. Русский язык и языковая личность. М.: Наука, 1987.
Карлов В. А. Стратегия и тактика терапии эпилепсии сегодня // Журнал неврологии и психиатрии им. С. С. Корсакова. 2004. № 8. С. 28–34.
Карлов В. А. Эпилепсия. М.: Медицина, 1990.
Карпов П. И. Творчество душевнобольных и его влияние на развитие науки, искусства и техники. М.; Л.: Соцэкгиз, 1926.
Клиническая психиатрия. М.: Медицина, 1967.
Клинический архив гениальности и одаренности (эвропатологии), посвященный вопросам патологии гениально-одаренной личности, а также вопросам патологии творчества / Под ред. д-ра Г. В. Сегалина. Свердловск. Т. 1–4. М.: Московский рабочий, 1925–1928.
Ковалев В. В. Семиотика и диагностика психических заболеваний у детей и подростков. М.: Медицинская литература, 1985.
Колобаева Л. Человек и его мир // Филологические науки. 1980. № 5. С. 80–84.
Красильникова В. Г. Речевые проявления личности переводчика в тексте перевода: Автореф. дис… канд. филол. наук. М.: Московский лингвистический ун-т, 1998.
Крупник Е. П. Психологические особенности восприятия образа / Психологический журнал. 1985. Т. 6. № 3. С. 148–154.
Кухаренко В. А. Интерпретация текста. 2-е изд. М.: Просвещение, 1988.
Левидов A. M. Автор – образ – читатель. Л.: Советский писатель, 1977.
Ленц Ф. Образный язык народных сказок / Пер. с нем. М.: Иностранная литература, 1995.
Леонгард К. Акцентуированные личности. Киев: Наукова думка, 1981.
Леонтьев АА Язык, речь, речевая деятельность. М.: МГУ, 1969.
Леонтьев АА. Основы психолингвистики. М.: Смысл, 2003.
Личко А. Е. Психопатии и акцентуации характера у подростков. М.: Медицина, 1983.
Личко А. Е. Определение понятий «психопатия» и акцентуация характера // Психология индивидуальных различий. М.: ЧеРо, 2000. С. 664–666.
Лобачева Е. В., Доценко Е. Л. Диагностика межличностных отношений с помощью проективной сказки // Журнал практического психолога. 1999. № 10–11. С. 16–21.
Ломброзо Ц. Гениальность и помешательство. СПб.: Изд-во Сытина, 1892.
Лотман Ю. М. Анализ поэтического текста. Л.: Изд-во ВИКСИ, 1992.
Лурия А. Р. Ощущения и восприятие. М.: Высшая школа, 1975.
Лурия А. Р. Язык и сознание. М.: Наука, 1979.
Мелехов Д. Е. Психиатрия и проблемы духовной жизни // Синапс. 1992. № 2. С. 64–79.
Мельников В. М., Ямпольский Л. Т. Введение в экспериментальную психологию личности. М.: Высшая школа. 1985.
Мюллер-Фрейнфельс Р. Психология искусства. М.: Политпросвет, 1923.
Налимов В. В. Вероятностная модель языка. М.: Кибернетика, 1974.
Неплох Я. М. Человек, познай себя! (Записки психиатра). СПб.: Интермед, 1991.
Нефедов Н. Т. История зарубежной критики и литературоведения. М.: Высшая школа, 1988.
Никифоров А. Л. Семантическая концепция понимания // Проблемы объяснения и понимания в научном познании. М.: Наука, 1982. С. 50–59.
Николаева Н. С. Японские сады. М.: Изобразительное искусство, 1995.
Новиков Л. А. Художественный текст и его анализ. М.: Наука, 1988.
Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Словарь русского языка. М.: Русский язык, 1993.
Олпорт Г. Личность: проблема науки или искусства? // Психология личности. Тексты. М.: Высшая школа, 1982.
Падни Д. Льюис Кэрролл и его мир. Пер. с англ. М.: Прогресс, 1982.
Парандовский Я. Алхимия слова. Пер. с польск. М.: Прогресс, 1990.
Пашковский В. Э., Пиотровская В. Р., Пиотровский Р. Г. Психиатрическая лингвистика. СПб.: Ариель, 1994.
Петренко В. Ф. Конструктивистская парадигма в психологической науке // Уч. записки кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: Смысл, 2002. С. 19–36.
Петренко В. Ф., Основы психосемантики. СПб.: Питер, 2005.
Петренко В. Ф., Митина О. В. Психосемантический анализ динамики общественного сознания. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1997.
Петухов В. В. Образ мира и психологическое изучение мышления // Вестник Моск. ун-та. Сер. 14, Психология. 1984. № 4. С. 13–20.
Портнов А. А., Федотов Д. Д. Психиатрия. М.: Медицина, 1971.
Практический справочник врача-психиатра. Киев: Мед-издат, 1991.
Пропп В. Я. Морфология сказки. Л.: Ленгиз, 1929.
Пулатов A. M., Никифоров А. С. Справочник по семиотике нервных болезней. Ташкент, 1983.
Репина Е. Психолингвистические аспекты организации политических текстов: Автореф. дис… канд. филол. наук. М.: Московский лингвистический ун-т, 2002.
Романова Е. С. Графические методы в практической психологии. СПб.: Речь, 2004.
Россохин А. А. Личность в измененных состояниях сознания // Уч. записки кафедры общей психологии МГУ им. М. В. Ломоносова. М.: Смысл, 2002. С. 279–307.
Рубакин Н. А. Психология читателя и книги. М.: Всесоюзн. книжная палата, 1977.
Руднев В. Модернистская и авангардная личность как культурно-психологический феномен // Русский авангард в кругу европейской культуры. Международная конференция. М.: Российская академия наук, 1993. С. 189–193.
Сараджишвили П. М., Геладзе Т. Ш. Эпилепсия. М.: Медицина, 1977.
Сафуанов Ф. С. Психодиагностическое исследование в судебно-психиатрической практике // Медицинская и судебная психология. М.: Генезис, 2004. С. 12–31.
Семенов В. Е. Исследование процессов восприятия произведений литературы и искусства // Психологический журнал. 1985. № 3. С. 142–149.
Семке В. Я. Умейте властвовать собой, или Беседы о здоровой и больной личности. – Новосибирск: Деловой мир, 1991.
Сент-Бев Ш. Литературные портреты. Пер. с фр. М.: Изд-во художественной литературы, 1970.
Симонов П. В. «Сверхзадача» художника в свете психологии и нейрофизиологии. // Психология процессов художественного творчества. М., 1980, с. 32–45.
Смулевич А. Б. Неманифестные этапы шизофрении – психопатология и терапия // Журнал неврологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. 2005. № 5. С. 16–31.
Соколов Д. Мистерия как психотерапевтическая практика // Журнал практического психолога. 2004. № 1. С. 35–41.
Соколова Е. Т. Проективные методы исследования личности. М.: Изд-во Моск. ун-та, 1980.
Сорокин Ю. А. Психолингвистические аспекты изучения текста. М., 1985.
Сорокин Ю. А. Смысловое восприятие текста и библио-психология // Теоретические и прикладные проблемы речевого общения. М.: Ин-т языкознания РАН, 1999. С. 25–39.
Справочник по психиатрии / Под ред. А. В. Снежневского. 2-е изд. М.: Медицина, 1995.
Степанов Г. В. Цельность художественного образа и лингвистическое единство текста // Лингвистика текста. Ч. П. М., 1974.
Теплое Б. М. Заметки психолога при чтении художественной литературы / Теплое Б. М. Избр. труды: в 2-х тт. М.: Просвещение, 1985.
Толстая-Есенина С. Комментарии // С. Есенин Собр. соч. в 6-ти тт. М.: Художественная литература, 1977. Т. 1. С. 199–223.
Толстой Л. Н. Что такое искусство? М.: Художественная литература, 1985.
Троцкий Л. Литература и революция. М.: Политиздат, 1991. (Печатается по изданию 1923 г.).
Узнадзе Д. Н. Общая психология. Тбилиси, 1940.
Урнов Д. М. Как возникла «страна чудес»: (о книге Льюиса Кэрролла «Приключения Алисы в Стране чудес»). М.: Книга, 1969.
Ухтомский А. А. Доминанта. М.; Л.: Наука, 1966.
Ухтомский А. А. Письма // Новый мир. 1973. № 1. С. 35–47.
Ушакова Т. Н. Психология речи и психолингвистика в Институте психологии РАН // Психологический журнал. 2001. № 5. С. 21–26.
Фанталова Е. Б. О методе русского катарсиса в психотерапии // Журнал практического психолога. 2001. № 5–6. С. 19–25.
Фрейд 3. Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии. М.: Соцэкгиз, 1923.
Фрейд 3. Леонардо да Винчи. Воспоминание детства. Ростов-на-Дону: Интема, 1990.
Фрейд 3. Сновидения. Сексуальная жизнь человека. Избранные лекции. Алма-Ата, 1990.
Хорее В. О. О современном польском детективном романе // Современный польский детектив. Варшава, 1988.
Цейтлин А. Т. Труд писателя: Вопросы психологии творчества, культуры и техники писательского труда М.: Художественная литература, 1968.
Шакуров Р. Х. Психология смыслов: теория преодоления // Вопросы психологии. 2003. № 5. С. 18–33.
Шевченко Н. Ф. Врачевание словом. Опыт использования метода символдрамы в лечении онкологических больных // Журнал практического психолога. 1999. № 1.С. 30–34.
Шибутани Т. Социальная психология. М.: Прогресс, 1969.
Шкловский В. Искусство как прием // Поэтика. Сб. по теории поэтического языка. Петроград: Красный рабочий, 1919. С. 64–381.
Щерба Л. В. Опыт лингвистического толкования стихотворений // Щерба Л. В. Избранные работы по русскому языку. М.: Русский язык, 1957.
Эйхенбаум Б. М. Как сделана «Шинель» // Поэтика. Сборники по теории поэтического языка. Петроград: Красный рабочий, 1919. С. 157–158.
Юнг К. Аналитическая психология. М.: Тривола, 1991.
Юнг К. Об отношении аналитической психологии к поэтико-художественному творчеству // Юнг К. Г. Архетип и символ. М.: Анаграмма, 1991.
Ямпольский Л. Т. Трехуровневый психодиагностический опросник (ПДО-3) // Актуальные проблемы психологии футбола. Душанбе, 1982. С. 45–77.
Яничев П. И. Психологическая интерпретация некоторых функций волшебной сказки // Журнал практического психолога. 1999. № 10–11. С. 54–59.
Ярошевский М. Г. Л. С. Выготский как исследователь проблем психологии искусства // Выготский Л. С. Психология искусства. М.: Искусство, 1987. С. 2—11.
Beauty and Brain. Biological Aspects of Aesthetics. Bazel; Boston; Berlin: Berkhauser Verlag, 1988.
Estivals R., Savova E. Nicolas Roubakine: Introduction a la psychologie biblioloque La Psychologie de la Creation des Livres, de leur Distribution et Circulation, de leur Utilisation par les Lecteurs, les Ecoles, les Bibliotheques, les Librairies, etc. Theorie et Pratique. T. I–II // L'Ecrit hier et demain. Vol. 1. № 4. 1998. Revue électronique (in Hungarian and French).
Hennequin E. La Critique scientifique. Paris: Presse Literaire, 1884.
Ishill J. Elisee and Elie Reclus: In Memoriam / Compiled, ed. and printed by Joseph Ishill. Berkeley Heights (N.J.): Oriole Press, 1927.
Legouis C. Positivism and Imagination: Scientism and Its Limits in Emile Hennequin, Wilhelm Scherer, and Dmitrii Pisarev. Lewisburg: Bucknell University Press, 1997.
Morier H. Psychologie des styles. Geneve, 1959.
Murray H. A. Explorations in Personality: a Clinical and Experimental Study of Fifty Men of College Age. New York: Laceton Press Ltd., 1938.
Pardeck J. T., Pardeck J. A. Bibliotherapy. Luzerne: Langhorne, 1993.
Phillips S. Beyond the myths. London: Routelegde, 1996.
Post F. Verbal creativity, depression and alcoholism // British Journal of Psychiatry. 1996. Vol. 168(5). P. 545–555.
Rancour-Laferriere D. Out from under Gogol's Overcoat: (A Psychoanalitic Study). London: Ajsey Publishing, 1982.
Rapoport D., Gill M. M., Schaffer R. Diagnostic Psychological Testing. Chicago: Chicago University Press, 1946.
Rotter J. B. Generalised expectancies for Internal Versus External Locus of Reinforcement // Psychological Monographs. Vol. 80-1. № 609, 1966.
Siegel E. Franz Kafka's The Trial: Guilty or innocent? // Psychoanalytic-Quarterly. 1996. Vol. 65(3). P. 561–590.
The John Hopkins Guide to the Literary Criticism / M. Gordon, M. Kreiswirth (Eds.). The John Hopkins University Press, 1997.
Tours J. M. de. La Psychologie morbide dans ses rapportes. Paris, 1859.
Примечания
1
Сходным образом оценивается психолингвистика и в работе В. П. Глухова «Основы психолингвистики». Глухов также отмечает, что ряд исследователей (А. А. Залевская, И. А. Зимняя, Дж. Миллер, Е. Ф. Тарасов и др. – В.Б.) «достаточно определенно и категорично рассматривают психолингвистику как самостоятельную и „самодостаточную“ науку» (Глухов, 2005, с. 19).
(обратно)2
Здесь и далее в тексте петитом выделяются анализируемые примеры, а курсивом — отдельные фразы или слова, взятые из литературных текстов. Кавычки при включении в текст одного слова или словосочетания в большинстве случаев опускаются.
(обратно)3
Моня Квасов из рассказа «Упорный»; Митька Ермаков из рассказа «Сильные идут дальше»; Николай Григорьевич Кузовников из рассказа «Выбираю деревню на жительство».
(обратно)4
Здесь исследователь начала XX века опередил работы, сделанные позднее в парадигме НЛП (нейролингвистического программирования), которые, к слову сказать, научными не являются, поскольку не опираются на собственно научные исследования. Они, однако, получили достаточное распространение в силу своей понятности (по словам А. А. Брудного, это – поп-психология).
(обратно)5
В дальнейшем при ссылках на это издание будет использоваться аббревиатура «КА». – Примеч. ред.
(обратно)6
Здесь и далее в цитатах курсивом выделены ключевые для данной акцентуации слова.
(обратно)7
Связь названия романа «Обмен» со словом «обман» неоднократно подчеркивал и автор.
(обратно)8
Арнольд Шенберг (1874–1951) – австрийский композитор, теоретик и педагог. Представитель музыкального экспрессионизма, глава Новой Венской школы. Основоположник додекафонии.
(обратно)9
Экспертное заключение по этому делу было написано в соавторстве с Д. А. Леонтьевым, С. А. Небольсиным и другими. Мы описываем ту его часть, которая преимущественно сделана нами.
(обратно)10
Автор последнего текста Серафим Семикрылов. Журнал ха-ха-тун: )
(обратно)11
Выделенные курсивом слова относятся к устаревшим или разговорным.
(обратно)

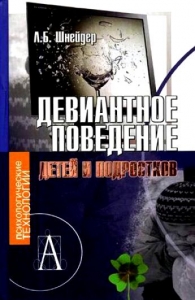



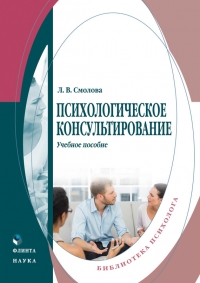




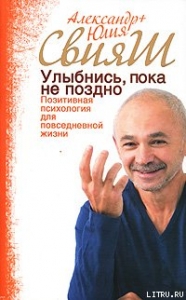
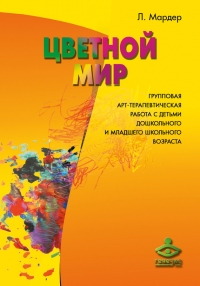

Комментарии к книге «Психологическое литературоведение», Валерий Павлович Белянин
Всего 0 комментариев