А. А. Ивин Искусство мыслить правильно
Несколько вступительных слов
Эта книга посвящена логике — науке о законах и операциях правильного мышления.
Логика — одна из самых старых наук. Ее богатая событиями история началась еще в Древней Греции и насчитывает две с половиной тысячи лет. В конце прошлого — начале нынешнего века в логике произошла научная революция, в корне изменившая сам стиль ее рассуждений и ее методы и придавшая этой науке как бы второе дыхание. Теперь логика — одна из наиболее динамичных наук, образец строгости и точности даже для математических теорий.
Говорить о логике и легко, и одновременно сложно. Это относится и к усвоению логики, особенно если человек сталкивается с этой наукой впервые. Легко потому, что ее законы лежат в основе нашего мышления. Интуитивно они известны каждому. Всякое движение мысли, постигающей истину и добро, опирается на эти законы и без них невозможно. В этом смысле логика общеизвестна.
Один из героев комедии Мольера только случайно обнаружил, что всю жизнь говорил прозой. Так и с усвоенной нами стихийно логикой. Можно постоянно применять ее законы — и притом весьма умело — и вместе с тем не иметь ясного представления ни об одном из них.
Стихийно сложившиеся навыки логически совершенного мышления и научная теория такого мышления совсем разные вещи. Логическая теория своеобразна. Она высказывает об обычном — о человеческом мышлении — то, что кажется на первый взгляд необычным и без необходимости усложненным. К тому же основное ее содержание формулируется на особом, созданном специально для своих целей искусственном языке. Отсюда сложность первого знакомства с логикой: на привычное и устоявшееся надо взглянуть новыми глазами и увидеть глубину за тем, что представлялось само собою разумеющимся.
Подобно тому как умение говорить существовало еще до грамматики, так и искусство правильно мыслить существовало задолго до логики. Подавляющее большинство людей и сейчас размышляют и рассуждают, не обращаясь за помощью к особой науке и не рассчитывая на эту помощь. Некоторые склонны даже считать собственное мышление естественным процессом, требующим анализа и контроля не больше, чем, скажем, дыхание или ходьба.
Разумеется, это заблуждение. Знакомство уже с первыми разделами книги покажет необоснованность такого чрезмерного оптимизма в отношении наших стихийно сложившихся навыков правильного мышления.
Люди постоянно стремятся расширить свои знания и обогатить свою память. Но, как сказал еще Гераклит, само по себе многознание — это все-таки не мудрость. Мудрость предполагает знание оснований и причин. И в особенности логических оснований принимаемых положений. Без способности обосновать имеющиеся убеждения нет подлинного и твердого знания.
«Все наше достоинство заключено в мысли, — писал французский математик и философ XVII века Б. Паскаль. — Не пространство и не время, которых мы не можем заполнить, возвышают нас, а именно она, наша мысль. Будем же учиться хорошо мыслить».
Эта книга не претендует, конечно, на то, чтобы дать полное описание многообразной и сложной проблематики современной логики. Это дело специальных и в общем-то не особенно понятных неспециалисту работ. Задача книги в ином: дать общее и доступное каждому представление о законах нашего мышления и о науке, изучающей их, показать логический анализ в действии, в применении к содержательно интересным проблемам, встречающимся в повседневной практике.
Здесь не излагаются некие «чистые» и «окончательные» итоги, достигнутые логикой. Даже самые важные результаты, изолированные от истории своего развития и споров вокруг них, являются, как выразился Гегель, «трупом, оставившим позади себя тенденцию».
Лет триста назад авторы книг по логике обычно считали своим долгом предостеречь читателя от торопливости при чтении: «В водах логики не следует плыть с полными парусами». С тех пор логика сделала гигантский шаг вперед. Ее содержание и расширилось, и углубилось. И старый этот совет кажется теперь особенно полезным.
Объекты и проблемы, рассматриваемые в логике, являются довольно своеобразными и абстрактными. У них нет эмоционального оттенка, они должны быть схвачены не чувством, а разумом. С ними не удается связать какие-то образы и представления о встречавшихся ранее ситуациях, обычно помогающие понять, хотя бы в первом приближении, что-то новое и необычное. Многие положения, гипотезы и выводы логики далеко не так легко воспринимаются, как, скажем, описания осеннего леса или картинки из жизни других цивилизаций. Чтобы уяснить тот или иной логический парадокс или закон, одно и то же место, оставшееся непонятным при первом чтении, нужно прочесть дважды, а то и трижды и лишь потом двигаться дальше. Только понимание каждого шага проводимого рассуждения может дать понимание рассуждения в целом, а с ним и интеллектуальное удовлетворение от познания.
Глава 1. Кто мыслит логично
Свои способности человек может узнать, только шлифуя их.
СенекаВсякий неразвитый человек — карикатура на себя самого.
Ф. ШлегельВсе жалуются на свою память, по никто не жалуется на свой разум.
ЛарошфукоЛогика — великий преследователь темного и запутанного мышления; она рассеивает туман, скрывающий от нас наше невежество и заставляющий нас думать, что мы понимаем предмет, в то время, когда мы его не понимаем.
Я убежден, что в современном воспитании ничто не приносит большей пользы для выработки точных мыслителей, остающихся верными смыслу слов и предложений и находящихся постоянно настороже против терминов неопределенных и двусмысленных, как логика.
Д. С. МилльЕсли не грешить против разума, нельзя вообще ни к чему прийти.
А. ЭйнштейнЯ жить хочу, чтоб мыслить и страдать…
А. С. Пушкин1. «Принудительная сила наших речей»
В рассказе Л. Толстого «Смерть Ивана Ильича» есть эпизод, имеющий прямое отношение к логике.
Иван Ильич видел, что он умирает, и был в постоянном отчаянии. В мучительных поисках какого-нибудь просвета он ухватился даже за старую свою мысль, что правила логики, верные всегда и для всех, к нему самому неприложимы. «Тот пример силлогизма, которому он учился в логике Кизеветтера: Кай — человек, люди смертны, потому Кай смертен, казался ему во всю его жизнь правильным только по отношению к Каю, но никак не к нему. То был Кай — человек, вообще человек, и это было совершенно справедливо; но он был не Кай и не вообще человек, а он всегда был совсем, совсем особенное от всех других существо… И Кай точно смертен, и ему правильно умирать, но мне, Ване, Ивану Ильичу, со всеми моими чувствами, мыслями, — мне это другое дело. И не может быть, чтобы мне следовало умирать. Это было бы слишком ужасно».
Ход мыслей Ивана Ильича продиктован, конечно, охватившим его отчаянием. Только оно способно заставить предположить, что верное всегда и для всех окажется вдруг неприложимым в конкретный момент к определенному человеку. В уме, не охваченном ужасом, такое предположение не может даже возникнуть. Как бы ни были нежелательны следствия наших рассуждений, они должны быть приняты, если приняты исходные посылки.
Рассуждение — это всегда принуждение. Размышляя, мы постоянно ощущаем давление и несвободу.
От нашей свободной воли зависит, на чем остановить свою мысль. В любое время мы можем прервать начатое размышление и перейти к другой теме.
Но если мы решили провести его до конца, мы сразу же попадем в сети необходимости, стоящей выше нашей воли и наших желаний. Согласившись с одними утверждениями, мы вынуждены принять и те, что из них вытекают, независимо от того, нравятся они нам или нет, способствуют нашим целям или, напротив, препятствуют им. Допустив одно, мы автоматически лишаем себя возможности утверждать другое, несовместимое с уже допущенным.
Если мы убеждены, что все металлы проводят электрический ток, мы должны признать также, что вещества, не проводящие ток, не относятся к металлам. Уверив себя, что каждая птица летает, мы вынуждены не считать птицами курицу и страуса. Из того, что все люди смертны и Иван Ильич является человеком, мы обязаны заключить, что и он смертен.
В чем источник этого постоянного принуждения? Какова его природа? Что именно следует считать несовместимым с принятыми уже утверждениями и что должно приниматься вместе с ними? Какие вообще принципы лежат в основе деятельности нашего мышления?
Над этими вопросами человек задумался очень давно. Из размышления над ними выросла особая наука о мышлении — логика.
Древнегреческий философ Платон настаивал на божественном происхождении человеческого разума. «Бог создал зрение, — писал он, — и вручил его нам, чтобы мы видели на небе движение Разума мира и использовали его для руководства движениями нашего собственного разума». Человеческий разум — это только воспроизведение той разумности, которая господствует в мире и которую мы улавливаем благодаря милости бога.
Первый развернутый и обоснованный ответ на вопрос о природе и принципах человеческого мышления дал ученик Платона — Аристотель. «Принудительную силу наших речей» он объяснил существованием особых законов — логических законов мышления. Именно они заставляют принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать несовместимое с принятым. «К числу необходимого, — писал Аристотель, — принадлежит доказательство, так как если что-то безусловно доказано, то иначе уже не может быть; и причина этому — исходные посылки…»
Подчеркивая безоговорочность логических законов и необходимость всегда следовать им, он заметил: «Мышление — это страдание», ибо «коль вещь необходима, в тягость она нам». С первой частью мысли Аристотеля кто-то, возможно, и согласится, а вот по поводу того, что необходимость в тягость нам, сейчас мы думаем иначе. Необходимое, если оно известно, помогает нам, оно заставляет учиться использовать его в своих интересах. Что в самом деле может нас тяготить, так это случайное, которое может повернуться любой своей стороной.
С работ Аристотеля началось систематическое изучение логики и ее законов.
Оно не прекращалось никогда, но в нашем веке были достигнуты особенно впечатляющие результаты.
Знакомство с основными принципами логики — дело интересное и важное уже потому, что каждый из нас руководствуется ими в практике своего мышления.
Логика является анализом и критикой мышления. Ее задача — исследование процессов и процедур реального мышления с точки зрения постижения им истины, добра и красоты. Логика начинает с изучения фактически применяемых способов рассуждения, но не останавливается на этом. Она стремится отделить приемы, способствующие эффективному познанию действительности, от тех, которые с большей или меньшей вероятностью приводят к ошибкам и тупикам. Логика должна также систематизировать, развить и обосновать правильные и эффективные способы рассуждения. Для этого необходимо привести их в единую систему, выявить их взаимоотношения, показать связь теории рассуждения с теорией и практикой познания.
Мышление — очень сложный и многосторонний объект для исследования. Не случайно его образно называют «вселенной внутри нас». Изучением различных сторон мышления занимаются многие науки: психология, философия, физиология высшей нервной деятельности, нейрофизиология, кибернетика и др.
Особенность подхода логики к исследованию мышления в том, что оно интересует ее с точки зрения своего содержания и той формы, в которой выступает это содержание. Физические, химические и т. п. процессы, происходящие в коре головного мозга в процессе мышления, остаются при этом совершенно в стороне. Кроме того, логика интересуется не просто содержанием и формой мышления, взятыми сами по себе, а в том их аспекте, который непосредственно связан с познанием мира. В этом смысле логика представляет собой анализ и критику мышления.
Возникновение формальной логики
Слово «логика» употребляется нами довольно часто, но в разных значениях. Нередко говорят о логике событий, логике характера и т. д. В этих случаях имеется в виду определенная последовательность и взаимозависимость событий или поступков. «Быть может, он безумец, — говорит один из героев рассказа английского писателя Г. К. Честертона, — но в его безумии есть логика. Почти всегда в безумии есть логика. Именно это и сводит человека с ума». Здесь «логика» как раз означает наличие в мыслях определенной общей линии, от которой человек не в силах отойти.
Слово «логика» употребляется также в связи с процессами мышления. Так, мы говорим о логичном и нелогичном мышлении, имея в виду его определенность, последовательность, доказательность и т. п.
Кроме того, логика — особая наука о мышлении. Она возникла еще в IV в. до н. э.
Интересно отметить, что примерно в этот же период логическая теория мышления начала складываться в Древней Индии и в Древнем Китае. Однако развивалась она там медленно и неуверенно и за многие прошедшие века мало чего добилась. Проблема в своеобразии культуры данных регионов, и прежде всего в отсутствии острой необходимости в строго рациональном мышлении. Для развития логики имеется хорошая почва в тех обществах, которые строятся на принципах демократии и в которых убеждение опирается не на принуждение или прямое насилие, а главным образом на доказательную речь.
Таким образом, история логического исследования мышления охватывает около двух с половиной тысячелетий. Из других наук раньше логики начали складываться, пожалуй, только математика и философия.
2. Интуитивная логика
Заметить несостоятельность многих доказательств можно и без специальных знаний. Вполне достаточно естественной логики, тех интуитивных представлений о правильности рассуждения, которые складываются у нас в процессе повседневной практики мышления.
Однако далеко не всегда эта интуитивная логика успешно справляется со встающими перед нею задачами.
Правильно ли рассуждает человек, когда говорит: «Если бы шел дождь, земля была бы мокрой, но дождя нет, следовательно, земля не мокрая». Это рассуждение интуитивно обычно оценивается как правильное, но достаточно небольшого размышления, чтобы убедиться, что это не так. Верно, что в дождь земля всегда мокрая; но если даже дождя нет, из этого вовсе не следует, что она сухая: земля может быть мокрой после вчерашнего дождя, после таяния снега и т. п.
Рассуждение идет по неправильной схеме: «Если есть первое, то есть второе; второе есть; значит, есть и первое». Эта схема может привести к ошибочному заключению, что нетрудно проиллюстрировать на простом примере: «Если у человека повышенная температура, он болен; у него нет повышенной температуры; значит он не болен» — оба исходных утверждения верны, но вывод неверен: большинство болезней протекает без повышенной температуры.
Эту неправильную схему нередко путают с такой часто употребляемой схемой: «Если есть первое, то есть второе; первое есть; значит, есть и второе». Она исследовалась еще античным логиком Филоном, приводившим такой пример: «Если день, то светло; сейчас день; значит, сейчас светло». В Средние века эта схема получила собственное имя — modus ponens («модус поненс», слово «модус» означает «разновидность»). От путаницы этого модуса с неправильной схемой предостерегает старое правило: «от основания к следствию заключать можно, от следствия к основанию заключать нельзя».
Характерная ошибка
В комедии Ж. — Б. Мольера «Лекарь поневоле» есть такой диалог:
«Сганарель. Мы, великие медики, с первого взгляда определяем заболевание. Невежда, конечно, стал бы в тупик и нагородил бы вам всякого вздору, но я немедленно проник в суть вещей и заявляю вам: ваша дочь нема.
Жеронт. Так-то оно так, но я хотел бы услышать, отчего это случилось?
Сганарель. Сделайте одолжение. Оттого, что она утратила дар речи.
Жеронт. Хорошо, но скажите мне, пожалуйста, причину, по которой она его утратила.
Сганарель. Величайшие ученые скажут вам то же самое: оттого, что у нее язык не ворочается.
Жеронт. А в чем вы усматриваете причину того, что он не ворочается?
Сганарель. Аристотель сказал по этому поводу… много хорошего.
Жеронт. Охотно верю.
Сганарель. О, это был великий муж!
Жеронт. Не сомневаюсь.
Сганарель. Подлинно великий! Вот настолько (показывает рукой) больше меня. Но продолжим наше рассуждение…»
Смешно, конечно, наблюдать, как мнимый специалист пытается убедить окружающих в своем высоком профессионализме. Ясно, что здесь налицо «убедительность наизнанку». Но какие именно ошибки допускаются «лекарем поневоле»? Каждый ли из нас способен не только посмеяться над его неуклюжими рассуждениями, но и указать те конкретные нарушения правил аргументации, которые содержатся в них?
Даже неспециалисту бросаются в глаза три грубые ошибки.
Первая — двукратное использование тавтологии, т. е. повторения с небольшой модификацией одного и того же, вместо указания действительной причины («ваша дочь нема… оттого, что она утратила дар речи, …оттого, что у нее язык не ворочается»). Этот прием довольно часто используется для придания иллюзии убедительности пустым, бессодержательным речам.
Вторая ошибка — подмена предмета обсуждения: сначала разговор идет о болезни, а затем он вдруг переключается на Аристотеля. Такой уход от темы беседы или спора — обычная хитрость тех, кто избегает высказываться по существу дела.
И наконец, третья ошибка — употребление слова «великий» в двух совершенно разных смыслах, выдаваемых за один и тот же: «великий муж» — это вначале «выдающийся муж», а затем — «высокий человек».
Для обнаружения таких, лежащих на поверхности, ошибок в общем-то не нужны специальные знания. Вполне достаточны те интуитивные представления о правильности рассуждений, которые складываются у нас в процессе повседневной практики мышления.
Но все-таки интуитивная логика — вещь довольно туманная и расплывчатая. Простые примеры подтвердят это.
Правильно ли рассуждает человек, когда говорит: «Кто-то изобрел телегу; я видел чей-то портрет; значит, я видел портрет изобретателя телеги». Очевидно, неправильно. Но в чем именно состоит ошибка?
Еще похожий пример: «Мышь грызет книжку; — мышь имя существительное; следовательно, имя существительное грызет книжку». Заключение очевидно нелепое. Но в чем ошибка в самом ходе мысли, ведущем к такому заключению?
Стихийной логики для ответа на подобные вопросы явно не хватает. А ведь вопросы в принципе просты, и рассуждение идет о самых обычных вещах.
«Все наше достоинство заключено в мысли, — писал французский математик и философ XVII в. Б. Паскаль. — Не пространство и не время, которых мы не можем заполнить, возвышают нас, а именно она, наша мысль. Будем же учиться хорошо мыслить…»
Этот призыв можно только поддержать, особенно если он адресован молодому человеку, мышление которого находится в процессе активного формирования.
Обычно мы применяем логические законы, не задумываясь о них, нередко не подозревая о самом их существовании. Но бывает, что использование даже простой схемы сталкивается с известными трудностями.
Эксперименты, проводившиеся психологами с целью сопоставления мышления людей разных культур, наглядно показывают, что чаще всего причина трудностей в том, что схема рассуждения, его форма не выделяется в чистом виде. Для решения вопроса о правильности рассуждения вместо этого привлекаются какие-то не относящиеся к делу содержательные соображения. Обычно они связаны с конкретной ситуацией, описываемой в рассуждении.
Вот как описывают ход одного из экспериментов, проводившихся в Африке, М. Коул и С. Скрибнер в книге «Культура и мышление»:
Экспериментатор. Однажды паук пошел на праздничный обед. Но ему сказали, что прежде чем приступить к еде, он должен ответить на один вопрос. Вопрос такой: «Паук и черный олень всегда вместе едят. Паук ест. Ест ли олень?»
Испытуемый. Они были в лесу?
Экспериментатор. Да.
Испытуемый. Они вместе ели?
Экспериментатор. Паук и олень всегда вместе едят. Паук ест. Ест ли олень?
Испытуемый. Но меня там не было. Как я могу ответить на такой вопрос?
Экспериментатор. Не можете ответить? Даже если вас там не было, вы можете ответить на этот вопрос (Повторяет вопрос).
Испытуемый. Да, да, черный олень ест.
Экспериментатор. Почему вы говорите, что черный олень ест?
Испытуемый. Потому что черный олень всегда весь день ходит по лесу и ест зеленые листья. Потом он немного отдыхает и снова встает, чтобы поесть.
Здесь очевидная ошибка. У испытуемого нет общего представления о логической правильности вывода. Чтобы дать ответ, он стремится опереться на какие-то факты, а когда экспериментатор отказывается помочь ему в поисках таких фактов, он сам придумывает их.
Еще пример из этого же исследования.
Экспериментатор. Если Флюмо или Йакпало пьют сок тростника, староста деревни сердится. Флюмо не пьет сока тростника. Йакпало пьет сок тростника. Сердится ли староста деревни?
Испытуемый. Люди не сердятся на других людей.
Экспериментатор повторяет задачу.
Испытуемый. Староста деревни в тот день не сердился.
Экспериментатор. Староста деревни не сердился? Почему?
Испытуемый. Потому что он не любит Флюмо.
Экспериментатор. Он не любит Флюмо? Скажи почему?
Испытуемый. Потому что когда Флюмо пьет сок тростника, это плохо. Поэтому староста деревни сердится, когда Флюмо так делает. А когда Йакпало иногда пьет сок тростника, он ничего плохого не делает людям. Он идет и ложится спать. Поэтому люди на него не сердятся. Но тех, кто напьется сока тростника и начинает драться, — староста не может терпеть их в деревне.
Испытуемый имеет в виду скорее всего каких-то конкретных людей или просто выдумал их. Первую посылку задачи он отбросил и заменил ее другим утверждением: люди не сердятся на других людей. Затем он ввел в задачу новые данные, касающиеся поведения Флюмо и Йакпало. Ответ испытуемого на экспериментальную задачу был неправилен. Но он был результатом вполне логичных рассуждений на основе новых посылок.
Для анализа задачи, поставленной в первом эксперименте, переформулируем ее так, чтобы были выявлены логические связи утверждений: «Если ест паук, то ест также олень; если ест олень, то ест и паук; паук ест; следовательно, олень тоже ест». Здесь три посылки. Вытекает ли из двух из них: «Если ест паук, олень также ест» и «Паук ест» заключение «Олень ест»? Конечно. Рассуждение идет по упоминавшейся уже схеме: «если есть первое, то есть второе; есть первое, значит, есть второе». Она представляет собой логический закон. Правильность этого рассуждения не зависит, разумеется, от того, происходит ли все в лесу, присутствовал ли при этом испытуемый и т. п.
Несколько сложнее схема, по которой идет рассуждение во второй задаче: «Если Флюмо или Йакпало пьют сок тростника, староста деревни сердится. Флюмо не пьет сок тростника. Йакпало пьет сок тростника. Сердится ли староста деревни?» Отвлекаясь от конкретного содержания, выявляем схему рассуждения: «если есть первое или второе, то есть третье; первого нет, но есть второе; следовательно, есть третье». Эта схема является логическим законом, значит, рассуждение правильно. Схема близка указанной ранее схеме: «если есть первое, то есть второе; есть первое; следовательно, есть второе». Различие только в том, что в качестве «первого» в более сложном рассуждении указываются две альтернативы, одна из которых тут же исключается.
3. Традиционная и современная логика
В длинной и богатой событиями истории логики отчетливо выделяются два основных этапа. Первый — от древнегреческой логики до возникновения в конце ХIХ — начале ХХ веков совершенно новой логики; второй — с этого времени до наших дней. Первый этап именуется традиционной логикой, второй этап — современной логикой. Традиционная логика является таким образом предысторией современной. Все собственно логическое содержание традиционной логики вошло в состав современной логики и составило ее незначительную и не особенно важную часть.
На первом этапе логика развивалась очень медленно. Обсуждавшиеся в ней проблемы мало чем отличались от проблем, поставленных еще Аристотелем. Это дало когда-то повод Канту утверждать, что логика, подобно геометрии Евклида, является завершенной наукой, не продвинувшейся со времени Аристотеля ни на один шаг и не имеющей собственной истории.
Ошибочность такого представления была ясно показана в последние сто с чем-то лет. Научная революция, произошедшая в логике, в корне изменила ее лицо. На смену традиционной логике пришла современная.
Традиционная логика была философской наукой. Она развивалась в рамках философии, пользовалась, как и философия в целом, только естественным языком, дополненным немногими специальными символами и понятиями, законам логики давалось философское истолкование и обоснование. Современная логика как самостоятельная область знания возникла на стыке столь разных наук как философия и математика Это произошло прежде всего благодаря внедрению в логические, до того философские исследования математических методов.
Современную логику нередко называют математической логикой, подчеркивая тем самым своеобразие новых ее методов в сравнении с использовавшимися ранее. Новые методы предполагают, прежде всего, использование для анализа правильного мышления искусственных (формализованных) языков, позволяющих избежать двусмысленностей и логической неясности естественного языка.
Широкое использование символических средств послужило основанием для того, что новую логику стали называть также символической.
Имена «математическая логика» и «символическая логика», обычно употребляемые и сейчас, обозначают одно и то же — современную логику. Она занимается тем же, чем всегда занималась логика, — исследованием правильных способов рассуждения. Однако методы, применяемые ею, принципиально отличаются от методов, характерных для старой логики.
В России всегда были люди, стоявшие на уровне достижений логики своего времени и внесшие в ее развитие важный вклад.
Математик и логик П. С. Порецкий оказал заметное влияние на развитие алгебраических теорий логики. Он первым в России начал читать лекции по математической логике, о которой говорил, что это «по предмету своему есть логика, а по методу — математика».
Физик П. Эренфест еще в 1910 г. высказал гипотезу о возможности применения современной логики в науке и технике. В дальнейшем его гипотеза нашла прекрасное воплощение в электронно-вычислительной технике.
Логик Н. А. Васильев уже в начале прошлого века подверг критике считавшийся в традиционной логике одним из основных закон исключенного третьего. В дальнейшем идеи, касающиеся ограниченной применимости данного закона и близких ему способов математического доказательства, были развиты математиками А. Н. Колмогоровым, В. А. Гливенко, А. А. Марковым и др.
Основная, хотя и не единственная, задача логического исследования — обнаружение и систематизация определенных схем правильного рассуждения. Эти схемы представляют логические законы, лежащие в основе логически правильного мышления. Рассуждать логично — значит рассуждать в соответствии с законами логики.
Отсюда понятна важность данных законов. Об их природе, источнике их обязательности высказывались разные точки зрения. Очевидно, что логические законы независимы от воли и сознания человека. Их принудительная сила для человеческого мышления объясняется тем, что они являются в конечном счете отображением в голове человека наиболее общих отношений самого реального мира, практики его познания и преобразования человеком.
4. Логика и творчество
Французский дипломат Ш. Талейран заметил однажды, что реалист не может долго оставаться реалистом, если он не идеалист, и идеалист не может долго оставаться идеалистом, если он не реалист. Применительно к нашей теме эту мысль можно истолковать как указание на две основные опасности, всегда подстерегающие логическое исследование. С одной стороны, логика отталкивается от реального мышления, но она дает абстрактную его модель. С другой стороны, прибегая к абстракциям высокого уровня, логика не должна отрываться от конкретных данных в опыте процессов рассуждения.
Как и математика, логика не является эмпирической, опытной наукой. Но стимулы к развитию она черпает из практики реального мышления. Изменение последней так или иначе ведет к изменению самой логики.
Развитие логики всегда было связано с теоретическим мышлением своего времени и, прежде всего, с развитием науки. Конкретные рассуждения дают логике материал, из которого она извлекает то, что именуется логическим законом, формой мысли и т. д. Теории логической правильности оказываются в итоге очищением, систематизацией и обобщением практики мышления.
Препятствует ли логика творчеству?
Иногда можно услышать мнение, будто логика препятствует творчеству. Последнее опирается на интуицию, требует внутренней свободы, раскрепощенного, раскованного полета мысли. Логика же связывает мышление своими жесткими схемами, анатомирует его, предписывая контролировать каждый его шаг.
Нет веры к вымыслам чудесным,
Рассудок все опустошил
И, покорив законам тесным
И воздух, и моря, и сушу,
Как пленников их обнажил…
Ф. И. Тютчев
Не делает ли логика человека скучным, однотонным, лишенным всякой светотени? Разумеется, нет.
Творчество без всяких ограничений — это не более чем фантастика. Законы логики стесняют человеческое мышление не больше, чем любые другие научные законы. Подлинная свобода не в пренебрежении необходимостью и выражающими ее законами, а в следовании им. Аристотель, как помним, думал иначе, но он, конечно же, ошибался.
Логичность сама по себе не исключает ни интуицию, ни фантазию. Дилемма «либо логика, либо интуиция» несостоятельна. Даже детская игра подчиняется определенным ограничениям.
Нельзя не считаться с ограничительными принципами логики и наивно полагать, будто можно обходиться без них. Надо максимально овладеть этими принципами, сделать их применение естественным и свободным, не затрудняющим движения мысли. Только в этом случае станет возможным подлинное творчество, предполагающее не только способность выдвинуть интересную идею, но и умение убедительно обосновать ее.
Отличительная черта человека — его разумность, или, как говорит философия, рациональность. Совокупность принципов мышления, охватываемых понятием рациональности, не является вполне ясной и не имеет отчетливой границы. Но очевидно, что рациональность предполагает, прежде всего, соответствие требованиям логики. Хотя эти требования также не являются однозначно определенными, они составляют ядро рациональности. Логика — необходимый инструмент анализа законов и операций правильного мышления и, соответственно, незаменимое средство получения нового знания.
Человеческое познание начинается с чувственного восприятия. Пять органов чувств человека — это окна, через которые он воспринимает внешний мир. Чувственный опыт — источник и конечная опора знания. Однако этот опыт в отрыве от абстрактного, логического мышления способен давать лишь рудиментарное знание. Даже обычное эмпирическое познание идет дальше простого наблюдения, поскольку требует введения ненаблюдаемых сущностей, подобных радиоволнам или внутреннему строению атома.
5. Знание в широком смысле слова и знание в узком смысле
Знание является связующей нитью между человеческим духом, природой и практической деятельностью. В самом общем смысле знать — значит иметь ясное, обоснованное представление о том, что есть или должно быть.
Логика применима ко всем видам нашего знания: к описаниям, оценкам, нормам, декларациям, клятвам, обещаниям и т. д. Оперируя, скажем, оценками или нормами, не являющимися истинными или ложными, человек должен быть так же логичен, как и при обращении с описаниями, которые составляют «царство истины».
Долгое время считалось, что знать можно только истину. Когда стало очевидным, что человек — активное существо, не способное жить вне практической деятельности по преобразованию мира, к знанию были отнесены также ценности, говорящие не о том, что есть, а о том, что должно быть. Знать можно, таким образом, не только истину, но и добро и красоту, не сводимые к истине.
К примеру, мы знаем, что человек должен быть честным. Но это не истина, а именно утверждение о долженствовании. Люди не всегда честны, но это не мешает нам утверждать, что от человека требуется честность. И чем больше нечестных людей в обществе, тем с большей настойчивостью мы настаиваем на требовании честности. Наши представления о том, что следует заботиться о близких, что нельзя задаваться и представлять себя центром вселенной и т. п. — все это знание, хотя касается оно не того, что есть, а того, что должно быть.
Человек не только познает мир, но и действует на основе полученного знания. Это означает, что знание включает не одни лишь представления о том, что имеет место, но и планы на будущее, оценки, нормы, обещания, предостережения, идеалы, образцы и т. п. У человека есть достаточно ясные, обоснованные представления о добре и его противоположности — зле. Но добро — не разновидность истины, как считалось когда-то. Утверждения о хорошем и плохом, достойном и недостойном не являются истинными или ложными. Истина не меняется со временем. Добро же является разным в разные эпохи и в разных обществах. Если, например, современный бизнес стремится опираться на принцип «Честность — лучшая политика», то в условиях зарождавшегося капитализма ориентация была совершенно иной, и мошенничавшие торговцы благодушно оправдывались: «Не обманешь — не продашь». Когда Вольтер в ХVIII веке сказал: «Хитрость — ум дураков», над ним едва ли не смеялись. И только спустя два века стало ясно, что в принципе он был прав: только ограниченный человек делает хитрость основой своего поведения и своей деятельности.
Кроме добра, явно не являющегося истиной, существует также красота. Прекрасное — это ценность и оно ближе к добру, чем к истине. Истина одна и та же во все времена и для всех людей, красота является разной в разные эпохи и у разных народов. Когда-то о портрете Джоконды Леонардо да Винчи говорили, что это такая живопись, какой она и должна быть. Но во второй половине прошлого века это говорили уже о картине американского художника-модерниста Мориса Дюшана, пририсовавшего Джоконде бессмысленные, казалось бы, усики. Красота — не частный случай истины. Вместе с тем она не является и добром. Быть прекрасным — значит вызывать незаинтересованное, неутилитарное удовольствие. Но если нет заинтересованности и что-то созерцается вне всякой пользы, то, соответственно, нет и добра.
Человек — практическое, действующее существо и в основе его деятельности лежит знание. Животное действует на основе врожденных и благоприобретенных инстинктов.
Деятельность человека опирается в первую очередь не на его инстинкты, а на его знания. Не случайно еще древние греки определяли человека как разумное животное (homo sapiens). Разум, способный порождать знание, является той чертой, которая отличает человека от всех иных животных. В ХIХ веке американский антрополог Л. Морган определил человека как животное, производящее орудия труда. Основное направление выделения людей из числа всех животных при этом не изменилось, оно только конкретизировалось: человек — не просто разумное животное, а животное, использующее свой разум, а значит, и добываемые с его помощью знания для производства орудий труда.
На заре нового времени английский философ Ф. Бэкон заявил: «Знание — это сила». В ту эпоху, когда человек во многом еще полагался на милость бога, такое заявление звучало смело. Оно, в сущности, означало, что человеку не нужно терпеливо ждать рая на небесах, а следует активно выстраивать свою жизнь, рассчитывая только на свои силы, и в особенности на прогресс в познании природы и общества.
В ХХ веке с особой очевидностью обнаружилось, что человек, способный познать многое, приобретает знание и о том, что он способен обратить — а иногда и обращает — против самого себя. Бурное развитие промышленности, опирающееся на познание природы, ведет к расточительному использованию невозобновляемых природных ресурсов (нефть, газ, руда и т. д.), к грозящему катастрофой общему потеплению климата на Земле, к бурному росту населения, чреватому перенаселением планеты и т. д. Познавая мир, человек изобрел и то, относительно чего хотелось бы, быть может, чтобы оно навсегда осталось неизвестным: ядерное, химическое и бактериологическое оружие, национал-социалистические и коммунистические социальные теории, приведшие к гибели десятки миллионов людей, и т. д. Можно повторить вслед за Бэконом, что знание — действительно могучая сила. Однако, наученные опытом двух мировых войн, жестоких тоталитарных режимов и безуспешных пока попыток решения глобальных проблем человечества, мы должны добавить, что знание — не только огромная, но и опасная сила. Настолько опасная, что она способна — при неблагоразумном ее использовании — привести человеческую цивилизацию к гибели.
6. Рассуждать правильно
Основной задачей логики является отделение хороших способов рассуждения — или вывода, умозаключения — от плохих и, строже говоря, правильных от неправильных. Правильные выводы называют также обоснованными, последовательными или логичными.
Правильным является следующий вывод, использовавшийся в качестве стандартного примера еще в Древней Греции:
Все люди смертны; Сократ — человек; следовательно, Сократ смертен.
Первые два утверждения — это посылки вывода, третье — его заключение.
Правильным будет, очевидно, и такое рассуждение:
Всякий человек — живое существо; Сократ — человек; значит, Сократ — живое существо.
Сразу же можно заметить сходство данных двух выводов не только в содержании входящих в них утверждений, но и в характере связи этих утверждений между собою. Можно даже почувствовать, что с точки зрения правильности эти выводы совершенно идентичны: если правильным является один из них, то таким же будет и другой, и притом в силу тех же самых оснований.
Еще два, несколько более громоздких, примера правильных выводов:
Все широколиственные растения — растения с опадающими листьями; все виноградные лозы — широколиственные растения; следовательно, все виноградные лозы — растения с опадающими листьями.
Этот вывод, в общем, напоминает уже приведенные выше, но вместе с тем в деталях отличается от них. Речь идет, конечно, не о сходстве содержания — очевидно, что оно различно во всех трех случаях, — а о сходстве строения выводов, их структуры, характера движения мысли.
Если Земля вращается вокруг своей оси, реки на ее поверхности подмывают один из своих берегов; Земля вращается вокруг своей оси; значит, реки на ее поверхности подмывают один из своих берегов.
Как протекает это рассуждение о Земле и реках? Сначала устанавливается условная связь между вращением Земли и подмыванием реками берегов. Затем констатируется, что Земля действительно вращается. Из этого выводится, что реки в самом деле подмывают один из берегов. Это заключение вытекает с принудительной силой. Оно как бы навязывается всем, кто принял посылки рассуждения. Именно поэтому можно было бы сказать также, что реки должны подмывать один из берегов, с необходимостью делают это.
Ход данного рассуждения прост: если первое, то второе; имеет место первое, значит, есть и второе.
Принципиально важным является то, что о чем бы мы ни рассуждали по такой схеме — о Земле и реках, о человеке или химических элементах, о мифах или богах, — рассуждение останется правильным.
Читатель может тут же убедиться в этом, подставив в схему вместо слов «первое» и «второе» два утверждения с любым конкретным содержанием.
Изменим несколько эту интересную схему и будем рассуждать так: если первое, то второе; имеет место второе, значит, есть и первое.
Например:
Если ночь, то темно; сейчас темно; следовательно, сейчас ночь.
Этот вывод, очевидно, неправилен. Верно, что всякий раз, когда ночь, то темно. Но из этого условного утверждения и того факта, что сейчас темно, вовсе не вытекает, что сейчас ночь. Темно может оказаться в подвале, куда мы спустились, во время полного солнечного затмения и т. д.
Еще пример рассуждения по последней схеме подтвердит, что она способна приводить к ложным заключениям:
Если у человека гипертония — он болен; человек болен; значит, у него гипертония.
Однако такое заключение не вытекает с необходимостью: люди с гипертонией действительно больны, но далеко не у всех больных есть гипертония.
Отличительная особенность правильного вывода заключается в том, что он от истинных посылок всегда ведет к истинному заключению.
Этим объясняется тот огромный интерес, который логика проявляет к правильным выводам. Они позволяют из уже имеющихся истин получать новые истины. И притом с помощью чистого рассуждения, без всякого обращения к опыту, интуиции и т. п. Правильное рассуждение как бы разворачивает и конкретизирует наши знания. Оно дает стопроцентную гарантию успеха, а не просто обеспечивает ту или иную — быть может, и высокую — вероятность истинного заключения. Отправляясь от истинных посылок и рассуждая правильно, мы обязательно во всех случаях получим истину.
Если же посылки или хотя бы одна из них являются ложными, правильное рассуждение может давать в итоге как истину, так и ложь.
Так же и неправильные рассуждения могут от истинных посылок вести как к истинным, так и к ложным заключениям. Никакой определенности здесь нет. Логически необходимо заключение вытекает только в случае правильных, обоснованных выводов.
Мысли имеют форму
Логика отделяет правильные способы рассуждения от неправильных и систематизирует первые. Ее можно определить, таким образом, как науку о правильном рассуждении. Она занимается, конечно, не только связями утверждений в правильных выводах, но и другими темами. В числе последних проблемы смысла и значения выражений языка, различные отношения между понятиями, определение понятий, деление и классификация, вероятностные и статистические рассуждения, софизмы и парадоксы. Но главная и доминирующая тема формальной логики — это, несомненно, анализ правильности рассуждения, исследование «принудительной силы речей».
Своеобразие логики связано, прежде всего, с ее основным принципом, в соответствии с которым правильность рассуждений зависит только от формы этих рассуждений.
Этот принцип представляется на первый взгляд довольно простым. Но он далеко не так прост, как кажется. Во всяком случае, он не проще входящего в его формулировку понятия формы рассуждения.
Самым общим образом форму рассуждения можно определить как способ связи входящих в это рассуждение содержательных частей.
Чтобы сделать это определение понятным и полезным, надо раскрыть смыслы всех входящих в него понятий и показать на примерах как выявляется логическая форма конкретных мыслей, рассуждений. В дальнейшем мы как раз и займемся этим. Сейчас же сделаем несколько общих замечаний, связанных так или иначе с понятием логической формы.
Рассуждение — это цепочка утверждений или высказываний, определенным образом связанных друг с другом. И само рассуждение, и входящие в него утверждения представляют собой акты нашего разума, или, как говорят, наши «мысли». Слово «мысль» не отличается особой ясностью. Тем не менее для наших целей можно без всяких опасений вместо термина «форма рассуждения» употреблять термин «форма мысли».
И еще одно терминологическое замечание. В логике принято говорить не «на языке», а «в языке»: «формулируется в определенном языке», «доказывается в языке» и т. п.
Основной принцип формальной логики предполагает — и это следует специально подчеркнуть, — что каждое наше рассуждение, каждая мысль, выраженная в языке, имеет не только определенное содержание, но и определенную форму. Предполагается также, что содержание и форма отличаются друг от друга и могут быть разделены. Содержание мысли не оказывает никакого влияния на правильность рассуждений и от него следует поэтому отвлечься. Для оценки правильности существенной является лишь форма мысли. Ее необходимо выделить в чистом виде, чтобы затем на основе одной «бессодержательной» формы решить вопрос о правильности рассматриваемого рассуждения.
Как известно из философии, все предметы, явления и процессы имеют как содержание, так и форму. Наши мысли не являются исключением из этого общего правила. То, что они обладают определенным, меняющимся от одной мысли к другой содержанием, известно каждому. Но мысли имеют также форму, что обычно ускользает от внимания.
Логика не интересуется содержанием наших мыслей. Ее внимание целиком приковано к форме, ибо только от формы зависит правильность рассуждений.
Казалось бы, все просто. Однако просто только в идеале и абстракции.
Различие между формой и содержанием не является абсолютным. То, что в одном случае считается относящимся к форме, в другом может оказаться содержательным компонентом рассуждения и наоборот. Противопоставление формы мысли ее содержанию является относительным и верным лишь в определенных границах. Так что интерес формальной логики только к форме не означает абсолютного отвлечения от всякого содержания. В принципе, такое полное разъединение формы и содержания вообще недостижимо, поскольку формы, совершенно лишенной содержания, нет. Логика, исследуя логическую форму, анализирует и содержание, с необходимостью присутствующее в ней.
Это содержание является довольно своеобразным. Иногда его называют «формальным», чтобы отличить от «конкретного содержания», содержания в обычном смысле этого слова. Но ясно, что какое-то содержание — пусть и не совсем обычное — в логической форме все-таки есть.
Поэтому положение, что логика интересуется одной формой рассуждений, нуждается в важной конкретизации. Оно требует прояснения самого понятия такой формы.
Понятие логической формы, формы рассуждения или формы мысли является крайне абстрактным. Смысл его лучше всего раскрыть на примерах.
Сравним два утверждения: «Все лошади едят овес» и «Все реки впадают в море». По содержанию они совершенно различны, к тому же первое из них является истинным, а второе — ложным. И тем не менее сходство их несомненно. Это сходство, а точнее говоря, тождество их строения, формы. Чтобы выявить подобное сходство, нужно отвлечься от содержания утверждений, а значит и от обусловленных им различий. Оставим поэтому в стороне лошадей и овес, реки и моря. Заменим все содержательные компоненты утверждений латинскими буквами, скажем, S и Р, не несущими никакого содержания. В итоге получим в обоих случаях одно и то же: «Все S есть Р».
Это и есть форма рассматриваемых утверждений. Она получена в результате отвлечения от конкретного их содержания, от которого в ней не осталось никаких следов. Но сама эта форма имеет все-таки некоторое содержание. Из нее мы узнаем, что у всякого предмета, обозначаемого буквой S, есть признак, обозначаемый буквой Р. Это не особенно богатое, но все-таки содержание, «формальное содержание».
Этот простой пример хорошо показывает одну из особенностей подхода логики к анализу рассуждений — его высокую абстрактность.
В самом деле, все началось с очевидной мысли, что утверждения о лошадях, которые едят овес, и о реках, впадающих в море, совершенно различны. И если бы не цели логического анализа, на этом различии мы и остановились бы. Именно так и поступил герой одного из рассказов А. Чехова, не увидевший ничего общего между высказываниями «Лошади едят овес» и «Волга впадает в Каспийское море».
Отвлечение от содержания и выявление формы привело нас, однако, к прямо противоположному мнению: рассматриваемые утверждения имеют одну и ту же логическую форму, и, следовательно, они полностью совпадают. Начав с мысли о полном различии утверждений, мы пришли к выводу об абсолютной их тождественности.
Никакой непоследовательности во всем этом нет. Два утверждения, различные с точки зрения своего содержания, оказались неразличимыми с точки зрения своей логической формы. Но насколько абстрактным должен быть подход формальной логики, чтобы дать возможность увидеть за совершенным различием полное совпадение!
Легко понять, что такое пространственная форма. Скажем, форма здания характеризует не то, из каких элементов оно сложено, а только то, как эти элементы связаны друг с другом. Здание одной и той же формы может быть и кирпичным, и железобетонным.
Достаточно просты также многие непространственные представления о форме. Говорят, например, о форме классического романа, предполагающего постепенную завязку действия, кульминацию и, наконец, развязку. Все такие романы независимо от их содержания сходны в своей форме, способе связи своих содержательных частей.
В сущности, ненамного более сложным для понимания является и понятие логической формы. Наши мысли слагаются из некоторых содержательных частей, как здание из кирпичей, блоков, панелей и т. п. Эти «кирпичики» мысли определенным образом связаны друг с другом. Способ их связи и представляет собой форму мысли.
Наше внимание направлено обычно только на содержание. Логическая форма остается вне поля зрения. Она начинает как-то интересовать нас лишь в тех не особенно частых случаях, когда мы сомневаемся в правильности своих рассуждений и намереваемся проконтролировать их.
Для выявления формы надо отойти от содержания мысли, заменить содержательные ее части какими-нибудь пустыми пробелами или буквами. Останется только связь этих частей. В обычном языке она выражается словами «и», «или», «если, то», «не», «все», «некоторые» и т. п. Часто ли мы задумываемся над ними? Вряд ли. Знаем ли те правила, которым подчиняется их употребление? Довольно смутно. Но это означает, что нас обычно мало занимает логическая форма наших рассуждений, представляемая этими совсем незаметными словечками.
Каждый умеет рассуждать правильно, хотя редко кто знаком даже с азами теории правильного рассуждения. Принципы, или схемы, правильных рассуждений усваиваются каждым человеком с усвоением языка.
Наибольшую трудность в овладении в раннем детстве первым, или, как говорят, родным языком чаще всего видят в обилии тех слов, которые предстоит запомнить. Иногда основные трудности связывают с грамматикой. Хотя имен вещей, их свойств и отношений чрезвычайно много, далеко не все в обычной жизни приходится именовать и обозначать точно. Можно обойтись каким-то минимумом в считанные сотни слов, комбинируя и перекомбинируя их применительно к ситуации, варьируя их значения с помощью тона, жеста или мимики. Даже большие знатоки языка, стремящиеся к максимальной точности выражения мыслей и чувств, используют за всю свою жизнь всего чуть больше десяти тысяч разных слов. Словарь ребенка тем более невелик.
Гораздо труднее овладеть грамматикой, с помощью которой слова соединяются в предложения. В ней вдесятеро больше исключений, чем самих правил. Человек долго осваивает ее до школы и в школе, а затем всю жизнь продолжает совершенствовать свои познания в синтаксисе и пунктуации.
Не преуменьшая трудностей, связанных с расширением словаря и усвоением грамматики, нужно все-таки сказать, что наиболее трудное дело в обучении первому языку — это выработка умения рассуждать правильно. Без такого умения нет связи предложений между собой, нет выведения одних истин из других. В сущности, без него нет владения языком.
Приклеивание ярлыков-имен к вещам и соединение слов в утверждения и отрицания необходимы для того, чтобы говорить на каком-то языке. Но на языке не просто говорят, на нем рассуждают. Без устойчивых логических навыков нет и самой способности рассуждать, умения связывать свои утверждения и отрицания в правильные умозаключения. Не случайно ребенок обычно овладевает в достаточной мере языком к трем-четырем годам, а умением рассуждать логично — только к пяти-семи годам.
Схемы рассуждения усваиваются, как правило, бессознательно, стихийно. Точно так же они применяются. Словарю и грамматике более или менее учат с самого детства. Ошибки здесь заметны, обычно они режут слух. Неправильности же в рассуждениях не так бросаются в глаза, так как не лежат на поверхности и требуют для своего обнаружения не так часто встречающегося умения переключать внимание с содержания наших суждений на их форму. Навыкам правильного мышления специально не обучают либо обучают очень редко.
Одно время логику изучали в течение года в общеобразовательной школе. Но вскоре этот предмет из круга школьных дисциплин был исключен: преподавать его было некому, учебник был откровенно неважным и неудивительно, что последствия поверхностного знакомства с логикой на практике мышления школьников почти не сказывались. Сейчас ситуация изменилась и следовало бы, по всей вероятности, вернуться к вопросу о возобновлении преподавания логики в школе.
Главным, а нередко и единственным источником представлений о правильности рассуждений является практика рассуждения. Повседневное, тысячи и тысячи раз повторяющееся соединение утверждений между собой, образование из них умозаключений приводит в конце концов к формированию более или менее устойчивого навыка рассуждать правильно и замечать свои и чужие ошибки.
Навык не предполагает ни каких-то теоретических сведений, ни умения объяснить почему что-то делается именно так, а не иначе. Но обычно он вполне достаточен для всех практических целей.
Можно научиться ходить, не овладевая никакой теорией ходьбы, если она вообще существует. Можно даже стать выдающимся мастером в этом деле, никогда не задумываясь особенно над самим механизмом хождения. Впрочем, размышление не помешает даже здесь.
Более близкая аналогия — умение говорить грамматически правильно. Грамматические правила, если они и изучаются, вскоре забываются. Но остается умение говорить в соответствии с этими правилами, складывающееся по преимуществу стихийно. Оно не требует отчетливого знания ни самих правил, ни тем более тех сложных теорий, которые их истолковывают. Знание правил, конечно, не помешает, но только при условии, что их употребление будет доведено до автоматизма. Человек, припоминающий после каждого слова необходимое правило, вряд ли способен говорить правильно.
Навыки логически правильного рассуждения составляют в совокупности то, что можно назвать интуитивной логикой. Это не теория и не система отчетливых правил, а просто некоторое умение. Оно во многом подобно умению ходить и говорить. Но кое в чем и отлично.
Многие согласятся, что им стоило бы ходить немного иначе, более правильно. Редко кто не ощущает шероховатостей в своей грамматике. Почти всякий не отказался бы в чем-то ее усовершенствовать, если, разумеется, это не потребовало бы каких-то особых усилий.
Но гораздо меньше людей, чувствующих пробелы в своей логике и пытающихся устранить их.
В отношении той логической интуиции, того чутья правильности проводимых рассуждений, которое есть у каждого из нас, царит почему-то оптимизм. Большинство вполне удовлетворено своей интуитивной логикой, не замечает допускаемых логических ошибок и не видит особой необходимости в ее прояснении и усовершенствовании. Свое умение рассуждать последовательно и доказательно лишь немногие оценивают относительно невысоко.
Насколько оправдана уверенность, что логическое чутье никогда не подводит?
В общем, она в достаточной мере оправдана. Интуитивная логика, если она уже сложилась и хорошо отработана на разнообразном материале, как правило, не подводит нас.
Но чрезмерный оптимизм по поводу наших стихийно сложившихся навыков правильного мышления вряд ли обоснован. Иногда даже в заурядных ситуациях они могут оказаться вдруг неэффективными.
Наше логическое чутье и наши навыки правильного рассуждения не так безупречны, как это зачастую кажется. Полезно поэтому не упускать случая, чтобы их усовершенствовать.
Практика рассуждения при всей ее необходимости и важности не способна сама по себе привести к ясному пониманию природы логического вывода. Опираясь только на собственный индивидуальный опыт мышления, никто не открыл пока ни одной схемы правильного рассуждения. Практика логичного мышления должна быть дополнена знанием его теории.
Могущество искусственного языка
Старая логика пользовалась для описания мышления обычным языком, на котором повседневно общаются люди. Но он имеет целый ряд особенностей, мешающих ему, к сожалению, успешно справляться с этой задачей.
Его правила, касающиеся построения сложных выражений из простых, расплывчаты. Интуитивные критерии осмысленности утверждений ненадежны. Структура фраз скрывает реальную логическую форму. Большинство выражений многозначно.
Обычный язык, возникший как средство общения людей, претерпел долгую и противоречивую эволюцию. Многое в нем остается не выявленным, а только молчаливо предполагается.
Все это не означает, конечно, что обычный язык никуда не годен и его следует заменить во всех областях какой-то искусственной символикой. Он вполне справляется с многообразными своими функциями. Но, решая многие задачи, он лишается способности точно передавать форму нашей мысли.
Для целей логики необходим искусственный язык, строящийся по строго сформулированным правилам. Этот язык не предназначен для общения. Он должен служить только одной задаче — выявлению логических связей наших мыслей, но решаться она должна с предельной эффективностью.
Принципы построения искусственного логического языка были разработаны в современной логике. По словам немецкого логика Г. Клауса, «создание его имело такое же значение в области мышления для техники логического вывода, какое в области производства имел переход от ручного труда к труду механизированному». Специально созданный для целей логики язык получил название «формализованного». Слова обычного языка заменяются в нем отдельными буквами и различными специальными символами. Формализованный язык — это «насквозь символический» язык. Введение его означает принятие особой теории логического анализа рассуждений.
Использование формализованного языка для описания способов правильного рассуждения невозможно переоценить. Без него нет современной логики.
В определенный период своего развития каждая наука созревает для коренной перестройки своего языка. В свою очередь, создание нового языка, обладающего неизмеримо большими, чем прежний, выразительными возможностями, оказывается мощным стимулом для дальнейшего развития этой науки.
Отмечая эту взаимосвязь между успехами науки и преобразованием ее языка, французский химик XVIII века А. Лавуазье писал: «Так как слова сохраняют и передают представления, то из этого следует, что нельзя ни усовершенствовать язык без усовершенствования науки, ни науку — без усовершенствования языка, и что как бы ни были достоверны факты, как бы ни были правильны представления, вызванные последними, они будут выражать лишь ошибочные представления, если у нас не будет точных выражений для их передачи».
Революция в логике привела к созданию логически совершенного языка. Последний сделал возможным дальнейшее углубленное изучение и описание закономерностей правильного мышления.
«Чему, спрашиваю я, одолжены своими блистательными успехами в последнее время математические и физические науки, слава нынешних веков, торжество ума человеческого? Без сомнения, искусственному языку своему, ибо как назвать сии знаки различных исчислений, как не особенным, весьма сжатым языком, который, не утомляя напрасно нашего внимания, одной чертой выражает обширные понятия». Эти слова, сказанные знаменитым русским математиком ХIХ века Н. Лобачевским, с полным правом можно отнести не только к искусственным языкам математики и физики, но и к формализованному языку современной логики.
7. Современная логика и другие науки
В заключение этого, по необходимости краткого, разговора о том, чем занимается логика, следует сделать несколько замечаний о ее связях с другими науками.
С момента своего возникновения логика была самым тесным образом связана с философией. В течение многих веков логика считалась, подобно этике, эстетике, психологии и др., одной из «философских наук». И только во второй половине XIX века формальная — к этому времени уже математическая — логика отпочковалась, как принято выражаться, от философии. Примерно в это же время от философии отделилась и стала самостоятельной научной дисциплиной и психология. Но если в психологии этот процесс был связан, прежде всего, с проникновением в нее опыта и эксперимента и сближением ее с другими эмпирическими науками, то в отделении логики решающую роль сыграло проникновение в нее математических методов и сближение с математикой.
Самостоятельность, обретенная логикой, не означала, конечно, того, что она утратила всякую связь с философией. Просто в новую историческую эпоху прежняя связь приобрела другой характер. Математическая логика возникла, в сущности, на стыке двух столь разных наук как философия, или точнее — философская логика, и математика. И тем не менее взаимосвязь новой логики с философией не только не оборвалась, но, напротив, парадоксальным образом даже окрепла. Обращение к философии является необходимым условием прояснения формальной логикой своих оснований. С другой стороны, использование в философии понятий, методов и аппарата современной логики, несомненно, способствует более ясному пониманию самих философских понятий, принципов и проблем.
Тесная связь современной логики с математикой придает особую остроту вопросу о взаимных отношениях этих двух наук. Среди многих точек зрения, высказывавшихся по этому поводу, были и две крайние, ведущие, в общем-то, к тому же самому конечному результату — объединению математики и логики в единую научную дисциплину, сведению их в одну науку.
Согласно Г. Фреге, Б. Расселу и их последователям математика и логика — это всего лишь две ступени в развитии той же самой науки. Математика может быть полностью сведена к логике, и такое чисто логическое обоснование математики позволит установить ее истинную и наиболее глубокую природу. Этот подход к обоснованию математики получил название логицизма. Наиболее законченное изложение он нашел в изданном в 1910–1913 годах трехтомном труде «Principia Mathematica», написанном Б. Расселом совместно с другим английским математиком и логиком — А. Уайтхедом.
Сторонники логицизма добились определенных успехов в прояснении основ математики. В частности, было показано, что математический словарь сводится к неожиданно краткому перечню основных понятий, которые принадлежат словарю чистой логики. Вся существующая математика была сведена к сравнительно простой и унифицированной системе исходных, принимаемых без доказательства положений, или аксиом, и правил вывода из них следствий, или теорем.
Однако в целом логицизм оказался утопической концепцией. «Математика не выводима из формальной логики, — подводит итог русский математик и логик Д. Бочвар, — ибо для построения математики необходимы аксиомы, устанавливающие факты из области объектов, и, прежде всего, — существование в последней определенных объектов. Но такие аксиомы обладают уже внелогической природой».
Другой формой объединения математики и логики в одну науку было объявление математической, или современной, логики одним из разделов современной математики. Многие математики и сейчас еще считают главной — если не единственной — задачей математической логики уточнение понятия математического доказательства и исключение парадоксальных, противоречащих интуиции утверждений из математических теорий. Математическая логика, говорит, например, английский логик Р. Гудстейн, имеет своей целью выявление и систематизацию логических процессов, употребляемых в математическом рассуждении, а также разъяснение математических понятий. Сама она является ветвью математики, использующей математическую символику и технику, ветвью, развивающейся в целом в течение последних ста лет, и притом такой, которая по своей плодотворности, по силе и важности своих открытий вполне может претендовать на место в авангарде современной математики.
Тенденция включать математическую логику в число математических дисциплин и видеть в ней только теорию математического доказательства является, конечно, ошибочной. На самом деле задачи логики гораздо шире. Она исследует основы всякого правильного рассуждения, а не только строгого математического доказательства, и ее интересует связь между посылками и следствиями в любых областях рассуждения и познания, а не только в одной лишь математике. Математическая логика, истолкованная исключительно как один из разделов математики, не только лишается способности прояснять и уточнять основания математики, но и сама становится непостижимой.
С первых дней своего возникновения современная логика способствовала решению логических проблем и преодолению трудностей, встававших перед математикой. Каждый новый шаг в прогрессе логики быстро сказывался на развитии математической науки. С другой стороны, без использования математических методов и понятий не было бы и современной логики. Но это не означает, разумеется, что одна из этих наук должна быть поглощена другой. Тенденция ставить логику на службу, прежде всего, математике является, однако, по-своему показательной. Она выразительно подчеркивает тесную взаимосвязь логики и математики, их плодотворное и взаимно обогащающее воздействие друг на друга.
Современная логика тесно связана также с кибернетикой — наукой о закономерностях управления процессами и системами в любых областях: в технике, в живых организмах, в обществе. Основоположник кибернетики американский математик Н. Винер не без оснований подчеркивал, что само возникновение кибернетики было бы немыслимо без математической логики. Автоматика и электронно-вычислительная техника, применяемые в кибернетике, были бы невозможны без использования алгебры логики — этого исторически первого раздела современной логики. В управляющих схемах, применяемых в кибернетике, значительное место занимают релейно-контактные схемы, моделирующие логические операции. Описание таких операций, даваемое логикой, способствует детальному анализу логического строения мысли и открывает поразительные перспективы автоматизации логических процессов, богатые возможности использовать для их осуществления автоматические машины. Математическая логика, заключает математик Г. Поваров, является необходимым инструментом для машинизации умственного труда.
Современная логика находит широкие приложения не только в кибернетике, но и во многих других областях науки и техники. Очерчивая эти приложения, американский логик Э. Беркли пишет, что математическая логика используется при исследовании правил, условий и договоров, при проектировании электрических схем для вычислительных машин, телефонных систем и регулирующих устройств, при программировании автоматических вычислительных машин и вообще при описании и проектировании многих типов схем и механизмов.
Столь широкие технические приложения современной логики покажутся особенно впечатляющими, если вспомнить, что еще лет 40 тому назад она казалась большинству весьма абстрактной математической дисциплиной, далекой от практического применения.
Глава 2. Слова и вещи
Людей, рассуждающих логически, больше, нежели красноречивых. Красноречие есть искусство приукрашивать логику.
Д. ДидроЛогика — смирительная рубашка фантазии.
Х. НарБыло бы крайне нелогично руководствоваться в жизни только логикой.
Л. КуморЛогика — это нравственность мысли и речи.
Я. ЛукасевичЛюбит, потому что любит, не любит, потому что не любит, — логика чувств и страстей коротка.
А. И. Герцен1. Язык как непосредственная действительность мышления
Французский философ XVII века Р. Декарт доказывал, что способность нормально использовать язык является единственным достоверным признаком того, что некоторое существо обладает человеческим разумом. Эту способность невозможно обнаружить ни у автомата, ни у животного. Животное, впрочем, тоже представляет собой, по Декарту, разновидность автомата, наделенного рефлексами. Во всех отношениях, кроме языка, автомат может обнаруживать очевидные признаки интеллекта, иногда превосходящие соответствующие признаки человека. Но к языку ни организм, ни машина, лишенные разума, не будут способны, даже если наделить их физиологическими органами, необходимыми для производства речи.
Эта гипотеза о принципиальной неспособности животных говорить, подобно человеку, вызвала нескончаемые нападки на Р. Декарта и его последователей и заставила их изобретать все новые и новые доводы в свою защиту.
Так, кардинал М. де Полиньяк не нашел ничего лучшего, как обосновывать данную гипотезу ссылкой на бесконечную доброту Бога. Лишить животных разума, а значит и речи было со стороны последнего столь же гуманно, как и позволить им не испытывать боли. Почему кардинал думал, что животные не испытывают боли, непонятно.
Л. Расин, сын великого французского драматурга, воспользовался доказательством от противного. Если бы животные обладали душой и были способны чувствовать, рассуждал он, разве они остались бы безразличными к несправедливому публичному оскорблению, нанесенному им Декартом? Разве они не восстали бы в гневе против вождя и его секты, которая так принизила их?
Поскольку нет никаких свидетельств особой обиды животных на Декарта и его «секту», значит, животные просто не в состоянии обдумать его аргументацию и как-то ответить на нее.
Подобные доказательства только компрометируют глубокую и верную мысль Декарта, что речь может быть только у существ, наделенных разумом, и что она является единственным способом проявления разума вовне.
Речь, или язык, представляет собой необходимое условие существования абстрактного мышления. Не случайно это мышление, являющееся отличительной особенностью человека, принято называть «мышлением в понятиях».
Язык возникает одновременно с сознанием и мышлением. Являясь чувственно воспринимаемой оболочкой мышления, язык обеспечивает мысли человека реальное существование. Вне такой оболочки мысль не только недоступна для других, ее вообще нет. Язык — это непосредственная действительность мысли.
Как и мышление, язык диалогичен: он существует для отдельного человека лишь постольку, поскольку существует для других.
Логический анализ мышления всегда имеет форму исследования языка, в котором оно протекает и без которого оно не является возможным. В этом плане логика — наука о мышлении — есть в равной мере и наука о языке.
Мышление и использование языка — две предполагающие друг друга стороны как процесса познания, так и процесса общения. Язык участвует не только в выражении мысли, но и в самом ее формировании. Нельзя противопоставлять «чистое», внеязыковое мышление и его «вербализацию», последующее выражение в языке.
Вместе с тем язык и мышление не тождественны. Каждая из сторон единства, составляемого ими, относительно самостоятельна и обладает своими специфическими законами.
Иногда предполагается, что единственным способом получения подлинной истины является мистическое «вживание» в предмет, позволяющее в одном акте постичь его. При этом мышлению с помощью языка противопоставляется непосредственное, внеязыковое познание. Задача языка, по мнению последователей этой концепции, сводится только к передаче — и притом обязательно в искаженной форме — результатов интуитивного постижения.
Очевидно, что настаивание на интуитивном характере нашего познания ведет, так или иначе, к противопоставлению мышления и языка.
Для современной науки, в особенности для философии, характерно повышенное внимание к природе, механизму и функциям языка. Проблема языка стала в XX веке одной из центральных философских проблем. Сложилась и даже сделалась весьма влиятельной, особенно в Англии и США, так называемая «лингвистическая философия». Положению, что язык должен быть предметом философского исследования, она придала форму утверждения, что он представляет собой единственный или, во всяком случае, наиболее важный предмет такого исследования. Философия оказалась в итоге сведенной к «критике языка», к прояснению и отграничению друг от друга туманных и запутанных мыслей.
Нет, разумеется, никаких оснований отрицать важность исследования естественного языка и последующего его усовершенствования на основе такого исследования. Нужным и интересным является, в частности, построение разного рода искусственных языков и замещение ими отдельных фрагментов научного языка. Особенно успешным оказалось применение искусственных языков в математике и в современной логике, где без них нельзя теперь сделать ни шагу вперед.
Вместе с тем очевидно, что анализ языка не может быть единственной задачей философии. Этот анализ не сводится также к прояснению логической структуры языка. Язык не существует сам по себе. Он связан с мышлением и действительностью и его невозможно понять вне этой связи. Важной поэтому является не только логическая проблематика языка, но и исследование его роли в социальной жизни, в процессе познания окружающего мира.
2. Употребления языка
В логике долгое время неявно предполагалось, что главная или даже единственная функция языка, выражающая саму его сущность, — это описание действительности. Описательные выражения выделялись в качестве привилегированной канонической формы, к которой должно сводиться все наблюдаемое разнообразие утверждений или «употреблений языка».
Идея исключительности описаний в сравнении с другими видами использования языка только в конце 50-х гг. прошлого века начала постепенно уходить в прошлое.
Имеется бесчисленное множество типов употребления языка, писал австро-английский философ и логик Л. Витгенштейн, бесконечно разнообразных образов использования того, что мы называем «знаками», «словами», «предложениями». И это многообразие не является чем-то фиксированным, данным раз и навсегда. Напротив, возникают новые типы языка или, можно сказать, новые «языковые игры», в то время как другие языковые игры устаревают и забываются.
Разнообразие языковых игр легко уловить на основе приводимых Витгенштейном примеров. Язык может использоваться для того, чтобы: приказывать и использовать приказы; описывать внешний вид предмета или его размеры; изготавливать предмет в соответствии с его описанием (рисунком), докладывать о ходе событий; строить предположения о ходе событий; выдвигать и доказывать гипотезу; представлять результаты опыта в виде таблиц и диаграмм; сочинять рассказ и читать его; притворяться; петь хороводные песни; отгадывать загадки; шутить, рассказывать анекдоты; решать арифметические задачи; переводить с одного языка на другой; просить, благодарить, проклинать, приветствовать, молиться и т. д.
Язык пронизывает всю нашу жизнь, и он должен быть таким же богатым, как и она сама. С помощью языка мы можем описывать самые разные ситуации, оценивать их, отдавать команды, предостерегать, обещать, формулировать нормы, молиться, заклинать и т. д.
3. Классификация употреблений языка
Можно ли перечислить все те задачи, которые человек решает посредством языка? Какие из употреблений, или функций, языка являются основными, а какие вторичными, сводимыми к основным? Как ни странно, эти вопросы встали только в начале прошлого века.
В числе употреблений языка особое место занимает описание — высказывание, главной функцией которого является сообщение о реальном положении вещей и которое является истинным или ложным.
Описание, соответствующее действительности, истинно. Описание, не отвечающее реальному положению дел, ложно. К примеру, описание «Снег бел» является истинным, а описание «Кислород — металл» ложно. Иногда допускается, что описание может быть неопределенным, лежащим между истиной и ложью. К неопределенным можно отнести многие описания будущего («Через год в этот день будет пасмурно» и т. п.). Иногда в описаниях используются слова «истинно», «верно», «на самом деле» и т. п.
Описание, несмотря на всю его важность, — не единственная задача, решаемая с помощью языка. Оно не является даже главной его задачей. Перед языком стоят многие задачи, не сводимые к описанию.
В 20-е гг. прошлого века Ч. Огден и А. Ричардс написали книгу, в которой привлекли внимание к экспрессивам и убедительно показали, что эмотивное (выражающее) употребление языка не сводимо к его обозначающему, описательному значению. Фразы «Сожалею, что разбудил вас», «Поздравляю вас с праздником» и т. п. не только описывают состояние чувств говорящего, но и выражают определенные психические состояния, связанные с конкретной ситуацией.
Например, я вправе поздравить вас с победой на соревнованиях, если вы действительно победили и если я на самом деле рад вашей победе. В этом случае поздравление будет искренним и его можно считать истинным, т. e. соответствующим внешним обстоятельствам и моим чувствам. Если же я поздравляю вас с тем, что вы хорошо выглядите, хотя на самом деле вы выглядите неважно, мое поздравление неискренно. Оно не cooтветствует реальности и если я знаю об этом, то не соответствует и моим чувствам. Такое поздравление вполне можно оценить как ложное. Ложным было бы и поздравление с тем, что вы открыли квантовую механику: всем, в том числе и вам, заведомо известно, что это не так, и поздравление звучало бы насмешкой.
Особое значение для разработки теории употреблений языка имели идеи английского философа Дж. Остина. Он, в частности, привлек внимание к тому необычному факту, что язык может напрямую использоваться для изменения мира. Именно эта задача решается выражениями, названными Остином декларациями. Примеры таких выражений: «Назначаю вас председателем», «Ухожу в отставку», «Я заявляю: наш договор расторгнут», «Обручаю вас» («Объявляю вас мужем и женой») и т. п. Когда, допустим, я успешно осуществляю акт назначения кого-то председателем, он становится председателем, а до этого акта он не был им. Если успешно выполняется акт производства в генералы, в мире сразу же становится одним генералом больше. Когда футбольный арбитр говорит: «Вы удаляетесь с поля», игрок оказывается вне игры и она, по всей очевидности, меняется.
Декларации явно не описывают некоторую существующую ситуацию. Они непосредственно меняют мир, а именно мир человеческих отношений и делают это самим фактом своего произнесения. Очевидно, что декларации не являются истинными или ложными. Они могут быть, однако, обоснованными или необоснованными (я могу назначить кого-то председателем, если у меня есть право сделать это, если в таком назначении есть смысл и т. п.).
Еще одно употребление языка — нормативное. С помощью языка формулируются нормы, посредством которых говорящий хочет добиться того, чтобы слушающий выполнил определенные действия. Нормативные высказывания называются также деонтическими (от греч. deon — долг, обязанность) или «прескриптивными» (от лат. рrescribere — предписывать) и обычно противопоставляются описательным высказываниям, именуемым также «дескриптивными» (от лат. descripibere — опиcывать).
Норма (нормативное, или деонтическое высказывание) — высказывание, обязывающее, разрешающее или запрещающее что-то сделать под угрозой наказания.
Нормы чрезвычайно разнообразны и включают команды, приказы, требования, предписания, законы, правила и т. п. Примерами норм могут служить выражения: «Прекратите говорить!», «Старайтесь приносить максимум пользы как можно большему числу людей», «Следует быть стойким» и т. п. Нормы, в отличие oт описаний, не являются истинными или ложными, хотя могут быть обоснованными или необоснованными.
Язык может использоваться также для обещаний, т. е. для возложения на себя говорящим обязательства совершить в будущем какое-то действие или придерживаться определенной линии поведения. Обещаниями являются, к примеру, выражения: «Обещаю вести себя примерно», «Клянусь говорить правду и только правду», «Буду всегда вежлив» и т. п. Обещания можно истолковать как нормы, адресованные говорящим самому себе и в чем-то предопределяющие его поведение в будущем. Как и все нормы, обещания не являются истинными или ложными. Они могут быть обдуманными или поспешными, целесообразными или нецелесообразными и т. п.
Язык может использоваться также для оценок. Последние выражают положительное, отрицательное или нейтральное отношение субъекта к рассматриваемому объекту или, если сопоставляются два объекта, для выражения предпочтения одного из них другому.
Оценка (оценочное высказывание) — высказывание, устанавливающее абсолютную или сравнительную ценность некоторого объекта.
Оценками являются, к примеру, выражения: «Хорошо, что погас свет», «Плохо, когда кто-то опаздывает», «Лучше прийти раньше, чем опоздать» и т. п. Оценки столь же фундаментальны и ни к чему не сводимы, как и описания. Однако в отличие от описаний они не являются истинными или ложными.
Имеется таким образом большое число разных употреблений языка: сообщение о положении дел (описание), попытка заставить что-либо сделать (норма), выражение чувств (экспрессив), изменение мира словом (декларация), принятие обязательства что-то сделать (обещание), выражение позитивного или негативного отношения к чему-то (оценка) и др.
Витгенштейн полагал, и это можно вспомнить еще раз, что число разных употреблений языка (разных «языковых игр», как он говорил) является неограниченным.
Многообразные употребления языка можно привести в определенную систему, которая излагается далее.
В рамках лингвистики была разработана так называемая «теория речевых актов», представляющая собой упрощенную классификацию употреблений языка (Дж. Остин, Дж. Сёрль, П. Стросон и др.). Эта теория сыграла большую роль в исследовании функций языка. Вместе с тем сейчас она представляется уже не особенно удачной. В ней пропускается целый ряд фундаментальных употреблений языка (оценки, выражения языка, внушающие какие-то чувства и др.), не прослеживаются связи между разными употреблениями языка, не выявляется возможность редукции одних из них к другим и т. д.
Особая роль описаний и оценок
С точки зрения логики, теории аргументации и философии важным является, прежде всего, проведение различия между двумя основными употреблениями языка: описанием и оценкой. В случае первого отправным пунктом сопоставления высказывания и действительности является реальная ситуация и высказывание выступает как ее описание, характеризуемое в терминах понятий «истинно» и «ложно». При второй функции исходным является высказывание, выступающее как стандарт, перспектива, план. Соответствие ситуации этому высказыванию характеризуется в терминах понятий «хорошо», «безразлично» и «плохо» (в случае сравнительных оценок — «лучше», «равноценно», «хуже»).
Описание и оценка являются двумя полюсами, между которыми имеется масса переходов. Как в повседневном языке, так и в языке науки есть многие разновидности и описаний, и оценок. Чистые описания и чистые оценки довольно редки, большинство языковых выражений носит двойственный, или «смешанный», описательно-оценочный характер.
Все это должно учитываться при изучении множества «языковых игр», или употреблений языка. Вполне вероятно, что множество таких «игр» является неограниченным. Нужно учитывать, однако, то, что более тонкий анализ употреблений языка движется в рамках исходного и фундаментального противопоставления описаний и оценок и является всего лишь его детализацией. Она может быть полезной во многих областях, в частности, в лингвистике, но лишена, вероятнее всего, интереса в логике, в теории аргументации и др.
Пассивное и активное употребления языка
Важным является далее различие между экспрессивами, близкими описаниям, и орективами, сходными с оценками.
Оректив — высказывание, используемое для возбуждения чувств, воли, побуждения к действию.
Орективами являются, к примеру, выражения: «Возьмите себя в руки», «Вы преодолеете трудности», «Верьте в свою правоту и действуйте!» и т. п.
Частным случаем оректического употребления языка может считаться так называемая нуминозная функция — зачаровывание слушателя словами (заклинаниями колдуна, словами любви, лести, угрозами и т. п.).
Для систематизации употреблений языка воспользуемся двумя оппозициями. Противопоставим мысль — чувству (воле, стремлению и т. п.), а выражение определенных состояний души — внушению таких состояний. Это даст простую систему координат, в рамках которой можно расположить все основные и производные употребления языка.
Описания представляют собой выражения мыслей, экспрессивы — выражения чувств. Описания и экспрессивы относятся к тому, что может быть названо пассивным употреблением языка и охарактеризовано в терминах истины и лжи. Оценки и орективы относятся к активному употреблению языка и не имеют истинностного значения.
Нормы представляют собой частный случай оценок: некоторое действие обязательно, если и только если это действие является позитивно ценным и хорошо, что воздержание от данного действия влечет за собой наказание.
Обещания — частный, или вырожденный, случай норм. Декларации являются особым случаем магической функции языка, когда он используется для изменения мира человеческих отношений. Как таковые декларации — это своего рода предписания, или нормы, касающиеся поведения людей. Обещания представляют собой особый случай постулативной функции, охватывающей не только обещания в прямом смысле этого слова, но и принятие конвенций, аксиом вновь вводимой теории и т. п.
Имеются, таким образом, четыре основных употребления языка: описание, экспрессив, оценка и оректив, а также целый ряд промежуточных его употреблений, в большей или меньшей степени тяготеющих к основным: нормативное, магическое, постулативное и др.
Важность классификации употреблений языка для логики несомненна. Многие понятия логики (например, понятия доказательства, закона логики и др.) определяются в терминах истины. Но существует большой класс таких употреблений языка, которые явно стоят вне «царства истины». Это означает, что логике необходимо шире взглянуть на изучаемые объекты и предложить новые, более широкие определения некоторых из своих основных понятий. С другой стороны, классификация позволяет уточнить связи между отдельными разделами, или ветвями, логики. Если, например, нормы — только частный случай оценок, то логика норм должна быть частным случаем логики оценок. Тому, кто попытается, скажем, построить «логику деклараций» или «логику обещаний», следует помнить, что декларации и обещания — частный случай норм, логика которых существует уже давно.
3. Запутанный мир имен
Особый интерес среди разных языковых выражений представляют имена. Они есть везде. В обычном кругу поименовано все. Попадая в совершенно незнакомое место, человек тут же снабжает его ярлыком: «незнакомое место». Сталкиваясь с тем, что никем еще не наблюдалось, он первым делом дает имя: «то, что ранее не наблюдалось». Даже не имеющая имени вещь оказывается обладающей именем — она так и называется: «вещь без имени».
Без имен нет, в сущности, языка как средства познания и общения. Лишенный имен язык отрывается от реального мира, теряет связи с отдельными вещами и событиями и застывает в пустом схематизме. В конечном счете он оказывается языком, не говорящим конкретно ни о чем.
Имена являются естественными и привычными, как те вещи, с которыми они связаны; настолько естественными, что когда-то они казались принадлежащими самим вещам, подобно тому как им присущ цвет, тяжесть, упругость и другие природные свойства.
Первобытные люди так и рассматривали свои имена как нечто конкретное, реальное и часто священное. Французский психолог Л. Леви-Брюль, создавший в начале прошлого века концепцию первобытного мышления, считал такое отношение к именам важным фактом, подтверждающим мистический и «внелогический» характер такого мышления. Он указывал, в частности, что индеец рассматривает свое имя не как простой ярлык, но как отдельную часть своей личности, как нечто вроде своих глаз или зубов. Он верит, что от злонамеренного употребления его имени он так же верно будет страдать, как и от раны, нанесенной какой-нибудь части его тела. Это верование встречается у разных племен от Атлантического до Тихого океана. На побережье Западной Африки существуют верования в реальную и физическую связь между человеком и его именем; можно ранить человека, пользуясь его именем. Настоящее имя царя является тайным.
В библейской книге «Бытие» сотворение мира описывается так: «И сказал Бог: да будет свет. И стал свет. И увидел Бог свет, что он хорош, и отделил Бог свет от тьмы. И назвал Бог свет днем, а тьму ночью… И сказал Бог: да будет твердь посреди воды, и да отделяет она воду от воды… И стало так. И назвал Бог твердь небом…» Примечательна в этой религиозной истории наивная уверенность в том, что имена изначально, «от сотворения» принадлежат вещам. Бог не только последовательно, шаг за шагом создает мир, но и параллельно именует создаваемое им. Сотворение мира оказывается одновременно и сотворением языка, во всяком случае, его «именующей» части. Без имен мир был бы как-то неполон. Процесс именования весьма ответственное дело: Бог не передоверяет его кому-то и не пускает на самотек, а занимается им лично.
В другом месте Библии рассказ ведется так, что Адам, осматривая «райские кущи», видит имена вещей как бы начертанными на самих вещах.
Эти наивные представления об именах как свойствах вещей не являются чем-то оставшимся целиком в далеком и темном прошлом. Рецидивы этих представлений встречаются даже сейчас. Астроном В. Воронцов-Вельяминов вспоминает, например, что на популярных лекциях слушатели не раз задавали ему вопрос: «Мы допускаем, что можно измерить и узнать размеры, расстояние и температуру небесных тел; но как, скажите, узнали вы названия небесных светил?»
Ответ на такой вопрос прост. Астрономы узнают имена открытых ими небесных тел так же, как родители узнают имена своих детей — давая им эти имена. Но сам факт подобного вопроса показывает, что иллюзия «приклеенности», «привинченности» имен к вещам нуждается в специальном объяснении.
Роль имен в языке настолько велика и заметна, что иногда даже в науке о языке придание имен вещам считается едва ли не единственной задачей языка. Связь языка с миром представляется при этом как какое-то развешивание имен-ярлыков. В частности, существует и пользуется известностью логико-семантическая теория, явно склонная видеть среди выражений языка по преимуществу одни имена. Даже предложения оказываются для нее не описаниями каких-то ситуаций или требованиями каких-то действий, а только именами особых «абстрактных предметов» — истины и лжи.
Исследованием имен как одного из основных понятий и естественных и формализованных языков занимаются все науки, изучающие язык. И, прежде всего, логика, для которой имена — одна из основных семантических категорий.
В разных научных дисциплинах под «именем» понимаются разные, а порой и несовместимые вещи. Логика затратила немало усилий на прояснение того, что представляет собой имя и каким принципам подчиняется операция именования или обозначения. Нигде, пожалуй, имена не трактуются так всесторонне, глубоко и последовательно, как в логических исследованиях.
В романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» повествуется о том, что Гаргантюа прочел трактат «О способах обозначения» с комментариями Пустомелиуса, Оболтуса, Прудпруди, Галео, Жана Теленка, Громешуцена и пропасть других. И все это он так хорошо усвоил, что на экзамене сумел ответить все наизусть в обратном порядке и доказал матери как дважды два, что «О способах обозначения» не есть наука.
В этом эпизоде звучит явная насмешка над схоластической ученостью, обычно вырождающейся в бесконечно мелкое комментирование. Но очевидна также ирония над самой теорией обозначения: она настолько пуста, что ничего не теряет в своем содержании, даже если излагается «задом наперед».
Уже во времена Ф. Рабле подобная ирония была в общем-то несправедливой. Проблема обозначений являлась одной из наиболее живых и разработанных в средневековой логике.
С тех пор прошло несколько веков. Логический анализ имен заметно продвинулся вперед. Особенно важные результаты были получены в изучении имен в формализованных языках. Многое стало гораздо яснее и в отношении имен в естественных языках. Теория обозначения сделалась полноправным разделом современной логики.
Однако и сейчас эта теория лишена единства и универсальности. Она слагается из целого ряда концепций, в чем-то близких друг другу, но во многом и конфликтующих одна с другой. Ни одна из них не охватывает и не объясняет с единой точки зрения всех многообразных имен. Отсутствие единства в представлениях об именах настолько существенно, что нет твердости и единообразия даже в самом употреблении понятия «имя». По-разному решается вопрос, какие выражения языка относятся к именам, а какие нет. От автора к автору меняются классификации имен. Но больше всего споров и несогласия по поводу содержания, или значения, имен. Что связывается с именем в языке и в самом мире? Какие имена имеют одинаковое значение, а какие разное? В каких контекстах они взаимозаменимы? И так далее и тому подобное до бесконечности…
Отсутствие даже намека на какую-то «окончательность» логической теории имен и единообразие суждений об именах и их значениях является отражением общего уровня логического анализа языка. Имена — один из наиболее важных элементов языка. И уровень, и стиль рассуждений о них не может принципиально отличаться от общего уровня и стиля рассуждений о языке в целом. Последние же менее всего создают впечатление окончательного синтеза и завершенности.
Нужно иметь в виду также то, что само обычное употребление имен далеко от определенности и последовательности. Всякая теория стремится представить исследуемые объекты такими, какими они являются на самом деле. Естественно, что и логическая теория не должна вносить от себя в расплывчатое, непоследовательное и фрагментарное употребление обычных имен какую-то специальную систему и порядок.
Иначе обстоит дело в случае искусственных языков. Употребление в них имен или соответствующих именам выражений не обязано повторять во всех деталях и случайностях употребление имен в естественном языке. «Искусственные» имена можно ввести так, что они будут соответствовать самым высоким требованиям и стандартам, какие только можно предъявить к именам.
Но и здесь остается вопрос: откуда взяться этим стандартам, если не из анализа естественного языка и опирающегося на него языка науки? От естественного языка не удается все-таки уйти окончательно.
4. Две характеристики имени
В общем случае имя — это выражение языка, обозначающее отдельный предмет или некоторую совокупность предметов.
Способность обозначать что-то является специфической особенностью имени. Только имена обозначают и, собственно говоря, быть именем и обозначать — это одно и то же. Как и обычно, в логике «предмет», к которому отсылает имя, понимается предельно широко — как все, что может быть названо.
Имя можно определить по его роли в структуре предложения. Выражение языка является именем, если оно может использоваться в качестве подлежащего или именной части сказуемого в простом предложении «А есть В». Скажем «Гарвей», «Платон» и «человек, открывший кровообращение» — это имена, поскольку подстановка их в данное предложение вместо букв А и В дает осмысленные предложения: «Гарвей есть человек, открывший кровообращение», «Платон есть человек, открывший кровообращение» и т. д. Выражения же «плачет», «больше», «или» и т. п. именами не являются: «Гарвей есть плачет», «Гарвей есть больше», «Гарвей есть или» и т. п. — все это бессмысленные образования.
Имена различаются между собой в зависимости от того, со сколькими предметами они связаны. Единичные имена обозначают один и только один предмет. Общие имена обозначают более чем один предмет. Пустые, или беспредметные, имена не обозначают ни одного предмета.
Единичным именем является, к примеру, слово «Луна», поскольку оно обозначает единственного естественного спутника Земли. Единично и имя «высочайшая вершина мира», обозначающее Эверест и ничего другого.
Нетрудно заметить, что между этими двумя единичными именами есть важная разница. То, что Луна всего одна, зависит только от законов природы, определивших устройство Солнечной системы, и совершенно не зависит от законов языка. Но то, что высочайшая в мире вершина только одна, как-то зависит и от нашего языка. По самому смыслу имени «высочайшая вершина в мире» таких вершин не может оказаться больше одной. Оборот «две высочайшие вершины» внутренне противоречив, в отличие от оборота «две наиболее высокие вершины». Имя же «естественный спутник Земли», взятое само по себе, никак не предопределяет точное число таких спутников.
К общим именам относятся «книга», «человек», «планета», «число» и т. д. Такие имена связаны всегда с множеством, или классом, предметов. При этом имя относится не к множеству как единому целому, а к каждому входящему в него предмету. Слово «книга» обозначает не все книги вместе, а каждую из отдельных книг, то есть всякий предмет, о котором можно сказать: «Это книга». Слово «человек» является именем каждого отдельного человека и, в частности, именем читателя этой книги, точно так же, как и именем ее автора и вообще любого человека. В отличие от «человека» слово «человечество» не общее, а единичное имя: предмет, который можно назвать «человечеством», всего один.
Пустыми являются имена «Пегас», «русалка», «король, правивший во Франции в 1905 году», «сын Коперника», «родной сын бездетных родителей» и т. п. Каждое из них не обозначает ни одного предмета.
Может возникнуть вопрос: разве является именем слово, которым ничего нельзя назвать? Нужно, однако, помнить, что одно дело быть именем и другое дело быть не беспредметным, а предметным именем. От имени требуется только способность заменять А или В в выражении «А есть В» с образованием осмысленного предложения. Предметное же имя, будучи подставленным вместо В, должно иногда давать не просто осмысленное, а истинное предложение. Например, предложение «Иванов — родной сын бездетных родителей» является осмысленным, хотя и ложным. Значит, оборот «родной сын бездетных родителей» представляет собой имя. Но это имя беспредметно, или пусто. Какой бы объект ни обозначало имя «Иванов», рассматриваемое предложение будет ложным: у бездетных родителей родных сыновей в принципе не бывает.
Можно опять-таки обратить внимание на различие пустых имен «сын Коперника» и «родной сын бездетных родителей». То, что у астронома Н. Коперника, жившего в монастырском замке, не было детей, совершенно не связано с какими-либо принципами употребления языка. Из смысла слов «сын Коперника» нельзя установить, существовал такой сын или нет. Из смысла же имени «родной сын бездетных родителей» очевидно, что таких сыновей не было и не будет. Здесь пустота имени как-то зависит от самого имени, а значит от языка.
Итак, с каждым именем связываются некоторые предметы, обозначаемые им. Совокупность этих предметов принято называть объемом имени. Скажем, объем имени «человек» представляет собой совокупность всех людей, имени «квадрат» — множество всех квадратов, то есть геометрических фигур, являющихся плоскими, замкнутыми, четырехугольными, равносторонними и равноугольными. В объем имени «Пушкин» входит только один предмет, тот же, что входит в объем имени «автор “Евгения Онегина”». Объем имени «круглый квадрат» пуст, так как нет ни одного предмета, который был бы круглым и квадратным вместе.
Помимо объема с именем связывается также другая характеристика — содержание. Последнее представляет собой систему тех свойств, которые мыслятся в данном имени. Именно эти свойства позволяют в случае любого, произвольно взятого предмета решить, подпадает он под рассматриваемое имя или нет. Содержание имени — это совокупность свойств, присущих всем предметам данного имени, и только им.
К примеру, прецедент — это, как известно, случай, имевший место в прошлом и служащий примером или оправданием для последующих случаев подобного рода. Перечисленные свойства составляют содержание имени «прецедент». Они позволяют относительно любого события решить, можно назвать его прецедентом или нет.
Содержание имени никогда не охватывает всех без исключения признаков, присущих предметам рассматриваемого имени. Квадрат является, например, плоской фигурой, четырехсторонней, равносторонней, равноугольной, с параллельными сторонами, равными диагоналями, вписываемой в окружность и т. д. Все квадраты и только они имеют все эти свойства. Однако чтобы отличить квадрат от всего иного, в частности, от любой другой геометрической фигуры, нет нужды ссылаться сразу на все его свойства. Они не являются независимыми друг от друга и достаточно назвать некоторые из них, чтобы однозначно определить квадрат.
Понимание имени как того, что имеет определенный объем и определенное содержание, широко распространено в логике. Нетрудно заметить, что это понимание существенно отличается от употребления понятия «имя» в обычном языке. Имя в обычном смысле — это всегда или почти всегда собственное имя, принадлежащее индивидуальному, единственному в своем роде предмету. Например, слово «Наполеон» является в обычном словоупотреблении типичным именем. Но уже выражения «победитель под Аустерлицем» и «побежденный под Ватерлоо» к именам обычно не относятся. Тем более не относятся к ним такие типичные с точки зрения логики имена как «квадрат», «человек», «самый высокий человек» и т. п. Во всяком случае, если бы кто-то на вопрос о своем имени ответил: «Мое имя — человек», вряд ли такой ответ считался бы уместным. И даже ответ: «Мое имя — самый высокий человек в мире» — не показался бы удачным.
То, что логика заметно расширяет обычное употребление слова «имя», объясняется многими причинами и прежде всего ее стремлением к предельной общности своих рассуждений.
Виды имен
Имена можно классифицировать, исходя из самых разных соображений. Несколько ранее они были подразделены, например, на единичные, общие и пустые. Затем разделены на собственные и не являющиеся собственными.
Имена принято делить также на конкретные («Буцефал» и «мышь») и абстрактные («белизна» и «справедливость»), простые («два» и «автор») и составные («пятьсот два» и «автор «Веверлея») и т. д. Все эти деления интересны и полезны в определенных отношениях.
Так, противопоставление абстрактных имен конкретным призвано упредить «ошибку гипостазирования» — попытку отыскать в реальном мире ту вещь, которая соответствует абстрактному имени. В мире имеется такое свойство вещей как белизна и такое социальное отношение как справедливость. В нем нет, однако, таких отдельных вещей, указав на которые можно было бы сказать: «Это — белизна» или «Это — справедливость».
Выделение пустых имен и противопоставление их именам, обозначающим какие-то существующие предметы, преследует в конечном счете цель исключения пустых, беспредметных имен из языка науки, и если это возможно, то и из обычного языка. Во всяком случае обращение с пустыми именами требует особой осторожности.
Неправильное или даже просто неаккуратное употребление имен всегда может явиться источником неполного или не совсем адекватного понимания, привести к недоразумениям, ошибкам, а то и к прямому непониманию. В этом аспекте особенно важным является правильное употребление общих имен-понятий, а также противопоставление однозначных и многозначных понятий, точных и неточных понятий, ясных и неясных понятий.
Многие понятия не только естественного языка, но и языка науки являются многозначными, неточными или неясными. Нередко это оказывается причиной непонимания и споров. Каждый легко вспомнит из своей жизни случаи, когда долгий спор кончался заключением, что спорить было, в сущности, не о чем: спорящие говорили о разных вещах, хотя и обозначали их одними и теми же словами.
Изучение многозначных, неточных и неясных понятий имеет несомненный теоретический интерес. Оно расширяет общие представления об особенностях употребления имен. Оно раскрывает также происхождение многозначности, неточности и неясности. Разного рода «несовершенные» понятия возникают чаще всего не в результате небрежности отдельных людей или их неспособности уловить существо дела и выразить свою мысль однозначно, точно и ясно. Такие понятия во многом представляют собой неизбежное порождение самого процесса познания, выражение его динамики и противоречивости. И соответственно «совершенствование» их предполагает обычно не столько исправление чьих-то субъективных ошибок, сколько дальнейшее углубление знаний об обозначаемых этими понятиями вещах.
Анализ «несовершенных» понятий важен и в практическом отношении. Нередко он помогает избежать грубых ошибок, столь обычных в обращении с многозначными, неточными и неясными понятиями.
О многозначности как возможной причине непонимания речь пойдет дальше. Достаточно подчеркнуть теперь лишь то, что широко распространенная многозначность языковых выражений не только не исключает требования однозначности, но даже предполагает его. Принцип однозначности говорит, что в процессе коммуникации не следует использовать языковые выражения с несколькими разными значениями. Если понимать этот принцип как описание нашего обычного общения, он окажется очевидно ложным. Нет, пожалуй, такой ситуации, когда использовались бы только однозначные выражения. И вместе с тем, несмотря на постоянную и всюду проникающую многозначность, принцип однозначности необходим. Он гарантирует понятность языковых выражений и является, поэтому важным условием успешного употребления языка.
Глава 3. Ловушки языка
Если бы не было речи, то не были бы известны ни добро, ни зло, ни истина и ни ложь, ни удовлетворение и ни разочарование. Речь делает возможным понимание всего этого. Размышляйте над речью.
«Упанишады»Я полагаю — и в этом я могу опереться на Сократа, — что тот, у кого в голове сложилось о чем-либо живое и ясное представление, сумеет передать его на любом, хотя бы на тарабарском наречии…
М. МонтеньЗаконы действительности запечатлелись в человеческом языке, как только он начал возникать… Мудрость языка настолько же превосходит любой человеческий разум, насколько наше тело лучше ориентируется во всех деталях жизненного процесса, протекающего в нем, чем мы сами.
С. ЛемМожно сказать: «Я друг этого дома», но нельзя сказать: «Я друг этого деревянного дома». Из этого следует, что, говоря о предметах, нужно скрывать их качества…
А. П. Чехов1. Тайная мудрость естественного языка
Наш обычный язык, язык, на котором мы говорим, является полноправным соавтором всех наших мыслей и дел. И притом таким соавтором, который нередко более велик, чем мы сами. В известном смысле он «классик», а мы только современники самих себя. Источник этого обычно не бросающегося в глаза величия языка и его тайной мудрости в том, что в нем зафиксирован и сосредоточен опыт многих поколений, особый взгляд целого народа на мир. С первых лет детства, втягиваясь в атмосферу родного языка, мы усваиваем не только определенный запас слов и грамматических правил. Незаметно для самих себя мы впитываем также свою эпоху, как она выразилась в языке, и тот огромный прошлый опыт, который отложился в нем. Размышляя о языке, русский педагог-демократ К. Д. Ушинский писал: «В языке одухотворяется весь народ и вся его родина… Язык есть самая живая, самая обильная и прочная связь, соединяющая отжившие, живущие и будущие поколения народа в одно великое историческое живое целое».
Обычный, или естественный, язык складывается стихийно и постепенно. Его история неотделима от истории владеющего им народа. Искусственные языки, сознательно создаваемые людьми для особых целей, как правило, более совершенны в отдельных аспектах, чем естественный язык. Но это совершенство в отношении узкого класса целей по необходимости оказывается недостатком в отношении всех иных задач. Естественный язык, пропитывающий ткань повседневной практической жизни и делающий ее эластичной, столь же богат, как и сама жизнь. Разнородность, а иногда и просто несовместимость выполняемых им функций — причина того, что не каждую из своих задач он решает с одинаковым успехом. Но как раз эта широта не дает языку закоснеть в жестких разграничениях и противопоставлениях. Он никогда не утрачивает способности изменяться с изменением жизни и постоянно остается столь же гибким и готовым к будущим переменам, как и она сама. Разнообразные искусственные языки, подобные языкам математики, логики и т. д., и генетически и функционально вторичны в отношении естественного языка. Они возникают на базе последнего и могут функционировать только в связи с ним.
Обычный язык, предназначенный, прежде всего, для повседневного общения, имеет целый ряд своеобразных черт. В определенном смысле их можно считать его недостатками. Этот язык является аморфным как со стороны своего словаря, так и в отношении правил построения выражений и придания им значений. В нем нет четких критериев осмысленности утверждений. Не выявляется четко логическая форма рассуждений. Значения отдельных слов и выражений зависят не только от них самих, но и от их окружения. Многие соглашения относительно употребления слов не формулируются явно, а только предполагаются. Почти все слова имеют не одно, а несколько значений. Одни и те же предметы порой могут называться по-разному или иметь несколько имен. Есть слова, не обозначающие никаких объектов, и т. д. Эти и другие особенности обычного языка говорят, однако, не столько об определенном его несовершенстве, сколько о могуществе, гибкости и скрытой силе.
Богатый и сложный естественный язык требует особого внимания к себе. В большинстве случаев он верный и надежный помощник. Но если мы не считаемся с его особенностями, он может подвести и подстроить неожиданную ловушку.
2. Многозначность
Одна из основных трудностей одинакового понимания говорящими друг друга связана с тем, что слова, как правило, многозначны, имеют два и больше значений. Словарь современного русского литературного языка для самого обычного и ходового глагола «стоять» указывает семнадцать разных значений, с выделением внутри некоторых из этих значений еще и ряда оттенков: «находиться на ногах», «быть установленным», «быть неподвижным», «не работать», «временно размещаться», «занимать боевую позицию», «защищать», «стойко держаться в бою», «существовать», «быть в наличии», «удерживаться» и т. д. У прилагательного «новый» — восемь значений, среди которых и «современный», и «следующий», и «незнакомый»… Когда что-то называется «новым», не сразу понятно, что конкретно имеется в виду под «новизной»: то ли радикальный разрыв со старой традицией, то ли чисто косметическое приспособление ее к изменившимся обстоятельствам. Неоднозначность «нового» может быть причиной ошибок и недоразумений, как это показывает такое рассуждение, переквалифицирующее новатора в консерватора: «Он поддерживает все новое; новое, как известно, — это только хорошо забытое старое; значит, он поддерживает всякое хорошо забытое старое».
Есть слова, которые имеют не просто несколько разных значений, а целую серию групп значений, слабо связанных друг с другом и включающих десятки отдельных значений. Таково, к примеру, обычное слово «жизнь». Во-первых, «жизнь» — это «бытие», «существование» в отличие от смерти; во-вторых, это «развитие», «процесс», «становление», «достижение»; в-третьих, имеется огромное число областей, у каждой из которых очень мало общего со всякой другой: органическая и неорганическая жизнь, общественная, культурная, богемная и т. д.; в-четвертых, под жизнью понимается определенного рода распорядок или уклад: жизнь столичная, периферийная, яркая или будничная, театральная или профсоюзная и т. д.; в-пятых, жизнь — это «оживление», «подъем» или «расцвет жизненных сил», а также протекание или время жизни: «раз в жизни», «заря жизни», «на всю жизнь» и т. д. Разнообразие значений слова «жизнь» столь велико, что даже тавтология «жизнь есть жизнь» не кажется бессодержательной, пустой: два вхождения в нее данного слова звучат как будто по-разному. Подавляющее большинство слов многозначно. Между некоторыми их значениями трудно найти что-то общее (скажем, «глубокие знания» и «глубокая впадина» являются «глубокими» в совершенно разном смысле). Между другими же значениями сложно вообще провести различие. При этом чаще всего близость и переплетение значений характерны именно для ключевых слов, определяющих значение языкового сообщения в целом. Во многом это свойственно и философскому, и научному языку.
Многозначность не препятствует успешному функционированию естественного языка. Зачастую мы ее даже не замечаем. «Разве для нас представляет какую-нибудь трудность, — пишет русский психолог А. Р. Лурия, — когда один раз мы читаем, что у ворот дома остановился экипаж, а в другой раз с той же легкостью слышим, что «экипаж корабля доблестно проявил себя в десятибалльном шторме». Разве «опуститься по лестнице» затрудняет нас в понимании разговора, где про кого-то говорят, что он морально «опустился»? И, наконец, разве мешает нам то, что «ручка» может быть одновременно и ручкой ребенка, и ручкой двери, и ручкой, которой мы пишем, и бог знает чем еще?.. Обычное применение слов, при котором отвлечение и обобщение играют ведущую роль, часто даже не замечает этих трудностей или проходит мимо них без всякой задержки: некоторые лингвисты думают даже, что весь язык состоит из одних сплошных метафор и метонимий, разве это мешает нашему мышлению?» Многозначность — естественная и неотъемлемая черта обычного языка. Сама по себе она еще не недостаток, но таит в себе потенциальную возможность логической ошибки.
В процессе общения всегда предполагается, что в конкретном рассуждении смысл входящих в него слов не меняется. Если мы начали говорить, допустим, о звездах как о небесных телах, то слово «звезда» должно, пока мы не оставим эту тему, обозначать именно эти тела, а не звезды на погонах или елочные звезды. Требование, чтобы каждое языковое выражение, используемое в процессе общения, являлось именем одного и того же объекта (и значит, не было многозначным), называется «принципом однозначности». Как только этот принцип нарушается, возникает логическая ошибка, называемая эквивокацией. Такая ошибка допускается, к примеру, в умозаключении: «Мышь грызет книжку; но мышь — имя существительное; следовательно, имя существительное грызет книжку». Чтобы рассуждение было правильным, слово «мышь» должно иметь одно значение. Но в первом предложении оно обозначает известных грызунов, а во втором — уже самое слово «мышь».
Задачи на многозначность
Ошибки и недоразумения, в основе которых лежит многозначность слов или выражений, довольно часты и в обычном общении, и в научной коммуникации. Лучше всего проанализировать их на конкретных примерах. Начнем с самых простых и очевидных из них.
Читателю будет несложно разобраться с ними, не дожидаясь приводимых далее ответов.
«Каждый металл является химическим элементом; латунь — металл; значит, латунь — химический элемент».
«Всякий человек — кузнец своего счастья; есть люди, не являющиеся счастливыми; значит, это их собственная вина».
«Старый морской волк — это действительно волк; все волки живут в лесу; таким образом, старые морские волки живут в лесу».
(Ответы: в первом из этих умозаключений в двух разных смыслах используется понятие «металл», во втором — «счастливый», в третьем — «волк»).
Многозначность обыгрывается и в такой загадке: «Голова — как у кошки, ноги — как у кошки, туловище — как у кошки, хвост — как у кошки, но не кошка. Кто это?»
(Ответ: кот. Слово «кошка» обозначает и всех кошек, и только кошек-самок).
Более двухсот лет назад английский врач Д. Хилл был забаллотирован на выборах в Королевское научное общество. Спустя некоторое время он прислал в это общество доклад такого содержания: «Одному матросу на корабле, на котором я работал судовым врачом, раздробило ногу. Я собрал все осколки, уложил их как следует и полил смолой и подсмольной водой, получающейся при перегонке смолы. Вскоре осколки соединились и матрос смог ходить, как будто ничего не случилось». В то давнее время Королевское общество много рассуждало о целебных свойствах подсмольной воды и дегтя. Сообщение доктора Хилла вызвало большой интерес и было зачитано на одной из научных сессий. Через несколько дней Хилл прислал обществу дополнительное сообщение: «В своем докладе я забыл упомянуть, что нога у матроса была деревянная».
(Деревянная нога — это тоже нога, хотя и не в прямом смысле. В некоторых случаях ее можно назвать просто «ногой». Если забыть о переносном смысле, в каком она является «ногой», возникнут недоразумения).
Во многих странах для выписки всевозможных счетов применяется ЭВМ. Один предприниматель не пользовался некоторое время энергией от городской электростанции. Но тем не менее он получил счет от электронного бухгалтера. Счет вполне справедливый — на 0,00 марок. Поскольку такой счет оплачивать бессмысленно, предприниматель бросил его в мусорный ящик. Вскоре пришел второй счет, за ним третий — с грозным предупреждением. Не дожидаясь штрафа, предприниматель послал чек на 0,00 марок. ЭВМ успокоилась.
(Здесь двусмысленно слово «счет». Для предпринимателя счет на 0,00 марок — это вовсе не счет, для ЭВМ — это обычный счет и он, как и любой другой, должен быть оплачен).
Писатель начала века В. И. Дорошевич, в свое время прозванный королем русского фельетона, удачно использовал многозначность слов обычного языка в сатирическом рассказе «Дело о людоедстве». Пьяный купец Семипудов дебоширил на базаре. При аресте, чтобы придать себе вес, он похвастался, что прошлым вечером «ел пирог с околоточным надзирателем». Но у полицмейстера Отлетаева, как на грех, оказался рапорт об исчезновении околоточного надзирателя Силуянова. Возникло подозрение, что он съеден в пирогах. Завертелось дело, последовали допросы с пристрастием, массовые аресты. В конце концов забулдыга надзиратель отыскался, но несчастный купец, обвиненный в людоедстве, уже был осужден на каторгу «по законам военного времени».
Молодой австралийский антрополог Р. Дарт, открывший позднее первую в Африке ископаемую человекообразную обезьяну-австралопитека, получил в 1922 г. место преподавателя в Иоганнесбургском университете. Перед отъездом в Южную Африку один из его учителей сказал ему: «В своих бумагах на вопрос о вероисповедании вы везде отвечаете: «свободомыслящий». Но там сильная религиозная атмосфера. Я бы написал в графе «религия» — «протестант». Они не станут допытываться, какого сорта вы протестант и против чего вы протестуете». Дарт, однако, не согласился на столь своеобразное толкование «протеста».
В романе испанского писателя К. Рохаса король говорит художнику Ф. Гойе: «…Свободным на самом деле можно быть лишь в том случае, если тебя не зачинали. Свободны только те, которые никогда не были, ибо даже мертвые отбывают наказание».
У многих, притом у ключевых слов, многозначность бывает такой, что в разных своих значениях они обозначают прямо противоположные вещи. «Свободным» обычно называют человека, действующего без принуждения, делающего без препятствий со стороны то, что он находит нужным. В другом, весьма скептическом и мрачном смысле свободны только мертвые, поскольку в реальной жизни будто бы невозможно быть свободным. В еще более мрачном смысле слов короля свободны лишь те, кто вообще никогда не появится на свет. Оба эти смысла превращают свободу в чистейшую фикцию.
В «Гисторических материалах» Козьмы Пруткова повествуется о герцоге де Рогане, которому врач прописал принимать особое лекарство по двадцать капель в воде. Когда на другой день врач зашел к больному, тот сидел в холодной ванне и спокойно пил ложечкой прописанные капли. «Так и великие люди иногда тоже недогадливыми были», — заключает Козьма Прутков.
И в самом деле, герцогу не хватило сообразительности отличить прием двадцати капель лекарства, растворенных в воде, от приема лекарства сидя по шею в воде.
В басне «Стан и голос» Козьма Прутков обыгрывается многозначность определенного слова:
Какой-то становой, собой довольно тучный,
Надевши ваточный халат,
Присел к открытому окошку
И молча начал гладить кошку.
Вдруг голос горлицы внезапно услыхал…
«Ах, если б голосом твоим я обладал, —
Так молвил пристав, — я б у тещи
Приятно пел в тенистой роще
И сродников своих пленял и услаждал!»
А горлица на то головкой покачала
И становому так, воркуя, отвечала;
«А я твоей завидую судьбе:
Мне голос дан, а стан тебе».
Здесь обыгрываются два значениям слова «стан».
Использование многозначности слов и выражений вообще один из излюбленных приемов юмористов и сатириков. Тому же Козьме Пруткову принадлежат афоризмы: «Если хочешь быть спокоен, не принимай горя и неприятностей на свой счет, но всегда относи их на казенный», «Взирая на высоких людей и на высокие предметы, придерживай картуз свой за козырек».
Об одном крайне неосторожном пешеходе сказали: «Он умер естественной смертью: переходил улицу на красный свет светофора!»
(Двусмысленно выражение «естественная смерть»).
«Тень — самый верный спутник человека, но даже она его покидает, когда над его головой сгущаются тучи».
(В этом афоризме переплетаются прямой и переносный смыслы оборота «сгущаются тучи»).
«На следующий день после Ватерлоо Наполеон проснулся невыспавшимся и совершенно разбитым».
(Наполеон действительно был разбит при Ватерлоо).
«— Я навсегда покончил со старым, — сказал своему напарнику матерый уголовник, выходя из квартиры антиквара».
(Не совсем ясно, что сделал этот уголовник: то ли покончил со своим прошлым, то ли с антикваром).
«Вот уже пятнадцать лет вкалывает в одном месте процедурная сестра Васильева».
(«Вкалывать» здесь означает и «делать уколы», и «работать»).
«Не топчитесь на месте — это может завести слишком далеко».
(Выражение «зайти слишком далеко» имеет два разных смысла, прямой (перемещение в пространстве) и переносный).
«Не стой где попало — попадет еще!»
(Двусмысленным является выражение «не стой где попало». Оно может означать «не стой в месте, где уже случались неприятности» (в этом случае после слова «стой» должна стоять запятая) или же «не останавливайся, не подумав, где стоишь»).
«Того, кто не умеет молчать, берут за жабры».
(Оборот «взять за жабры» используется и в прямом, и в переносном смысле).
«Едят, как правило, тех, кто не по вкусу».
(Глагол «есть» также имеет прямой и переносный смыслы).
«Чтобы накалить атмосферу в коллективе, порой достаточно пары теплых слов».
(Взаимные отношения людей в коллективе могут быть накаленными, а слова — теплыми только в переносном смысле. Прямой и переносные смыслы слов «накаленный» и «теплый» здесь как бы перекликаются).
«Когда вагоновожатый ищет новые пути — трамвай сходит с рельсов».
(Двусмысленным является оборот «искать новые пути»).
«Материя бесконечна, но почему-то все время кому-нибудь не хватает на штаны».
(Философское понятие материи подменяется во втором предложении понятием материала, из которого шьют одежду).
Мальчик пришел домой с одноклассником и сказал:
— Посмотри, мама, это мой друг. Он необыкновенный человек!
— Чем же он такой необыкновенный?
— Он учится еще хуже, чем я!
(С эпитетом «необыкновенный» мы обычно связываем положительную оценку: «необыкновенный герой», «необыкновенные знания» и т. п. Но это же слово может усиливать и отрицательную оценку, например «необыкновенный злодей»).
Школьник радостно говорит отцу: «Папа, я пятерку принес: в карты выиграл».
(«Пятерка» в устах школьника почти всегда означает отличную оценку по какому-то предмету. Но на этот раз ожидание обычного значения явно не оправдывается).
— Джексон, что случилось? — спрашивает поручик идущего по двору казармы рядового Джексона с загипсованной рукой.
— Я сломал руку в двух местах, сэр.
— Впредь избегайте этих мест, Джексон!
(Двусмысленный диалог, в котором места переломов на руке смешиваются с местами на территории, где это случилось).
Многозначными могут быть не только отдельные слова или части фраз, но и целые фразы. Историк Геродот рассказывает, как лидийский царь Крез вопрошал божество в Дельфах, начинать ли ему войну с Персией, и получил ответ: «Если царь пойдет войной на персов, то сокрушит великое царство».
(Когда разгромленный и попавший в плен Крез упрекнул дельфийских жрецов в обмане, они заявили, что в войне действительно было сокрушено великое царство, но не Персидское, а Лидийское).
Изречение Ф. Гойи, начертанное на одном из его офортов, «Сон разума рождает чудовищ» стало знаменитым. Оно допускает — и ему действительно давались — два разных истолкования.
(Разум, когда он бодрствует, преграждает путь чудовищам; но когда разум спит, они, пользуясь отсутствием противодействия, выходят на свет. И совсем иное истолкование: сам разум в кошмаре сна рождает мерзких призраков и чудовищ, одолевающих человека; человек не способен прийти к согласию с миром, пока не отыщет покоя и согласия с самим собой).
Поэт Н. А. Некрасов давал такой совет: «Правилу следуй упорно: чтоб словам было тесно, а мыслям просторно». Смысл этого правила кажется, как будто ясным: необходимо говорить немногословно, но речь должна быть богатой мыслью.
(Однако если подойти к этому правилу несколько казуистически, оно получит другое толкование. Тесно бывает тогда, когда чего-то много, а просторно — когда чего-то мало. Получается как раз обратный смысл — побольше слов, поменьше мыслей).
«Согласно философам эпохи Просвещения, — читаем мы в одной книге, — правом человека является то, чтобы право давало ему право воспользоваться защитой права, когда его право нарушается».
(Здесь «право» означает как «право человека», так и «государственное право». Но путаницы из-за этого не возникает).
Одного человека, никогда не видевшего жирафа, долго уверяли, что у жирафа очень длинная шея. Но человек в это никак не хотел поверить. «— Не может быть! — твердил он. — Никак не может быть». В конце концов его повели в зоопарк, подвели к клетке с жирафом и сказали: «Ну вот, видишь, какая у него шея?» Человек всплеснул руками и воскликнул: «Не может быть!»
(В двух разных ситуациях фраза «Не может быть» имела, очевидно, разные смыслы. До знакомства с жирафом она означала, что животное с такой длинной шеей не может существовать. После того как человек увидел жирафа и вопрос о его существовании отпал, «не может быть» означало уже уверенность в том, что такое длинношеее животное неестественно, поскольку не имеет того обычного вида, который присущ животным).
Козьма Прутков советовал: «Если видишь на клетке слона надпись «буйвол», не верь глазам своим».
(Остается неясным, чему именно не следует верить. Не верить надписи на клетке и не считать слона буйволом или же, наоборот, не верить тому, что видишь в клетке, а верить надписи и считать слона буйволом?)
Гость, приглашенный к физику Н. Бору, увидел прибитую над дверьми его дома лошадиную подкову. «— О, я не думал, что вы, человек науки, верите в предрассудки!» — воскликнул гость. — Очевидно, я в них не верю, — ответил Бор. — Но я слышал, однако, что подкова приносит счастье независимо от того, веришь в это или нет».
(Здесь хорошо видны два смысла фразы «Я не верю»).
И, наконец, несколько не совсем серьезных загадок, основанных на многозначности.
В комнате есть свеча и керосиновая лампа. Что вы зажжете первым, когда вечером войдете в эту комнату?
(Ответ: спичку).
У фермера восемь свиней: три розовые, четыре бурые и одна черная. Сколько свиней могут сказать, что в этом небольшом стаде найдется, по крайней мере, еще одна свинья такой же масти, как и ее собственная?
(Ответ: ни одна, поскольку свиньи не говорят).
Сколько лет отцу, единственному сыну которого исполнилось семь лет?
(Ответ: тоже семь лет, так как он стал отцом, когда родился его сын).
Действительно ли композитором надо родиться?
(Ответ: да, не родившись невозможно писать музыку).
Ученик старшего возраста спрашивает малыша: «— Сколько будет пять, умноженное на семь, плюс два? — Тридцать семь, — отвечает малыш. — Ни в коем случае. Это будет сорок пять. А сколько будет пять, умноженное на семь, плюс два? — Сорок пять. — Неправильно. Это будет тридцать семь».
(В выражении «пять, умноженное на семь, плюс два» не указана последовательность, в какой выполняются умножение и сложение. Отсюда возможность двух результатов).
Ученые вымышленной страны Лагадо, описанной английским сатириком Д. Свифтом, избегали словесных изъяснений. Поскольку слова — это названия вещей, они объяснялись друг с другом, показывая соответствующие предметы. Словарный запас каждого мудреца зависел от вместительности его мешка. Боязнь слов — это чаще всего боязнь многозначности обычного языка. Наивно, конечно, думать, что ее можно избежать, не называя вещи, а показывая их. И вещи, и даже полное молчание столь же многозначны, как и слова. В конце концов в обычных условиях многозначность опасна лишь для тех, кто не умеет должным образом обращаться с языком. Умелое использование способно превратить многозначность из опасного подводного камня в хорошее средство придания нашим мыслям и словам большей гибкости и выразительности.
3. Опасность лживых слов
В жизни народа бывают трудные, трагические периоды, в которые язык делается по-особому многозначным. Ключевым словам придается при этом смысл диаметрально противоположный их обычному значению и одна и та же фраза начинает выражать несовместимые между собой утверждения. Такими были в нашей стране годы сталинизма и особенно 30-е годы, когда слово «свобода» означало, с одной стороны вседозволенность и произвол, а с другой — субъективно осознанную необходимость, когда слова «справедливость», «демократия», «права личности» и им подобные потеряли свой изначальный смысл. В это время даже сложилась абсурдная идея, что разные слои одной и той же нации говорят на совершенно разных языках и не способны общаться и понимать друг друга.
Трагедия народа становится несчастьем и для языка, отображающего жизнь общества. Искажение значений большинства ключевых слов усугубляет, в свою очередь, беды общества. Язык из средства коммуникации превращается в значительной мере в препятствие на пути общения и достижения взаимопонимания. Не случайно в польской антифашистской молитве, сложенной Ю. Тувимом в тяжелые военные годы, говорилось:
Словам, звучащим и так, и иначе,
Верни единство и правдивость.
Пусть вольность только вольность значит,
А справедливость — справедливость.
«Нет никакого сомнения в том, — пишет лингвист X. Вайнрих, — что слова, которыми много лгут, сами становятся ложными. Стоит только попробовать произнести такие слова как мировоззрение, жизненное пространство, окончательное решение, язык сам противится и выплевывает их. Тот, кто их все-таки употребляет, — лжец или жертва обмана. Ложь не только портит стиль, она губит язык. И не существует никакого лечения для испорченных слов; их необходимо изгонять из языка. Чем быстрее и полнее это произойдет, тем лучше для нашего языка».
Вайнрих приводит пример того, как слово может стать лживым. Демократия — это слово, имеющее ранг понятия. То есть понятие «демократия» по своему языковому употреблению определяется как форма государства, в котором власть исходит от народа и по определенным политическим правилам передается свободно избранным его представителям. Чистая этимология слова демократия здесь недостаточна. Тот, кому угодна такая форма государства, в котором государственная власть не исходит от народа и не передается по определенным политическим правилам свободно избранным представителям и кто тем не менее называет такую форму государства словом демократия просто лжет. Немецкий писатель Б. Брехт распространил в 1964 г. среди писателей анкету «Трудности описания сегодняшней действительности». В большинстве ответов на нее говорилось о неустойчивости значений слов, наиболее широко используемых в общественной жизни. «Впрочем и слово «истина» сегодня плавает, — писал один из отвечавших, — точно так же, как свобода, справедливость, терпимость, вера, честь и многие другие, под карантинным флагом; эти понятия все вместе и каждое в отдельности отравлены — идеологией, прагматизмом и всякого рода инсинуациями». Другой отвечавший выразил свои опасения в отношении слова «истина» так: «Боюсь, что само слово уже стоит криво, склоняясь к противоположности того, что оно могло бы значить, — ко лжи».
Мы привыкли думать, что истинными или ложными могут быть только предложения, отдельные же слова неспособны лгать. На самом деле это не совсем так. Понятия могут лгать, пишет X. Вайнрих, хотя бы они и существовали сами по себе. Вернее, это только кажется, что они существуют сами по себе. За ними стоит непроизнесенный контекст: определение. Лживые слова — это почти без исключения лживые понятия. Они относятся к некоторой понятийной системе и имеют ценность в некоторой идеологии. Они становятся лживыми, когда лживы идеология и ее тезисы.
Таким образом, в определенных условиях многозначность и неустойчивость значений слов могут представлять социальную опасность.
4. Я — это кто?
При общении причиной недоразумений могут оказываться самые невинные на первый взгляд вещи. В частности, это может быть чисто внешняя близость слов, сходство их по написанию. Например, эристика — это искусство ведения спора, а близкая по звучанию эвристика — исследование методов и правил, с помощью которых делаются открытия и изобретения. Физиология — наука о функциях живых организмов, а фтизиология — наука о туберкулезе и его лечении.
Более опасны и как бы соблазняют к смешению разных значений так называемые эгоцентрические слова. Эти такие слова, называемые также ситуативными, как «я», «ты», «здесь», «теперь», «сейчас», «вчера», «завтра», «будет» и многие другие. Их собственное значение, т. е. значение, не зависящее от ситуации, в которой они употребляются, ничтожно. «Я» — это тот, кто говорит, «он» — лицо мужского рода, о котором идет речь, «здесь» — место, о котором говорится, «теперь» — время, в котором идет речь, и т. д. Полное значение этих слов меняется от случая к случаю и зависит от того, кто, когда и где их высказывает. К примеру, в «Войне и мире» Л. Толстого «я» — это в одном случае Кутузов, в другом — Наполеон, в третьем — Пьер Безухов или Наташа Ростова. Человек может всю жизнь повторять «Сегодня — здесь, завтра — там» и оставаться на одном и том же месте: всякий наступивший день будет для него «сегодня», а не «завтра». «Завтра, обязательно завтра» — обычная поговорка лентяев. Изменчивость значений ситуативных слов может оказываться причиной ошибочных заключений. Скажем, в умозаключении «Когда-то на демонстрации я нес чей-то портрет; кто-то написал «Одиссею»; значит, я нес портрет автора «Одиссеи» — заключение нелепо, поскольку неопределенное местоимение отсылает, очевидно, к двум разным лицам.
Характерная особенность утверждений с эгоцентрическими словами — непостоянство в отношении истины. В устах одного человека утверждение «Я отвечал на экзамене просто блестяще» может быть истинным, а в устах другого — ложным. Утверждение «В Москве вчера было солнечное затмение» — истинно один день за много лет и ложно во всякое другое время. Нет ничего удивительного, что от подобного рода неустойчивых высказываний стремятся избавиться и в науке, и в других областях, где требуется стабильность сказанного и написанного, независимость его от лица, места и времени. Вместо того чтобы писать «он», «сегодня», «здесь» и т. п., указывают фамилию, дату по календарю и географическое название местности. Тем самым неустойчивость снимается. Истинность утверждений типа «24 августа 1812 г. Кутузов был в Москве» не меняется с изменением времени или места их произнесения. Она не зависит и от того, кому принадлежит подобное утверждение. Конечно, такая формулировка способствует в определенной мере однозначности и точности языка. Но она, несомненно, обедняет его, делает суше и строже. Языку, в котором нет «я» и «ты», а есть только «Иванов» и «Петрова», явно недостает чего-то личностного, субъективного.
К тому же эгоцентрические слова — не просто такая досадная черта обычного, не особенно строгого языка, которой можно было бы избежать в каком-то «совершенном языке». Эти слова — необходимая составная часть нашего языка. Без них он не может быть связан с миром и все попытки полностью избавиться от них никогда не приводят к полному успеху. Употребление эгоцентрических слов не обязательно ведет к какой-то двусмысленности.
Немецкий поэт XVII в. Л. Флеминг остро ощущал бытие человека в текущем мире и времени, человеческое «я» в соприкосновении с множеством других людей. Стихи Флеминга перенасыщены местоимениями:
Я потерял себя.
Меня объял испуг.
Но вот себя в тебе я обнаружил вдруг…
Сколь омрачен мой дух, вселившийся в тебя…
…Но от себя меня не отдавай мне боле…
И нет меня во мне, когда я не с тобою.
В этих стихах волнующий лиризм сочетается с глубиной и ясностью мысли.
Но вот другое, богатое местоимениями стихотворение, взятое из сказки об Алисе Л. Кэрролла:
Я знаю, с ней ты говорил
И с ним, конечно, тоже.
Она сказала: «Очень мил,
Но плавать он не может».
Там побывали та и тот
(Что знают все на свете).
Но если б делу дали ход,
Вы были бы в ответе.
Я дал им три, они нам — пять,
Вы шесть им посулили —
Но все вернулись к вам опять,
Хотя моими были…
Каждое из употребленных здесь слов имеет смысл, но в целом стихотворение бессмысленное или, скорее, наглухо зашифрованное. Разорваны связи между эгоцентрическими словами и теми объектами, на которые они указывают. Вся смысловая конструкция, лишенная связи с действительностью, повисает в воздухе.
Ситуативные слова — при их неумеренном или неточном употреблении — делают рассуждение неконкретным и нечетким. Они размывают ответственность за недостатки и лишают точного адреса похвалу. Обороты типа «мы не согласны», «здесь такое не пройдет», «не забывайте, где вы находитесь», «мы так считаем», «сейчас принято так говорить» и т. д. делают рассуждение аморфным (Кто эти «мы»? Где именно «здесь»? Что конкретно неприемлемо? и т. д.), они лишают возможную полемику твердого отправного пункта. Можно ли оспорить лишенное конкретности утверждение «Кое-где кое у кого есть отдельные недостатки»?
«А нельзя ли было тому, кто критиковал того, который критиковал неизвестно кого, назвать кого-нибудь еще, кроме того, кто критиковал…» — нагромождение эгоцентрических слов делает смысл этого предложения трудноуловимым.
«Трактор у него всегда на ходу: лишний раз он не покурит, не посидит, проверит, все ли исправно» (В этой цитате из газеты неправильно употребленное слово «он» переадресовывает похвалу трактористу на его трактор).
В. В. Вересаев в «Невыдуманных рассказах» вспоминает такой популярный анекдот: услышал городовой, как на улице кто-то сказал слово «дурак», — и потащил его в участок.
— За что ты меня?
— Ты «дурак» слово сказал.
— Ну да, сказал! Так что же из того?
— Знаем мы, кто у нас дурак!
(Здесь обычное слово «дурак» становится ситуативным. Оно относится, по всей видимости, к двум разным лицам: городовой под «дураком» имеет в виду императора Николая II, прохожий, скорее всего, — кого-то другого).
Шутливая пословица «Подпись без даты хуже, чем дата без подписи» подсказывает, что не только сказанное, но и написанное может оказываться ситуативным, а значит, меняющим свое значение.
Слово «я» в устах одного и того же человека, но в разные периоды его жизни означает настолько разных лиц, что поэт В. Ходасевич называет его «диким»:
Я! Я! Я! Что за дикое слово!
Неужели вон тот — это я?
Разве мама любила такого,
Серо-желтого и худого
И всезнающего, как змея?
Другой поэт, Н. Заболоцкий, пишет:
Как мир меняется! И как я сам меняюсь!
Лишь именем одним я называюсь,
На самом деле то, что именуют мной, —
Не я один. Нас много. Я — живой.
Эгоцентрические слова помогают выделить устойчивое, тождественное в изменяющемся. Но они нередко оказываются и средством ошибочных отождествлений. Все это показывает, что эгоцентрические слова требуют определенного внимания, а иногда и известной осторожности. Особенно если мы стремимся к ясности, точности и конкретности сказанного и написанного.
5. Неясные имена
Далеко не все имена имеют ясно определенное содержание и точно очерченный объем. В большинстве своем имена нашего естественного языка или неясны с точки зрения своего содержания, или неточны в отношении своего объема, или неясны и неточны вместе.
Хороший — можно сказать, классический — пример содержательно неясного понятия представляет собой понятие «человек». Неточность объема этого понятия совершенно незначительна, если она вообще существует. Класс людей ясно и резко очерчен. У нас никогда не возникает колебаний относительно того, кто является человеком, а кто нет. Особенно если мы отвлекаемся от вопросов происхождения человека, предыстории человеческого рода и т. п.
Вместе с тем с точки зрения своего содержания это понятие представляется весьма неопределенным.
Французский писатель Веркор пишет в своем фантастическом романе «Люди или животные», что человечество напоминает собой клуб для избранных, доступ в который весьма затруднен: мы сами решаем, кто может быть в него допущен. На основе каких признаков решается это? На что мы опираемся, причисляя к классу людей одни живые существа и исключая из него другие? Или, выражаясь более специально, какие признаки мыслятся нами в содержании понятия «человек»? Как ни странно, четкого ответа на данный вопрос нет. Это обстоятельство как раз и обыгрывается Веркором: суду присяжных нужно решить, является ли убийство «тропи», потомка человека и обезьяны, убийством человека или же убийством животного.
Существуют десятки и десятки разных определений человека.
Еще одним примером содержательной неясности может служить понятие «токсическое вещество».
Растущее внимание к токсикологии окружающей среды находит отчасти свое выражение в постоянном росте числа таких веществ. Одно из первых руководств по профзаболеваниям, изданное в Соединенных Штатах в 1914 г., включало всего 67 наименований токсинов. Стандартный справочник 1969 г. включал уже 17 тысяч наименований. Современный достаточно полный список токсинов, применяемых в промышленности, насчитывает 100 тысяч наименований. Ясно, что бурное увеличение числа токсинов обусловлено не столько появлением в ходе технического прогресса новых веществ, неблагоприятно воздействующих на живые существа, сколько постоянным изменением самих представлений о том, какие именно вещества должны относиться к токсинам.
Говоря о содержательно неясных понятиях, не следует представлять дело так, что неясность — это удел нашего повседневного общения и таких используемых в нем понятий как «игра» или «язык». Неясными, как и объемно неточными, являются не только обиходные, но и многие научные понятия.
Одним из источников споров, постоянно идущих в области биологии, особенно в учении об эволюции живых существ, является неясность таких ключевых понятий этого учения как «вид», «борьба за существование», «эволюция», «приспособление организма к окружающей среде» и т. д.
Не особенно ясны и многие центральные понятия психологии: «мышление», «восприятие» и т. д.
Неясные понятия обычно в эмпирических науках, имеющих дело с разнородными и с трудом сводимыми в единство фактическими данными. Такие понятия не столь уж редки и в самых строгих и точных науках, не исключая математику и логику.
Не является, к примеру, ясным понятие множества, или класса, лежащее в основании математической теории множеств. Далеки от ясности такие важные понятия логики как «логическая форма», «имя», «предложение», «доказательство» и т. д.
Не является, наконец, ясным и само понятие науки. Было предпринято много попыток выявить те особенности научных теорий, которые позволили бы отграничить последние от псевдонаучных концепций, подобных алхимии и астрологии. Но полной определенности и отчетливости понятию «наука» так и не удалось придать.
Степень содержательной ясности научных понятий определяется, прежде всего, достигнутым уровнем развития науки. Неразумно поэтому требовать большей — и тем более предельной — ясности в тех научных дисциплинах, которые для нее еще не созрели.
Следует помнить также, что понятия, лежащие в основании отдельных научных теорий, по необходимости остаются содержательно неясными до тех пор, пока эти теории способны развиваться. Полное прояснение таких понятий означало бы, в сущности, что перед теорией уже не стоит никаких вопросов.
Научное исследование мира — бесконечное предприятие. И пока оно будет продолжаться, будут существовать понятия, содержание которых нуждается в прояснении.
Неплохим средством прояснения понятия иногда оказывается исследование его происхождения, прослеживание изменений его содержания во времени.
Однако значение анализа этимологии слова для уточнения его содержания чаще всего переоценивается.
Один лингвист написал книгу о происхождении и эволюции слова «кибернетика» и представлял эту работу как вклад в науку кибернетику.
Но отношение является скорее обратным. Не этимология имени «кибернетика» делает ясным его содержание и раскрывает, чем является наука с таким именем. Развитие самой кибернетики и уточнение основных ее принципов и понятий — вот что проясняет данное имя и саму его этимологию.
Еще несколько простых примеров для подтверждения ограниченного значения этимологии имени в разъяснении его содержания. «Феодал» и «феодализм» первоначально были терминами судебной практики. В XVIII в. они стали довольно неуклюжими этикетками для обозначения некоторого типа социальной структуры, довольно нечетко очерченной. Только во второй половине XIX в. эти термины приобрели современное, достаточно ясное содержание. Слово «капитал» первоначально употреблялось только ростовщиками и счетоводами, и только позднее экономисты стали последовательно расширять его значение… Слово «капиталист» появилось впервые в жаргоне спекулянтов на первых европейских биржах… Слово «революция» появившись в астрологии, означало правильное и беспрестанно повторяющееся движение небесных тел… Все эти этимологические экскурсы ничего — или почти ничего — не значат для более полного понимания указанных слов.
Обращение к истории слова, к эволюции его значения — в общем-то, неплохой прием для прояснения этого значения и в обычной жизни, стремясь яснее понять что-то, мы нередко прибегаем к такому приему. Нужно, однако, помнить, что эволюция значения может быть непоследовательной, запутанной, а то и просто противоречивой. Слишком доверчивое отношение к «изначальному» смыслу слова, к его происхождению в любой момент может подвести.
Неясными являются многие научные понятия. Одним из источников споров, постоянно идущих в области биологии, особенно в учении об эволюции живых существ, является недостаточная ясность таких ключевых понятий как вид, борьба за существование, приспособление организма к окружающей среде и т. д. Вид представляет собой совокупность особей, способных давать плодовитое потомство и обладающих общими морфофизиологическими признаками. Однако, как пишут биологи Л. и Дж. Медавар, заявление, что проблема видового определения уже разрешена, может довести замученного работой музейного систематика до исступления: вид, по сути, есть облако точек в некоем n-мерном пространстве.
Неясные понятия обычны в науках, имеющих дело с разнородными и с трудом сводимыми в единство фактическими данными. Такие понятия не столь уж редки и в самых строгих и точных науках, не исключая математику и логику. Не является, к примеру, ясным понятие множества, или класса, лежащее в основании математической теории множеств. Далеки от ясности такие понятия логики как имя, высказывание, доказательство и т. п. Степень содержательной ясности научных понятий определяется достигнутым уровнем развития науки. Неразумно было бы поэтому требовать большей — а тем более предельной — ясности в тех научных дисциплинах, которые для нее еще не созрели. Следует помнить также, что понятия, лежащие в основании отдельных научных теорий, по необходимости являются содержательно неясными до тех пор, пока эти теории способны развиваться. Полное прояснение таких понятий означало бы, в сущности, что перед теорией не стоит уже никаких вопросов. Научное исследование мира бесконечно. И пока оно будет продолжаться, будут существовать понятия, содержание которых нуждается в прояснении.
«Ясность — вот лучшее украшение истинно глубокой мысли, — утверждал французский моралист Л. Вовенарг. — Вырази ложную мысль ясно, и она сама себя опровергнет». Но при всей желательности и пользе ясности стремление достичь ее любой ценой неоправданно. Оно способно привести как раз к противоположному результату. «…Ясность в среднем оказывается более плодотворной, чем путаница, но не следует презирать плоды ни той, ни другой» (У. Куайн).
6. Проблемы и парадоксы неточности
В случае неточных понятий не всегда ясно, какие именно предметы подпадают под них, а какие нет. Возьмем понятие «молодой человек». В двадцать лет человека вполне можно назвать молодым. А в тридцать? А в тридцать с половиной? Можно поставить вопрос резче: начиная с какого дня или даже с какого мгновения тот, кто считался до этого молодым, перестал быть им? Ни такого дня, ни тем более мгновения назвать, разумеется, нельзя. Это не означает, конечно, что человек всегда остается молодым, даже в сто лет. Просто понятие «молодой человек» является неточным, границы его приложения лишены четкости, размыты. Если в двадцать лет человек определенно молод, те в сорок его точно нельзя назвать молодым, во всяком случае это будет уже не первая молодость. Где-то между двадцатью и сорока годами лежит довольно широкая область неопределенности, когда нельзя с уверенностью ни назвать человека молодым, ни сказать, что он уже немолодой.
Неточными являются характеристики типа «высокий», «лысый», «отдаленный» и т. д. Определенно существуют ситуации, когда нет уверенности, можно ли употребить рассматриваемое понятие или нет. Причем сомнения и колебания в применимости понятия к конкретным вещам не удается устранить ни путем привлечения каких-то новых фактов, ни дополнительным анализом самого понятия.
Нередко бывает так, что сложные и глубокие проблемы первоначально встают в форме очень простых и как будто даже наивных вопросов.
Почему, может спросить даже ребенок, плавают ужи? Рыба отталкивается от воды хвостом и плавниками, собака и лошадь — ногами. У ужа ничего этого нет, он способен только изгибаться. И все-таки он движется вперед.
Оказывается на этот как будто простой вопрос ответа до недавних пор вообще не существовало. Только в 50-е годы прошлого века — и то после полувека жарких споров — специалисты по гидродинамике сумели наконец раскрыть механизм превращения изгибных усилий ужа в тягу.
Случаи, когда за внешне простыми вопросами вдруг обнаруживаются неожиданные и неясные глубины, особенно часты в логике. Софизмы и логические парадоксы — хорошее свидетельство этого. Так называемые неточные понятия — еще одно неплохое свидетельство.
В случае неточных понятий не всегда ясно, какие именно вещи подпадают под них, а какие нет.
Например, «окно» — это отверстие в стене здания, через которое в здание может проникать свет. Но всякое ли такое отверстие является окном? Будет ли окном дыра в стене, проделанная снарядом и пропускающая свет? Кроме того, далеко не любое окно представляет собой отверстие. Бывают ложные и нарисованные окна. И не всегда окно связано со стеной. Есть окна на крышах, в полу и т. д.
Иначе говоря, существуют объекты, которые мы, не колеблясь, называем окнами. Имеются также объекты, которые явно не относятся нами к окнам. Но есть и такие, относительно которых трудно сказать, окна это или нет. И как ни рассматривай, допустим, ту же дыру в стене от снаряда, как ни размышляй над тем, что же такое окно, неуверенность в том, что эту дыру можно назвать окном, не удастся рассеять.
Другой пример — «дом». Возьмем строение, несомненно являющееся домом, и снимем с него крышу или значительную ее часть. Дом без крыши или с остатками ее — это, пожалуй, все-таки дом. Многое зависит, конечно, от конкретной ситуации, от контекста: сколько этажей в этом строении, для каких целей его намереваются использовать, в какое время года и т. д. Допустим далее, что в рассматриваемом строении выбиты также все окна или большое их число. Осталось оно домом или нет? Колебания в ответе на этот вопрос скорее всего неизбежны. Предположим, что у нашего строения исчезли не только крыша и окна, но и двери. Можно ли оставшееся назвать домом? Трудно сказать. Здесь ответ в еще большей мере зависит от ситуации. Для бездомного или в летнее время это может быть и дом; зимой же или для человека, имеющего выбор, это, пожалуй, уже не дом, а развалины. На каком этапе последовательной его разборки дом исчезнет, то есть перестанет быть тем, что принято называть домом? Вряд ли возможен какой-то единый ответ на этот вопрос.
Этот пример можно усложнить, представив, что дом разбирается не крупными блоками, а по кирпичу и по дощечке. На каком кирпиче или на какой дощечке исчезнет дом и появятся его развалины? На этот вопрос скорее всего невозможно ответить.
Можно пойти еще дальше, представив, что дом разбирается по песчинке или даже по атому. После удаления какой песчинки или атома дом превратится в развалины? Этот вопрос звучит, как кажется, почти бессмысленно.
Простые примеры с «окном» и «домом» указывают на две важные особенности рассуждений, включающих неточные понятия.
Прежде всего, неточность имеет контекстуальный характер и это следует постоянно учитывать при разговоре об объектах, обозначаемых такими понятиями. Бессмысленно спорить, является какое-то сооружение домом или нет, принимая во внимание только само это сооружение. В одних ситуациях и для одних целей — это, возможно, дом, с других точек зрения — это вовсе не дом.
Вторая особенность — употребление неточных понятий способно вести к парадоксальным заключениям. Нет песчинки, убрав которую мы могли бы сказать, что с ее устранением оставшееся нельзя уже называть домом. Но ведь это означает как будто, что ни в какой момент постепенной разборки дома — вплоть до полного его исчезновения — нет оснований заявить, что дома нет! Вывод явно парадоксальный и обескураживающий, на нем надо будет позднее специально остановиться.
Сейчас же еще один пример, подчеркивающий зависимость значений неточных понятий от ситуации их употребления. Размытость этих значений нередко является результатом их изменения с течением времени, следствием того, что разные эпохи смотрят на одни и те же, казалось бы, вещи совершенно по-разному.
Древние греки зенитом жизни мужчины — его «акмэ» — считали сорок лет. В этом возрасте еще не совсем растраченные физические силы удачно дополняются и уравновешиваются накопленными уже опытом и мудростью. Мужчина в гармоничном расцвете своего тела и духа владеет «мерой вещей», с помощью которой отсеивает случайное от необходимого, эфемерное от вековечного. И вместе с тем у него еще достаточно энергии, чтобы не только созерцать, но и действовать. Однако акмэ — это хотя и золотоносная, но не самая счастливая фаза в жизни человека. Прошедший эту фазу и выполнивший свой долг перед людьми считался в древности уже старым и даже ненужным. Долголетие было в те времена, да и гораздо более поздние, довольно редким исключением.
В Древнем Риме некто Катон-младший, решивший покончить с собой, недоумевал, почему его отговаривают — ведь ему уже… 48 лет!
В свое время И. Тургенев в ремарке к комедии «Холостяк» писал: «Мошкин, 50 лет, живой, хлопотливый, добродушный старик».
А. Герцен принялся писать свои мемуары «Былое и думы» вскоре после того, как ему исполнилось сорок лет.
В наше время вряд ли какой мужчина согласится с характеристикой пятидесятилетнего Мошкина. И в этом нет ничего странного: на рубеже между старой и новой эрами средняя продолжительность человеческой жизни составляла всего 22 года, пятнадцать веков назад — 33,5 года, в 1900 году — 49,5 года, а ныне она превышает 70 лет.
«Средний возраст» неуклонно расширяет свои границы. Создается даже впечатление, что старики существовали только в прошлом, сейчас остались только две возрастные категории: одна из них — это молодежь, а все остальные — люди среднего поколения. На Всемирном конгрессе по геронтологии, проведенном по инициативе ЮНЕСКО в 1977 году, была принята новая классификация населения по возрасту. Согласно этой классификации молодость длится до 45 лет, средний возраст — от 46 до 59 лет, пожилой — от 60 до 74, старческий же возраст наступает только после 74 лет.
Налицо заметное смещение возрастных границ. Тот, кто в своей молодости называл пятидесятилетних стариками, сейчас, сам перевалив за пятьдесят, твердо относит себя к людям среднего возраста.
Чтобы решить, относится кто-то к среднему возрасту, надо знать не только, сколько ему лет, но и то, в какую эпоху он жил. Понятие «человек среднего возраста» не просто неточно, а неточно в двух смыслах или отношениях. Оно не имеет ясной и резкой границы сейчас, в настоящее время, как, впрочем, не имело ее ни в какое другое фиксированное время. Сверх того, даже эта расплывчатая граница не остается на одном и том же месте, она меняет свое положение с течением времени.
Парадоксы неточных имен
Говорят, главное во всяком деле — уловить момент. Это относится, пожалуй, и к таким делам как размышление и рассуждение. Однако здесь «момент» улавливается особенно трудно, и существенную роль в этом играют как раз неточные понятия.
— Один мальчик сказал мне, — говорит ребенок взрослому, — что человек произошел от обезьяны. Это правда?
— Да, конечно, это все знают. — А кто был тот первый человек, который не являлся уже обезьяной?
— Ну, это было так давно, что его забыли.
— Но он знал, что он человек, а не обезьяна?
— Вряд ли он догадывался об этом. Скорее всего, только гораздо позднее кто-то заметил, что люди больше не обезьяны…
Вопросы ребенка только кажутся простыми и наивными. За этими «детскими» вопросами скрываются, если вдуматься, сложные проблемы, затрагивающие вполне серьезные темы и прежде всего тему неточных понятий.
Можно рассуждать так. Если человек произошел от обезьяны, то в ряду существ, ведущем от древней обезьяны к современному человеку, был, очевидно, первый человек, который не являлся обезьяной. Скорее всего, он не догадывался, что он уже не обезьяна. Позднее появился первый человек, заметивший, что он больше не обезьяна, и т. д.
Но история в таком изложении просто невозможна! Чтобы выявить это, достаточно немного перестроить рассуждение. Человек произошел от обезьяны, и был когда-то первый человек, не являвшийся обезьяной. У него были, разумеется, родители, и они являлись обезьянами: ведь до этого — первого — человека людей вообще не было.
Но здесь надо остановиться: две обезьяны не в состоянии произвести на свет человека! Значит, никакого «первого человека» вообще не било.
Но если это так, то как быть с тем эволюционным рядом, который ведет от обезьяны к человеку?
Подобные трудности, можно даже сказать — тупики в рассуждении — неизбежное следствие недостаточно осторожного и корректного оперирования неточными понятиями.
Более наглядно трудности этого рода демонстрируются классическими парадоксами «лысый» и «куча», сформулированными Евбулидом. Еще в IV веке до н. э. этот древний грек доказывал, что лысых людей не существует. О самом Евбулиде, о его жизни и внешности не дошло никаких сведений. Неизвестно, в частности, был он сам лысым или нет.
Доказательство Евбулида, изложенное в несколько осовремененной версии, звучит так.
Допустим, что мы собрали людей с разной степенью облысения и строим их в ряд. Первым в этом ряду поставим человека с самой буйной шевелюрой, какая вообще возможна. У второго пусть будет только на один волос меньше, чем у первого, у третьего — на волос меньше, чем у второго, и т. д. Последним в ряду будет совершенно лысый человек. На голове у человека сто с чем-то тысяч волос, так что в этом ряду окажется сто с чем-то тысяч человек.
Будем рассуждать, начиная с первого, стоящего в ряду. Он, без сомнения, не лысый. Взяв произвольную пару в этом ряду, найдем, что если первый из них не лысый, то и непосредственно следующий за ним также не является лысым, поскольку у этого следующего всего на один волос меньше. Следовательно, каждый человек из данного ряда не является лысым. Подчеркнем — каждый, включая как первого, так и последнего.
Доказано это, как будто строго, а именно методом математической индукции.
Но ведь последний в ряду — совершенно лысый человек! Однако лысый, так сказать, только фактически: мы видим, что у него на голове нет волос, и именно поэтому мы и поставили его в конце ряда. Но, рассуждая, мы приходим к заключению, что он не является лысым. Мы оказываемся таким образом перед дилеммой: нам остается либо верить своим глазам и не верить своему уму, либо наоборот.
Интересно, что используя прием Евбулида, можно доказать и прямо противоположное утверждение, что «волосатых» людей нет и все являются лысыми.
Для этого достаточно начать с другого конца образованного нами ряда людей. Первым человеком будет в этом случае совершенно лысый. У каждого следующего в ряду будет всего на один волос больше, чем у предыдущего. Так что если предыдущий — лысый, то и следующий за ним также лысый. Значит, каждый человек является лысым, включая, естественно, и последних в ряду, у которых на головах буйные шевелюры.
Здесь уже не просто рассогласование чувств и разума, а прямое противоречие в самом разуме. Удалось доказать с равной силой как то, что ни одного лысого нет, так и то, что все являются совершенно лысыми. И оба доказательства были проведены с помощью метода математической индукции, в безупречность которой мы верим со школьных лет и которая лежит в основании такой строгой и точной науки, как математика.
Парадокс «куча» строго аналогичен парадоксу «лысый». Одно зерно (один камень и т. п.) не образует кучи. Если n зерен не образуют кучи, то и n+1 зерно не образуют кучи. Следовательно, никакое число зерен не может образовать кучи.
Продолжая тему возраста, начатую предыдущими примерами («молодой человек», «человек среднего возраста»), можно было бы доказать теперь, что стариков вообще нет, а есть только младенцы. Правда, к последним относились бы и все те, кому сто лет и больше. С равным успехом удалось бы также показать, что всякий человек, в том числе и только что родившийся, является глубоким стариком.
Возможность всех этих и подобных им доказательств означает, что принцип математической индукции имеет строго ограниченную область приложения. Он не должен применяться, в частности, в рассуждениях об объектах, обозначаемых неточными, расплывчатыми понятиями.
Возникает, однако, вопрос: благодаря каким свойствам математических понятий парадоксы, подобные описанным, не могут появиться в математике? В чем состоит та особая «жесткость» математических объектов, которая дает возможность распространить на них математическую индукцию? Или, говоря иначе, какие именно объекты являются «математическими», подпадающими под действие принципа математической индукции?
Из этих вопросов можно сделать, в частности, вывод, что при обосновании математики принцип математической индукции не должен приниматься в качестве самоочевидного и исходного.
Оказывается в итоге, что древние парадоксы, касающиеся неточных понятий, перекликаются с самыми современными спорами по поводу оснований математики. Неточными являются не только эмпирические понятия, подобные «дому», «куче», «старику» и т. д., но и многие теоретические понятия, такие, как «идеальный газ», «материальная точка» и т. д.
Характерная особенность неточных понятий заключается в том, что с их помощью можно конструировать неразрешимые высказывания. Относительно таких высказываний невозможно решить, истинны они или нет, как, скажем, в случае высказываний: «Человек тридцати лет — молод» и «Тридцать лет — это средний возраст».
Естественно, что наука стремится исключать неточные понятия, как и содержащие их неразрешимые высказывания из своего языка. Однако ей не всегда удается это сделать. Многие ее понятия заимствованы из повседневного языка, модификация и уточнение их далеко не всегда и не сразу приводят к успеху.
Неточными являются, в частности, обычные понятия, связанные с измерением пространства и времени. На это впервые обратил внимание А. Эйнштейн. Он показал, что понятия «одновременные события» и «настоящее время» не являются точными. Легко сказать, одновременны или нет события, происходящие в пределах восприятия человека. Установление же одновременности удаленных друг от друга событий требует синхронизации часов, сигналов. Содержание обычного понятия одновременности не определяет никакого метода, дающего хотя бы абстрактную возможность суждения об одновременности этих событий. Точно так же обстоит дело с понятием пространственного совпадения.
То, что понятия в большинстве своем являются неточными, означает, что каждый язык, включая и язык любой научной теории, более или менее неточен. Сопоставление теории, сформулированной в таком языке, с реальными и эмпирически устанавливаемыми сущностями всегда обнаруживает определенное расхождение теоретической модели с реальным миром. Обычно это расхождение относят к проблематике, связанной с приложимостью теории, и оно оказывается тем самым в известной мере завуалированным.
Но это не означает, конечно, что его нет. Особенно остро стоит в этом плане вопрос о приложимости к эмпирической реальности наиболее абстрактных теорий — логических и математических.
Применительно к математике А. Эйнштейн выразил эту мысль так: «Поскольку математические предложения относятся к действительности, они не являются бесспорными, а поскольку они являются бесспорными, они не относятся к действительности». Анализируя понятие неточности, Б. Рассел пришел к заключению, что поскольку логика требует, чтобы используемые понятия были точными, она применима не к реальному миру, а только к «воображаемому неземному существованию».
Эти мнения являются, конечно, крайними. Но они хорошо подчеркивают серьезность тех проблем, которые связаны с неточностью понятий.
Иногда неточные понятия, подобные «молодому», удается устранить. Как правило, это бывает в практических ситуациях, требующих однозначности и точности и не мирящихся с колебаниями.
Можно, во-первых, прибегнуть к соглашению и ввести вместо неопределенного понятия новое понятие со строго определенными границами.
Так, иногда наряду с крайне расплывчатым понятием «молодой» используется точное понятие «совершеннолетний». Оно является настолько жестким, что тот, кому 18 лет и более, относится к совершеннолетним, а тот, кому хотя бы на один день меньше, считается еще несовершеннолетним.
Можно, во-вторых, избегать неточных понятий, вводя вместо них сравнительные понятия. Например, иногда вместо выяснения того, кто молод, а кто нет, достаточно установить, кто кого моложе.
Разумеется, эти, как и иные, способы устранения неточных понятий применимы только в редких ситуациях и для узкого круга целей. Попытка достичь сразу же, одним движением высокой точности там, где она объективно не сложилась, способна привести только к искусственным границам и самодовлеющему схематизму. «Несовершеннолетие, — говорил Кант, — есть неспособность пользоваться своим рассудком без руководства со стороны кого-то другого». Очевидно, что о так понимаемом несовершеннолетии никак не скажешь, что оно может отделяться от совершеннолетия всего одним днем.
Подведем итог всему сказанному о многозначности и неточности имен обычного языка. Эти особенности обычных имен — предмет интереса не только чистой теории, но и нашей повседневной практики употребления языка. Всякая наша мысль и каждое наше высказывание включают имена. И, как правило, они являются многозначными или неточными, а нередко и теми и другими вместе. Это нужно постоянно иметь в виду, чтобы избегать недоразумений, непонимания, ненужных, чисто «словесных» споров.
7. Живые абстракции
Интересной и, в общем-то, нередкой логической ошибкой является гипостазирование — опредмечивание абстрактных сущностей, приписывание им реального, предметного существования. Гипостазирование имеет место, когда, например, предполагается, что слову «лошадь», помимо отдельных лошадей, соответствует особый предмет, «лошадь как таковая», имеющая только признаки, общие для всех лошадей, но не гнедая, не каурая, не иноходец, не рысак.
Немецкий писатель Й. Гебель написал рассказ-притчу «Каннитферштан», на тему которой русский поэт В. Жуковский создал стихотворную балладу. В рассказе говорится о немецком ремесленнике, приехавшем в Голландию и не знавшем языка этой страны. Кого он ни пытался спросить о чем-либо, все отвечали одно и то же: «Каннитферштан». В конце концов, ремесленник вообразил себе особое всесильное и злое существо с таким именем и решил, что страх перед этим существом мешает всем говорить. По-голландски же «каннитферштан» означает «не понимаю». За внешней незатейливостью этого рассказа есть другой план. Всему, что названо каким-то именем или просто каким-то словом, напоминающим имя, приписывается обычно существование. Даже слово «ничто» представляется в виде какого-то особого предмета. Откуда эта постоянная тенденция к объективизации имен, к отыскиванию среди существующих вещей особого объекта для каждого имени? Так ведь можно дойти до поисков «лошади вообще» или даже захотеть увидеть «несуществующий предмет».
Вот как объяснял механизм гипостазирования немецкий философ Л. Фейербах. Всякое определенное существо или суждение есть определенное отрицание. Если же я абстрагируюсь от этой определенности и мыслю чистое «не», чистое отрицание само по себе как некое существительное, то я и получаю «ничто». Ничто есть логическое или словесное отрицание, бог — логическое или словесное утверждение. И отрицание, и утверждение при этом овеществляются, персонифицируются. Первое превращается в нечто несуществующее как совокупность всего отрицательного, как бездна небытия; второе — в положительное существо, совокупность всего утвердительного; первое оказывается небытием, второе — полноценным бытием. Бог есть высшее существо в утвердительном смысле, ничто — нечто высшее в отрицательном смысле.
Гипостазирование связано с абстрактными именами. Эту ошибку допускает, например, тот, кто считает, что кроме здоровых и больных существ есть еще такие объекты как «здоровье», «болезнь» и «выздоровление». В «Оливере Твисте» Ч. Диккенса мистер Банби говорит: «Закон — осел, потому что он никогда не спит». В этом сведении разнородных вещей к одной плоскости также можно усмотреть гипостазировапие.
«Инерция языка. Когда-то люди верили в духов, в заполненность ими всего и вся, в души деревьев, камней, топоров… — пишет психолог В. Л. Леви. — Как раз в те времена создавался язык, все обретало свои названия. И с той-то поры всякое существительное мы склонны представлять себе существом. Если не одушевленным, то все же каким-то предметом, какой-то штукой… Как вы представляете себе Гипертонию? Я, например, не иначе как в виде нудной и требовательной тетки, с маленькими злющими глазками, тройным подбородком и торчащими усиками. Ходит за людьми, толстой лоснящейся ручищей, пахнущей селедкой, хватает за сосуды — и сжимает, и давит…»
Опасность гипостазированпя существует не только в обыденном рассуждении, но и в научных теориях. Гипостазирование допускает, к примеру, юрист, когда говорит об идеальных нормах, правах и т. п. так, как если бы они существовали где-то наряду с лицами и их отношениями. Эту же ошибку совершает этик, считающий, что «справедливость», «равенство» и т. п. существуют в том же смысле, в каком существуют люди, связанные этими социальными отношениями. Особенно часто гипостазированием, или, по выражению У. Куайна, «безответственным овеществлением», грешат философы, мысль которых вращается в сфере самых высоких абстракций. Одного из них, превращающего любовь в «богиню», и притом в «жестокую богиню», высмеивает К. Маркс в «Святом семействе»: «…Он отделяет от человека «любовь» как особую сущность и как таковую наделяет ее самостоятельным бытием. Посредством такого процесса, посредством такого превращения предиката в субъект можно все присущие человеку определения и проявления критически преобразовать в фантастические отдельные существа и в самоотчуждения человеческой сущности».
Гипостазирование недопустимо в строгом рассуждении, где «удвоение мира» неминуемо ведет к путанице между реальным миром и миром пустых, беспредметных абстракций. Но оно успешно используется в художественной литературе, где такое смешение не только не страшно, по может придавать особый колорит повествованию: «писатель сочиняет ложь, а пишет правду».
Мы привыкли к тому, что река имеет глубину, а предметы — тяжесть. У поэта И. Жданова, автора книги стихов «Портрет», свойства вещей оказываются более изначальными, чем они сами: «плывет глубина по осенней воде, и тяжесть течет, омывая предметы», и даже «летит полет без птиц». Поэтическая интуиция Жданова стремится перейти грань исчезновения вещей и уйти в мир пустых сущностей, чтобы сами эти сущности обрели зримые очертания:
Умирает ли дом, если после него остаются
только дым да объем, только запах бессмертный жилья?
Как его берегут снегопады,
наклоняясь, как прежде, над крышей,
которой давно уже нет,
расступаясь в том месте, где стены стояли…
Умирающий больше похож на себя, чем живущий.
В рассказе Т. Толстой «Поэт и муза» одним из действующих лиц оказывается скелет человека — так сказать, абстракция, отвлечение от живого человека. «Гриша замолчал и недели две ходил тихий и послушный. А потом даже повеселел, пел в ванной, смеялся, только совсем ничего не ел и все время подходил к зеркалу и себя ощупывал. «Что это ты такой веселый?» — допрашивала Нина. Он открыл и показал ей паспорт, где голубое поле было припечатано толстым лиловым штампом «Захоронению не подлежит». «Что это такое?» — испугалась Нина. И Гришуня опять смеялся и сказал, что продал свой скелет за шестьдесят рублей Академии наук, что он свой прах переживет и тленья убежит, что он не будет, как опасался, лежать в сырой земле, а будет стоять среди людей в чистом, теплом зале, прошнурованный и пронумерованный, и студенты — веселый народ — будут хлопать его по плечу, щелкать по лбу и угощать папироской; вот как он хорошо все придумал. После его смерти она очень переживала, и подруги ей сочувствовали, и на работе ей прощали и пошли навстречу и дали десять дней за свой счет. И когда все процедуры были позади, Нина ездила по гостям и рассказывала, что Гриша теперь стоит во флигельке как учебное пособие и ему прибили инвентарный номер, и она уже ходила смотреть. Ночью он в шкафу, а так все время с людьми».
8. Роли слов
Слова, как и люди, могут играть разные роли. Смешение ролей одного и того же слова может оказаться причиной его неясности и непонимания.
— Знаешь, — говорит один мальчик другому, — я умею говорить по-китайски, по-японски и по-арабски.
— Не может быть.
— Если не веришь, давай поспорим.
— Давай поспорим. Ну, начинай говорить по-китайски.
— Пожалуйста: «по-китайски», «по-китайски», «по-китайски»… Хватит?
— Ничего не понимаю.
— Еще бы, я ведь говорю «по-китайски». Если хочешь, еще скажу: «по-китайски», «по-китайски»… Какой ты непонятливый. Мы ведь поспорили о том, что я сумею говорить «по-китайски», вот я и говорю: «по-китайски», «по-китайски»… А ты проиграл спор. Если хочешь, я буду говорить «по-арабски»…
Здесь, несомненно, подвох, но в чем именно он состоит? Еще один пример этого же рода, может быть, прояснит ситуацию.
— Незачем учить все части речи, — говорит ученик. — Вполне достаточно знать только имена существительные. Других частей речи просто нет.
— А глагол, а наречие?
— Глагол — это существительное, наречие — тоже.
— Если так рассуждать, то и прилагательное, и местоимение — имена существительные?
— Конечно, и они существительные.
(В чем ошибка этого «доказательства»? Она в смешении разных ролей слова «существительное»).
Одно и то же слово может выполнять в речи две разные роли, или функции. Во-первых, оно может обозначать отдельный предмет соответствующего класса. Это — обычная роль слова. Например, в высказывании «Ко мне подошел неизвестный человек» слово «человек» означает какого-то конкретного человека. Во-вторых, слово может обозначать себя, т. е. использоваться в качестве своего же собственного имени. Примерами могут служить такие утверждения как: «Человек начинается с согласной буквы», «Человек состоит из трех слогов», «Человек — существительное с неправильным множественным числом». Это так называемая «материальная роль» слова. Именно эта роль предполагается загадкой: «Какое слово всегда пишется неправильно?» Ответ: «неправильно».
Употребление одного и того же слова в качестве собственного имени для самого себя и в качестве общего имени для каких-то объектов обычно не ведет к недоразумениям. Однако в двух приведенных примерах это не так. В первом один из мальчиков использует слово «по-китайски» в его материальной роли, т. е. как имя этого же самого слова. Он обещает произносить слово, обозначаемое данным именем и совпадающее с ним. Второй мальчик имеет в виду обычную роль слова «по-китайски» и ожидает разговора на китайском языке. Кто из них прав в затеянном споре? Очевидно, ни один. Спор просто неразрешим. Спорившие говорили о разных вещах: один — о своей способности повторять без конца слово «по-китайски», а другой — о разговоре на китайском языке.
Несколько иначе обстоит дело с доказательством того, что любая часть речи — это существительное, хотя ошибка здесь та же самая. Слова «глагол», «наречие», «прилагательное», «местоимение» употребляются в качестве своих имен и являются, конечно, именами существительными. Но для доказательства требуется, чтобы слово, скажем, «глагол» использовалось в своей обычной роли и обозначало глаголы, а не само себя. В доказательстве допущена, таким образом, ошибка. Она опирается на двусмысленность слов «глагол», «наречие», «прилагательное» и т. д., обозначающих и самих себя и соответствующие части речи.
Вот эпизод из воспоминаний С. Ермолинского о Михаиле Булгакове. Булгаков, развлекая заболевшего И. Ильфа, рассказывает ему в лицах комичный случай — свое знакомство в посольстве: «Любезный советник из Наркоминдела представил меня некоему краснощекому немцу и исчез. Немец, приятнейше улыбаясь, сказал: «— Здравствуйте, откуда приехали? — Вопрос был, как говорится, ни к селу ни к городу, но немец говорил по-русски и это упрощало дело. — Недавно я был в Сухуми, в доме отдыха. — А потом? — спросил немец, совсем уже очаровательно улыбаясь. — Потом я поехал на пароходе в Батум… — А потом? — Потом я поехал в Тбилиси. — А потом? — Я с некоторой тревогой взглянул на немца. — Потом по Военно-Грузинской дороге мы приехали в Орджоникидзе, раньше он назывался Владикавказ. — А потом? — Въедливая назойливость немца решительно мне не нравилась, я оглядывался с беспокойством. — А потом? — с той же интонацией повторил немец. — Потом… вот… я в Москве и никуда не собираюсь. — А потом? — продолжал немец. Но тут, к счастью, промелькнул советник из Наркоминдела, я не дал ему улизнуть и схватил его под локоть. — Послушайте! — начал я возмущенно. — А, — вскричал наркоминделец. — Я совсем забыл! Он ни черта не знает по-русски кроме двух-трех слов. Плюньте на него! — И потащил меня от немца, который стоял по-прежнему нежнейше улыбаясь, с застывшим вопросом на губах: — А потом?» Ильф слушал с коротким смешком, неотрывно следя за рассказчиком, а затем перестал смеяться, опустил голову и произнес, хмуро повторяя интонацию немца, как только что это делал Булгаков: «— А потом? — и посмотрев на него, добавил другим тоном: — Что все-таки потом, Михаил Афанасьевич?» Булгаков комически развел руками: «— О чем вы говорите, Ильф? Вы же умный человек и понимаете, что рано или поздно все станет на свои места». В этом эпизоде немец, знавший всего несколько слов по-русски, конечно же не понимал того, что ему отвечал Булгаков. Создавалась видимость оживленного диалога, хотя на самом деле собеседники не понимали друг друга. Оборот «А потом?» употреблялся немцем почти что в материальной роли, как имя самого себя, не более. В устах же Ильфа этот оборот приобрел совершенно иной смысл, обеспокоивший Булгакова.
Чтобы избежать двусмысленностей и непонимания, связанных с путаницей между обычной и материальной ролями слов, как правило, используются либо дополнительные слова в формулировке утверждения, либо кавычки, либо курсив.
Глава 4. О смысле бессмысленного
При осмысливании всякого смысла у мыслящего мыслями мыслителя, рождаются мысли осмысливающие смысл смысла, в смысле смысла. Ибо при недоосмысливании всякого смысла, у мыслящего мыслями мыслителя, не рождаются мысли, осмысливающие смысл смысла, в смысле смысла…
Из ответа студента-филолога на экзамене— Вы филолог? — спросила Агапова. — Точнее — лингвист. Я занимаюсь проблемой фонематичности русского «Щ»… — Есть такая проблема? — Одна из наиболее животрепещущих…
С. Д. ДовлатовКоль мысль — это носитель смысла, бывают ли бессмысленные мысли?
С. Вента«Бессмыслица» — одно из самых неистолкованных слов в наших толковых словарях. Оно представляет лишь отрицательную величину так же, как и «смерть». Никто не может объяснить, что такое «бессмыслица» — ее можно только продемонстрировать, указать на нее. Но добавим, что осмысленное и бессмысленное оказываются равноценными, стоит лишь приглядеться попристальнее. Бессмыслица — часть других миров, она лежит в других измерениях, и жест, которым мы отталкиваем ее, безапелляционность нашего обвинительного приговора свидетельствуют о том, что ее природа обременительна для нас. Мы отбрасываем все, что не вмещается в убогие рамки нашего разумения. А ведь между глубиной и бессмыслицей можно, оказывается, обнаружить весьма неожиданное сходство.
Г. МиллерЕсть два рода бессмыслицы: одна происходит от недостатка чувств и мыслей, заменяемого словами; другая — от полноты чувств и мыслей и недостатка слов для их выражения.
А. С. Пушкин1. Смысл — основа основ
И в логике, и в обычной жизни о смысле говорится часто и много, о бессмысленном — только изредка и мимоходом.
Однако бессмысленное — это только обратная сторона той же самой медали, лицевая сторона которой — имеющее смысл. Обратная и потому остающаяся обычно в тени сторона.
Нетрудно проверить, насколько густа эта тень, для чего достаточно попробовать сказать какую-нибудь бессмыслицу. Сделать это, оказывается, не так просто. Совсем непросто, если есть намерение найти что-то необычное и интересное, а не какое-то не имеющее связи с конкретным языком «дыр бул щыл, убещур». Впрочем, даже в этом пустом наборе звуков, не намекающем ни на какой предмет и не имеющем даже подобия смысла, ощущается как будто интимная связь именно с русским языком. На чем основывается это ощущение, если не на смысле?
Может ли одна бессмыслица быть интереснее другой? Если бессмысленное — это не имеющее смысла и ничего не обозначающее, чем могут бессмыслицы отличаться друг от друга? Только как разные последовательности звуков? Но в таком случае все они лежат в одной плоскости и имеют одинаковый интерес. И тем не менее кажется очевидным, что одна бессмыслица может быть ближе строю некоторого языка, чем другая, и может быть интереснее и даже в каком-то отношении «содержательнее», чем другая.
В обычном отсутствии интереса к бессмысленному нет ничего странного. Наше мышление всегда направлено на содержание, на поиск и выявление смысла. И этот смысл всегда, или почти всегда, удается отыскать. Даже в тех случаях, которые кажутся при первом подходе безнадежными.
Можно провести такой опыт. Предложите нескольким знакомым выявить смысл того утверждения, которое кажется вам явно бессмысленным. Скажем, утверждения «Владимир Мономах — это первое нечетное число». Если спрашиваемые не почувствуют подвоха и примут вопрос всерьез, можно быть почти уверенным, что большинство из них в конце концов найдет в этом высказывании какой-то скрытый смысл, хотя, естественно, он окажется разным у разных людей.
Смысл обеспечивает связь языка с действительностью, лежащей вне его, и тем самым понимание людьми друг друга. Бессмысленное — это обрыв коммуникации и полное непонимание. Если кто-то говорит, автоматически предполагается, что он намерен что-то сообщить, и даже «темные» места его речи воспринимаются как несущие некоторый смысл. Возможно, неудачно выраженный или же неадекватно понятый, но все-таки смысл. Никто вступающий в контакт и добивающийся понимания не станет употреблять бессмысленные выражения, не несущие никакого содержания.
Эта «презумпция осмысленности», являющаяся важным условием коммуникации, постоянно вытесняет бессмысленное из сферы внимания и заставляет усматривать некий тайный смысл даже там, где его и нет.
Бессмысленное не вызывает интереса еще и потому, что кажется не только бессодержательным, но и легко распознаваемым, самоочевидным и не составляющим особой проблемы. Ясно, например, что утверждение «Александр Македонский мало чему научился у своего учителя Аристотеля» является осмысленным, хотя, возможно, и не бесспорным. Над ним можно задуматься, поддержать его или, наоборот, отвергнуть. Отождествление же Владимира Мономаха с первым нечетным числом очевидно бессмысленно. О нем вообще нечего сказать, настолько оно пусто.
Всегда кажется, что имеющихся у нас интуитивных представлений о бессмысленном вполне достаточно для обнаружения и опознания даже самых тонких и завуалированных его разновидностей.
Эта уверенность не всегда, однако, оправдана. Грань между осмысленным и бессмысленным иногда является столь зыбкой и неопределенной, что прошлый опыт распознания бессмысленного, лежащий в основе таких представлений, оказывается не в состоянии помочь нам.
Еще одно распространенное, но нуждающееся в уточнении мнение о бессмысленном — это то, что оно является чем-то случайным и редким. В языке, да и не только в нем, все кажется пронизанным и наполненным глубоким смыслом, и нужно только уметь открыть его. Даже неживая природа представляется иногда как бы одухотворенной и что-то говорящей на своем, непонятном непосвященным языке.
Не то, что мните вы, природа,
Не слепок, не бездушный лик.
В ней есть душа, в ней есть свобода
И недоступный нам язык.
Ф. И. Тютчев
Одухотворение всего и наполнение его смыслом — это, разумеется, крайность, свидетельствующая о том, что элементы мифологического мышления постоянно присутствуют в нашем сознании.
Другой крайностью является постоянное стремление некоторых философов представить бессмысленное как одну из центральных категорий не только философии, но и всей человеческой жизни. В частности, экзистенциалисты много говорят об ощущении бессмысленности человеческого существования, о «самоотчуждении» человека, уходе его от самого себя, от своей собственной сущности. Уходе настолько радикальном, что ставится под сомнение сама эта сущность. С растущим чувством «бессмысленности бытия» связывается мысль о возрастании роли бессмысленного в общении людей, последовательном вырождении коммуникации и все большем замыкании каждого человека во все более сужающемся собственном «Я». Представители другого течения современной философии — неопозитивисты относят к бессмысленным все утверждения, не сводимые к тому, что дано непосредственно в чувственном опыте. Бессмысленными при таком подходе оказываются не только общие философские утверждения, но и все человеческие суждения о добре, долге и т. п.
Очевидно, что видеть во всем смысл или, напротив, катастрофически сужать его область и ошибочно, и опасно.
Бессмысленное, конечно, существует, но в своей ограниченной сфере. Помимо непонимания лишь как недопонимания людьми друг друга имеются также случаи абсолютного или близкого к нему непонимания, обусловленные отсутствием смысла как реальной основы понимания. Если бессмысленное истолковать достаточно широко, учесть разнородность и неопределенность его области, простирающейся от обычных «ерунды», «чепухи», «нелепости» и «чуши» до экзотичных «нонсенса» и «абракадабры», задуматься над многообразием тех функций, какие оно способно выполнять в языковом общении людей, то можно даже сказать, что бессмысленное не является такой уж крайней редкостью.
Иногда сам смысл рядится в одежду, в которой он напоминает бессмысленное. Козьма Прутков рассказывает, например, о случае, когда некий хитрый человек в ответ на настойчивое требование двух его друзей сказать, кто из них ближе ему, промолвил, посмотрев на стену: «Мне нравятся обои». Скорее всего, он имел в виду не столько обои на стене, сколько «обои» как неправильную форму «оба». Но если даже речь действительно шла об обоях, то и здесь ответ, несмотря на кажущееся отсутствие связи с поставленным вопросом, не был бессмысленным. Спрашиваемый вообще мог сказать что-то вроде: «Крекс, фекс, пекс». И этот уход от ответа был бы хотя и менее дипломатичным, но все-таки ответом, и притом в основе своей почти равнозначным тому, какой был дан.
Интерес логики к бессмысленному является только другой стороной исследования ею смысла.
Иногда, правда, говорят, что подобно тому как физика изучает свет, а не тень, логика занимается смыслом, а не бессмысленным. Но это внешнее уподобление. К тому же изучение света есть одновременно изучение тени и наоборот. Никому не удавалось исследовать их как-то порознь и получать отдельно знание о свете и отдельно о тени. Сходным образом исследования смысла определяют представления о бессмысленном, а анализ бессмысленного позволяет понять, так сказать «по контрасту», чем является смысл.
Бессмысленными, так же как и осмысленными, являются только высказывания. Отдельные понятия, такие как «книга», «самая высокая горная вершина», «круглый квадрат», обладают определенным содержанием, или смыслом, но они не претендуют на то, чтобы ими описывалось или оценивалось что-то. Из них можно составить высказывание, но сами по себе они высказываниями не являются и о них нельзя сказать, что они осмысленны или бессмысленны.
Выражение «Пушкин жил в Риме» описывает определенную ситуацию и является осмысленным высказыванием. Правда, мы знаем, что такая ситуация никогда не существовала и данное высказывание ложно. Но вот фраза «Если идет дождь, то трамвай» тоже претендует на то, чтобы быть описанием, но эта претензия явно повисает в воздухе. Ситуаций, с которыми можно было бы сопоставить это выражение, нет ни в реальном, ни в любом, самом изощренном вымышленном мире.
Бессмысленное — это неудачная попытка высказаться о мире. Настолько неудачная, что вообще обрывается всякая связь с ним.
Что-то подобное было бы, если бы прыгун в высоту разбежался и вдруг прыгнул в длину, или если бы штангист толкнул свою штангу на манер ядра. Можно, конечно, прыгать в длину в секторе для прыжков в высоту и толкать штангу вдаль. Физически это осуществимо, но с точки зрения принятых правил состязаний — это явное нарушение. Спортивные судьи не поняли бы такой «игры в другую игру».
Бессмысленное тоже всегда представляет собой конфликт с правилами, выход за рамки установок, регламентирующих общение людей с помощью языка, и тем самым обрыв понимания и коммуникации.
Другой важный момент. Осмысленность не тождественна истинности, а бессмысленность — ложности. Истинными или ложными бывают только осмысленные высказывания. Бессмысленное не истинно и не ложно. Его не с чем сопоставить в действительности, чтобы сказать, соответствует оно ей или нет.
Понимать смысл высказывания — значит знать, в какой ситуации оно будет истинным, а в какой ложным. Смысл задает условия истинности высказывания и если мы не в состоянии связать высказывание с такими условиями, оно бессмысленно для нас. Так, высказывание «Если идет дождь, то трамвай» бессмысленно, поскольку невозможно вообразить ситуацию, в которой оно оказалось бы истинным или ложным.
Понимание смысла имеет дело только с возможными положениями вещей, и оно не дает, конечно, знания о действительном их положении. Всякому понятен смысл высказывания «На Марсе имеется жизнь», известна возможность, способная подтвердить его, и возможность, способная его опровергнуть. Но знания о том как действительно обстоит дело с жизнью на Марсе, пока ни у кого нет.
2. Абсурд
В логике под абсурдом обычно понимается внутренне противоречивое выражение. В таком выражении что-то утверждается и отрицается одновременно, как, скажем, в высказывании «Русалки существуют и русалок нет».
Абсурдным считается также выражение, которое внешне не является противоречивым, но из которого все-таки может быть выведено противоречие. Например, в высказывании «Иван Грозный был сыном бездетных родителей» есть только утверждение, но нет отрицания и нет соответственно явного противоречия. Но ясно, что из этого высказывания вытекает очевидное противоречие: «Некоторая женщина является матерью и она же не является матерью».
Абсурдное как внутренне противоречивое не относится, конечно, к бессмысленному. «Разбойник был четвертован на три неравные половины» — это, разумеется, абсурдно, однако не бессмысленно, а ложно, поскольку внутренне противоречиво.
Логический закон противоречия говорит о недопустимости одновременного утверждения и отрицания. Абсурдное высказывание представляет собой прямое нарушение этого закона.
Понимание абсурда как отрицания или нарушения какого-то установленного закона широко распространено в естественных науках.
Согласно физике, к абсурдным относятся такие, например, не согласующиеся с ее принципами утверждения как: «Космонавты долетели с Юпитера до Земли за три минуты» и «Искренняя молитва преодолевает земное притяжение и возносит человека к богу». Биологически абсурдны высказывания: «Микробы зарождаются из грязи» и «Человек появился на Земле сразу в таком виде, в каком он существует сейчас».
Никакой особой твердости в употреблении слова «абсурд», разумеется, нет. Даже в логике «бессмысленное» и «абсурдное» нередко употребляются как имеющие одно и то же значение и взаимозаменимые. В обычном языке абсурдным называется и внутренне противоречивое, и бессмысленное, и вообще все нелепо преувеличенное, окарикатуренное и т. п.
В логике рассматриваются доказательства путем «приведения к абсурду»: если из некоторого положения выводится противоречие, то это положение является ложным.
Есть также художественный прием — доведение до абсурда, имеющий, впрочем, с данным доказательством только внешнее сходство.
О носе американской актрисы Барбары Стрейзанд один рецензент сказал: «Ее длинный нос начинается от корней волос и кончается у тромбона в оркестре». Это — абсурдное преувеличение, претендующее на комический эффект.
И еще пример — из армейской жизни, интересный не столько сам по себе, сколько комментарием к нему.
Новобранец-артиллерист неглуп, но мало интересуется службой. Офицер отводит его в сторону и говорит: «Ты для нас не годишься. Я дам тебе добрый совет: купи себе пушку и работай самостоятельно».
Обычный комментарий к этому совету таков: «Совет — явная бессмыслица. Купить пушку нельзя, к тому же один человек, даже с пушкой, не воин. Однако за внешней бессмысленностью проглядывает очевидная и осмысленная цель: офицер, дающий артиллеристу бессмысленный совет, прикидывается дураком, чтобы показать как глупо ведет себя сам артиллерист».
Этот комментарий показывает, что в обычном языке «бессмысленным» может быть названо и вполне осмысленное высказывание.
3. «Он хожу»
Каждый язык имеет определенные правила построения сложных выражений из простых, правила синтаксиса. Как и всякие правила они могут нарушаться, и это ведет к самому простому и, как кажется, самому прозрачному типу бессмысленного.
Скажем, «если стол, то стул» бессмысленно, поскольку синтаксис требует, чтобы во фразе с «если… то…» на местах многоточий стояли некоторые утверждения, а не имена. Предложение «Красное есть цвет» построено в соответствии с правилами. Выражение же «есть цвет», рассматриваемое как полное высказывание, синтаксически некорректно и, значит, бессмысленно.
В искусственных языках логики правила синтаксиса формулируются так, что они автоматически исключают бессмысленные последовательности знаков.
В естественных языках дело обстоит сложнее. Их синтаксис также ориентирован на то, чтобы исключать бессмысленное. Правила его определяют круг синтаксически возможного и в большинстве случаев позволяют обнаружить то, что, нарушая правила, выходит из этого круга.
В большинстве случаев, но не всегда. Во всех таких языках правила синтаксиса весьма расплывчаты и неопределенны, и иногда просто невозможно решить, что стоит еще на грани их соблюдения, а что уже перешло за нее.
Допустим, высказывание «Луна сделана из зеленого сыра» физически невозможно и, следовательно, ложно. Но синтаксически оно безупречно. Относительно же высказываний «Роза красная и одновременно голубая» или «Звук тромбона желтый» трудно сказать с определенностью, остаются они в рамках синтаксически возможного или нет.
Кроме того, даже соблюдение правил синтаксиса не всегда гарантирует осмысленность. Предложение «Квадратичность пьет воображение» является, судя по всему, бессмысленным, хотя и не нарушает ни одного правила синтаксиса русского языка.
В обычном общении многое не высказывается явно. Нет необходимости произносить вслух то, что собеседник поймет и без слов. Смысл сказанной фразы уясняется из контекста, в котором она употреблена. Одно и то же неполное выражение в одной ситуации звучит осмысленно, а в другой оказывается лишенным смысла. Услышав как кто-то сказал: «Больше четырех», далеко не всегда можно быть уверенным, что это какая-то ерунда. В качестве ответа на вопрос: «Который час?» — это выражение вполне осмысленно. И в общем случае оно всегда будет осмысленным, если из ситуации его употребления окажется возможным восстановить недостающие его звенья.
Контекст — это всегда известная неопределенность. Опирающееся на него суждение о синтаксической правильности столь же неопределенно, как и он сам.
Поэт В. Шершеневич считал синтаксические нарушения хорошим средством преодоления застылости, омертвения языка и конструировал высказывания, подобные «Он хожу».
Внешне здесь явное нарушение правил синтаксиса. Но только контекст способен показать, отсутствует ли в этой конструкции смысл и так ли непонятна она собеседнику. Ведь она может быть выражением недовольства стесняющими рамками синтаксиса. Может подчеркивать какую-то необычность или неестественность походки того, кто «хожу» или, напротив, сходство ее с манерой ходить самого говорящего («Он ходит, как я хожу») и т. д. Если отступление от правил не является простой небрежностью, а несет какой-то смысл, улавливаемый слушателем, то даже это синтаксически заведомо невозможное сочетание нельзя безоговорочно отнести к бессмысленному.
И потом, нет правил без нарушений. Синтаксические правила важны, без них невозможен язык. Однако общение людей вовсе не демонстрация всемогущества и безусловной полезности этих правил. Мелкие, непроизвольные отступления от них в практике живой речи явление обычное.
Иногда синтаксис нарушается вполне осознанно, с намерением достичь посредством этого какого-то интересного эффекта.
Вот цитата из современного французского философа: «Что такое религиозная мифология, как не абсурдная мечта об идеальном обществе? Если всякая апология необузданного желания ведет к репрессии? Если заявления о всеобщей будущей свободе скрывают жажду власти? Если религия — это другое наименование для варварства?» При сугубо формальном подходе здесь неправильный синтаксис. Три раза условное высказывание обрывается на своем основании и остается без следствия. Но в действительности это только риторический прием, использующий для большей выразительности видимость отступления от синтаксических правил.
Известное всем со школьных лет «Путешествие из Петербурга в Москву» А. Радищева написано языком, звучащим для современного слуха непривычно: «В одну из ночей, когда сей неустрашимый любовник отправился чрез валы на зрение своей любезной, внезапу восстал ветр, ему противный, будущу ему на среде пути его. Все силы его немощны были на преодоление разъяренных вод». И странное звучание связано не с тем, прежде всего, что это проза отдаленного XVIII века. «Философы и нравоучители, — рассуждал в это же время Д. Фонвизин, — исписали многие стопы бумаги о науке жить счастливо; но видно, что они прямого пути к счастию не знали, ибо сами жили почти в бедности, то есть несчастно». Это совсем близко к нашему современному языку. В «Путешествии» же язык нередко нарочито остраненный (от слова «странный»), своеобразно пародирующий возвышенный стиль и архаику. И одним из средств этого остранения языка служит свободное обращение с правилами синтаксиса русского языка XVIII века, не особенно впрочем отличающимся от нынешних его правил. Очевидно, что нарушение синтаксиса не ведет здесь ни к какой неясности смысла.
Особенно часто страдают правила языка при столкновении с юмором, для которого каждый штамп — серьезная угроза. «Так это давно случилось, — сожалеет один автор, — что никого как следует и не увиноватишь». «Ученые сцепляются, — констатирует другой, — по проблеме “хищник — жертва”». «Все реже встречаемость меховых изделий», «отшибность здесь для молодого», «говорит остыло охотник, углубляясь в точение пилы», «какая извергнется строгость», «охотник, сносив самодеятельность обуток, по скалам и чертолому за охотничьим объектом бежит босиком», «замок на ларьке и текстура: «Закрыто» — все эти выражения, взятые из текстов писателей-юмористов, в конфликте с правилами языка. Но это сознательный, творческий конфликт, призванный заставить фразу звучать свежо и ново. И что важно, правила нарушены, а смысл и опирающееся на него понимание остаются.
4. «Впадал в скорбь и в шампанское…»
Сказанное не означает, конечно, что осмысленность высказывания — синтаксическая характеристика, связанная с построением сложных выражений из простых.
Подобно понятию смысла имени, осмысленность относится к семантике языка, описывающей отношение сказанного к действительности. Бессмысленное как не являющееся осмысленным также представляет собой семантическую характеристику.
Осмысленная последовательность слов всегда означает что-то, описывает или оценивает некоторую ситуацию.
Бессмысленные последовательности ничего не означают, они ничего не описывают и не оценивают.
Этот критерий различения осмысленного и бессмысленного успешно применим в большинстве ситуаций. Предложение «Идет дождь» описывает определенное событие, но «Если идет дождь, то голова» ни к чему в мире не относится и является бессмысленным.
«Хлестаков — человек» указывает на определенный факт, но «Хлестаков — человек является человеком» ни с чем не может быть связано.
Высказывание «Законы логики голубые» также бессмысленно, поскольку претендует на описание, но не является им. Отрицание бессмысленного — «Законы логики не голубые» тоже бессмысленно, так как утверждение и отрицание вместе либо что-то означают, либо ничего не означают.
Осмысленное и бессмысленное могут различаться также по их влиянию на поведение человека.
Осмысленное предложение вызывает определенную реакцию слушателя на объекты, упоминаемые в нем. Скажем, предложение «Наполеон умер» вряд ли кого волнует сейчас и вряд ли способно вызвать какие-то действия. Нетрудно, однако, представить, как активно откликнулись на него современники Наполеона. Бессмысленные предложения не влекут никакой ответной реакции.
Но этот критерий, будучи иногда небесполезным, далек, конечно, от совершенства. Если бы, допустим, Иван Грозный, человек вспыльчивый и невоздержанный в гневе, спросил о чем-то своего дьяка, а тот ответил бы: «Я — нечетное число», легко вообразить, какой была бы реакция царя, если не на числа, то на это «я».
Ни в одной из существующих грамматик естественных языков — а их столько, сколько самих языков, — нет ясного и универсального определения того, какие предложения следует считать осмысленными, а какие нет. Есть разрозненные правила осмысленности, касающиеся предложений отдельных видов. Эти правила не охватывают — да и не пытаются это сделать — всех возможных предложений, всех мыслимых комбинаций слов. Каждое из частных правил сопровождается многочисленными исключениями и предостережениями относительно гибкого, сообразующегося с ситуацией его применения.
Отсутствие определения или серии определений, четко разграничивающих осмысленное и бессмысленное, не результат просмотра составителей грамматик. Это объективное отражение в науке о естественном языке фундаментальной особенности такого языка. В нем самом нет определенности и однозначности в отношении осмысленного и бессмысленного. И если грамматика правильно описывает такой язык, а не какую-то идеальную конструкцию, эта определенность и однозначность не может появиться и в ней.
В логически совершенных языках осмысленные высказывания четко отделяются от бессмысленных. В возможности такого разделения один из важных источников интереса к данным языкам.
С точки зрения обычных представлений о бессмысленности — как, впрочем, и с точки зрения обычной грамматики — в высказывании «Я лгу» не нарушены никакие принципы соединения слов в предложения и оно должно быть отнесено к осмысленным. Однако оно парадоксально и, по всей вероятности, должно быть исключено из числа осмысленных. Вопреки здравому смыслу и грамматике не являются осмысленными и такие высказывания как «Законы логики желтые», «Дух зеленый или дух не зеленый», «Клеопатра — человек является человеком» и т. д. В искусственных символических языках, имеющих ясные правила синтаксиса и семантики, это можно показать строгим образом.
Естественные языки несовершенны в этом отношении, что традиционно считается важным их недостатком. Это действительно недостаток. Бессмысленные высказывания, то есть высказывания, кажущиеся обозначающими что-то, но на самом деле ничего не обозначающие, ведут к парадоксам и, в конечном счете, к смешению истины и лжи. Теории, содержащие такие высказывания, ущербны и ненадежны.
Однако критика естественного языка за отсутствие синтаксической и семантической жесткости должна учитывать многие обстоятельства и быть в должной мере дифференцированной. Туманная область между осмысленным и бессмысленным допускаемая этими языками, многообразно и интересно используется в языковом общении. Социальная жизнь, в которую всегда погружен обычный язык, является во многом текучей, многозначной и неопределенной. Неопределенный, как и она, естественный язык нередко оказывается поэтому способным выразить и передать то, что не выразимо и не передаваемо никаким совершенным в своем синтаксисе и в своей семантике искусственным языком. Как это нередко бывает, особенность, представляющаяся слабостью и недостатком в одном отношении, оборачивается несомненным преимуществом в другом.
Хорошей иллюстрацией этого может служить использование синтаксической и семантической неоднозначности естественного языка в художественной литературе.
В «Бесах» Ф. Достоевского об одном из главных героев, Степане Трофимовиче Верховенском, говорится: «Впоследствии, кроме гражданской скорби, он стал впадать и в шампанское», о Юлии Михайловне: «Она принуждена была встать со своего ложа, в негодовании и папильотках».
Предложения, подобные «Мы шли вдвоем: он в пальто, а я в университет», нарушают какие-то правила языка или стоят на грани такого нарушения и вызывают обычно улыбку. Эту особенность отступления от правил как раз и использует Ф. Достоевский, подчеркивая несерьезность, «ненастоящность», поверхностность поступков своих героев.
В тех же «Бесах» о Липутине сказано, что он «всю семью держал в страхе божием и взаперти», о Лебядкине не рассказывается, что он явился «к своей сестре и с новыми целями». В «Братьях Карамазовых» о покойной жене Федора Павловича Карамазова, Аделаиде Ивановне, говорится, что она была «дама горячая, смелая, смуглая».
Такие звучащие довольно странно характеристики, конечно, не случайны. «Каламбуры этого рода, — пишет Д. С. Лихачев в книге «Литература — реальность — литература», — нужны для того, чтобы обнаружить неясности и нелогичности в словах и выражениях, продемонстрировать зыбкость самой формы, в которую облекается зыбкое же содержание».
Использование нарушений норм употребления языка для целей художественной выразительности вообще у Достоевского нередкий прием. С помощью такого приема передаются и особенности поведения и речи героев, и своеобразие обстановки, и отношение рассказчика к происходящим событиям, и многое другое, что могло бы, пожалуй, ускользнуть при безупречно правильном языке.
В «Подростке» о Марье Ивановне сказано, что она «была и сама нашпигована романами с детства и читала их день и ночь, несмотря на прекрасный характер». Почему, собственно, прекрасный характер мог бы помешать ей читать романы день и ночь? «Возможно, — высказывает предположение Лихачев, — что азартное чтение романов — признак душевной неуравновешенности».
«Подросток»: «старый князь был конфискован в Царское Село», «побывать к нему», «побывать к ней». «Бесы»: «она у графа К. через Nicolas заискивала». «Братья Карамазовы»: «обаяние его на нее», «себя подозревал… пред нею».
Часто глаголы «слушать», «подслушивать», «прислушиваться» употребляются в сочетаниях, необычных для русского языка: «слушать на лестницу», «прислушиваться на лестницу» в «Бесах»; «подслушивал к нему» в «Братьях Карамазовых»; «ужасно умела слушать» в «Подростке»; «сильно слушал» в «Вечном муже».
Нарушения норм языка из «Подростка»: «мне было как-то удивительно на него», «я видел и сильно думал», «я слишком сумел бы спрятать мои деньги», «а все-таки меньше любил Васина, даже очень меньше любил».
Эти отступления от норм идеоматики русского языка стоят на грани неправильности речи, а иногда и переступают эту грань, как «двое единственных свидетелей брака» в «Бесах».
Лихачев, которому принадлежат эти наблюдения над языком Достоевского, замечает, что все это вполне вписывается в общую систему его экспрессивного языка, стремящегося к связности, цельности речевого потока, к неопределенности, размытости характеристик ситуаций и действующих лиц.
Язык на грани правил является хорошим средством придания комического оттенка описываемым событиям.
«В парках показались молодые листочки и закупщики из западных и южных штатов… Воздух и судебные приговоры становились мягче; везде играли шарманки, фонтаны и картежники» — это из классика американской литературы О. Генри. А вот этот же прием, но уже на современном материале: «Приметы времени неотвратимы. Увяли газоны в парках и помидоры в торговой сети. Зачастили дожди и жалобы на дырявые крыши. Реже появляются погожие дни и поезда электрички»; «После первого же удара он утратил два зуба и последние иллюзии».
Здесь вместе связываются («нанизываются на один глагол») понятия, взятые из далеких друг от друга областей. Необычность соединения создает обязательный для юмора элемент внезапности и подчеркивает несерьезность описываемой ситуации.
Остранение языка путем «сведения» далеких элементов, стоящих на границе разных семантических категорий, — обычное явление в поэзии. Умение сводить в стихах «несовместимое» нередко считается одной из важных особенностей взгляда на мир, свойственного хорошему поэту.
— Поэзия, — заметил в разговоре с молодым поэтом М. Светлов, — искусство столкнуть несовместимое. «Облако в штанах»! Напишите «чудак» и что-нибудь несусветное. Чудак и…
— Подстаканник! — неожиданно подсказал собеседник и осекся. М. Светлов на мгновение задумался, но одобрил.
К такому «соединению отдаленного» особенно тяготеют молодые поэты.
Поэт Е. Евтушенко однажды естественно соединил в одной фразе вращение Земли и семейное положение своего героя:
…Ученый, сверстник Галилея,
Был Галилея не глупее.
Он знал, что вертится Земля,
Но у него была семья…
Вспоминая свою молодость и предостерегая против самоцельного остранения языка, Б. Пастернак писал: «Слух у меня тогда был испорчен выкрутасами и ломкой всего привычного, царившего кругом… Все нормально сказанное отскакивало от меня».
Достаточно, однако, примеров того, как «несовершенства» естественного языка служат литературе. Говоря о них, следует помнить, что в мире безупречных искусственных языков нет ни экспрессии, ни связности и цельности речевого потока, ни определенности и размытости описаний ситуаций и лиц. В этом мире нет также ни юмора, ни поэзии.
5. «Джабберуоки»
Так называется самый известный из всех нонсенсов английского писателя и логика Льюиса Кэрролла, приведенный им в сказке «Алиса в Зазеркалье». Этот нонсенс вызвал целую литературу.
Математик М. Гарднер, комментировавший эту сказку, писал: «Мало кто станет оспаривать тот факт, что «Джабберуоки» является величайшим стихотворным нонсенсом на английском языке… Странные слова в этом стихотворении не имеют точного смысла, однако они будят в душе читателя тончайшие отзвуки… С тех пор были и другие попытки создать более серьезные образцы этой поэзии (стихотворения дадаистов, итальянских футуристов и Гертруды Стайн, например), однако, когда к ней относятся слишком серьезно, результаты кажутся скучными… «Джабберуоки» обладает непринужденной звучностью и совершенством, не имеющим себе равных».
Вот это знаменитое стихотворение:
БАРМАГЛОТ
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О, бойся Бармаглота, сын!
Он так свирлеп и дик.
А в глуще рымит исполин —
Злопастный Брандашмыг!
Но взял он меч, и взял он щит,
Высоких полон дум.
В глущобу путь его лежит,
Под дерево Тумтум.
Он стал под дерево и ждет,
И вдруг граахнул гром —
Летит ужасный Бармаглот
И пылкает огнем!
Раз-два, рэз-два! Горит трава,
Взы-взы — стрижает меч,
Ува! Ува! И голова
Барабардает с плеч!..
О, светозарный мальчик мой!
Ты победил в бою!
О храброславленный герой,
Хвалу тебе пою!
Варкалось. Хливкие шорьки
Пырялись по наве,
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
О чем здесь говорится? Сама Алиса заключила: «Очень милые стишки, но понять их не так-то легко… Наводят на всякие мысли — хоть я и не знаю на какие… Одно ясно: кто-то кого-то здесь убил… А, впрочем, может и нет…»
И в самом деле, сказать что-то более определенное о событиях, описанных в этом стихотворении, и той ситуации, в которой они происходят, вряд ли возможно. «Действующие лица» крайне неопределенные: летящий (но не обязательно летающий), свирепый (?) и дикий «Бармаглот» и некий «сын», ожидающий его под деревом со щитом и мечом. Само «действие» — сражение и победа «сына». Скорее всего, «Бармаглот» был убит, но может быть и нет. Не ясно, что случилось с его головой. Нет уверенности даже в том, что именно его голова «барабарднула» с плеч. И сколько у него было этих голов?
Все это наводит на какие-то мысли, но на какие именно?
Особенно мало смысла в первом четверостишии. Можно даже не колеблясь сказать, что оно совершенно бессмысленно: ни «место действия», ни «действующие лица» здесь вообще никак не определены. И только контекст стихотворения в целом и контекст синтаксиса и семантики русского языка позволяют как-то связать с этими «шорьками», «зелюками» и «мюмзиками» какие-то зыбкие ассоциации. Но первый контекст сам является до крайности неопределенным, второй же слишком широк и абстрактен, чтобы говорить о чем-то, кроме структуры предложений. Поэтому отдаленные ассоциации, если они и возникают, оказываются неустойчивыми и меняющимися от человека к человеку.
И тем не менее даже это четверостишие не является совершенно бессодержательным. Оно несет некоторое знание, дает определенную, хотя и весьма общую информацию.
Чтобы понять, в чем она заключается, сопоставим два разных, но одинаково правомерных его «истолкования» или «прояснения».
Первое: «Смеркалось. Быстрые зверьки шныряли по траве, и стрекотали цикады, как будильники в рассветный час». И второе: «Мечталось. Разрозненные мысли проносились по смутному фону, и наплывали образы, как тучи в ненастный день». Можно было бы считать, что это два разных подстрочных перевода одного и того же текста, если бы и само четверостишие и эти его переводы не были написаны на одном и том же — русском — языке.
Все в этих двух истолкованиях разное: и объекты, о которых идет речь (в одном — зверьки и цикады, в другом — мысли и образы), и их свойства, и ситуация (смеркалось и мечталось). И вместе с тем определенная общность как между истолкованиями, так и между ними и исходным текстом все-таки чувствуется. Она не в конкретных совпадениях, а в общности строения всех трех отрывков, их структуры.
Четверостишие бессмысленно, так как его слова, призванные что-то обозначать, на самом деле ничего не обозначают. В лексике русского языка просто нет этих «хливких шорек», «хрюкочущих зелюков» и т. п. Но лексическая бессмыслица облечена здесь в четкие грамматические формы, остающиеся значимыми сами по себе. Мы не знаем ни одного из конкретных значений, но грамматическая роль каждого из слов в предложении и их связи совершенно очевидны.
Еще одним примером такой же лексической бессмыслицы является известная фраза: «Глокая куздра штеко булданула бокра и курдачит бокрёнка». Эта фраза состоит опять-таки из слов, не имеющих смысла, но снабженных определенными морфологическими, относящимися к внутренней структуре показателями. Они и говорят, что тут перед нами именно грамматическое предложение, и притом русского, а не иного языка. Подобные искусственные выражения конструировал лингвист Л. Щерба с намерением выявить и подчеркнуть как раз строение предложения, независимое от семантики составляющих его слов.
Структура, сохраняющаяся при «истолкованиях», а их может быть, конечно, сколько угодно, несет определенную информацию о языке, к которому относится предложение, и о мире, описываемом этим языком. При всей абстрактности такой «структурной информации» из нее можно все-таки заключить, что в той реальности, о которой идет речь, есть какие-то объекты, что они имеют некоторые свойства и находятся в каких-то отношениях друг с другом. Это не особенно содержательное, но все-таки знание о мире.
И если уж начало «Джабберуоки», не говорящее ни о чем конкретном, обладает тем не менее каким-то содержанием, то насколько богаче им должна быть последующая часть этого нонсенса! Хотя, в общем-то, и она, если судить строго, бессмысленна.
В «Алисе в Зазеркалье» есть диалог, косвенно связанный с «Джабберуоки».
— А языки ты знаешь? — спрашивает Алису Черная Королева. — Как по-французски «фу ты, ну ты»?
— А что это значит? — спросила Алиса.
— Понятия не имею!
Алиса решила, что на этот раз ей удастся выйти из затруднения.
— Если вы мне скажете, что это значит, — заявила она, — я вам тут же переведу на французский!
В самом деле, как можно перевести на другой язык бессмысленное? При переводе нормального текста вместо слов одного языка ставятся слова другого языка, имеющие такой же смысл. И главная задача переводчика — передать адекватно смысл оригинала, не исказив этот смысл и не утратив каких-то его оттенков. Иногда и в общем-то нередко смысл так прямо и определяется как то, что остается неизменным при переводе на другие языки. Если нет смысла, то нет и перевода, поскольку перевод — это только передача смысла средствами другого языка.
Все это так, но бессмысленное тем не менее переводимо. В частности, «Джабберуоки» переводили и обычно удачно на многие языки. Есть два латинских перевода, французский, немецкий и др.
Цитировавшийся выше русский перевод сделан Д. Орловской. Есть более ранний перевод Т. Щепкиной-Куперник. Между ними очень мало общего, что вполне естественно, раз речь идет о переводе нонсенса. Например, герой английского оригинала, Джабберуоки, в одном случае назван Бармаглотом, а в другом — Верлиокой. Первое имя кажется более удачным, хотя оба они не имеют никакого смысла.
А что, собственно, означает английское слово «Jabberwocky»? Сам Кэрролл писал об авторе этого слова, то есть о самом себе: «Ему удалось установить, что англосаксонское слово «wocker» или «wockor» означает «потомок» или «плод». Принимая обычное значение слова «jabber» («возбужденный или долгий спор»), получим в результате «плод долгого и возбужденного спора».
Англо-русский словарь говорит, однако, что «jabber» — это «болтовня, трескотня, бормотание, тарабарщина».
Впрочем, все это совершенно неважно, ведь переводится бессмыслица. И задача состоит в том, чтобы найти в другом языке аналогичную бессмыслицу, которая навевала бы и внушала примерно такие же идеи и настроения, как и переводимое выражение в рамках исходного языка. И, переводя на другой язык, скажем, даже «дыр бул щыл, убещур», вряд ли можно ограничиться передачей этих же звуков другими буквами.
Бессмысленное, даже в своих крайних вариантах, остается интимно связанным со строем и духом своего языка. Переведенное на другой язык, оно должно как-то укорениться в нем, войти в его новый строй и впитать его новый дух.
Переводы бессмысленного не просто теоретически возможны. Они реально существуют и один из них может быть лучше другого.
Этим вовсе не опровергается мысль, что перевод — это всегда передача смысла. Слова и фразы живут только в рамках определенного языка. Помимо собственного, узкого значения, они несут на себе отблески значений других слов и фраз этого языка. И даже если собственное значение ничтожно или вообще отсутствует, перед переводчиком остается задача «осветить» переводимое выражение смысловыми отблескам, характерными для нового языка.
Перевод бессмысленного наглядно показывает, что значения слов и высказываний всегда связаны с контекстом их употребления. Изолированные значения, столь любимые составителями словарей, — это только отдельные части живого ранее организма, выставленные на обозрение в банках с формалином.
6. Туманное и темное
Есть градации света: от ослепляющего сияния через постепенно сгущающиеся сумерки до полной, беспросветной темноты. Сходным образом в естественном языке имеются разные степени осмысленности: от полного и ясного смысла через туманное и невнятное до совершенной бессмысленности, лишенной даже структурной определенности.
Это хорошо показано в «Джабберуоки». По мере развития действия рассказ все более проясняется, но остается все-таки как бы разглядыванием через мутное стекло: видны какие-то предметы, движения, но все равно как-то неотчетливо. В конце рассказа стекло мутнеет почти до непроницаемой черноты.
Мотив постепенности перехода от вполне осмысленного к совершенно бессмысленному звучит в «Алисе в Зазеркалье» и в разговоре Алисы с Черной Королевой:
— Разве это холм? — перебила ее Королева. — Видала я такие холмы, рядом с которым этот — просто равнина!
— Ну, нет! — сказала вдруг Алиса… — Холм никак не может быть равниной. Это уж совсем чепуха!
— Разве это чепуха? — сказала Королева и затрясла головой. — Слыхала я такую чепуху, рядом с которой эта разумна, как толковый словарь!
Известный английский астроном А. Эддингтон, не раз обращавшийся к этой сказке в сугубо научных контекстах, связывал слова Черной Королевы с тем, как физики понимают «проблему нонсенса». Физику кажется бессмысленным утверждать, что существует какая-то иная реальность, помимо той, которая подчиняется законам его науки. Но даже это утверждение осмысленно, как толковый словарь, в сравнении с бессмыслицей предположения, что этой реальности вовсе не существует.
Не только в обыденном рассуждении, но и в физике имеются разные уровни осмысленности, а значит и бессмысленности. Они есть вообще в любой сколь угодно строгой и точной научной теории. И это особенно заметно в период ее становления и в период ее пересмотра.
В формирующейся теории, не имеющей еще полной и цельной интерпретации, всегда присутствуют понятия, не связанные однозначно с исследуемыми объектами. Утверждения с подобными понятиями неизбежно являются только частично осмысленными. С другой стороны, такая теория способна объяснить и сделать понятным далеко не все из того, что дано в эксперименте и опыте.
Хорошие в этом плане примеры дает квантовая механика начала века. Один из ее создателей, немецкий физик В. Гейзенберг, вспоминает в своей книге «Часть и целое» примечательный спор между А. Шредингером и Н. Бором по поводу осмысленности введенной последним модели атома.
Шредингер: «Вы должны понять, Бор, что все представления о квантовых скачках необходимым образом ведут к бессмыслице. Здесь утверждается, что в стационарном состоянии атома электрон сначала периодически вращается по той или иной орбите, не излучая. Не дается никакого объяснения почему он не должен излучать… Потом электрон почему-то перескакивает с этой орбиты на другую и происходит излучение. Должен ли этот переход совершаться постепенно или внезапно?.. И какими законами определяется движение электрона при скачке? Так что все представление о квантовых скачках оказывается просто бессмыслицей».
Бор: «Да, во всем, что вы говорите, вы совершенно правы. Однако это еще не доказательство, что квантовых скачков не существует. Это доказывает только, что мы не можем себе их представить…»
А. Эддингтон замечал, что описание элементарной частицы, которое дает физик, есть на деле нечто подобное «Джабберуоки»: слова связываются с чем-то неизвестным, действующим неизвестным нам образом. И лишь потому, что это описание содержит числа, физика оказывается в состоянии внести некоторый порядок в явление и сделать относительно его успешные предсказания. Эддингтон пишет: «Наблюдая восемь электронов в одном атоме и семь электронов в другом, мы начинаем постигать разницу между кислородом и азотом. Восемь «хливких шорьков» «пыряются» в кислородной «наве» и семь — в азотной. Если ввести несколько чисел, то даже «Джабберуоки» станет научным. Теперь можно отважиться и на предсказание: если один из «шорьков» сбежит, кислород замаскируется под азот. В звездах и туманностях мы действительно находим таких волков в овечьих шкурах, которые иначе могли бы привести нас в замешательство. Если перевести основные понятия физики на язык «Джабберуоки», сохранив все числа — все метрические атрибуты, ничего не изменится; это было бы неплохим напоминанием о принципиальной непознаваемости природы основных объектов».
Впрочем, сопоставляя физическое описание со стихотворным нонсенсом, Эддингтон определенно увлекается. Литературный текст имеет дело с вымышленными событиями, существующими только в голове его автора.
Научный же текст говорит о реальных объектах и coбытиях и его темнота может быть постепенно рассеяна в ходе дальнейшего их исследования.
Как показывают эти примеры, взятые из одной из самых точных наук — современной физики, научное изложение временами бывает туманным и даже темным, и притом в силу вполне объективных причин. Естественно ожидать, что по мере удаления от современной, высокоразвитой науки в глубь веков непрозрачность исследовательских текстов должна все более возрастать.
Для подтверждения этой мысли хорошо обратиться к алхимии — своеобычной средневековой предшественнице нашей химии.
Алхимики стремились получить философский камень, чтобы затем с его помощью превращать неблагородные металлы в золото. В алхимическом рецепте, принадлежащем по преданию испанскому мыслителю и логику Раймонду Луллию, предписываются, в частности, такие действия: «Непроницаемые тени покроют реторту своим темным покрывалом, и ты найдешь внутри ее истинного дракона, потому что он пожирает свой хвост. Возьми этого черного дракона, разотри на камне и прикоснись к нему раскаленным углем. Он загорится и, приняв вскоре великолепный лимонный цвет, вновь воспроизведет зеленого льва. Сделай так, чтобы он пожрал свой хвост, и снова дистиллируй продукт. Наконец, мой сын, тщательно раздели, и ты увидишь появление горючей воды и человеческой крови».
Этот текст столь же темен, как и тени, что покрывают реторту с драконом внутри. Может даже показаться, что это бессмысленное бормотание мага или шарлатана, рассчитанное на непосвященных и не имеющее никакого отношения к химии.
Но как раз с химической стороны дело оказалось относительно простым. Уже в ХIХ веке этот рецепт был расшифрован, таинственные львы и драконы исчезли и вместо них появились самые обыкновенные вещества. «Буквально химическое» прочтение алхимического рецепта показало, что в нем описывается серия химических превращений свинца, его окислов и солей. В частности, «горючей водой» является обычный теперь ацетон.
Однако только «химического» толкования и прояснения явно недостаточно. Оно выявляет один скелет средневекового текста, оставляя в стороне все остальное, без чего алхимия перестает быть полнокровным по средневековому противоречивым культурным явлением.
Современные исследования алхимии со всей очевидностью показывают, что всестороннее истолкование ее как целостного образа средневековой культуры во многом еще остается делом будущего.
Успех общения во многом зависит от ясности и однозначности используемого языка. Говорящий туманно всегда рискует быть превратно понятым или быть непонятым вообще. Темные речи прощаются только прорицателям и пророкам: сам предмет их суждений лишен определенности.
Где меньше всего допустима не только темнота, но даже туманность, так это в науке. Она представляется — и в общем-то совершенно справедливо — сферой наиболее прозрачного и осмысленного употребления языка и тем идеалом, к которому должно стремиться общение людей в других областях.
Но ясно, что абсолютная прозрачность смысла недостижима даже в науке. И связано это прежде всего не с субъективными и случайными ошибками отдельных исследователей, а с самой природой научного познания.
Представление о мире, даваемое наукой, складывается постепенно, и нет такого последнего предела, после которого нечего уже будет исследовать и прояснять. Кроме того, постоянное расширение знания заставляет периодически пересматривать и перестраивать саму картину мира, создаваемую наукой. Это ведет к тому, что какие-то фрагменты такой картины теряют свою прежнюю устойчивость и ясность и их приходится заново переосмысливать и истолковывать. Рассуждения же об объектах, еще не полностью осмысленных наукой или не обретших твердого места в ее структуре и связях, по необходимости недостаточно однозначны и определенны, а то и просто темны.
Говоря о туманном как в науке, так и в языке вообще, нужно всегда учитывать, что оно не является какой-то сугубо внутренней характеристикой языка, совершенно не связанной с той средой, в которую он всегда погружен. И тем более оно не является во всех своих случаях результатом простого неумения употреблять язык надлежащим образом. Многими нитями туманное сцеплено с самой жизнью, ткань которой пропитывает и делает эластичной язык.
В естественном языке нет твердой перегородки между осмысленным и в большей или меньшей мере туманным, отсутствуют раз и навсегда установленные правила, позволяющие разграничить их. И это говорит, помимо всего прочего, о гибкости и скрытой силе нашего обычного языка.
То, о чем можно рассуждать с полным смыслом и что не допускает такого рассуждения, определяется, в конечном счете, уровнем познания и человеческой практики. Достоинство не закосневшего в жестких разграничениях и противопоставлениях языка в том, что он не утрачивает способности изменяться вместе с изменением самой жизни и всегда остается столь же гибким и готовым к будущим переменам, как и она сама.
В заключение надо обратить внимание еще на один случай туманности и темноты.
Невольное нарушение правил употребления языка — важный и постоянный источник туманности и темноты.
Попытки высказаться о том, что видится еще смутно и неотчетливо, — другой столь же постоянный и еще более важный их источник.
В первом случае — в отличие от второго — неясность выражения является просто ошибкой. Отражает она не какую-то трудно выразимую таинственность обсуждаемого предмета, а только неумение говорящего высказаться о нем ясно. Такое неумение только затемняет реальную тайну, если она, конечно, есть, добавляя к ней синтаксические и семантические загадки.
От этих случаев туманности и темноты нужно, разумеется, отличать сознательную, или, как говорят, жанровую туманность и темноту литературного или иного текста. Литературоведы иногда называют ее «бессвязной речью».
Есть речи — значенье темно иль ничтожно.
Но им без волненья внимать невозможно.
Ф. И. ТютчевВ общем случае туманность и темнота — неприятные, хотя зачастую и неизбежные спутники общения с помощью языка. От них желательно по мере возможности избавляться.
Но жанровые туманность и темнота имеют все права появляться в нужное время на удобной для этого сцене.
Глава 5. Искусство определять
Само собой понятное и очевидное не следует определять: определение лишь затемнит его.
Б. ПаскальНельзя внести точность в рассуждения, если она сначала не введена в определения.
Л. ГершельЧем богаче подлежащий определению предмет, то есть чем больше различных сторон он предоставляет рассмотрению, тем более различными оказываются даваемые ему дефиниции. Так, например, существует масса дефиниций жизни, государства и т. д. Геометрии, напротив, легко давать дефиниции, так как ее предмет, пространство, очень абстрактен.
Г. В. Ф. Гегель1. Определение и его глубина
Одним из самых надежных способов, предохраняющих от недоразумений в общении, исследовании, споре, является определение, или дефиниция. Цель определения — уточнение содержания используемых понятий.
Важность определений подчеркивал еще Сократ, говоривший, что он продолжает дело своей матери, акушерки, и помогает родиться истине в споре. Анализируя вместе со своими оппонентами различные случаи употребления конкретного понятия, он стремился придти в конце концов к его прояснению и определению.
Несмотря на то, что роль определений в прояснении и уточнении нашего мышления немаловажна, они встречаются в рассуждениях далеко не так часто, как хотелось бы и как этого требуют интересы ясности проводимых рассуждений.
Задачи определения
В самом общем смысле определение — это логическая операция, раскрывающая содержание понятия. Определить понятие — значит указать, что оно означает, выявить признаки, входящие в его содержание.
Определяя, например, термометр, мы указываем, что это, во-первых, прибор и, во-вторых, именно тот, с помощью которого измеряется температура. Давая определение понятию «термин», мы говорим, что это слово или сочетание слов, имеющее точное значение и применяемое в науке, технике или искусстве.
Оставаясь на уровне таких тривиальных примеров, трудно, конечно, почувствовать ту фундаментальную роль, которую играет в человеческом мышлении операция определения. Усложним поэтому примеры.
Философ Платон определил человека как двуногое бесперое существо. Направленность этого определения очевидна. Из всех живых существ двуногие — только птицы и люди. Но все птицы покрыты перьями, «двуногими бесперыми» являются, таким образом, только люди.
Другой философ, Диоген, ощипал цыпленка и бросил его к ногам Платона со словами: «Вот твой человек». После этого Платон уточнил свое определение: человек — это двуногое бесперое существо с широкими ногтями.
Еще один философ охарактеризовал человека как существо с мягкой мочкой уха. По какому-то капризу природы оказалось, что из всех живых существ только у человека мягкая мочка уха.
Одна из задач определения — отличить и отграничить определяемый предмет от всех иных. И определение Платона, и определение, ссылающееся на мягкую мочку уха, позволяют безошибочно и просто отделять людей от всех иных существ.
Но можно ли сказать, что в этих определениях раскрывается какое-то глубокое содержание понятия «человек»? Конечно, нет. Они ориентированы на сугубо внешние и случайные особенности человека и ничего не говорят о нем по существу. Разве человек перестал бы быть самим собою, если бы его ногти были несколько поуже или мочка уха твердой? Пожалуй, нет.
Помимо отграничения определяемых предметов, к определению обычно предъявляется также требование раскрывать сущность этих предметов.
С этим требованием и связаны чаще всего сложные проблемы определения конкретных понятий. Легко отличить предметы, подпадающие под понятие, по каким-то поверхностным, несущественным признакам вроде широких ногтей или мягкой мочки уха. Но сложно сделать это по глубинным, существенным признакам предметов, делающим последние тем, чем они являются.
Дать хорошее определение — значит раскрыть сущность определяемого объекта. Но сущность, как правило, не лежит на поверхности. Кроме того, за сущностью первого уровня всегда скрывается более глубокая сущность второго уровня, за той — сущность третьего уровня и так до бесконечности. Эта возможность неограниченного углубления в сущность даже простого объекта делает понятными те трудности, которые встают на пути определения, и объясняет, почему определения, казалось бы, одних и тех же вещей меняются с течением времени. Углубление знаний об этих вещах ведет к изменению представлений об их сущности, а значит и их определений.
Необходимо также учитывать известную относительность сущности: существенное для одной цели может оказаться второстепенным с точки зрения другой цели.
Скажем, в геометрии для доказательства разных теорем могут использоваться разные, не совпадающие между собой определения понятия «линия». И вряд ли можно сказать, что одно из них раскрывает более глубокую сущность этого понятия, чем все остальные.
Венгерский писатель И. Рат-Вег в «Комедии книги» упоминает некоего старого автора, чрезвычайно не любившего театр. Отношение к театру этот автор считал настолько важным, что определял через него все остальное. Рай, писал он, это место, где нет театра; дьявол — изобретатель театра и танцев; короли — люди, которым особенно позорно ходить в театр и покровительствовать актерам, и т. п. Разумеется, эти определения поверхностны со всех точек зрения. Со всех, кроме одной: тому, кто всерьез считает театр источником всех зол и бед, существующих в мире, определения могут казаться схватывающими суть дела.
Таким образом, определение может быть более или менее глубоким и его глубина зависит, прежде всего, от уровня знаний об определяемом предмете. Чем лучше и глубже мы его знаем, тем больше вероятность, что нам удастся найти хорошее его определение.
Писатель Ф. Рабле оставил знаменитое определение человека как животного, которое смеется. Уже в нашем веке французский философ А. Бергсон также усматривал — не без иронии, понятно, — отличительную особенность человека в способности смеяться и особенно в способности смешить других. Неуклюжие или забавные движения животного могут вызвать смех. Но животное никогда не задается специальной целью рассмешить. Оно не смеется само и не пытается смешить других. Только человек смеется и смешит.
Писатель Ж. Кардан определял человека как существо, способное к обману и постоянно обманывающее и себя, и других. Склонный к пессимизму и меланхолии философ А. Шопенгауэр считал человека трагическим животным, которому недостает инстинкта для уверенных, безошибочных действий, а появившийся у него разум не в состоянии этот инстинкт всецело заменить.
Перечень подобных определений можно было бы продолжить. На протяжении долгого времени их выдвигалось множество. Однако они не только многочисленны, но и явно неглубоки, так как решают по преимуществу задачи отграничения человека от других живых существ, но оставляют в стороне вопрос о его сущности.
Интерес этих определений в другом. Их обилие хорошо оттеняет тот факт, что чем сложнее объект, чем он многограннее, тем большее число определений можно ему дать.
В частности, в наше время, когда осознана уникальная сложность человека, резко возросло число предлагаемых его определений. Человека определяют как «разумное существо». Но его определяют и как «экономическое существо», и как «существо, использующее символы», и как «эстетическое существо», и т. д. Все эти и подобные им определения схватывают какие-то отличительные черты человека. Но подлинной глубины здесь нет. Из того, что человек очень озабочен своими экономическими проблемами, нельзя ничего заключить относительно его отношения к прекрасному и наоборот. Из широкого использования человеком символов нельзя извлечь никакого знания об экономической, эстетической и других сторонах его жизни. Хорошее же определение должно не только отличать человека от всех иных существ. Оно должно содержать в конденсированном виде достаточно полную его характеристику, из которой вытекали бы другие важные его особенности.
С этой точки зрения более глубоким является определение человека как существа, производящего орудия труда. Именно этим в конечном счете обусловлено и его особое отношение к экономике, символам, прекрасному и т. д.
2. Неявные определения
Больше всего поражает в операции определения, пожалуй, многообразие тех конкретных форм, в которых она практически осуществляется. Задача этой операции, как мы уже выяснили, проста — раскрыть содержание понятия. Но способы, какими это достигается, очень и очень разнообразны.
Прежде всего, нужно отметить различие между явными и неявными определениями.
Первые имеют форму равенства, совпадения двух понятий. Общая схема таких определений: «А есть (по определению) В». Здесь А и В — два понятия, причем не имеет принципиального значения, выражается каждое из них одним словом или сочетанием слов. Явными являются, к примеру, определения: «Абракадабра — это бессмыслица», «Пролегомены — это введение», «Молекула есть мельчайшая частица вещества, сохраняющая все химические свойства этого вещества».
Неявные определения не имеют формы равенства двух понятий.
Контекстуальные определения
Всякий отрывок текста, всякий контекст, в котором встречается интересующее нас понятие, является в некотором смысле неявным его определением. Контекст ставит понятие в связь с другими понятиями и тем самым косвенно раскрывает его содержание.
Допустим, нам не вполне ясно, что такое удаль, и мы хотели бы получить ее определение. Можно обратиться к словарю и там найти определение (скажем, такое: «Удаль — безудержная, лихая смелость»). Но можно также взять текст, в котором встречается слово «удаль», и попытаться из характера связей этого слова с другими понять, что именно оно означает.
«Удаль. В этом слове, — пишет Ф. Искандер, — ясно слышится — даль. Удаль — это такая отвага, которая требует для своего проявления пространства, дали. В слове «мужество» — суровая необходимость, взвешенность наших действий, точнее, даже противодействий. Мужество от ума, от мужчинства. Мужчина, обдумав и осознав, что в тех или иных обстоятельствах жизни, защищая справедливость, необходимо проявить высокую стойкость, проявляет эту высокую стойкость, мужество. Мужество ограничено целью, цель продиктована совестью. Удаль, безусловно, предполагает риск собственной жизнью, храбрость. Но вглядевшись в понятие «удаль», мы чувствуем, что это неполноценная храбрость. В ней есть самонакачка, опьянение. Если бы устраивались состязания по мужеству, то удаль на эти соревнования нельзя было бы допускать, ибо удаль пришла бы, хватив допинга. Удаль требует пространства, воздух пространства накачивает искусственной смелостью, пьянит. Опьяненному жизнь — копейка. Удаль — это паника, бегущая вперед. Удаль рубит налево и направо. Удаль — возможность рубить, все время удаляясь от места, где уже лежат порубленные тобой, чтобы не задумываться: а правильно ли я рубил? А все-таки красивое слово: удаль! Утоляет точку по безмыслию».
В этом отрывке нет, конечно, явного определения удали. И тем не менее можно хорошо понять, что представляет собой удаль и как она связана с отвагой, мужеством.
В «Словаре русского языка» С. И. Ожегова «охота» определяется как «поиски, выслеживание зверей, птиц с целью умерщвления или ловли». Это определение звучит сухо и отрешенно. Оно никак не связано с горячими спорами о том, в каких крайних случаях оправданно убивать или заточать в неволю зверей, птиц. В коротком стихотворении «Формула охоты» поэт В. Бурич так определяет охоту и свое отношение к ней:
Черта горизонта
Птицы в числителе
рыбы в знаменателе
Умноженные на дробь выстрела
и переменный коэффициент удочки
дают произведение
доступное каждой посредственности.
Завзятый охотник может сказать, что эта образная характеристика охоты субъективна и чересчур эмоциональна. Но тем не менее она явно богаче и красками, и деталями, относящимися к механизму охоты, чем сухое словарное определение.
В контексте слово является «живым». Вырванное из контекста и помещенное в словарь, оно подобно организму, помещенному в банку с формалином и выставленному на обозрение.
Почти все определения, с которыми мы встречаемся в обычной жизни, — это контекстуальные определения.
Услышав в разговоре неизвестное нам слово, мы не уточняем его определение, а стараемся сами установить его значение на основе всего сказанного. Встретив в тексте на иностранном языке одно — два неизвестных слова, мы обычно не спешим обратиться к словарю, если и без него можно понять текст в целом и составить примерное представление о значении неизвестных слов.
Контекстуальные определения всегда остаются в значительной мере неполными и неустойчивыми. Не ясно, насколько обширным должен быть контекст, познакомившись с которым мы усвоим значение интересующего нас слова. Никак не определено также то, какие именно иные понятия могут или должны входить в этот контекст. Вполне может оказаться, что ключевых слов, особо важных для раскрытия содержания понятия, в избранном нами контексте как раз нет.
Никакой словарь не способен исчерпать всего богатства значений отдельных слов и всех оттенков этих значений. Слово познается и усваивается не на основе сухих и приблизительных словарных разъяснений. Употребление слов в живом и полнокровном языке, в многообразных связях с другими словами — вот источник полноценного знания как отдельных слов, так и языка в целом. Контекстуальные определения, какими бы несовершенными они ни казались, являются фундаментальной предпосылкой владения языком.
Остенсивные определения
Еще одна интересная разновидность неявных определений — это так называемые остенсивные определения, или определения путем показа.
Нас просят объяснить, что представляет собой жираф. Мы, затрудняясь сделать это, ведем спрашивающего в зоопарк, подводим его к клетке с жирафом и показываем: «Это и есть жираф».
Определения такого типа напоминают обычные контекстуальные определения. Но контекстом здесь является не отрывок какого-то текста, а ситуация, в которой встречается объект, обозначаемый интересующим нас понятием. В случае с жирафом — это зоопарк, клетка, животное в клетке и т. д.
Остенсивные определения, так же как и все контекстуальные определения, отличаются некоторой незавершенностью, неокончательностью.
Определение посредством показа не выделяет жирафа из его окружения и не отделяет того, что является общим для всех жирафов, от того, что характерно для данного конкретного их представителя. Единичное, индивидуальное слито в таком определении с общим, с тем, что свойственно всем жирафам.
Человек, которому впервые показали жирафа, вполне может подумать, что жираф всегда в клетке, что он всегда вял, что вокруг него постоянно толпятся люди и т. д.
Остенсивные определения — и только они — связывают слова с вещами. Без них язык — только словесное кружево, лишенное объективного, предметного содержания.
Определить путем показа можно, конечно, не все понятия, а только самые простые, самые конкретные. Можно предъявить стол и сказать: «Это — стол и все вещи, похожие на него, тоже столы». Но нельзя показать и увидеть бесконечное, абстрактное, конкретное и т. п. Нет предмета, указав на который, можно было бы заявить: «Это и есть то, что обозначается словом «конкретное». Здесь необходимо уже не остенсивное, а вербальное определение, т. е. чисто словесное определение, не предполагающее показа определяемого предмета.
Далеко не все остенсивно определимо. Показ лишен однозначности, не отделяет важное от второстепенного, а то и вовсе не относящегося к делу. Все это так. И тем не менее без остенсивных определений нет языка как средства постижения окружающего мира. Не всякое слово можно напрямую связать с вещами. Но важно, чтобы какая-то опосредованная связь все-таки существовала. Слова, полностью оторвавшиеся от видимых, слышимых, осязаемых и т. п. вещей, бессильны и пусты.
Аксиоматические определения
Частым и важным для науки случаем контекстуальных определений являются аксиоматические определения, т. е. определения понятий с помощью аксиом.
Аксиомы — это утверждения, принимаемые без доказательства. Совокупность аксиом какой-то теории является одновременно и свернутой формулировкой этой теории, и тем контекстом, который неявно определяет все входящие в нее понятия.
Откуда мы знаем, например, что такое точка, прямая, плоскость? Из аксиом геометрии Евклида. Они являются тем ограниченным по своему объему текстом, в котором встречаются данные понятия и с помощью которого мы устанавливаем их значения.
Чтобы узнать, что представляют собой масса, сила, ускорение и т. п., мы обращаемся к аксиомам классической механики Ньютона. «Сила равна массе, умноженной на ускорение», «Сила действия равна силе противодействия» — эти положения не являются, конечно, явными определениями. Но они раскрывают, что представляет собой сила, указывая связи этого понятия с другими понятиями механики.
Принципиальное отличие аксиоматических определений от всех иных контекстуальных определений в том, что аксиоматический контекст строго ограничен и фиксирован. Он содержит все, что необходимо для понимания входящих в него понятий. Он ограничен по своей длине, а также по своему составу. В нем есть все необходимое и нет ничего лишнего.
Аксиоматические определения — одна из высших форм научного определения понятий. Не всякая теория способна определить свои исходные понятия аксиоматически. Для этого требуется относительно высокий уровень развития знаний об исследуемой области. Изучаемые объекты и их отношения должны быть также сравнительно просты.
Точку, линию и плоскость Евклиду удалось определить с помощью немногих аксиом еще две с лишним тысячи лет назад. Но как охарактеризовать с помощью нескольких утверждений такие сложные, многоуровневые и многоаспектные объекты как общество, история или разум? Аксиоматический метод здесь вряд ли был бы уместен. Он только огрубил бы и исказил реальную картину.
3. Явные определения
В явных определениях отождествляются, приравниваются друг к другу два понятия. Одно из них — определяемое понятие, содержание которого требуется раскрыть, другое — определяющее понятие, решающее эту задачу.
Обычное определение метафоры: «Метафора — это оборот речи, заключающий скрытое уподобление, образное сближение слов на базе их переносного значения». Определяющая часть выражается словами «оборот речи, заключающий…» и слагается из двух частей. Сначала понятие метафоры подводится под более широкое понятие «оборот речи». Затем метафора отграничивается от всех других оборотов речи. Это достигается указанием признаков, присущих только метафоре и отсутствующих у эпитета, метонимии и всех иных оборотов, с которыми можно было бы спутать метафору.
Определения этого типа принято называть определениями через род и видовое отличие. Их общая схема: «А есть В и С». Здесь А — определяемое понятие, В — понятие, более общее по отношению к А (род), С — такие признаки, которые выделяют предметы, обозначаемые А, среди всех предметов, обозначаемых В (видовое отличие).
Родовидовое определение — один из самых простых и распространенных способов определения. В словарях и энциклопедиях подавляющее большинство определений относится именно к этому типу. Иногда даже считают — что, разумеется, неверно, — будто всякое определение является родовидовым.
Требования к явному определению
К явным определениям и, в частности, к родовидовым предъявляется ряд достаточно простых и очевидных требований. Их называют обычно правилами определения.
Прежде всего, определяемое и определяющее понятия должны быть взаимозаменяемы. Если в каком-то предложении встречается одно из этих понятий, всегда должна существовать возможность заменить его другим. При этом предложение, истинное до замены, должно остаться истинным и после нее.
Для определений через род и видовое отличие это правило формулируется как правило соразмерности определяемого и определяющего понятий: совокупности предметов, охватываемые ими, должны быть одними и теми же.
Соразмерны, например, понятия «горельеф» и «скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона более чем на половину своего объема». Соразмерны также «барельеф» и «скульптурное изображение или орнамент, выступающее на плоской поверхности менее чем на половину объема изображенного предмета». Соразмерны «абсурд» и «бессмыслица». Встретив в каком-то предложении понятие «абсурд», мы вправе заменить его на «бессмыслицу» и наоборот.
Если объем определяющего понятия шире, чем объем определяемого, говорят об ошибке слишком широкого определения. Такую ошибку мы допустили бы, определив, к примеру, «горельеф» просто как «скульптурное изображение, выступающее над плоскостью фона». Барельефы оказались бы отнесенными в этом случае к горельефам.
Если объем определяющего понятия уже объема определяемого, имеет место ошибка слишком узкого определения. Такую ошибку допускает, в частности, тот, кто определяет «барельефы» как «скульптурное изображение, изготовленное из камня и выступающее на плоской поверхности менее чем на половину объема изображенного предмета». Из числа барельефов исключаются этим определением все те, которые изготовлены не из камня, а, скажем, из металла или других материалов.
Второе правило определения запрещает порочный круг: нельзя определять понятие через самое себя или определять его через такое другое понятие, которое, в свою очередь, определяется через него.
Содержат очевидный круг определения «Жизнь есть жизнь» и «Поэзия — это поэзия, а не проза». Задача определения — раскрыть содержание ранее неизвестного понятия и сделать его известным. Определение, содержащее круг, разъясняет неизвестное через него же. В итоге неизвестное так и остается неизвестным. Истину можно, к примеру, определить как верное отражение действительности, но только при условии, что до этого верное отражение действительности не определялось как такое, которое дает истину.
Третье правило говорит, что определение должно быть ясным. Это означает, что в определяющей части могут использоваться только понятия, известные и понятные тем, на кого рассчитано определение. Желательно также, чтобы в ней не встречались образы, метафоры, сравнения, т. е. все то, что не предполагает однозначного и ясного истолкования.
Можно определить, к примеру, пролегомены как пропедевтику. Но такое определение будет ясным лишь для тех, кто знает, что пропедевтика — это введение в какую-либо науку.
Не особенно ясны и такие определения как «Дети — это цветы жизни», «Архитектура есть застывшая музыка», «Овал — круг в стесненных обстоятельствах», «Арба — повозка, на которой третье колесо является пятым» и т. п. Они образны, иносказательны, ничего не говорят об определяемом предмете прямо и по существу, каждый человек может понимать их по-своему.
Ясность не является, конечно, абсолютной и неизменной характеристикой. Ясное для одного может оказаться не совсем понятным для другого и совершенно темным и невразумительным для третьего. Представления о ясности меняются и с углублением знаний. На первых порах изучения каких-то объектов даже не вполне совершенное их определение может быть воспринято как успех. Но в дальнейшем первоначальные определения начинают казаться все более туманными. Встает вопрос о замене их более ясными определениями, соответствующими новому, более высокому уровню знания.
Определение всегда существует в некотором контексте. Оно однозначно выделяет и отграничивает множество рассматриваемых вещей, но делает это только в отношении известного их окружения. Чтобы отграничить, надо знать не только то, что останется в пределах границы, но и то, что окажется вне ее. Можно, например, сказать, что копытные — это животные, которые «ходят на кончиках пальцев, или на цыпочках». При этом никто, разумеется, не спутает лошадей, коров и других животных с балеринами, которые иногда передвигаются по сцене на кончиках пальцев.
Интересно отметить, что наши обычные загадки представляют собой, в сущности, своеобразные определения. Формулировка загадки — это половина определения, его определяющая часть. Отгадка — вторая его половина, определяемая часть.
«Утром — на четырех ногах, днем — на двух, вечером — на трех. Что это?» Понятно, что это — человек. Саму загадку можно переформулировать так, что она станет одним из возможных его определений.
Контекстуальный характер определений хорошо заметен на некоторых вопросах, подобных загадкам. Сформулированные для конкретного круга людей, они могут казаться странными или даже непонятными за его пределами.
Древний китайский буддист Дэн Инь-фэн однажды задал такую «загадку»: «Люди умирают сидя и лежа, некоторые умирают даже стоя. А кто умер вниз головой?» — «Мы такого не знаем», — ответили ему. Тогда Дэн встал на голову и… умер.
Сейчас такого рода «загадка» кажется абсурдом. Но в то давнее время, когда жил Дэн, в атмосфере полемики с существующими обычаями и ритуалом его «загадка» и предложенная им «разгадка» показались вполне естественными. Во всяком случае его сестра, присутствовавшая при этом, заметила только: «Живой ты, Дэн, пренебрегал обычаями и правилами и вот теперь, будучи мертвым, опять нарушаешь общественный порядок!»
4. Реальные и номинальные определения
Лет 200–300 тому назад в большом ходу были разного рода сборники правил хорошего тона. Вот как в одной из таких книг — «Свойства порядочного человека» — определялся порядочный человек: «Он соединяет благовоспитанность с физическими и умственными достоинствами. Он должен выглядеть изящно, быть хорошим танцором, наездником, охотником, но при этом обладать ученостью, остроумием, умением вести беседу и знанием света. Под «знанием света» подразумевается: любезно, но крайне почтительно обходиться с дамами; молчать о своих добрых качествах, но с готовностью хвалить чужие; не злословить ни о ком; при любых обстоятельствах хранить выдержку и полное самообладание…»
Как отнестись к этому определению? Можно ли сказать, что оно описывает «порядочных людей» своего времени? Вряд ли. Рисуемый им образ слишком идеален, чтобы быть сколько-нибудь распространенным. Может быть, это определение является абстрактным требованием? Тоже едва ли. Хотя в определении силен момент идеализации, оно все-таки исходит в чем-то из реальной жизни и ориентировано в конечном счете на нее.
Колебания такого рода обычны, когда мы анализируем определения. В большинстве своем определения соединяют элементы описания с элементами требования, или предписания.
Возьмем обычный толковый словарь. Его задача — дать достаточно полную картину стихийно сложившегося употребления слов, описать те значения, которые придаются им в обычном языке. Но составители словарей ставят перед собою и другую цель — нормализовать и упорядочить обычное употребление слов, привести его в определенную систему. Словарь не только описывает как реально используются слова. Он указывает также, как они должны правильно употребляться. Описание здесь соединяется с требованием.
Различие между описанием и требованием существенно.
Описать предмет — значит перечислить те признаки, которые ему присущи. Описание, соответствующее предмету, является истинным, не соответствующее — ложным.
Иначе обстоит дело с требованием. Его функция отлична от функции описания. Описание говорит о том, каким является предмет, требование же указывает, каким он должен быть.
«Вода кипит» — это описание, и если вода на самом деле кипит, оно истинно. «Нагрейте воду до кипения!» — это требование и его нельзя, конечно, считать истинным или ложным.
Определения-описания и определения-требования
Определения, решающие задачу описания каких-то объектов, принято называть реальными. Определения, выражающие требование, какими должны быть объекты, называются номинальными. Иногда, впрочем, под номинальными определениями понимаются не все определения-требования, а только определения, вводящие в язык новые языковые выражения или уточняющие уже существующие. Это понимание не является, однако, достаточно последовательным: оно не дает возможности однозначно отграничить номинальные определения от реальных.
От реальных определений мы вправе требовать, чтобы они давали верное описание действительности, были истинными. Номинальные определения, подобные всем иным требования, не являются ни истинными, ни ложными. Удачное номинальное определение характеризуется как эффективное, целесообразное и т. п.
Хотя различие между определениями-описаниями и определениями-требованиями представляется несомненно важным, его обычно нелегко провести. Зачастую утверждение в одном контексте звучит как реальное определение, а в другом — выполняет функцию номинального. Иногда реальное определение, описывающее какие-либо объекты, обретает оттенок требования как употреблять понятие, соотносимое с ними. Номинальное определение может нести отзвук описания.
Из психологии известны графические фигуры, которые при пристальном их рассматривании предстают то выпуклыми, то вогнутыми. Сходным образом одно и то же определение при вдумывании в него может казаться то описанием, то требованием.
5. Споры об определениях
Одно время в широком ходу был принцип: «Об определениях не спорят». Иногда его выражали несколько иначе: «О словах не спорят». Не совсем ясно, откуда появился и на чем именно основывался этот принцип, но многие повторяли его как что-то само собой разумеющееся.
Насколько он верен? Ответ на этот вопрос не составляет затруднений: мнение, будто по поводу определений неразумно или даже бессмысленно спорить, является явно ошибочным. Оно не согласуется с общим представлением об определениях и их задачах в обычной жизни и в научном исследовании. Это мнение противоречит также тому очевидному факту, что об определениях спорили всегда и продолжают спорить теперь. Однако в этих спорах есть одна тонкость, которую важно понять правильно.
Споры об определениях разных типов — реальных и номинальных — принципиально отличаются друг от друга.
Реальное определение — это описание какой-то совокупности объектов. От него требуется, чтобы оно раскрывало сущность рассматриваемых объектов и тем самым однозначно отграничивало их от всех других вещей. Проверка правильности такого определения заключается в сопоставлении его с описываемой областью. Адекватное описание — истинно, описание, не соответствующее реальной ситуации, — ложно.
Споры относительно реальных определений — это обычные споры по поводу истинности наших утверждений о действительности.
Иначе обстоит дело с номинальными определениями. Они не описывают что-то, а требуют это реализовать. Поэтому спор здесь будет не об истинности некоторого описания, а о целесообразности, эффективности, правомерности и т. п. выдвигаемого требования.
Положим, кто-то определяет «бегемота» как «хищное парнокопытное млекопитающее подотряда нежвачных». Мы вправе возразить, что такое определение неверно, поскольку является ложным. Оно не соответствует действительности: бегемоты — не хищники, а травоядные — животные.
Но допустим кто-то говорит, что он будет отныне называть «бегемотами» всех представителей отряда пресмыкающихся, включающего гавиалов, аллигаторов и настоящих крокодилов. Ясно, что в данном случае нельзя сказать, что определение ложно. Человек, вводящий новое слово, ничего не описывает, а только требует — от себя или от других, — чтобы рассматриваемые объекты именовались этим, а не другим словом.
Но спор возможен и уместен и здесь. Гавиалов, аллигаторов и настоящих крокодилов принято называть крокодилами. Какой смысл менять это устоявшееся имя на имя «бегемот», тем более что последнее закрепилось уже за совсем иными животными? В чем целесообразность такой замены? Какая от нее польза? Очевидно, никакой. Хуже того, неизбежная в случае переименования путаница принесет прямой вред. Наши возражения сводятся таким образом к тому, что предложение — или даже требование — переименовать крокодилов в бегемотов нецелесообразно и неэффективно. В данном случае лучше все оставить так, как было.
Итак, определение любого вида в принципе может быть предметом полемики или дискуссии. Но спорить об определениях-требованиях нужно иначе, чем об определениях-описаниях.
Границы эффективных определений
«Многие наши затруднения, — замечает английский писатель и критик Г. К. Честертон, — возникают потому, что мы путаем слова «неясный» и «неопределимый». Когда тот или иной духовный факт называют неопределимым, нам сразу же представляется что-то туманное, расплывчатое, вроде облака. Но мы грешим здесь даже против здравого смысла. То, что нельзя определить, — первоначально, первично. Наши руки и ноги, наши плошки и ложки — вот что неопределимо. Неопределимо неоспоримое. Наш сосед неопределим, потому что он слишком реален».
Еще раньше сходную мысль высказывал французский математик и философ Б. Паскаль: попытка определить то, что понятно и очевидно, только затемнит его.
Определение — прекрасное средство против неясности наших понятий и рассуждений. Но при его использовании нужно, как и в случае любых других средств, чувствовать и соблюдать меру.
Прежде всего, невозможно определить абсолютно все точно так же, как невозможно доказать все. Определение сводит неизвестное к известному, не более. Оно всегда предполагает, что есть вещи, известные без всякого определения и разъяснения, ясные сами по себе и не требующие дальнейших уточнений с помощью чего-то еще более очевидного.
«Неясное» и «неопределимое», как правильно заметил Честертон, вовсе не одно и то же. Как раз наиболее ясное, «само собой понятное и очевидное», по выражению Паскаля, меньше всего нуждается в определении, а зачастую и просто не допускает его.
Определения действуют в довольно узком интервале. С одной стороны, он ограничен тем, что признается очевидным и не нуждающимся в особом разъяснении, сведении к чему-то еще более известному и очевидному. С другой стороны, область успешного применения определений ограничена тем, что остается пока еще недостаточно изученным и понятым, чтобы дать ему точную характеристику.
Попытка определить то, что еще не созрело для определения, способна создать только обманчивую видимость ясности.
Известно, что наиболее строгие определения встречаются в науках, имеющих дело с абстрактными объектами. Легко определить, скажем, квадрат, конус, совершенное или нечетное число. С трудом даются определения конкретных, реально существующих вещей, взятых во всем многообразии присущих им свойств.
Казалось бы, что может быть проще такой элементарной частицы как электрон. И тем не менее, хотя с момента его открытия прошло не так уж много времени, ему давались уже десятки разных определений. Процесс углубления знаний даже о простом электроне, в сущности, бесконечен. И каждому из этапов этого процесса соответствует свое определение электрона. Геометрические же или арифметические определения, относящиеся к абстрактным объектам, остаются неизменными в течение тысячелетий.
На эту сторону дела когда-то обращал внимание еще Аристотель. И она действительно важна. В разных областях знаний возможности определения различны. Нельзя требовать, допустим, от этики, изучающей сложные явления нравственности, таких жестких и точных определений, как от математики.
Определение того, что связано с человеком, свойствами его личности и особенностями поведения, вообще представляет особую сложность. Возьмем, к примеру, такую черту человека как интеллигентность. Мы без колебаний оцениваем некоторых людей как «подлинно интеллигентных», другим отказываем в этом качестве. Наша оценка принимает во внимание уровень образования человека, его общую культуру, но не только. Она опирается на сложный комплекс свойств самого человека, на наши субъективные ощущения, и ее нелегко суммировать в общем определении. Хорошо говорит об этом писатель Д. Гранин: «…интеллигентность — это чисто русское понятие. В зарубежных словарях слово «интеллигент» имеет в скобках — «русск.». Оно для них русское так же, как теперь слово «гласность». Определить интеллигентность, сформулировать что это такое, по-моему, до сих пор еще никому не удавалось. Есть ощущение интеллигентности как ощущение порядочности. Я считаю, что интеллигенция — это цвет нации, цвет народа. Я встречал неинтеллигентных людей среди ученых, даже крупных, и знаю прекрасных интеллигентов среди рабочих. Это понятие для меня не классовое, не должностное, не образовательного ценза, оно вне всех этих формальных категорий, иное — какое-то духовное понятие, которое соединяется в чем-то с понятием порядочности, независимости, хотя это разные вещи. …В нечеловеческих условиях интеллигентность, духовность помогала не пасть в нравственную бездну, выжить не за счет других, не расчеловечиться. Что не свойственно интеллигенту — мы все понимаем. Он не может быть человеком, поступающим против совести, бесчестным, шовинистом, хамом, стяжателем. Есть какие-то рамки. Но это, конечно, не определение».
Нет сомнения в том, что определения важны. Но из этого еще не следует, что чем больше вводится определений, тем точнее становятся наши рассуждения.
Искусство определения как раз в том и состоит, чтобы использовать определения тогда, когда это требуется существом дела. При этом следует обращаться именно к тем формам определений, которые наиболее уместны в конкретной ситуации. В одном случае полезным может быть явное родовидовое определение, в другом — контекстуальное, в третьем — определение путем указания на интересующий предмет и т. д.
Упрямо требовать везде и всюду точных и притом именно популярных родовидовых определений — значит не считаться с реальными обстоятельствами и проявлять негибкость.
В одном руководстве по пожарному делу содержалось такое определение: «Сосуд, имеющий форму ведра с надписью «пож. вед.» и предназначенный для тушения пожаров, называется пожарным ведром». Стремление определять все, что попадается на глаза и что, возможно, ни в каких определениях не нуждается, в лучшем случае порождает, как в этом примере, банальности.
В науке, как и в любых других областях, определение ценно не само по себе. Оно должно быть естественным итогом и закономерным выводом предшествующего процесса изучения предмета. Подводить же итоги на каких-то начальных стадиях этого процесса, все равно что считать цыплят до прихода осени.
Ясность системы понятий
Не нуждается в определении то, что само по себе очевидно. Не может быть успешно определено то, что еще не созрело для определения. «Но есть еще одна разновидность неопределимого, — пишет Г. К. Честертон. — Существуют выражения, которые все употребляют и никто не может объяснить. Мудрый примет их почтительно, как примет он страсть или мрак. Придиры и спорщики потребуют, чтобы он выразил свою мысль яснее, но, будучи мудрым, он откажется наотрез. Первое, необъяснимое выражение и есть самое важное. Его не определишь, значит, и не заменишь. Если кто-нибудь то и дело говорит «вульгарно» или «здорово», не думайте, что слово это бессмысленно, если он не может объяснить его смысла. Если бы он мог объяснить его другими словами, он бы их употребил. Когда Боевой Петух, тонкий мыслитель, твердил Тутсу: «Это низость! Это просто низость!», он выражался как нельзя более мудро. Что еще мог он сказать? Нет слова для низости, кроме слова низость. Надо опуститься очень низко, чтобы ее определить. Именно потому, что слово неопределимо, оно и есть единственно нужное».
Разумеется, «низость» можно определить точно так же, как, скажем, жалость, сочувствие, непосредственность и т. п. Что имеет в виду Честертон, это, пожалуй, не столько буквальная неопределимость «низости», а ненужность такого определения. Слово, стоящее на своем месте, действительно является единственно нужным. Оно не нуждается в замене какими-то разъясняющими оборотами. Его смысл и без того прозрачен. Устойчивость и ясность такому слову придает та целостная система слов и их смыслов, в которую оно входит в качестве необходимого, ничем не заменимого элемента.
В художественной литературе, как известно, нет никаких определений, если не считать определенности каждого слова его окружением. В научных трудах определения — и особенно явные определения — тоже не так часты, как это может показаться, если составлять представление о научном творчестве по одним только учебникам.
Цельность и ясность и художественным произведениям и научным теориям придают не столько разъяснения и ссылки на более ясное или очевидное, сколько многообразные внутренние связи понятий. Далеко не всегда эти связи приобретают форму специальных определений. Ясность и обоснованность той целостной системы, в которую входит понятие, — лучшая гарантия и его собственной ясности.
Глава 6. Умение классифицировать
Должен быть почитаем как бог тот, кто хорошо может определять и делить.
ПлатонДля решения проблем следует выбирать расчленения и деления…
Аристотель1. Операция деления
Аргентинский писатель Х. Л. Борхес приводит отрывок из «некоей китайской энциклопедии». В нем дается классификация животных и говорится, что они «подразделяются на: а) принадлежащих императору; б) бальзамированных; в) прирученных; г) молочных поросят; д) сирен; е) сказочных; ж) бродячих собак; з) заключенных в настоящую классификацию; и) буйствующих как в безумии; к) неисчислимых; л) нарисованных очень тонкой кисточкой из верблюжьей шерсти; м) прочих; н) только что разбивших кувшин; о) издалека кажущихся мухами».
Чем поражает эта классификация? Почему с самого начала становится очевидным, что подобным образом нельзя рассуждать ни о животных, ни о чем-либо ином?
Дело, разумеется, не в отдельных рубриках, какими бы необычными они ни казались. Каждая из них имеет вполне определенное конкретное содержание. В числе животных упоминаются, правда, фантастические существа — сказочные животные и сирены, но это делается, пожалуй, с целью отличить реально существующих животных от существующих только в воображении. К животным относятся и нарисованные, но мы и в самом деле обычно называем их животными.
Невозможными являются не отдельные указанные разновидности животных, а как раз соединение их в одну группу, перечисление их друг за другом, так что рядом встают живые и умершие животные, буйствующие и нарисованные, фантастические и прирученные, классифицируемые и только что разбившие кувшин. Сразу возникает чувство, что нет такой единой плоскости, на которой удалось бы разместить все эти группы, нет общего, однородного пространства, в котором могли бы встретиться все перечисленные животные.
Классификация всегда устанавливает определенный порядок. Она разбивает рассматриваемую область объектов на группы, чтобы упорядочить эту область и сделать ее хорошо обозримой. Но классификация животных из «энциклопедии» не только не намечает определенной системы, но, напротив, разрушает даже те представления о гранях между группами животных, которые у нас есть. В сущности, эта классификация нарушает все те требования, которые предъявляются к разделению какого-то множества объектов на составляющие его группы. Вместо системы она вносит несогласованность и беспорядок.
Что же такое классификация? Вопрос этот важен, так как классификация — одна из обычных и часто применяемых операций, средство придания нашему мышлению строгости и четкости. Но прежде чем ответить на вопрос, введем несколько вспомогательных понятий.
Деление понятий
Классификация является частным случаем деления — логической операции над понятиями. Деление — это распределение на группы тех предметов, которые мыслятся в исходном понятии. Получаемые в результате деления группы называются членами деления. Признак, по которому производится деление, именуется основанием деления.
В каждом делении имеются, таким образом, делимое понятие, основание деления и члены деления.
Например, треугольники можно разделить на остроугольные, прямоугольные и тупоугольные. Основанием деления служит характер углов треугольника.
Классификация представляет собой многоступенчатое, разветвленное деление. Скажем, ощущения можно разделить на зрительные, слуховые, осязательные, обонятельные и вкусовые. Затем внутри отдельных групп выделить подгруппы (например, пространственные и цветовые зрительные ощущения), сами подгруппы подвергнуть более дробному делению и т. д.
К операции деления приходится прибегать едва ли не в каждом рассуждении. Определяя понятие, мы раскрываем его содержание, указываем признаки предметов, мыслимые в этом понятии. Производя деление понятия, мы даем обзор того круга предметов, который отображен в нем. Если у нас есть, скажем, определение понятия «линза», мы знаем наиболее важные признаки линз. Но при этом у нас нет точного представления о видах линз. Только разделив линзы на выпуклые, двояковыпуклые, вогнутые, двояковогнутые и т. д., мы получим знание не только о том, что такое линза, но и о том, какими бывают линзы.
Важно уметь, таким образом, не только определять содержание понятия, но и прослеживать те группы, из которых слагается класс предметов, обозначаемых понятием.
Простой пример из энтомологии — науки о насекомых — еще раз подтвердит эту мысль. На столе энтомолога коробочки с наколотыми на тонкие булавки маленькими мухами-серебрянками. Под микроскопом — иначе не разглядеть — ножницами с иголочно-тонкими лезвиями ученый общипывает у этих мух «хвостики» и наклеивает на крошечные стекла. Зачем? В ряде случаев только по «хвостикам» — по особенностям строения отдельных органов — можно точно определить, к какому именно виду относится насекомое. А роспись насекомых по видам и определение территории их обитания важны не только для удовлетворения научной любознательности. Ведь иные из них — потенциальные переносчики ряда болезней, другие — вредители культурных растений, третьи — напротив, враги этих вредителей. Например, трихограммы — крошечные, в полмиллиметра длиной родственники всем известных пчел, шмелей и ос. Трихограммы широко применяются в биологической борьбе с вредителями урожая. Однако недавние исследования показали, что до последнего времени на биологических фабриках разводили не один вид этого насекомого, а «смесь» из трех видов. Но у каждого свои привязанности: один предпочитает поле, другой — сад, третий — огород. И в каждом случае лучше разводить именно тот вид, который подходит для местных условий.
Это только один из примеров практической отдачи работы систематиков, занимающихся классификацией животных.
Из арифметики хорошо известна операция деления чисел. Деление понятий, или логическое деление, — другая мыслительная операция, имеющая с первой общие не только название, но и структуру: у обеих операций есть «делимое», «делитель» и «результат деления». Логическое деление применяется к понятиям, результат такого деления — несколько новых, видовых понятий. В содержание последних входят все те признаки, которые мыслились в исходном, родовом понятии, и, кроме того, признаки, отличающие один вид от другого.
Логическое деление, случается, смешивают с другой операцией, которая тоже иногда именуется «делением», — с расчленением некоторого предмета на составные части.
Мы говорим, что все деревья делятся на хвойные и лиственные. Это логическое деление. Но мы можем также сказать, что дерево делится на крону, ствол и корни. Это уже не деление понятия «дерево», а расчленение самого дерева на его части.
Различие здесь важное и вместе с тем простое. О каждой из частей логического деления можно высказать все то, что говорится в содержании делимого понятия. И хвойные деревья и лиственные — это деревья. И в отношении первых и в отношении вторых справедливо все то, что верно для деревьев вообще. Но части, получающиеся в результате расчленения дерева, вовсе не являются деревьями. О кроне, стволе или корнях нельзя сказать: «Это — дерево», общую характеристику деревьев нельзя распространить на части отдельного дерева.
Короли делятся на наследственных и выборных. И о наследственном, и о выборном короле можно сказать: «Это король». Но когда, как случалось, королю отрубали голову, ни одну из образовавшихся частей нельзя уже было назвать королем.
Это различие между логическим делением и расчленением так обыгрывает польский юморист С. Лец в своих «Непричесанных мыслях»: «Людей можно делить по-разному! Это известно всем. Можно на людей и нелюдей. И сказал удивленный палач: «А я делю их на головы и туловища!»
В одной из басен Эзопа рассказывается о том как звери делили добычу. Лев потребовал себе четверть как глава зверей, еще четверть — за свое несравненное мужество и еще одну четверть — для жены и детей. Что же до последней четверти, заключил Лев, любой из зверей может поспорить со мной из-за нее.
Отсюда и пошло выражение «львиная доля». Раздел добычи — это, конечно, не логическое деление понятия «добыча», а расчленение добычи на части, в данном случае — на четыре части.
Слово «деление» употребляется и в других смыслах. Они связаны с основными только посредством зыбких сиюминутных ассоциаций.
В сказке Л. Кэрролла Белая Королева спрашивает Алису, знает ли она арифметическую операцию деления:
— Раздели буханку хлеба ножом — что будет?
— По-моему… — начала Алиса, но тут вмешалась Черная Королева.
— Бутерброды, конечно, — сказала она. — А вот еще пример на вычитание. Отними у собаки кость — что останется?
Алиса задумалась.
— Кость, конечно, не останется — ведь я ее отняла. И собака тоже не останется — она побежит за мной, чтобы меня укусить… Ну и я, конечно, тоже не останусь!
— Значит, по-твоему, ничего не останется? — спросила Черная Королева.
— Должно быть, ничего…
Такого рода комические «деления» и «вычитания» даже при желании не спутаешь с обычными операциями над числами и понятиями.
В дальнейшем речь будет идти только о логическом делении. Не будет опасности спутать это деление с какой-то другой операцией и нет нужды поэтому выделять его словом «логическое».
Требования к делению
Правила, которые надо соблюдать при делении понятий, элементарны. Обычно формулируют четыре таких правила.
Во-первых, деление должно вестись только по одному основанию.
Это требование означает, что избранный вначале в качестве основания отдельный признак или совокупность признаков не следует в ходе деления подменять другими признаками.
Правильно, например, делить климат на холодный, умеренный и жаркий. Деление его на холодный, умеренный, жаркий, морской и континентальный будет уже неверным: вначале деление производилось по среднегодовой температуре, а затем — по новому основанию. Неверными являются деления людей на мужчин, женщин и детей; обуви — на мужскую, женскую и резиновую; веществ — на жидкие, твердые, газообразные и металлы и т. п.
Во-вторых, деление должно быть соразмерным, или исчерпывающим, т. е. сумма объемов членов деления должна равняться объему делимого понятия. Это требование предостерегает против пропуска отдельных членов деления.
Ошибочными, не исчерпывающими будут, в частности, деление треугольников на остроугольные и прямоугольные (пропускаются тупоугольные треугольники); деление людей с точки зрения уровня образования на имеющих начальное, среднее и высшее образование (пропущены те, кто не имеет никакого образования); деление предложений на повествовательные и побудительные (пропущены вопросительные предложения).
Неверно и шутливое деление людей в зависимости от того, кому что можно и что нельзя: одному можно все, даже то, что нельзя; другому можно все, кроме того, что нельзя; третьему нельзя ничего, кроме того, что можно; и, наконец, четвертому нельзя ничего, даже того, что можно. Здесь пропущены те, кому нельзя ничего, кроме того, что нельзя.
Неправильными являются и деления с излишним членом. Скажем, деление химических элементов на металлы, неметаллы и сплавы; деление наук на естественные, общественные и математические и т. п. Однако введение лишних членов нарушает не это, второе, правило, а первое, предписывающее делить по одному основанию и не подменять его в процессе деления.
В-третьих, члены деления должны взаимно исключать друг друга.
Согласно этому правилу каждый отдельный предмет должен находиться в объеме только одного видового понятия и не входить в объемы других видовых понятий.
Нельзя, к примеру, разбивать все целые числа на такие классы: числа, кратные двум; кратные трем; числа, кратные пяти, и т. д. Эти классы пересекаются и, допустим, число 10 попадает и в первый и в третий классы, а число 6 — и в первый и во второй классы. Ошибочно и деление людей на тех, которые ходят в кино, и тех, которые ходят в театр; есть люди, которые ходят и в кино, и в театр.
И, наконец, в-четвертых, деление должно быть непрерывным.
Это правило требует не делать скачков в делении, переходить от исходного понятия к однопорядковым видам, но не к подвидам одного из таких видов.
Например, правильно делить людей на мужчин и женщин, женщин — на живущих в Северном полушарии и живущих в Южном полушарии. Но неверно делить людей на мужчин, женщин Северного полушария и женщин Южного полушария. Среди позвоночных животных выделяются такие классы: рыбы, земноводные, рептилии (гады), птицы и млекопитающие. Каждый из этих классов делится на дальнейшие виды. Если же начать делить позвоночных на рыб, земноводных, а вместо указания рептилий перечислить все их виды, то это будет скачком в делении.
Можно заметить, что из третьего правила вытекает первое. Так, деление обуви на мужскую, женскую и детскую нарушает не только первое правило, но и третье: члены деления не исключают друг друга. Деление королей на наследственных, выборных и трефовых не согласуется опять-таки как с первым, так и с третьим правилом.
Теперь, воспользовавшись правилами деления, можно конкретно ответить на вопрос, в чем дефекты той классификации животных, которую предлагает «Китайская энциклопедия». Ясно, что эта классификация вообще не придерживается никакого твердого основания, в ней нет даже намека на единство и неизменность основания в ходе деления. Каждая новая группа животных выделяется на основе собственных своеобразных признаков, безотносительно к тому, по каким признакам обособляются другие группы. Связь между группами оказывается почти полностью разрушенной, никакой координации и субординации между ними установить невозможно. Можно предполагать, что сирены относятся к сказочным животным, а молочные поросята и бродячие собаки не принадлежат ни к тем, ни к другим. Но относятся ли сирены, сказочные животные, молочные поросята и бродячие животные к тем животным, что буйствуют, как в безумии, или к неисчислимым, или к тем, которые нарисованы тонкой кисточкой? Как соотносятся между собой животные, только что разбившие кувшин, и животные, издалека кажущиеся мухами? На подобные вопросы невозможно ответить, да их и бессмысленно задавать, поскольку очевидно, что никакого единого принципа в основе этой классификации не лежит. Далее члены деления здесь не исключают друг друга. Всех перечисленных животных можно нарисовать, многие из них издалека могут казаться мухами, все они включены в классификацию и т. д. Относительно того, что перечисленные виды животных исчерпывают множество всех животных, можно говорить только с натяжкой: те животные, которые не упоминаются прямо, свалены в кучу в рубрике «и прочие». И наконец, очевидны скачки, допускаемые в данном делении. Различаются как будто сказочные и реально существующие животные, но вместо особого упоминания последних перечисляются их отдельные виды — поросята и собаки, причем не все поросята, а только молочные, и не все собаки, а лишь бродячие.
Классификации, подобные этой, настолько сумбурны, что возникает даже сомнение, следует ли вообще считать их делениями каких-то понятий. Об усовершенствовании таких классификаций, придании им хотя бы видимости системы и порядка не приходится и говорить.
Но что интересно, даже такого рода деления, отличающиеся путаницей и невнятностью, иногда могут оказываться практически небесполезными. Неправильно делить, к примеру, обувь на мужскую, женскую и резиновую (или детскую), но во многих обувных магазинах она именно так делится, и это не ставит нас в тупик. Нет ничего невозможного в предположении, что и классификация животных, подобная взятой из энциклопедии, может довольно успешно служить каким-то практическим, разнородным по самой своей природе целям. Теоретически, с точки зрения логики, она никуда не годится. Однако далеко не все, что используется повседневно, находится на уровне требований высокой теории и отвечает стандартам безупречной логики.
Нужно стремиться к логическому совершенству, но не следует быть чересчур ригористичным и отбрасывать с порога все, что представляется логически не вполне совершенным. Иногда вместо строгого, отвечающего всем требованиям деления может использоваться простая группировка интересующих нас предметов. Не будучи делением, она способна тем не менее удовлетворительно служить практическим целям. Некоторые из упомянутых неверных делений могут рассматриваться как такого рода группировки.
2. Основание деления
Основание деления — это отдельный признак или совокупность признаков, вариации которых позволяют провести различие между видами предметов, мыслимых в делимом понятии.
Наиболее частая ошибка в делении — это, конечно, изменение основания на одном из шагов деления.
Обычная ошибка
Человек начинает делить, допустим, злаки на рожь, пшеницу, овес, ячмень, а затем вдруг называет кукурузу и подсолнечник, поскольку они также играют важную роль в питании людей и животных. Или кто-то делит художественную прозу на романы, повести и рассказы, а потом присоединяет к ним поэмы, относя к последним произведения, проникнутые особым лиризмом.
В одной старинной украинской комедии выведен персонаж, который, побывав на ярмарке, так излагал потом свои впечатления по поводу увиденного: «Господи Боже мой, чего только нет на той ярмарке! Колеса, стекло, деготь, табак, ремень, лук, торговцы всякие… так что если бы в кармане было хоть тридцать рублей, то и тогда бы не закупить всей ярмарки».
При некоторых психических заболеваниях действия по классификации предметов даются с трудом, и что характерно — прежде всего нарушается требование единства основания. Некоторые больные, страдающие нарушением речи — афазией, не способны классифицировать единообразно клубки шерсти различной окраски, лежащие перед ними на столе. В одном углу афазик помещает самые светлые мотки, в другом — красные, где-то еще небольшие мотки, а в ином месте — или самые большие, или с фиолетовым отливом, или скатанные в клубок. Но, едва намеченные, эти группировки рассыпаются. Избранный принцип деления кажется больному слишком широким и потому неустойчивым. Больной до бесконечности собирает и разъединяет, нагромождает разнообразные подобия, разрушает самые очевидные из них, разрывает тождества, совмещает различные критерии, суетится, начинает все заново, беспокоится и в конце концов ни к чему определенному не приходит.
Всякая классификация преследует определенную цель и выбор основания классификации диктуется как раз этой целью. В одном случае людей целесообразно делить по уровню образования, в другом — по возрасту, в третьем — по размеру обуви и т. д. Поскольку самых разнообразных и разнородных целей может быть очень много, одна и та же группа предметов может оказаться расклассифицированной по самым разным основаниям. Цели делений, а значит и их основания обусловливаются определенными практическими или теоретическими соображениями, к которым правила деления не имеют никакого отношения. Суть этих правил сводится к требованию, чтобы основание, раз уж оно было выбрано, в дальнейшем в пределах проводимого деления не менялось.
Допустим, что нам надо расклассифицировать в группы шесть следующих имен по любым обобщающим признакам: 1) Герда; 2) Борис; 3) Алексей; 4) Екатерина; 5) Белла; 6) Додон. Сколько всего групп удается выделить? На этот вопрос нельзя ответить однозначно, так как ничем не ограничены те основания, по которым могут делиться перечисленные имена. Их можно разделить на мужские и женские (группы 2, 3, 6 и 1, 4, 5); на имена, которые носят герои известных сказок, и остальные имена (1, 6 и 2, 3, 4, 5); на имена, начинающиеся на гласную букву и на согласную (3, 4 и 1, 2, 5, 6); на имена, довольно редкие у нас и широко распространенные (1, 5, 6 и 2, 3, 4); на имена, содержащие две буквы «е» и не имеющие этого признака (3, 4 и 1, 2, 5, 6), и т. д.
По каким признакам можно разбить на группы такие обычные вещи как кирпич, щетка для обуви, зеркало и карандаш? При желании читатель может подыскать по меньшей мере десяток разных оснований деления этих вещей.
Иногда говорят, что нужно стремиться классифицировать предметы по важным, существенным признакам, избегать делений по случайным, второстепенным свойствам. Однако это пожелание, каким бы разумным оно поначалу ни казалось, вряд ли реалистично и выполнимо. Важное с одной точки зрения может оказаться менее важным и даже вообще несущественным с другой; деление, отвечающее одной цели, может препятствовать достижению другой цели.
При приеме людей на работу важно учитывать уровень их образования, но при продаже им обуви важнее знать как они делятся на группы по ее размерам.
В свое время многочисленные попытки расклассифицировать бактерии по линиям всеобъемлющей иерархии не привели к заметному успеху. Однако очень полезной оказалась граница, которую принято проводить между бактериями, окрашивающимися и не окрашивающимися определенным красителем — генцианом фиолетовым. Деление бактерий на грамположительные и грамотрицательные ничего существенного не говорит о них самих, но оно важно для тех, кто наблюдает их под микроскопом.
В старые времена в ходу были такого рода афиши и приписки к ним: «Виртуоз-пианист В. Х. Давингоф. Играет головой, локтем и сидением; 1-е место — 50 копеек, можно сидеть; 2-е — 30, можно стоять; 3-е место — 10 копеек, можно делать все что угодно. Купившие первые 50 билетов, за исключением галерки, получат бесплатно портрет артистки — жены г-на режиссера…»
Устроителям представлений, сочинявшим эти афиши и знавшим тогдашнюю публику, казалось естественным и важным делить игру на пианино на игру головой, локтем, «сидением» и другими частями тела, разбивать места на сидячие, стоячие и неизвестно какие, подразделять зрителей на жаждущих иметь бесплатно портрет жены режиссера и всех остальных. В основе этих делений лежали, конечно, помимо всего прочего, и сугубо рекламные соображения. «Как уст румяных без улыбки, без грамматической ошибки я русской речи не люблю», — признавался Пушкин. Ошибки в делении тоже могут чем-то нравиться и как-то привлекать, в то время как логически безупречные классификации способны производить впечатление сухости и расчетливости.
В своей книге «Еж и лисица», посвященной историческим воззрениям Л. Толстого, И. Берлин, анализируя роман «Война и мир», показал своеобразие подхода Толстого к истории. Древнегреческий поэт Архилох разделил как-то людей на лисиц, преследующих разные цели в зависимости от обстоятельств, и ежей, которые стремятся только к одной большой задаче. Следуя ему, Берлин определил Толстого как лисицу, которая думает, что она еж.
«Лисицами, полагающими, что они ежи, — пишет Д. С. Лихачев, — были все летописцы Древней Руси: они следовали строго церковной идеологии и были прагматиками в конкретном истолковании конкретных же событий».
Эти наблюдения интересны для нас в двух отношениях. Архилох делит людей на лисиц и ежей. Берлин усложняет это деление и подразделяет людей, не говоря, впрочем, этого явно, уже на четыре категории: лисиц, которые думают, что они лисицы; ежей, убежденных в том, что они ежи; лисиц, думающих, что они ежи; ежей, считающих себя лисицами. Это обычный способ усложнения основания деления, ведущий к дифференциации самого деления. Иногда такое последовательное усложнение приводит к тому, что от ясности исходного деления почти ничего не остается. Усложнение основания всегда связано с риском, что полученная классификация окажется плохо приложимой к реальным вещам.
И второй момент. Тех, кто в процессе классификации строго придерживается одного и того же основания, можно назвать, вслед за Архилохом, ежами. А тех, кто видоизменяет это основание в зависимости от возникающих по ходу дела обстоятельств, следует тогда отнести к лисицам. Логическая теория требует, чтобы каждый всегда был непреклонным ежом. Практические обстоятельства заставляют иногда прибегать к хитростям и становиться, хотя бы на время, лисицей. С этим связано то, что многие реальные деления, являющиеся, в общем-то, нужными и полезными, отходят от идеала, предначертанного теорией.
Можно пойти и дальше и — в духе Берлина — выделить еще лисиц, считающих себя ежами, и ежей, убежденных в том, что они лисицы. Первые модифицируют основание классификации в зависимости от привходящих обстоятельств, но не замечают этой своей гибкости. Вторые, будучи готовы идти на компромисс и отступить в случае нужды от избранного основания, проводят тем не менее классификацию строго и неуклонно.
Дихотомическое деление
Говоря об основаниях делений, нужно обязательно упомянуть особый вид делений — дихотомию (буквально: разделение напополам). Дихотомическое деление опирается на крайний, так сказать, случай варьирования признака, являющегося основанием деления: с одной стороны, выделяются предметы, имеющие этот признак, с другой — не имеющие его.
В случае обычного деления люди могут подразделяться, к примеру, на мужчин и женщин, на детей и взрослых и т. п. При дихотомии множество людей разбивается на мужчин и «немужчин», детей и «недетей» и т. п.
Дихотомическое деление имеет свои определенные преимущества, но, в общем-то, оно является слишком жестким и ригористичным. Оно отсекает одну половину делимого класса, оставляя ее, в сущности, без всякой конкретной характеристики. Это удобно, если мы хотим сосредоточиться на одной из половин и не проявляем особого интереса к другой. Тогда можно назвать всех тех людей, которые не являются мужчинами, просто «немужчинами», и на этом закончить о них разговор. Далеко не всегда, однако, такое отвлечение от одной из частей целесообразно. Отсюда ограниченность использования дихотомий.
Обычные деления исторических романов — хороший пример «делений надвое». Мир сегодняшней исторической романистики очень широк по «спектру» проблем, хронологических времен и мест действия, стилевых и композиционных форм, способов ведения рассказа.
Можно попытаться провести всеохватывающую классификацию исторических романов по одному основанию, но она неизбежно окажется сложной, не особенно ясной и, что главное, практически бесполезной. Текучесть «материи» романа на темы истории диктует особую манеру деления: не стремясь к единой классификации, дать серию в общем-то не связанных между собой дихотомических делений. «Есть романы-биографии и романы-эссе; романы документальные и романы-легенды, «философии истории»; романы, концентрирующие узловые моменты жизни того или иного героя или народа, и романы, разворачивающиеся в пространные хроникально-циклические повествования, в которых есть и интенсивность внутреннего движения, и глубина, а вовсе не «растекание мысли». Эта характеристика «поля» исторического романа, взятая из литературоведческой работы, как раз тяготеет к серии дихотомий.
Классификации, в основе которых лежит дихотомическое деление, были особенно популярными в прошлом, в средние века. Это объяснялось, с одной стороны, ограниченностью и поверхностностью имевшихся в то время знаний, а с другой — неуемным стремлением охватить классификациями весь мир, включая и «внеземную» его часть, которая предполагалась существующей, но недоступной слабому человеческому уму.
Вот как классифицирует, например, философ того времени Григорий Великий «все то, что есть»: «Ибо все, что есть, либо существует, но не живет; либо существует и живет, но не имеет ощущений; либо и существует, и живет, и чувствует, но не понимает и не рассуждает; либо существует, живет, чувствует, понимает и рассуждает. Камни ведь существуют, но не живут. Растения существуют, живут, однако не чувствуют… Животные существуют, живут и чувствуют, но не разумеют. Ангелы существуют, живут и чувствуют, и, обладая разумением, рассуждают. Итак, человек, имея с камнями то общее, что он существует, с древесами — то, что живет, с животными — то, что чувствует, с ангелами — то, что рассуждает, правильно обозначается именем вселенной…» Здесь все делится сначала на существующее и несуществующее, затем существующее — на живущее и неживущее, живущее — на чувствующее и нечувствующее и, наконец, чувствующее — на рассуждающее и нерассуждающее. Эта классификация призвана показать, по замыслу ее автора, что человек имеет что-то общее со всеми видами существующих в мире вещей, а потому его справедливо называют «вселенной в миниатюре».
Для создания подобного рода классификаций нет, разумеется, никакой необходимости в конкретном исследовании каких-то объектов. А вывод — глобален: человек есть отражение всей вселенной и вершина всего земного. Однако научная ценность таких классификаций ничтожна.
3. Естественная классификация
Классификация широко используется в науке и естественно, что наиболее сложные и совершенные классификации встречаются именно здесь.
Блестящим примером научной классификации является периодическая система элементов Д. И. Менделеева. Она фиксирует закономерные связи между химическими элементами и определяет место каждого из них в единой таблице. Подытожив результаты предыдущего развития химии элементов, эта система ознаменовала начало нового периода в их изучении. Она позволила сделать прекрасно подтвердившиеся прогнозы относительно неизвестных еще элементов.
Всеобщую известность получила в XVIII–XIX вв. классификация живых существ К. Линнея. Он поставил задачей описательного естествознания расположение объектов наблюдения — элементов живой и неживой природы — по ясным и конкретным признакам в строгий порядок. Классификация должна была бы выявить основные принципы, определяющие строение мира, и дать полное и глубокое объяснение природы. «При применении идей Линнея, — писал выдающийся естествоиспытатель и историк науки В. И. Вернадский, — сразу открылось множество совершенно неожиданных правильностей и соотношений, возникли совершенно новые научные вопросы, не приходившие в голову предшествовавшим натуралистам, появилась возможность научного исследования там, где раньше предполагалась «игра природы» или не подчиняющиеся строгим законам волевые проявления созидательной ее силы. Понятен поэтому тот энтузиазм, с которым была встречена работа великого шведского натуралиста. Идеи и методы Линнея сразу охватили все естествознание, вызвали тысячи работников, в короткое время в корне изменили весь облик наук о царствах природы».
Естественная и искусственная классификация
Ведущей идеей Линнея было противопоставление естественной и искусственной классификаций. Искусственная классификация использует для упорядочения объектов несущественные их признаки, вплоть до ссылки на начальные буквы имен этих объектов (алфавитные указатели, именные каталоги в библиотеках и т. п.). В качестве основания естественной классификации берутся существенные признаки, из которых вытекают многие производные свойства упорядочиваемых объектов. Искусственная классификация дает очень скудные и неглубокие знания о своих объектах; естественная же классификация приводит их в систему, содержащую наиболее важную информацию о них.
По мысли Линнея и его последователей, всеобъемлющие естественные классификации являются высшей целью изучения природы и венцом научного ее познания.
Сейчас представления о роли классификаций в процессе познания заметно изменились. Противопоставление естественных и искусственных классификаций во многом утратило свою остроту. Далеко не всегда существенное удается ясно отделить от несущественного, особенно в живой природе. Изучаемые наукой объекты представляют собой, как правило, сложные системы взаимно переплетенных и взаимообусловленных свойств. Выделить из их числа самые существенные, оставив в стороне все остальные, чаще всего можно только в абстракции. Кроме того, существенное в одном отношении обычно оказывается гораздо менее важным, когда оно рассматривается в другом отношении. И наконец процесс углубления в сущность даже простого объекта бесконечен.
Все это показывает, что роль классификации, в том числе и естественной классификации, в познании природы не должна переоцениваться. Тем более ее значение не следует преувеличивать в области сложных и динамичных социальных объектов. Надежда на всеобъемлющую и в основе своей завершенную классификацию — явная утопия, даже если речь идет только о неживой природе. Живые существа, очень сложные и находящиеся в процессе постоянного изменения, крайне неохотно укладываются даже в рубрики предлагаемых ограниченных классификаций и не считаются с устанавливаемыми человеком границами.
Осознав определенную искусственность самых естественных классификаций и отметив в них даже некоторые элементы произвола, не следует, однако, впадать в другую крайность и умалять важность таких классификаций.
Один пример из той же биологии покажет, какую несомненную пользу приносит объединение в одну группу животных, казавшихся не связанными между собой.
«Среди современных животных, — пишет зоолог Д. Симпсон, — броненосцы, муравьеды и ленивцы столь не похожи друг на друга, их образ жизни и поведение настолько различны, что едва ли кому-нибудь пришло бы в голову без морфологического изучения объединить их в одну группу». Было обнаружено, что в позвоночнике этих животных имеются дополнительные сочленения, из-за которых они получили имя «ксенантры» — «странно сочлененные млекопитающие».
После открытия необычных сочленений был тут же открыт целый ряд других сходных особенностей этих животных: сходное строение зубов, мощные конечности с хорошо развитыми когтями и очень большим когтем на третьем пальце передней конечности и т. д. «Сейчас никто не сомневается, — заключает Симпсон, — что ксенантры, несмотря на их значительное разнообразие, действительно образуют естественную группу и имеют единое происхождение. Вопрос о том, кто именно был их предком и когда и где он существовал, связан с большими сомнениями и еще не разгаданными загадками…» Предпринятые тщательные поиски общего предка ксенантр позволили обнаружить их предположительных родичей в Южной Америке, Западной Европе.
Таким образом, объединение разных животных в одну группу систематизации позволило не только раскрыть многие другие их сходные черты, но и высказать определенные соображения об их далеком предке.
Говоря о проблемах классификации другой группы живых организмов — вирусов, советские ученые-вирусологи Д. Г. Затула и С. А. Мамедова пишут, что без знания места, которое занимает объект исследования в ряду ему подобных, ученым трудно работать. Классификация нужна в первую очередь для того, чтобы экономить время, силы и средства, чтобы, раскрыв тайны одного вируса или разработав меры борьбы с каким-либо вирусным заболеванием, применить на других подобных вирусах и болезнях. Частые открытия в вирусологии, бурно развивающейся науке, вынуждают пересматривать законы и свойства, по которым сгруппированы вирусы. Ученые не считают какую-либо классификацию вирусов единственно верной и законченной. Конечно, будут еще обнаружены новые свойства, которые уточнят и расширят таблицу вирусов, а может быть и позволят создать новую классификацию.
Все сказанное о выгодах, даваемых классификацией вирусов, и об изменениях ее с развитием вирусологии справедливо и в отношении классификаций других групп живых организмов. Это верно и применительно ко всем вообще классификациям, разрабатываемым наукой.
4. Человек как объект классификации
Затруднения с классификацией имеют чаще всего объективную причину. Дело не в недостаточной проницательности человеческого ума, а в сложности самого окружающего нас мира, в отсутствии в нем жестких границ и ясно очерченных классов. Всеобщая изменчивость вещей, их «текучесть» еще более усложняет и размывает эту картину.
Именно поэтому далеко не все и не всегда удается четко классифицировать. Тот, кто постоянно нацелен на проведение ясных разграничительных линий, постоянно рискует оказаться в искусственном, им самим созданном мире, имеющем мало общего с динамичным, полным оттенков и переходов реальным миром.
Особенно сложно проводить разграничительные линии в мире живого. Скажем, в абстракции легко отличить врожденное, инстинктивное поведение от поведения, приобретенного в результате индивидуального научения. Но как приложить это умозрительное различение к реальному поведению, допустим, к птичьему пению? Детальные и тщательные исследования пения птиц не в искусственных лабораторных условиях, а в самой природной обстановке показали постоянное переплетение в нем выученных приемов с инстинктивными элементами. Птица каждого вида поет по-своему, как бы по заложенной в ней от рождения программе. Но хотя запрограммированный элемент занимает в пении очень важное место, для полной его реализации необходимо обучение у других птиц, разъяснения и подсказки со стороны. Врожденная программа не только дополняется в процессе индивидуальной жизни животного — она разворачивается и реализуется только благодаря этому дополнению извне.
Наиболее сложным объектом для классификации является, без сомнения, человек. Типы людей, иx темпераменты, поступки, чувства, стремления, действия и т. д. — все это настолько тонкие и текучие «материи», что попытки их типологизации только в редких случаях приводят к полному успеху.
Каждый человек уникален и вместе с тем имеет черты, общие с другими людьми. Отличая одного человека от другого, мы используем такие понятия как темперамент, характер, личность. В повседневном общении они имеют достаточно определенный смысл и помогают нам понять и себя и других. Однако строгих определений этих понятий нет и нет соответственно отчетливого деления людей по темпераментам и характерам.
Древние греки подразделяли людей на холериков, меланхоликов, сангвиников и флегматиков. Уже в наше время И. П. Павлов усовершенствовал эту классификацию и распространил ее на всех высших млекопитающих животных. У Павлова холерику соответствует сильный возбудимый неуравновешенный тип, а меланхолику — слабый сангвиник — сильный уравновешенный тип, а флегматик — сильный уравновешенный инертный. Сильный неуравновешенный тип склонен к ярости, слабый — к страху, для сангвиника типично преобладание положительных эмоций, а флегматик вообще не обнаруживает сколько-нибудь бурных эмоциональных реакций на окружающее. «Возбудимый тип в его высшем проявлении, — писал Павлов, — это большей частью животные агрессивного характера, крайний тормозимый тип — это то, что называется трусливое животное».
Сам Павлов не переоценивал значение этой классификации темпераментов и возможности приложения ее к конкретным людям. Он говорил, в частности, не только о четырех указанных типах темперамента, но и о «специально человеческих типах художников и мыслителей»: у первых преобладает образно-конкретная сигнальная система, у вторых — речевая абстрактно-обобщенная. В чистом виде ни один из типов темперамента невозможно, пожалуй, обнаружить ни у кого.
Характер — это целостный и устойчивый индивидуальный склад душевной жизни человека, ее тип, «нрав» человека, проявляющийся в отдельных актах и состояниях его психической жизни, а также в его манерах, привычках, складе ума и свойственном человеку круге эмоциональной жизни. Характер — гораздо более сложное понятие, чем темперамент. Нет поэтому ничего странного, что в приведенном описательном определении характера нет никакой зацепки, дающей надежду на возможность классификации разных характеров людей. В повседневной жизни мы называем характер сильным, слабым, твердым, мягким, тяжелым, плохим, настойчивым, труднопереносимым и т. д. Но все это — далеко еще не классификация характеров.
Еще более сложным является понятие «личность». Как его обычно определяют, личность — это ядро, интегрирующее начало, связывающее воедино различные психические процессы индивида и сообщающее его поведению необходимую последовательность и устойчивость. Попытки классификации темпераментов и характеров спорны, но они существуют. Классификации личностей нет вообще. Причина проста: не удается выделить реалистический и одновременно универсальный классификационный принцип, найти ясное основание распределения на группы всех людей по различиям их личностных качеств. Это не означает, конечно, что мы никак не делим людей по основным присущим им качествам. Неполных, частичных делений, не опирающихся на отчетливо сформулированный и строго проведенный принцип, много. И они несомненно полезны для понимания человека как личности, если, разумеется, они не абсолютизируются и ни одна из них не представляется как единственно верная.
Вот одна из таких классификаций, говорящая об этапах зрелости личности. В течение жизни человек последовательно является перед окружающими в виде нескольких личностей, весьма неодинаковых. Но на любых этапах почти всегда в структуре личности можно выделить как бы «три Я», три начала: менторски-покровительственное («родительское»), беспечно-озорное, любознательное («детское») и ответственно-реалистическое. Для различных типов личности характерно преобладание того или иного начала. При этом сами по себе, например, проявления «детскости» не являются признаком инфантилизма. Наиболее существенный компонент зрелости личности — не отсутствие проявлений «детскости», а реалистическая оценка своих сил, способностей и возможностей, т. е. адекватное самоотражение, а также четкий самоконтроль и гибкость поведения. Переоценка своих сил и способностей, как и недооценка их, — показатель незрелости личности.
Эта интересная классификация отвлекается, конечно, от того важного обстоятельства, что зрелость личности — это не только психологическое, но и социальное ее качество.
Известны также многие попытки провести психологическую классификацию отдельных профессиональных групп людей, создать по возможности исчерпывающую типологию их характеров, склонностей, предпочтений, стилей мышления и поведения.
Так, в популярной в начале этого века книге «Великие люди» химик и историк науки В. Оствальд разделил всех выдающихся ученых в зависимости от того, к какому одному из полюсов они тяготеют. Каждый ученый оказался либо в большей или в меньшей мере «классиком», либо в той или иной степени «романтиком».
Д. Краузе, написавший книгу о типах ученых, заставил всех ученых тяготеть уже к четырем полюсам: либо «исследователь-одиночка», либо «учитель», либо «изобретатель», либо «организатор».
У исследователей науки Д. Гоу и Р. Вудворта оказалось уже восемь полюсов: фанатик, пионер, диагност, эрудит, техник, эстет, методолог, независимый.
Очевидна тенденция усложнять основание деления ученых. Она диктуется стремлением конкретизировать классификацию и сделать ее более строгой. Вместе с тем растущая детализация определенно придает классификации привкус искусственности и надуманности: чем конкретнее и строже она становится, тем труднее оказывается приложить ее к реальным представителям науки. Эту сторону дела хорошо выразил писатель Д. Данин: «… Чем детальнее будет делаться типология, тем болезненнее придется «подопытным» ученым раздваиваться и растраиваться (простите, каламбур), чтобы удовлетворить типологов: окажется, что любой исследователь тяготеет к нескольким полюсам сразу. В самом деле, кем был Эйнштейн, если не фанатиком, пионером, диагностом, эстетом и независимым в одно и то же время?! Гоу и Вудворту пришлось бы его распять на пяти полюсах из восьми возможных. Такое распятие, четвертование или раздвоение стало бы уделом каждого деятеля науки, достойного жизнеописания».
Еще примеры классификации
Сложно классифицировать людей, взятых в единстве присущих им свойств. С трудом поддаются классификации даже отдельные стороны психической жизни человека и его деятельности.
В начале прошлого века Стендаль написал трактат «О любви», явившийся одним из первых в европейской литературе опытов конкретно-психологического анализа сложных явлений духовной жизни человека. Есть четыре рода любви, говорится в этом сочинении. «Любовь-страсть» заставляет нас жертвовать всеми нашими интересами ради нее. «Любовь-влечение» — «это картина, где все, вплоть до теней, должно быть розового цвета, куда ничто неприятное не должно вкрасться ни под каким предлогом, потому что это было бы нарушением верности обычаю, хорошему тону, такту и т. д. …В ней нет ничего страстного и непредвиденного, и она часто бывает изящнее настоящей любви, ибо ума в ней много…». «Физическая любовь» — «…какой бы сухой и несчастный характер ни был у человека, в шестнадцать лет он начинает с этого». И, наконец, «любовь-тщеславие», подобная желанию обладать предметом, который в моде, и часто не приносящая даже физического удовольствия.
Эта классификация приводится в хрестоматиях по психологии, и она, в самом деле, проницательна и интересна. Отвечает ли она, однако, хотя бы одному из тех требований, которые принято предъявлять к делению? Вряд ли. По какому признаку разграничиваются эти четыре рода любви? Не очень ясно. Исключают ли они друг друга? Определенно нет. Исчерпываются ли ими все разновидности любовного влечения? Конечно, нет.
В этой связи нужно еще раз вспомнить, что не следует быть излишне придирчивым к классификациям того, что по самой своей природе противится строгим разграничениям.
Любовь — очень сложное движение человеческой души. Но даже такое внешне, казалось бы, очень простое проявление психической жизни человека, как смех, вызывает существенные затруднения при попытке разграничения разных его видов. Какие вообще существуют разновидности смеха? Ответа на этот вопрос нет, да и не особенно ясно, по каким признакам их вообще можно было бы различить.
Это не удивительно, поскольку даже смех конкретного человека трудно охарактеризовать в каких-то общих терминах, сопоставляющих его со смехом других людей.
Перу А. Ф. Лосева принадлежит интересная биография известного русского философа и оригинального поэта конца прошлого века В. С. Соловьева. В ней, в частности, сделана попытка проанализировать своеобразный смех Соловьева, опираясь на личные впечатления и высказывания людей, близко знавших философа.
«Случалось ему знавать и нужду, — пишет сестра Соловьева, — и он потом, рассказывая о ней, заливался безудержным радостным смехом, потому что у матери было уж очень выразительно скорбное лицо». «Много писали о смехе Вл. Соловьева, — говорит другой. — Некоторые находили в этом смехе что-то истерическое, жуткое, надорванное. Это неверно. Смех B. C. был или здоровый олимпийский хохот неистового младенца, или мефистофелевский смешок хе-хе, или и то и другое вместе». В этом же духе говорит о смехе Соловьева и писатель А. Белый: «Бессильный ребенок, обросший львиными космами, лукавый черт, смущающий беседу своим убийственным смешком: хе-хе…». В другом месте Белый пишет: «Читаются стихи. Если что-нибудь в стихах неудачно, смешно, Владимир Сергеевич разразится своим громовым исступленным «ха-ха-ха», подмывающим сказать нарочно что-нибудь парадоксальное, дикое».
Подводя итог, Лосев пишет: «Смех Вл. Соловьева очень глубок по своему содержанию и еще не нашел для себя подходящего исследователя. Это не смешок Сократа, стремившегося разоблачить самовлюбленных и развязных претендентов на знание истины. Это не смех Аристофана или Гоголя, где под ним крылись самые серьезные идеи общественного и морального значения. И это не романтическая ирония Жан-Поля, когда над животными смеется человек, над человеком — ангелы, над ангелами — архангелы и над всем бытием хохочет абсолют, который своим хохотом и создает бытие, и его познает. Ничего сатанинского не было в смехе Вл. Соловьева, и это уже, конечно, не комизм оперетты или смешного водевиля. Но тогда что же это за смех? В своей первой лекции на высших женских курсах Герье Вл. Соловьев определял человека не как существо общественное, но как существо смеющееся».
Интересны термины, употребляемые в этих высказываниях для характеристики конкретного смеха. В большинстве своем они не дают прямого его описания, а только сопоставляют его с какими-то иными, как будто более известными разновидностями смеха. Рассматриваемый смех то уподобляется «здоровому олимпийскому хохоту» или «мефистофелевскому смешку», то противопоставляется «смеху Аристофана», «смешку Сократа», «иронии Жан-Поля» и т. д. Все это, конечно, не квалификационные понятия, а только косвенные, приблизительные описания.
Встречаются такие термины, которые характеризуют, как кажется, именно данный смех. Среди них «радостный», «истерический», «убийственный», «исступленный» и т. п. Но и их нельзя назвать строго квалификационными. Значение их расплывчато, и они опять-таки не столько говорят о том, чем является сам по себе этот смех, сколько сравнивают его с чем-то: состоянием радости, истерики, исступления и т. п.
Все это, конечно, не случайно, и дело не в недостаточной проницательности тех, кто пытался описать смех. Источник затруднений — в сложности смеха, отражающей сложность и многообразие тех движений души, внешним проявлением которых он является. Именно это имеет, как кажется, в виду Лосев, когда он заканчивает свое описание смеха Соловьева определением человека как «смеющегося существа». Если смех связан с человеческой сущностью, он столь же сложен, как и сама эта сущность. Классификация смеха оказывается в итоге исследованием человека со всеми вытекающими из этого трудностями.
Речь шла только о смехе, но все это относится и к другим проявлениям сложной внутренней жизни человека.
5. Ловушки классификации
И в заключение этой главы несколько слов об ошибочных истолкованиях классификаций. В начале 30-х гг. некто Р. Мартиаль опубликовал работу о французской расе. В качестве основания для сравнения групп людей он избрал не видимые признаки (форма черепа, цвет кожи), а показатели генетической структуры, что было в то время новым и перспективным. Обнаружив расхождения у разных популяций в биохимическом составе крови, он вывел «биохимический индекс крови». Этот индекс составлял у французов — 3,2, у немцев — 3,1, у поляков — 1,2, у негров — 0,9. Но затем этот произвольно вычисленный индекс трансформировался в показатель значимости нации и расы, и на этом основании делался вывод: французы превосходят поляков, поляки — негров и т. д. Мартиаль, предлагая французам повышать свой «биологический индекс», искал пути совершенствования расы. Так на основе произвольной классификации, опирающейся на субъективно подобранное основание, возникла расистская по своей сути теория. Сама классификация как особый прием упорядочения изучаемых объектов здесь, конечно, ни при чем. Все дело в намеренно недобросовестном ее применении и последующем тенденциозном истолковании полученных результатов. Использование строгого метода призвано в этом случае придать некоторую респектабельность явно ненаучной доктрине, подать ее в «наукообразном», внушающем доверие виде.
Некоторые социологи отстаивают тезис: «Классификация вещей воспроизводит классификацию людей». Иными словами, все, что человек говорит о группах вещей и их отношениях, является только перефразировкой того, что ему известно о классификациях людей в обществе.
Из этого тезиса прямо вытекает, что человек не способен составить правильное представление об окружающей действительности. Исследуя природу, он, помимо своей воли и желания, переносит на нее те отношения, которые имеются между людьми и их группами в обществе. Процесс познания мира оказывается в итоге непрерывным углублением человека в самого себя и в свои социальные связи.
И сам рассматриваемый тезис, и эти его следствия являются, без сомнения, ошибочными. Они представляют классификацию не как одно из средств все более полного и адекватного познания действительности, а как непреодолимую преграду на его пути.
Эти два примера показывают, что классификация может использоваться в качестве своеобразной ловушки. Нужны поэтому осторожность и осмотрительность не только при проведении классификаций, но и при их истолковании.
Глава 7. Законы логики
Важнейшая задача цивилизации — научить человека мыслить.
Т. ЭдисонВысшего триумфа разум достигает, когда ему удается породить сомнение в собственной годности.
М. де Унамуно…Вот уже двадцать пять веков математики имеют обыкновение исправлять свои ошибки и видеть в этом обогащение, а не обеднение науки; это дает им право смотреть в будущее спокойно.
Никола Бурбаки…иметь не одно значение — значит не иметь ни одного значения; если же у слов нет значений, тогда утрачена всякая возможность рассуждать друг с другом, а в действительности — и с самим собой; ибо невозможно ничего мыслить, если не мыслить что-нибудь одно.
АристотельВ детстве у меня не было детства.
А. П. Чехов1. «…Противоречие смерти подобно»
В логике, как и во всякой науке, главное — законы. Логических законов бесконечно много и в этом ее отличие от большинства других наук. Однородные законы объединяются в логические системы, которые тоже обычно именуются «логиками». Каждая из них дает описание логической структуры определенного фрагмента, или типа, наших рассуждений.
Без логического закона нельзя понять, что такое логическое следование, а тем самым — и что такое доказательство. Законы логики составляют тот невидимый железный каркас, на котором держится последовательное рассуждение и без которого оно превращается в хаотическую, бессвязную речь.
Один из наиболее известных законов логики — закон противоречия. Его сформулировал еще Аристотель, назвав «самым достоверным из всех начал, свободным от всякой предположительности».
Закон говорит о высказываниях, одно из которых отрицает другое, а вместе они составляют логическое противоречие. Например: «Пять — четное число» и «Неверно, что пять — четное число».
Идея, выражаемая законом противоречия, проста: высказывание и его отрицание не могут быть одновременно истинными.
Пусть А обозначает произвольное высказывание, не-А — отрицание этого высказывания. Тогда закон можно представить так: «Неверно, что А и не-А». Неверно, например, что Солнце — звезда и Солнце не является звездой, что человек — разумное существо и вместе с тем не является разумным и т. п.
Если ввести понятия истины и лжи, закон противоречия можно сформулировать так: никакое высказывание не является вместе истинным и ложным.
В этой версии закон звучит особенно убедительно. Истина и ложь — это две несовместимые характеристики высказывания. Истинное высказывание соответствует действительности, ложное не соответствует ей. Тот, кто отрицает закон противоречия, должен признать, что одно и то же высказывание может соответствовать реальному положению вещей и одновременно не соответствовать ему. Трудно понять, что означают в таком случае сами понятия истины и лжи.
Иногда закон противоречия формулируют следующим образом: из двух противоречащих друг другу высказываний одно является ложным.
Эта версия подчеркивает опасность, связанную с противоречием. Тот, кто допускает противоречие, вводит в свои рассуждения или в свою теорию ложное высказывание. Тем самым он стирает границу между истиной и ложью, что, конечно же, недопустимо.
Римский философ-стоик Эпиктет, вначале раб одного из телохранителей императора Нерона, а затем секретарь императора, так обосновывал необходимость закона противоречия: «Я хотел бы быть рабом человека, не признающего закона противоречия. Он велел бы мне подать себе вина, я дал бы ему уксуса или еще чего похуже. Он возмутился бы, стал бы кричать, что я даю ему не то, что он просил. А я сказал бы ему: ты не признаешь ведь закона противоречия, стало быть, что вино, что уксус, что какая угодно гадость: все одно и то же. И необходимости ты не признаешь, стало быть, никто не силах принудить тебя воспринимать уксус как что-то плохое, а вино как хорошее. Пей уксус как вино и будь доволен. Или так: хозяин велел побрить себя. Я отхватываю ему бритвою ухо или нос. Опять начинаются крики, но я повторил бы ему свои рассуждения. И все делал бы в таком роде, пока не принудил бы хозяина признать истину, что необходимость непреодолима и закон противоречия всевластен».
Так комментировал Эпиктет слова Аристотеля о принудительной силе необходимости и, в частности, закона противоречия.
Смысл этого эмоционального комментария сводится, судя по всему, к идее, известной еще Аристотелю: из противоречия можно вывести все что угодно. Тот, кто допускает противоречие в своих рассуждениях, должен быть готов к тому, что из распоряжения принести ему вина будет выведено требование подать уксуса, из команды побрить — команда отрезать нос и т. д.
Один из законов логики говорит: из противоречивого высказывания логически следует любое высказывание. Появление в какой-то теории противоречия ведет в силу этого закона к ее разрушению. В ней становится доказуемым все что угодно, былое смешивается с небылицами. Ценность такой теории равна нулю.
Конечно, в реальной жизни все обстоит не так страшно, как это рисует данный закон. Ученый, обнаруживший в какой-то научной теории противоречие, не спешит обычно воспользоваться услугами закона, чтобы дискредитировать ее. Чаще всего противоречие отграничивается от других положений теории, входящие в него утверждения проверяются и перепроверяются до тех пор, пока не будет выяснено, какое из них является ложным. В конце концов ложное утверждение отбрасывается и теория становится непротиворечивой. Только после этого она обретает уверенность в своем будущем.
Противоречие — это еще не смерть научной теории. Но оно подобно смерти.
Мнимые противоречия
Большинство неверных толкований закона противоречия и большая часть попыток оспорить его приложимость, если не во всех, то хотя бы в отдельных областях, связаны с неправильным пониманием логического отрицания, а значит и противоречия.
Высказывание и его отрицание должны говорить об одном и том же предмете, рассматриваемом в одном и том же отношении. Эти два высказывания должны совпадать во всем, кроме одной единственной вещи: то, что утверждается в одном, отрицается в другом. Если эта простая вещь забывается, противоречия нет, поскольку нет отрицания.
В романе Ф. Рабле «Гаргантюа и Пантагрюэль» Панург спрашивает Труйогана, стоит жениться или нет. Труйоган как истинный философ отвечает довольно загадочно: и стоит, и не стоит. Казалось бы, явно противоречивый, а потому невыполнимый и бесполезный совет. Но постепенно выясняется, что никакого противоречия здесь нет. Сама по себе женитьба — дело неплохое. Но плохо, когда, женившись, человек теряет интерес ко всему остальному.
Видимость противоречия связана здесь с лаконичностью ответа Труйогана. Если же пренебречь соображениями риторики и, лишив ответ загадочности, сформулировать его полностью, станет ясно, что он непротиворечив и может быть даже небесполезен. Стоит жениться, если будет выполнено определенное условие, и не стоит жениться в противном случае. Вторая часть этого утверждения не является, конечно, отрицанием первой его части.
Можно ли описать движение без противоречия? Иногда отвечают, что такое описание не схватило бы самой сути движения — последовательной смены положения тела в пространстве и во времени. Движение внутренне противоречиво и требует для своего описания оборотов типа: «Движущееся тело находится в данном месте, и движущееся тело не находится в данном месте». Поскольку противоречиво не только механическое движение, но и всякое изменение вообще, любое описание явлений в динамике должно быть — при таком подходе — внутренне противоречивым.
Разумеется, этот подход представляет собой недоразумение.
Можно просто сказать: «Дверь полуоткрыта». Но можно заявить: «Дверь открыта и не открыта», имея при этом в виду, что она открыта, поскольку не является плотно притворенной, и вместе с тем не открыта, потому что не распахнута настежь.
Подобный способ выражения представляет собой, однако, не более чем игру в риторику и афористичность. Никакого действительного противоречия здесь нет, так как нет утверждения и отрицания одного и того же, взятого в одном и том же отношении.
«Березы опали и не опали», — говорят одни, подразумевая, что некоторые березы уже сбросили листву, а другие нет. «Человек и ребенок, и старик», — говорят другие, имея в виду, что один и тот же человек в начале своей жизни — ребенок, а в конце ее — старик. Действительного противоречия в подобных утверждениях, конечно же, нет. Точно так же, как его нет в словах песни: «Речка движется и не движется… Песня слышится и не слышится…»
Те примеры, которые обычно противопоставляют закону противоречия, не являются подлинными противоречиями и не имеют к нему никакого отношения.
В «Исторических материалах» Козьмы Пруткова нашел отражение такой эпизод: «Некий, весьма умный, XIX века ученый справедливо тогдашнему германскому императору заметил: «Отыскивая противоречия, нередко на мнимые наткнуться можно и в превеликие от того и смеху достойные ошибки войти: не явное ли в том, ваше величество, покажется малоумному противоречие, что люди в теплую погоду обычно в холодное платье облачаются, а в холодную, насупротив того, завсегда теплое надевают?» …Сии, с достоинством произнесенные, ученого слова произвели на присутствующих должное действие, и ученому тому, до самой смерти его, всегда особливое внимание оказывалось».
Этот поучительный случай описывается под заголовком: «Наклонность противоречия нередко в ошибки ввести может». Применительно к нашей теме можно сделать такой вывод: наклонность видеть логические, противоречия там, где их нет, обязательно ведет к неверному истолкованию закона противоречия и попыткам ограничить его действие.
В оде «Бог» — вдохновенном гимне человеческому разуму — Г. Р. Державин соединяет вместе явно несоединимое:
…Я телом в прахе истлеваю,
Умом громам повелеваю,
Я царь — я раб, я червь — я бог!
Но здесь нет противоречия.
Никто, пожалуй, не утверждает прямолинейно, что дождь идет и не идет или что трава зеленая и одновременно не зеленая. А если и утверждает, то только в переносном смысле. Противоречие чаще всего вкрадывается в рассуждение, как мы видели, в неявном виде. Чаще всего противоречие довольно легко обнаружить.
В начале прошлого века, когда автомобилей стало довольно много, в английском графстве было издано распоряжение: если два автомобиля подъезжают одновременно к пересечению дорог под прямым углом, то каждый из них должен ждать, пока не проедет другой. Это распоряжение внутренне противоречиво и потому невыполнимо.
У детей популярны головоломки такого типа: что произойдет, если всесокрушающее пушечное ядро, сметающее на своем пути все, попадет в несокрушимый столб, который нельзя ни повалить, ни сломать? Ясно, что ничего не произойдет: подобная ситуация логически противоречива.
Однажды актер, исполнявший эпизодическую роль слуги, желая хотя бы чуть-чуть увеличить свой текст, произнес:
— Синьор, немой явился… и хочет с вами поговорить.
Давая партнеру возможность поправить ошибку, другой актер ответил:
— А вы уверены, что он немой?
— Во всяком случае, он сам так говорит…
Этот «говорящий немой» так же противоречив, как и «знаменитый разбойник, четвертованный на три неравные половины» или как «окружность со многими тупыми углами».
Противоречие может быть и не таким явным. М. Твен рассказывал о беседе с репортером, явившимся взять у него интервью:
— Есть ли у вас брат?
— Да, мы звали его Билль. Бедный Билль!
— Так он умер?
— Мы никогда не могли узнать этого. Глубокая тайна парит над этим делом. Мы были — усопший и я — двумя близнецами и, имея две недели от роду, купались в одной лохани. Один из нас утонул в ней, но никогда не могли узнать который. Одни думают, что Билль, другие — что я.
— Странно, но вы-то, что вы об этом думаете?
— Слушайте, я открою вам тайну, которой не поверял еще ни одной живой душе. Один из нас двоих имел особенный знак на левой руке, и это был я. Так что тот ребенок, что утонул…
Понятно, что если бы утонул сам рассказчик, он не выяснял бы, кто же все-таки утонул: он сам или его брат. Противоречие маскируется тем, что говорящий выражается так, как если б он был неким третьим лицом, а не одним из близнецов.
Скрытое противоречие является стержнем и маленького рассказа польского писателя-юмориста Э. Липиньского: «Жан Марк Натюр, известный французский художник-портретист, долгое время не мог схватить сходство с португальским послом, которого как раз рисовал. Расстроенный неудачей, он уже собирался бросить работу, но перспектива высокого гонорара склонила его к дальнейшим попыткам добиться сходства. Когда портрет близился к завершению и сходство было уже почти достигнуто, португальский посол покинул Францию, и портрет остался с не схваченным сходством.
Натюр продал его очень выгодно, но с этого времени решил сначала схватывать сходство и только потом приступать к написанию портрета».
Уловить сходство несуществующего портрета с оригиналом так же невозможно, как невозможно написать портрет, не написав его.
В комедии Козьмы Пруткова «Фантазия» некто Беспардонный намеревается продать «портрет одного знаменитого незнакомца: очень похож…». Здесь ситуация обратная: если оригинал неизвестен, о портрете нельзя сказать, что он похож. Кроме того, о совершенно неизвестном человеке нелепо утверждать, что он знаменит.
Противоречие может быть и более скрытым.
Противоречие недопустимо в строгом рассуждении, когда оно смешивает истину с ложью. Но, как очевидно из приведенных примеров, в обычной речи у противоречия много разных задач. Оно может выступать в качестве основы сюжета какого-либо рассказа, быть средством достижения особой художественной выразительности и т. д.
Реальное мышление — и тем более художественное — не сводится к одной логичности. В нем важно все: и ясность и неясность, и доказательность и зыбкость, и точное определение и чувственный образ. В нем может оказаться нужным и противоречие, если оно к месту.
Многообразные задачи противоречия
Противоречие недопустимо в строгом рассуждении, когда оно смешивает истину с ложью. Но в обычной речи, как очевидно из приведенных примеров, у противоречия много разных задач. Оно может выступать в качестве основы сюжета какого-либо рассказа, быть средством достижения особой художественной выразительности и т. д. «Настоящие художники слова, — пишет немецкий лингвист К. Фосслер, — всегда осознают метафорический характер языка. Они все время поправляют и дополняют одну метафору другой, позволяя словам противоречить друг другу и заботясь лишь о связности и точности своей мысли».
Реальное мышление — и тем более художественное — не сводится к одной логичности. В нем важно все: и ясность и неясность, и доказательность и зыбкость, и точное определение и чувственный образ. В нем может оказаться нужным и противоречие, если оно к месту.
Известно, что Н. В. Гоголь не жаловал чиновников. В «Мертвых душах» они изображены с особым сарказмом. Они «были, более или менее, люди просвещенные: кто читал Карамзина, кто «Московские ведомости», кто даже и совсем ничего не читал». Хороша же просвещенность, за которой только чтение газеты, а то и вовсе ничего нет!
Испанский писатель XVI–XVII вв. Ф. Кеведо так озаглавил свою сатиру: «Книга обо всем и еще о многом другом». Его не смутило то, что если книга охватывает «все», для «многого другого» уже не остается места.
Классической фигурой стилистики, едва ли не ровесницей самой поэзии, является оксюморон — сочетание логически враждующих понятий, вместе создающих новое представление. «Пышное природы увяданье», «свеча темно горит» (А. С. Пушкин), «живой труп» (Л. Н. Толстой), «ваш сын прекрасно болен» (В. В. Маяковский) — все это оксюмороны. А в строках стихотворения А. А. Ахматовой «смотри, ей весело грустить, такой нарядно обнаженной» сразу два оксюморона. Один поэт сказал о Г. Р. Державине: «Он врал правду Екатерине». Без противоречия так хорошо и точно, пожалуй, не скажешь.
Нелогично утверждать одновременно А и не-А. Но каждому хорошо понятно двустишие римского поэта I в. до н. э. Катулла:
Да! Ненавижу и вместе люблю. — Как возможно, ты спросишь?
Не объясню я. Но так чувствую, смертно томясь.
«…Все мы полны противоречий. Каждый из нас — просто мешанина несовместимых качеств. Учебник логики скажет вам, что абсурдно утверждать, будто желтый цвет имеет цилиндрическую форму, а благодарность тяжелее воздуха; но в той смеси абсурдов, которая составляет человеческое «Я», желтый цвет вполне может оказаться лошадью с тележкой, а благодарность — серединой будущей недели». Этот отрывок из романа английского писателя С. Моэма «Луна и грош» выражает сложность, а нередко и прямую противоречивость душевной жизни человека. «…Человек знает, что хорошо, но делает то, что плохо», — с горечью замечал Сократ.
Вывод из сказанного как будто ясен. Настаивая на исключении логических противоречий, не следует, однако, всякий раз «поверять алгеброй геометрию» и пытаться втиснуть все многообразие противоречий в прокрустово ложе логики.
Логические противоречия недопустимы в науке, но установить, что конкретная теория не содержит их, непросто. То, что в процессе развития и развертывания теории не встречено никаких противоречии, еще не означает, что их в самом деле нет. Научная теория — очень сложная система утверждений. Не всегда противоречие удается обнаружить относительно быстро путем последовательного выведения следствий из ее положений.
Вопрос о непротиворечивости становится яснее, когда теория допускает аксиоматическую формулировку, подобно геометрии Евклида или механике Ньютона. Для большинства аксиоматизированных теорий непротиворечивость доказывается без особого труда.
Есть, однако, теория, в случае которой десятилетия упорнейших усилий не дали ответа на вопрос, является она непротиворечивой или нет. Это математическая теория множеств, лежащая в основе всей математики.
2. Закон исключенного третьего
Рассказывают историю про одного владельца собаки, который очень гордился воспитанием своего любимца. На его команду: «Эй! Приди или не приходи!» — собака всегда либо приходила, либо нет. Так что команда в любом случае оказывалась выполненной.
Здесь мы сталкиваемся еще с одним популярным законом логики — законом исключенного третьего. Как и закон противоречия, он устанавливает связь между противоречащими друг другу утверждениями: из двух таких утверждений одно является истинным.
«А или не-А» — или дело обстоит так, как говорится в утверждении А, или так, как говорится в его отрицании. Третьей возможности нет. Человек говорит прозой или не говорит прозой, кто-то рыдает или не рыдает, собака выполняет команду или не выполняет и т. п. — других вариантов не существует. Мы можем не знать, противоречива некоторая конкретная теория или нет, но на основе закона исключенного третьего еще до начала исследования мы вправе заявить: она или непротиворечива, или противоречива.
Этот закон с иронией обыгрывается в художественной литературе. Причина иронии понятна: сказать «Нечто или есть, или его нет», значит, ровным счетом ничего не сказать. И смешно, если кто-то этого не знает. В комедии Мольера «Мещанин во дворянстве» есть такой диалог:
«Г-н Журден. …А теперь я должен открыть вам секрет. Я влюблен в одну великосветскую даму, и мне хотелось бы, чтобы вы помогли написать ей записочку, которую я собираюсь уронить к ее ногам.
Учитель философии. Конечно, вы хотите написать ей стихи?
Г-н Журден. Нет, нет, только не стихи.
Учитель философии. Вы предпочитаете прозу?
Г-н Журден. Нет, я не хочу ни прозы, ни стихов.
Учитель философии. Так нельзя: или то, или другое.
Г-н Журден. Почему?
Учитель философии. По той причине, сударь, что мы можем излагать свои мысли не иначе, как прозой или стихами.
Г-н Журден. Не иначе как прозой или стихами?
Учитель философии. Не иначе, сударь. Все, что не проза, то стихи, а что не стихи, то проза».
В известной сказке Л. Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» Белый Рыцарь намерен спеть Алисе «очень, очень красивую песню»:
«— Когда я ее пою, все рыдают… или…
— Или что? — спросила Алиса, не понимая, почему Рыцарь вдруг остановился.
— Или… не рыдают…»
В сказке А. Н. Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино» народный лекарь Богомол заключает после осмотра Буратино:
«— Одно из двух: или пациент жив, или он умер. Если он жив — он останется жив или не останется жив. Если он мертв — его можно оживить или нельзя оживить».
Закон исключенного третьего кажется самоочевидным и трудно представить, что кто-то мог предложить отказаться от него. И тем не менее в современной логике имеются системы, в которых этот закон отбрасывается. Далее об одной из таких систем — интуиционистской логике — пойдет речь.
Очевидное в одно время и в одних обстоятельствах способно потерять свою очевидность в другое время и в свете других обстоятельств. Закон исключенного третьего хорошо демонстрирует справедливость этого наблюдения.
Истинность отрицания равнозначна ложности утверждения. В силу этого закон исключенного третьего можно передать и так: каждое высказывание является истинным или ложным.
Сомнения в универсальности закона
Оба закона — и закон противоречия и закон исключенного третьего — были известны еще до Аристотеля. Он первым дал, однако, их ясные формулировки, подчеркнул важность этих законов для понимания мышления и бытия и вместе с тем выразил определенные сомнения в универсальной применимости второго из них.
«…Невозможно, — писал Аристотель, — чтобы одно и то же в одно и то же время было и не было присуще одному и тому же в одном и том же отношении (и все другое, что мы могли бы еще уточнить, пусть будет уточнено во избежание словесных затруднений) — это, конечно, самое достоверное из всех начал». Такова формулировка закона противоречия и одновременно предупреждение о необходимости сохранять одну и ту же точку зрения в высказывании и его отрицании «во избежание словесных затруднений». Здесь же Аристотель полемизирует с теми, кто сомневается в справедливости данного закона: «…не может кто бы то ни было считать одно и то же существующим и несуществующим, как это, по мнению некоторых, утверждает Гераклит».
О законе исключенного третьего: «…не может быть ничего промежуточного между двумя членами противоречия, а относительно чего-то одного необходимо что бы то ни было одно либо утверждать, либо отрицать».
От Аристотеля идет также живущая и в наши дни традиция давать закону противоречия, закону исключенного третьего, да и другим логическим законам, три разные интерпретации.
В одном случае закон противоречия истолковывается как принцип логики, говорящей о высказываниях и их истинности: из двух противоречащих друг другу высказываний только одно может быть истинным.
В другом случае этот же закон понимается как утверждение об устройстве самого мира: не может быть так, чтобы что-то одновременно существовало и не существовало. В третьем случае этот закон звучит уже как истина психологии, касающаяся своеобразия нашего мышления: не удается так размышлять о какой-то вещи, чтобы она оказывалась такой и вместе с тем не такой.
Нередко полагают, что эти три варианта различаются между собой только формулировками. На самом деле это совершенно не так. Устройство мира и своеобразие человеческого мышления — темы эмпирического, опытного исследования. Получаемые с его помощью, положения являются эмпирическими истинами. Принципы же логики совершенно иначе связаны с опытом и представляют собой не эмпирические, а логически необходимые истины. В дальнейшем, когда речь пойдет об общей природе логических законов и логической необходимости, недопустимость подобного смешения логики, психологии и теории бытия станет яснее.
Аристотель сомневался в применимости закона исключенного третьего к высказываниям о будущих событиях. В настоящий момент наступление некоторых из них еще не предопределено. Нет причины ни для того, чтобы они произошли, ни для того, чтобы они не случились. «Через сто лет в этот же день будет идти дождь», — это высказывание сейчас, скорее всего, ни истинно, ни ложно. Таким же является его отрицание. Ведь сейчас нет причины ни для того, чтобы через сто лет пошел дождь, ни для того, чтобы его через сто лет не было. Но закон исключенного третьего утверждает, что или само высказывание, или его отрицание истинно. Значит, заключает Аристотель, хотя и без особой уверенности, данный закон следует ограничить одними высказываниями о прошлом и настоящем и не прилагать его к высказываниям о будущем.
Гораздо позднее, уже в прошлом веке, рассуждения Аристотеля о законе исключенного третьего натолкнули на мысль о возможности принципиально нового направления в логике. Но об этом поговорим позже.
В XIX в. Гегель весьма иронично отзывался о законе противоречия и законе исключенного третьего. Последний он представлял, в частности, в такой форме: «Дух является зеленым или не является зеленым», и задавал «каверзный» вопрос: какое из этих двух утверждений истинно?
Ответ на этот вопрос не представляет, однако, труда. Ни одно из двух утверждений: «Дух зеленый» и «Дух не зеленый» не является истинным, поскольку оба они бессмысленные. Закон исключенного третьего приложим только к осмысленным высказываниям. Только они могут быть истинными или ложными. Бессмысленное же не истинно и не ложно.
Гегелевская критика логических законов опиралась, как это нередко бывает, на придание им того смысла, которого у них нет, и приписывание им тех функций, к которым они не имеют отношения. Случай с критикой закона исключенного третьего — один из примеров такого подхода.
Сделанные вскользь, разрозненные и недостаточно компетентные критические замечания Гегеля в адрес формальной логики получили, к сожалению, широкое хождение. В логике в конце XIX — начале XX вв. произошла научная революция, в корне изменившая лицо этой науки. Но даже огромные успехи, достигнутые логикой, не смогли окончательно искоренить тех ошибочных представлений о ней, у истоков которых стоял Гегель. Не случайно немецкий историк логики X. Шольц писал, что гегелевская критика формальной логики была злом настолько большим, что его и сейчас трудно переоценить.
Критика закона исключенного третьего Брауэром
Резкой, но хорошо обоснованной критике подверг закон исключенного третьего голландский математик Л. Брауэр. В начале прошлого века он опубликовал три статьи, в которых выразил сомнение в неограниченной приложимости законов логики и прежде всего закона исключенного третьего. Первая из этих статей не превышала трех страниц, вторая — четырех, а вместе они не занимали и семнадцати страниц. Но впечатление, произведенное ими, было чрезвычайно сильным. Брауэр был убежден, что логические законы не являются абсолютными истинами, не зависящими от того, к чему они прилагаются. Возражая против закона исключенного третьего, он настаивал на том, что между утверждением и его отрицанием имеется еще третья возможность, которую нельзя исключить. Она обнаруживает себя при рассуждениях о бесконечных множествах объектов.
Допустим, что утверждается существование объекта с определенным свойством. Если множество, в которое входит этот объект, конечно, то можно перебрать все объекты. Это позволит выяснить, какое из следующих двух утверждений истинно: «В данном множестве есть объект с указанным свойством» или же: «В этом множестве нет такого объекта». Закон исключенного третьего здесь справедлив.
Но когда множество бесконечно, то объекты его невозможно перебрать. Если в процессе перебора будет найден объект с требуемым свойством, первое из указанных утверждений подтвердится. Но если найти этот объект не удастся, ни о первом, ни о втором из утверждений нельзя ничего сказать, поскольку перебор не проведен до конца. Закон исключенного третьего здесь не действует: ни утверждение о существовании объекта с заданным свойством, ни отрицание этого утверждения не являются истинными.
Ограничение Брауэром сферы действия этого закона существенно сужало круг тех способов рассуждения, которые применимы в математике. Это сразу же вызвало резкую оппозицию многих математиков, особенно старшего поколения. «Изъять из математики принцип исключенного третьего, — писал немецкий математик Д. Гильберт, — все равно что… запретить боксеру пользоваться кулаками, а астроному — телескопом».
Критика Брауэром закона исключенного третьего привела к созданию нового направления в логике — интуиционистской логики. В последней не принимается этот закон и отбрасываются все те способы рассуждения, которые с ним связаны. Среди них — доказательства путем приведения к противоречию, или абсурду.
Интересно отметить, что еще до Брауэра сомнения в универсальной приложимости закона исключенного третьего высказывал русский философ и логик Н. А. Васильев. Он ставил своей задачей построение такой системы логики, в которой была бы ограничена не только сфера действия этого закона, но и закона противоречия. По мысли Васильева, логика, ограниченная подобным образом, не способна действовать в мире обычных вещей, но она необходима для более глубокого понимания логического учения Аристотеля.
Современники не смогли в должной мере оценить казавшиеся им парадоксальными идеи Васильева. К тому же сам он склонен был обосновывать свои взгляды с помощью аргументов, не имеющих прямого отношения к логике и правилам логической техники, а иногда и просто путано. Тем не менее, оглядываясь назад, можно сказать, что он оказался одним из предшественников интуиционистской логики.
3. Еще логические законы
Законы двойного отрицания позволяют снимать и вводить такое отрицание. Их можно выразить так: если неверно, что не-А, то А; если А, то неверно, что не-А. Например: «Если неверно, что Аристотель не знал закона двойного отрицания, то Аристотель знал этот закон», и наоборот.
Закон тождества
Самый простой из всех логических законов — это, пожалуй, закон тождества. Он говорит: если утверждение истинно, то оно истинно, «если А, то А». Например, если Земля вращается, то она вращается; если трава зеленая, то она зеленая, и т. п. Чистое утверждение тождества кажется настолько бессодержательным, что редко кем употребляется.
Древнекитайский философ Конфуций поучал своего ученика: «То, что знаешь, считай, что знаешь, то, что не знаешь, считай, что не знаешь». Здесь не просто повторение одного и того же: знать что-либо и знать, что это знаешь, не одно и то же.
Закон тождества кажется в высшей степени простым и очевидным. Однако и его ухитрялись истолковывать неправильно. Заявлялось, например, будто этот закон утверждает, что вещи всегда остаются неизменными, тождественными самим себе. Это, конечно, недоразумение. Закон ничего не говорит об изменчивости или неизменности. Он утверждает только, что если вещь меняется, то она меняется, а если она остается одной и той же, то она остается той же.
Законы контрапозиции
Законы контрапозиции говорят о перемене позиций высказываний с помощью отрицания:
из условного высказывания «Если первое, то второе» вытекает высказывание «Если не второе, то не первое», и наоборот;
из «Если первое, то не второе» вытекает «Если второе, то не первое»;
из «Если не первое, то второе» следует «Если не второе, то первое».
Например, из «Если сверкает молния, то гремит гром» следует «Если нет грома, нет и молнии»; из «Если нет причины, нет и следствия» вытекает «Если есть следствие, есть также причина» и т. п.
Контрапозиция — это, выражаясь шахматным языком, рокировка высказываний. Редкая шахматная партия обходится без рокировки и редкое наше рассуждение проходит без использования контрапозиции.
Модус поненс и модус толленс
Два закона, известные еще с глубокой древности, — это так называемые «модус поненс» и «модус толленс». Первый из них позволяет от утверждения условной связи и утверждения ее основания перейти к утверждению ее следствия. Второй говорит, что если следствие правильной условной связи неверно, то неверным является и ее основание. Например, если справедливо, что в случае дождя земля обязательно мокрая, и верно, что идет дождь, то верно, что земля мокрая. Если же верно, что в дождь земля всегда мокрая, а она не является мокрой, то это означает, что дождь не идет.
Другие законы
Шерлок Холмс однажды заметил: «Отбросьте все невозможное, и то, что останется, будет ответом». Имеется в виду закон: «или первое, или второе, или третье; но первое неверно и второе неверно; следовательно, третье».
Еще один логический закон говорит об ошибочных следствиях: «Если первое, то второе или третье, но второе неверно и третье неверно; значит, неверно и первое».
Вот рассуждение, своеобразно комбинирующее два последних закона.
Когда-то халиф Омар вознамерился сжечь богатейшую Александрийскую библиотеку. На просьбу сохранить ее этот религиозный фанатик, сам учившийся на ее книгах, ехидно отвечал, что книги библиотеки либо согласуются с Кораном, либо нет; если они согласуются с Кораном, они излишни и должны быть сожжены; если они не согласуются с Кораном, они вредны и поэтому также должны быть сожжены; следовательно, книги библиотеки в любом случае должны быть сожжены.
Это рассуждение опирается, конечно, на ложную предпосылку. Оно показывает, что фанатик тоже способен быть иногда логичным.
Закон, носящий имя средневекового логика и философа монаха Дунса Скота, характеризует ложное высказывание. Смысл этого закона можно приблизительно передать так: из ложного утверждения высказывания следует какое угодно утверждение. Применительно к конкретным утверждениям это звучит так: если дважды два равно четыре, то если это не так, вся математика ничего не стоит. В подобного рода рассуждениях есть несомненный привкус парадоксальности. Особенно заметным он становится, когда в качестве заключения берется явно ложное и совершенно не связанное с посылками высказывание. Например: если дважды два равно четыре, то если это не так, Луна сделана из зеленого сыра. Явный парадокс! Не все описания логического следования принимают данный закон в качестве правомерного способа рассуждения. Построены, хотя только сравнительно недавно, такие теории логических связей, в которых этот и подобные ему способы рассуждения считаются недопустимыми.
Известен анекдот о Расселе, доказавшем своему собеседнику на каком-то вечере, что из того, что два плюс два равно пяти, вытекает, что он, Рассел, — римский папа. В доказательстве использовался закон Дунса Скота.
Отнимем от обеих сторон равенства 2+2=5 по 3. Получим 1=2. Если собеседник утверждает, что Рассел не является римским папой, то этот папа и Рассел — два разных лица. Но поскольку 1=2, папа и Рассел — это одно и то же лицо.
Закон, названный именем еще одного средневекового монаха и логика — Клавия, лежит в основе доказательства путем приведения к абсурду. Этот закон говорит, что если из ложности утверждения вытекает его истинность, то утверждение истинно. К примеру, из утверждения «Всякое мнение, кто бы его ни высказал, истинно» вытекает, что являющееся чьим-то мнением суждение «Некоторые мнения являются ложными» тоже истинно; значит, последнее суждение, а не исходное истинно.
К законам доказательства путем приведения к абсурду относится и принцип, говорящий, что если из утверждения вытекает противоречие, то это утверждение ложно. Например, если из утверждения «Треугольник имеет четыре угла» — выводится как то, что у треугольника три угла, так и то, что у него не три угла, это означает, что исходное утверждение ложно.
Приведенные формулировки законов логики и примеров к этим законам являются весьма неуклюжими конструкциями и звучат они довольно непривычно. И это даже в случае самых простых по своей структуре законов. Естественный язык, использовавшийся в этих формулировках, явно не лучшее средство для данной цели. И дело даже не столько в громоздкости получаемых выражений, сколько в отсутствии ясности и точности в передаче законов.
Мало сказать, что о законах логики трудно говорить, пользуясь только обычным языком. Строго подходя к делу, нужно сказать, что они вообще не могут быть адекватно переданы на этом языке.
Не случайно современная логика строит для выражения своих законов и связанных с ними понятий специальный язык. Этот формализованный язык отличается от обычного языка прежде всего тем, что следует за логической формой и воспроизводит ее даже в ущерб краткости и легкости общения.
Довольно, впрочем, примеров логических законов. Дальнейшие примеры этого рода способны создать ошибочное представление, будто логические законы существуют и могут исследоваться порознь, в какой-то независимости друг от друга и вне определенной системы.
Такое представление было характерно для традиционной логики. Современная логика, описывающая принципы мышления с помощью специально созданного для этого формализованного языка, исследует логические законы только как элементы систем таких законов. Она интересуется при этом не столько отдельными законами, сколько системами в целом.
В подобном подходе нет, в общем-то, ничего оригинального. Всякая научная теория представляет собой систему взаимосвязанных утверждений, упорядоченную, иерархическую структуру, налагающую свой отпечаток на каждое утверждение, входящее в нее. Любое из них, будучи вырвано из системы, перестает быть частью того живого организма, каким она является, и теряет тот сложный и разветвленный смысл, каким она наделяет каждый свой элемент.
4. О так называемых «основных законах логики»
В XIX веке получила широкое распространение концепция «расширенной» логики. Ее сторонники резко сдвинули центр тяжести логических исследований с изучения правильных способов рассуждения на разработку проблем теории познания, причинности, вероятностного рассуждения и т. д. В логику были введены темы, интересные и важные сами по себе, но не имеющие к ней прямого отношения. Собственно логическая проблематика отошла на задний план. Вытеснившие ее методологические проблемы трактовались, как правило, упрощенно, без учета динамики научного познания.
Характерным примером такой «расширенной» трактовки была «Логика» английского логика Д. Милля. Еще при жизни автора эта книга выдержала восемь изданий, не без интереса она читается и сейчас. Общая ее направленность хорошо видна из полного ее названия: «Система логики рациональной и индуктивной, в связи с принципами очевидности и методами научного познания».
С развитием математической логики это направление в логике, путающее ее с поверхностно понятой методологией и пронизанное психологизмом, постепенно захирело.
Одним из отголосков идей «расширенной» логики является, в частности, разговор о так называемых «основных» законах мышления, или «основных» законах логики.
Согласно этой «широкой» трактовке логики основные законы — это наиболее очевидные из всех утверждений логики, являющиеся чем-то вроде аксиом этой науки. Они образуют как бы фундамент логики, на который опирается все ее здание. Сами же они ниоткуда не выводимы, да и не требуют никакой опоры в силу своей исключительной очевидности.
Под это до крайности расплывчатое понятие основных законов можно было подвести самые разнородные идеи. Обычно к таким законам относили закон противоречия, закон исключенного третьего и закон тождества. Нередко к ним добавляли еще закон достаточного основания и принцип «обо всем и ни об одном».
Согласно последнему принципу сказанное обо всех предметах какого-то рода верно и о некоторых из них, и о каждом в отдельности; неприложимое ко всем предметам неверно также в отношении некоторых и отдельных из них.
Действительно, это так. Но совершенно непонятно, какое отношение имеет эта истина к основаниям логики. В современной логике это один из бесконечного множества ее законов.
Закон достаточного основания вообще не является принципом логики — ни основным, ни второстепенным. Он требует, чтобы ничто не принималось просто так, на веру. В случае каждого утверждения следует указывать основания, в силу которых оно считается истинным. Разумеется, это никакой не закон логики. Скорее всего, это некоторый методологический принцип, не особенно ясный, но в общем небесполезный.
Закон тождества, как он толковался в «расширенной» логике, тоже имел только отдаленное сходство с соответствующим логическим законом. Говорилось, что в процессе рассуждения значения понятий и утверждений не следует изменять. Они должны оставаться тождественными самим себе, иначе свойства одного объекта незаметно окажутся приписанными совершенно другому. Чтобы этого не случилось, надо выделять обсуждаемые объекты по достаточно устойчивым признакам.
Требование не изменять и не подменять значения в ходе рассуждения является, конечно, совершенно справедливым. Но столь же очевидно, что оно не относится к законам логики. Совет выделять объекты по существенным признакам только общее пожелание, которое редко когда удается выполнить.
Что касается законов противоречия и исключенного третьего, то и они в рамках «расширенной» логики приобретали ярко выраженный методологический уклон. Первый из этих законов обычно превращался в запрещение говорить одновременно «да» и «нет», утверждать и отрицать одно и то же об одном и том же предмете, рассматриваемом в одном и том же отношении. Второй подменялся требованием, чтобы решение каждого вопроса доводилось до полной определенности. Анализ следует считать завершенным только тогда, когда установлена истинность либо рассматриваемого положения, либо его отрицания.
Это — полезные советы, но никакие не законы логики.
В итоге можно сказать, что рассуждения «расширенной» логики об основных законах мышления затемняют и запутывают проблему логических законов.
Как ясно показала современная логика, законов логики бесконечное множество. Деление их на основные и неосновные лишены ясных оснований.
Несостоятельна также подмена логических законов расплывчатыми методологическими советами. Никакого фундамента в виде короткого перечня основополагающих принципов у науки логики нет. В этом она не отличается от всех других научных дисциплин.
«Основных принципов», из которых выводилось бы или на которые опиралось бы все остальное содержание, нет ни у математики, ни у психологии, ни у любой иной науки. Иногда, правда, говорят о таких принципах или о фундаменте какой-то отрасли знания. В прошлом термин «основные принципы» нередко фигурировал в названиях научных книг. Но все это не должно пониматься буквально и прямолинейно.
Удивительно, что разговор об «основных принципах» логики иногда возникает даже в наше время.
Есть еще один предрассудок, культивировавшийся «расширенной» логикой и доживший до наших дней. Это обсуждение законов логики в полном отрыве их от всех иных ее важных тем и понятий и даже в изоляции их друг от друга.
При чтении старых книг по логике постепенно складывается впечатление разрозненности, необязательности и не связанности рассматриваемых в них тем. Если удались из старого учебника логики, скажем, раздел о законе исключенного третьего, на трактовке других законов это не скажется. Можно вообще устранить из такого учебника всякое упоминание об основных законах. И при этом все оставшееся не нужно будет даже перефразировать.
Логические законы интересны, конечно, и сами по себе. Но если они действительно являются важными элементами механизма мышления — а это, несомненно, так, — они должны быть неразрывно связаны с другими элементами этого механизма. И прежде всего с центральным понятием логики — понятием логического следования, и значит, с понятием доказательства.
Современная логика устанавливает такую связь. Доказать утверждение — значит показать, что оно является логическим следствием других утверждений, истинность которых уже установлена. Заключение логически следует из принятых посылок, если оно связано с ними логическим законом.
Без логического закона нет логического следования и нет самого доказательства.
5. Категорический силлогизм
В рассмотренных до сих пор логических законах простое высказывание, т. е высказывание, не включающее в качестве своих частей какие-то другие высказывания, берется как единое, неразложимые на части целое. Раздел логики, в котором внутреннее строение простых высказываний не принимается во внимание, называется логикой высказываний и лежит в фундаменте всей логики. Логика высказываний начала складываться еще в античности. Жившие после Аристотеля философы-стоики (Филон, Хрисипп и др.) указали, в частности, такие широко употребляемые законы логики высказываний:
— «Если первое, то второе; первое имеет место; следовательно, второе также имеет место (например: «Если день, то светло; сейчас день; значит, сейчас светло»);
— «Если первое, то второе; но второго нет; значит, нет и первого» («Если ночь, то темно; неверно, что темно; значит, сейчас не ночь») и др.
Однако логика высказываний была сформулирована ясным образом только в ХIХ веке.
Согласно основному принципу логики правильность рассуждения зависит не от содержания входящих в него утверждений, а только от их логической формы, или структуры. Этот принцип был хорошо известен Аристотелю, им же была построена первая логическая теория — теория категорического силлогизма, называемая иногда просто силлогистикой. В дальнейшем, в течение веков в аристотелевскую силлогистику были внесены лишь незначительные усовершенствования. В полном объеме силлогистика вошла и в современную логику, хотя оказалась не особо существенным ее фрагментом.
Поскольку сам термин «силлогизм» до сих пор пользуется широкой популярностью, полезно остановиться на общих принципах построения силлогистики. Это тем более полезно, что в течение двух с лишним тысячелетий силлогистика служила образцом логической теории вообще. Ни древнеиндийская, ни древнекитайская логические теории и близко не подошли к построению логической системы, подобной аристотелевской силлогистике.
Категорические высказывания — это простые высказывания одной из следующих форм: «Все S есть Р», «Некоторые S есть Р». «Все S не есть Р» и «Некоторые S не есть Р». Представление простых высказываний в форме категорических высказываний — только один из способов разбиения простых высказываний на составляющие их части. Простое высказывание может делиться на части по-разному, а не только так, как это делал когда-то Аристотель.
Категорический силлогизм — это рассуждение, в котором из двух категорических высказываний выводится новое категорическое высказывание.
Например: «Все люди смертны; все греки люди; следовательно, все греки смертны». Этот пример использовался еще в Древней Греции. В нем из двух общеутвердительных суждений выводится новое общеутвердительное суждение.
Существенным является следующее традиционное ограничение: имена, встречающиеся в силлогизме, не должны быть пустыми или отрицательными. Нельзя с помощью силлогизма рассуждать, скажем, о русалках или треугольных квадратах.
Для оценки правильности силлогизма могут использоваться так называемые «круги Эйлера», графически иллюстрирующие отношения между тремя разными именами, входящими в силлогизм.
Возьмем для примера силлогизм:
Все газы (М) летучи (Р).
Аргон (S) — газ (М).
Следовательно, аргон (S) летуч (Р).
Отношения между именами «газ» (М), «летучее вещество» (Р) и «аргон» (S) представляются тремя концентрическими кругами: круг S входит в круг М, а последний (содержащий круг S) — в круг Р.
Силлогизмы делятся на правильные, в которых заключение логически вытекает из посылок, и неправильные. Существуют всего 24 правильных способа силлогистического рассуждения. В частности, силлогизм: «Некоторые люди — поэты; некоторые поэты талантливы; значит, некоторые люди талантливы» является неправильным. Неправилен и силлогизм: «Все металлы электропроводны; все электролиты электропроводны; следовательно, некоторые электролиты — металлы».
6. Логические тавтологии
В обычном языке слово «тавтология» означает повторение того, что уже было сказано: «Жизнь есть жизнь» или «Не повезет так не повезет».
Тавтологии бессодержательны и пусты, они не несут никакой информации от них стремятся избавиться как от ненужного балласта, загромождающего речь и затрудняющего общение.
Иногда, правда, случается, что тавтология наполняется вдруг каким-то чужим содержание. Попадая в определенный контекст, она как бы принимается светить отраженным светом.
Французский маршал Ла Паллис пал в битве при Павии в 1525 году. В его честь солдаты сложили дошедшую до наших дней песню «За четверть часа до смерти он был еще живой…». Понятая буквально, эта строка песни, ставшая ее названием, является тавтологией. Как таковая она совершенно пуста. Всякий человек до самой своей смерти жив. Сказать о ком-то, что он был жив за день до своей смерти, значит ничего о нем не сказать.
И тем не менее какая-то мысль, какое-то содержание за этой строкой стоит. Оно каким-то образом напоминает о бренности человеческой жизни и особенно жизни солдата, о случайности и, так сказать, неожидаемости момента смерти и о чем-то еще другом.
Один писатель сказал о своем герое: он дожил до самой смерти, а потом умер. Козьме Пруткову принадлежит афоризм: «Не будь цветов, все ходили бы в одноцветных одеяниях». Буквально говоря, это тавтологии и пустота. Но на самом деле смысл здесь все-таки есть, хотя это и не собственный смысл данных фраз, а отражаемый или навеваемый ими смысл.
С легкой руки философа и логика Л. Витгенштейна слово «тавтология» стало широко использоваться для характеристики законов логики.
Став логическим термином, оно получило строгие определения применительно к отдельным разделам логики. В общем случае логическая тавтология — это выражение, остающееся истинным независимо от того, о какой области объектов идет речь, или «всегда истинное выражение».
Все законы логики являются логическими тавтологиями. Если в формуле, представляющей закон, заменить переменные любыми постоянными выражениями соответствующей категории, эта формула превратится в истинное высказывание.
Например, в формулу «А или не-А», представляющую закон исключенного третьего, вместо переменной А должны подставляться высказывания, то есть выражения языка, являющиеся истинными или ложными. Результаты таких подстановок: «Дождь идет или не идет», «Два плюс два равно нулю или не равно нулю», «Бог существует или его нет» и тому подобное. Каждое из этих сложных высказываний является истинным. И какие бы дальнейшие высказывания ни подставлялись вместо А — как истинные, так и ложные, — результат будет тем же — полученное высказывание будет истинным.
Аналогично в случае формул, представляющих закон противоречия, закон тождества, закон двойного отрицания и т. д. «Неверно, что бог существует и не существует; что дождь идет и не идет; что я иду быстро и не иду быстро» — все это высказывания, полученные из формулы «Неверно, что А и не-А», и все они являются истинными. «Если бога нет, то его нет; если я иду быстро, то я иду быстро; если два равно нулю, то два равно нулю» — это результаты подстановок в формулу «Если А, то А» и опять-таки истинные высказывания.
Тавтологический характер законов логики послужил отправным пунктом для многих неверных рассуждений по их поводу.
Из тавтологии «Дождь идет или не идет» мы ничего не можем узнать о погоде. Тавтология «Неверно, что бог есть и его нет» ровным счетом ничего не говорит о существовании бога. Ни одна тавтология не несет содержательной информации о мире.
Тавтология не описывает никакого реального положения вещей. Она совместима с любым таким положением. Немыслима ситуация, сопоставлением с которой можно было бы опровергнуть тавтологию.
Эти специфические особенности тавтологий были истолкованы как несомненное доказательство отсутствия какой-либо связи законов логики с действительностью.
Такое исключительное положение законов логики среди всех положений науки подразумевает прежде всего, что законы логики представляют собой априорные, известные до всякого опыта истины. Они не являются бессмысленными, но вместе с тем не имеют и содержательного смысла. Их невозможно ни подтвердить, ни опровергнуть ссылкой на опыт.
Действительно ли законы логики не несут никакой информации?
Если бы это было так, они по самой своей природе решительно отличались бы от законов других наук, описывающих действительность и что-то говорящих о ней.
Мысль об информационной пустоте логических законов является, конечно, ошибочной. В основе ее лежит крайне узкое истолкование опыта, способного подтверждать научные утверждения и законы. Этот опыт сводится к фрагментарным, изолированным ситуациям или фактам. Они достаточны для проверки истинности элементарных описательных утверждений типа «Идет дождь» или «Я иду быстро». Но явно недостаточны для суждения об истинности абстрактных теоретических обобщений, опирающихся не на отдельные, разрозненные факты, а на совокупный, систематический опыт. Даже законы опытных наук, подобных биологии или физике, нельзя обосновать простой ссылкой на факты и конкретику. Тем более это невозможно сделать в случае самых абстрактных из всех законов — законов логики. Они должны черпать свое обоснование из предельно широкого опыта мыслительной, теоретической деятельности. За законами логики стоит, конечно, опыт, и в этом они сходны со всеми иными научными законами. Но опыт не в форме каких-то изолированных, доступных наблюдению ситуаций, а конденсированный опыт всей истории человеческого познания.
Тавтологии обычного языка нередко наполняются содержанием, пришедшим со стороны, и светят отраженным светом. Так же обстоит дело и с логическими тавтологиями.
Изолированная от других тавтологий, оторванная от языка и от истории познания, логическая тавтология блекнет и создает впечатление отсутствия всякого содержания.
Это еще раз подтверждает мысль, что рассуждения о смысле и значении отдельных выражений языка, изъятых из среды своего существования, допустимы и справедливы только в ограниченных пределах. Нужно постоянно иметь в виду, что язык — это единый, целостный организм, части которого взаимосвязаны, взаимобусловлены и не способны действовать вне единого целого.
Кроме того, сам язык не является некой самодостаточной системой. Он погружен в более широкую среду — среду познания и социальной жизни, когда-то создавшей его и с тех пор постоянно его воссоздающей.
7. Возможные миры
Законы логики, подобно всем иным научным законам, являются универсальными и необходимыми.
Они действуют всегда и везде, где для этого есть соответствующие условия. Всякий раз, когда имеются противоречащие друг другу утверждения, одно из них является ложным. Всегда, о чем бы ни шла речь и кто бы ни рассуждал, из истинности утверждения вытекает истинность его двойного отрицания. Так было во времена Аристотеля, так обстоит дело сейчас и так будет во все времена.
Законы логики не просто универсальные истины, не имеющие исключений в силу какого-то случайного стечения обстоятельств. Они необходимые истины. Как таковые они вообще не могут иметь исключений, независимо от любых обстоятельств.
Логическая необходимость, присущая этим законам, несомненно, в чем-то существенном отличается от физической необходимости, характерной для обычных законов природы.
Металлические стержни при нагревании удлиняются — это закон природы. Он действителен в любой точке Вселенной и в любой момент времени. Он, кроме того, действует с необходимостью. Вещи в самой своей сущности, в своем глубинном устройстве таковы, что размеры металлических предметов увеличиваются при нагревании.
Вместе с тем можно представить себе, что наш мир несколько изменился и притом так, что нагреваемые металлические стержни не только не удлиняются, но даже сокращаются. Нельзя, однако, вообразить себе такой мир, в котором стержни и удлинялись бы и вместе с тем не удлинялись.
Логическая необходимость в каком-то смысле более настоятельна и непреложна, чем физическая. Невозможно даже представить, чтобы логически необходимое стало иным. Если что-то противоречит законам природы и является физически невозможным, то никакой инженер, при любой его одаренности, не сумеет реализовать это. Но если нечто противоречит законам логики и является логически невозможным, то не только инженер, даже всемогущий бог — если бы он, конечно, существовал — не смог бы воплотить это в жизнь.
В чем источник непреложности логических законов? Как можно объяснить своеобразие необходимости, присущей им?
Одним из наиболее известных объяснений является теория возможных миров. Ее связывают обычно с именем немецкого философа Г. В. Лейбница, хотя она сложилась в основных своих чертах еще до него. По идее Лейбница, есть бесконечное множество миров, каждый из которых мог бы существовать. Действительный мир, в котором находимся мы сами, только один из этих возможных миров. Он, однако, наилучший из них, и именно поэтому бог, доброта которого беспредельна, сделал его существующим.
Все, что только может случиться, случается и существует где-то в одном из бесконечного числа этих параллельных или альтернативных миров.
В действительном мире металлические стержни, нагреваясь, расширяются. В каком-то из возможных миров они не изменяют своей длины при нагревании, еще в одном они сокращаются при этом, а в каких-то еще мирах таких стержней вообще нет.
В нашем мире Наполеон одержал победу при Аустерлице и потерпел поражение при Ватерлоо. В некотором из возможных миров он проиграл первое из этих сражений и выиграл второе. В дальнейших мирах он вообще не рождался, в каких-то еще — рождался, но становился не солдатом, а сапожником и всю жизнь делал на своей Корсике башмаки.
Теория возможных миров стала известной даже за пределами логики. Особенно часто обыгрывалась идея, что из бесчисленных миров наш самый лучший, хотя она является случайной для этой теории. Возможный мир — это всегда антимир в отношении какого-то другого мира.
О возможных мирах говорит поэт А. Вознесенский в стихотворении «Антимиры»:
Живет у нас сосед Букашкин,
Бухгалтер цвета промокашки,
Но, как воздушные шары,
Над ним горят
Антимиры!
И в них, магический, как Демон,
Вселенной правит, возлежит,
Антибукашкин, академик,
И щупает Лоллобриджид…
Два возможных мира должны различаться хотя бы в одной черте, иначе они просто совпадут. В одном мире есть Букашкин, «цвета промокашки». В каком-то другом мире обязательно должен быть этот же Букашкин, но прямо противоположного цвета. Потом, антимиры — это только мыслимые миры, не более. Они, как воздушные шары, парят над Букашкиным и тем единственным реальным миром, в котором он живет. Они вымысел, иллюзия, мечта, но вымысел, помогающий лучше понять действительный мир и примириться с ним, если нет другого выхода.
Американский писатель М. Рейнолдс использовал идею бесконечных альтернативных миров в фантастическом рассказе «Компания «Последняя возможность». Герой этого рассказа захотел избавиться от своей жены. За соответствующую плату специализировавшаяся на таких делах компания выполнила его пожелание, причем способом, исключавшим какое бы то ни было преследование со стороны закона. Она перенесла героя в тот из бесконечного множества миров, в котором не было не только его жены, но и самих следов ее существования. В том числе и в его памяти. Само собой разумеется, жена по-прежнему существовала в бесконечном ряду других миров, поэтому закону придраться было не к чему.
Автор этого рассказа ни слова не говорит о том, как удавалось компании «Последняя возможность» перебрасывать своих клиентов из одного возможного мира в другой. Пожалуй, это вообще не допускает сколько-нибудь правдоподобного объяснения, даже в фантастическом рассказе.
Ведь возможные миры — это только мыслимые миры, они подобны тем вариантам вероятного и не очень вероятного хода событии, которые мы нередко перебираем в своем уме, отыскивая тот единственный из них, который произойдет на самом деле. Или, в духе Лейбница, это все те варианты жизни человека и мира, которые пронеслись перед мысленным взором бога, прежде чем он остановил свой выбор на наилучшем из них и сделал его существующим. Множество возможных миров — это просто бесконечное множество мыслимых возможностей, из которых только одна способна реализоваться в действительности.
Широко используемые в современной логике «семантики возможных миров» опираются на идею множества таких миров. Эти семантики являются стандартным средством для раскрытия значения модальных понятий и, в частности, понятия логической необходимости.
Истинное утверждение правильно описывает положение дел в действительном мире. В другом возможном мире это же утверждение может оказаться ложным. В нашем мире снег бел и металлы расширяются при нагревании. В каких-то мирах этого нет и утверждения «Снег бел» и «Металлы расширяются при нагревании» являются ложными. Об этих утверждениях, истинных в действительном мире и способных быть ложными в каком-то из возможных миров, говорят, что они случайно истинны: они обязаны своей истинностью своеобразному устройству отдельного мира.
Есть, однако, утверждения, истинные не только в реальном, но и во всех возможных мирах вообще. Они представляют собой необходимые истины: нет такого мира, в котором они не выполнялись бы и сопоставлением с которым их удалось бы опровергнуть. Например, как бы ни был устроен произвольно взятый мир, в нем либо идет дождь, либо дождя нет. В этом мире не может быть также ситуации, когда в одно и то же время и в одном и том же месте дождь идет и вместе с тем не идет. Это означает, что утверждения «Дождь идет либо не идет» и «Неверно, что дождь идет и не идет», являющиеся конкретизациями уже рассматривавшихся законов исключенного третьего и противоречия, представляют собой необходимые истины.
Научные законы принадлежат к случайным истинам, поскольку относятся только к реальному миру. Они верны для любых его пространственно-временных областей. Но их универсальность не простирается на иные возможные миры, где они могут оказываться ложными. Истины же логики, ее законы являются необходимыми истинами, справедливыми во всех мирах, включая, разумеется, и действительный. К необходимым истинам этого же рода нередко относят и законы математики.
Теория возможных миров — даже в этом упрощенном и схематичном ее изложении — является хорошим средством для прояснения смысла логической необходимости.
Один из принципов логики говорит, что если утверждение логически необходимо, то оно истинно. В терминах возможных миров это положение перефразируется так: если утверждение истинно в каждом из миров, оно истинно и в действительном мире. Очевидно, что это так, поскольку последний является одним из возможных миров.
Сходным образом обосновываются и другие положения, касающиеся свойств логической необходимости и раскрывающие ее содержание.
Глава 8. Убедительные доказательства
Где разум уже бессилен, там возносится здание веры.
АвгустинДостоинство логического доказательства состоит не в том, что оно вселяет веру, а в том, что оно заставляет сомневаться относительно того, какое место в рассуждениях должно вызывать у нас особенно сильные сомнения.
Ф. НицшеЗадумайтесь над тревожным контрастом между сияющим умом здорового ребенка и слабоумием среднего уровня взрослого.
З. ФрейдКрасота нам нужна, чтобы нас любили мужчины, а глупость нужна нам, чтобы мы любили мужчин.
Коко ШанельСколько я бы всего узнал, если бы не ходил в школу!
Д. Б. ШоуТрудно считать дураком того, кто восхищается нами.
М. Эбнер-ЭшенбахНе дружи с теми, кто тебе равен, и не бойся исправлять свои ошибки.
Конфуций1. Понятие доказательства
Невозможно переоценить значение доказательств в нашей жизни и особенно в науке. И тем не менее даже в серьезных рассуждениях доказательства встречаются не так часто, как хотелось бы. К доказательствам прибегают все, но редко кто задумывается над тем, что означает «доказать», почему доказательство «доказывает», всякое ли утверждение нужно доказывать, и т. п.
Одна из основных задач логики состоит в придании точного значения понятию доказательства. Но хотя это понятие является одним из основных в логике, оно не имеет точного, универсального определения, применимого во всех случаях и в любых научных теориях. Доказательство — это всего лишь рассуждение, убеждающее нас настолько, что мы готовы с его помощью убеждать других. Логическая теория доказательства в основе своей проста и доступна, но ее детализация требует специального символического языка и другой изощренной техники современной логики.
Под доказательством в логике обычно понимается процедура установления обоснованности некоторого утверждения путем приведения других утверждений, обоснованность которых уже известна и из которых с необходимостью вытекает первое.
Во всяком доказательстве имеются: тезис — утверждение, которое нужно доказать, основание (аргументы) — те положения, с помощью которых доказывается тезис, и логическая связь между аргументами и тезисом. Понятие доказательства предполагает, таким образом, указание посылок, на которые опирается тезис, и тех логических правил, по которым осуществляются выведение утверждений в ходе доказательства.
К примеру, нужно доказать тезис «Все люди смертны». Подбираем в качестве аргументов утверждения, которые являются, во-первых, истинными и из которых, во-вторых, логически вытекает тезис. В качестве таких утверждений можно принять, в частности, следующие: «Все многоклеточные организмы смертны» и «Все люди являются многоклеточными организмами». Строим умозаключение:
Все многоклеточные организмы смертны.
Все люди являются многоклеточными организмами.
Следовательно, все люди являются смертными.
Данное умозаключение является правильным, посылки его истинны; значит, умозаключение представляет собой доказательство исходного тезиса.
Доказательство — это правильное умозаключение с обоснованными посылками. Логическую основу каждого доказательства (его, так сказать, схему) составляет логический закон (или система таких законов).
Отношение разных людей к одному и тому же доказательству может быть очень разным. Может случиться, что кто-то принимает определенное доказательство как нечто самоочевидное, в то время как другой убежден, что никакого доказательства на самом деле нет.
Об И. Ньютоне рассказывают, что, будучи студентом, он начал изучение геометрии, как в то время было принято, с чтения «Геометрии» Евклида. Знакомясь с формулировками теорем, он видел, что эти теоремы справедливы, и не изучал их доказательства. Его удивляло, что люди затрачивают столько усилий, чтобы доказать совершенно очевидное. Позднее Ньютон изменил свое мнение о необходимости доказательств в математике и других науках и очень хвалил Евклида как раз за безупречность и строгость его доказательств. Живший чуть раньше английский философ Т. Гоббс, прославившийся идеей, что социальная жизнь — это война всех против всех, до сорока лет ничего не знал о геометрии. Впервые в жизни прочитав формулировку теоремы Пифагора, он воскликнул: «Боже, но это невозможно!» И только позднее, проследив шаг за шагом весь ход доказательства, он убедился в его правильности и с неохотой, но смирился. Большинство из нас, конечно, думает, что ничего другого ему, собственно, и не оставалось. Большинство, но не все.
Мы уверены, например, что важными показателями богатства нашего языка являются его индивидуальность, стилистическая гибкость, умение обо всем говорить «своими словами». В таком случае мы должны признать также, что язык обезличенный, лишенный индивидуальности, основывающийся на чужих оборотах и выражениях и потому серый, бездушный и трафаретный, не может считаться богатым и полноценным.
Источником «принудительной силы» доказательств являются логические законы, лежащие в их основе. Именно данные законы, действуя независимо от воли и желаний человека, заставляют в процессе доказательства с необходимостью принимать одни утверждения вслед за другими и отбрасывать то, что несовместимо с уже принятым.
Задача доказательства — исчерпывающе утвердить обоснованность доказываемого положения. Раз в доказательстве речь идет о полном подтверждении, связь между аргументами и тезисом должна носить дедуктивный характер. Не существует индуктивных, правдоподобных доказательств.
Старая латинская пословица говорит: «Доказательства ценятся по качеству, а не по количеству». В самом деле, логический вывод из истины дает только истину. Если найдены верные аргументы и из них логически выведено доказываемое положение, доказательство состоялось и ничего более не требуется.
Доказательство — один из многих способов убеждения. В науке — это один из основных методов. Можно сказать, что требование доказательности научного рассуждения определяет то «общее освещение», которое модифицирует попавшие в сферу его действия цвета. Этим «общим освещением» пронизываются все другие требования к научной аргументации.
Доказательство является эффективным способом убеждения во всех областях рассуждений и во всякой аудитории.
Приведем два примера доказательства, взятых из разных областей знания.
«Я хочу здесь доказать, — пишет теолог К. С. Льюис, — что не стоит повторять глупости, которые часто приходится слышать насчет Иисуса, вроде того, что «Я готов принять Его как великого учителя, но в то, что Он был Богом, верить отказываюсь. Именно этого говорить и не стоит. Какой великий учитель жизни, будучи просто человеком, стал бы говорить то, что говорил Христос? В таком случае он был бы или сумасшедшим — не лучше больного, выдающего себя за вареное яйцо, — или настоящим дьяволом. От выбора никуда не деться. Либо этот человек был и остается Сыном Божьим, либо он умалишенный, а то и хуже. Так что не будем нести всякой покровительственной чуши насчет учителей жизни. Такого выбора Он нам не оставил и не хотел оставлять». Эта аргументация носит характер доказательства, хотя структура ее не особенно ясна.
Более простым и ясным является рассуждение средневекового философа И. С. Эриугены: «И если блаженство есть не что иное как жизнь вечная, а жизнь вечная — это познание истины, то блаженство не что иное, как познание истины». Это рассуждение представляет собой прозрачное умозаключение, а именно категорический силлогизм, исследовавшийся еще Аристотелем.
Удельный вес доказательств в разных областях знания существенно различен. Они широко используются в логике, математике и математической физике. Но только эпизодически — в истории или в философии. Аристотель писал, имея в виду сферу приложения доказательств: «Не следует от оратора требовать научных доказательств, точно так же от математики не следует требовать эмоционального убеждения». Сходную мысль высказывал и Ф. Бэкон: «Излишние педантичность и жесткость, требующие слишком строгих доказательств в одних случаях, а еще больше небрежность и готовность удовольствоваться весьма поверхностными доказательствами в других, принесли науке огромный вред и очень сильно задержали ее развитие».
Доказательство — очень сильное средство и оно, как и всякое такое средство, должно использоваться узконаправленно.
Можно отметить, что все так называемые «доказательства существования бога» замышлялись их авторами именно как доказательства, то есть как выведение требуемого тезиса из некоторых самоочевидных истин. Например, самый знаменитый средневековый философ Ф. Аквинский так формулировал «аргумент неподвижного двигателя». Все вещи делятся на две группы: одни только движимы, другие движут и вместе с тем движимы. Все, что движется, приводится чем-то в движение, а поскольку бесконечное умозаключение от следствия к причине невозможно, в какой-то точке мы должны прийти к чему-то, что движет, не будучи само движимо. Этот неподвижный, но все приводящий в движение двигатель и есть бог. Логическая структура этого, как и всех пяти доказательств существования бога, приводившихся Аквинатом, очень неясна. И тем не менее его современникам подобные доказательства представлялись весьма убедительным.
Значение доказательства в формировании убеждений — и в особенности представлений человека о природе — переоценивалось в античности и в средние века. В новое время картина начала меняться с того момента, когда исследование мира утратило умозрительный характер, и ученые обратились к опыту, наблюдению и эксперименту.
На каждом из нас лежит «бремя доказательства» выдвигаемых положений. Важно постоянно думать о содержательной стороне дела. Вместе с тем существенно, чтобы обеспечивалось единство содержательности и доказательности. Никакие искусственные приемы, никакое красноречие не способны помочь, если нет хорошо обоснованных идей и убедительных доказательств.
Обычно доказательство протекает в очень сокращенной форме. Видя, например, чистое небо, мы заключаем: «Погода будет хорошей». Это доказательство, но до предела сжатое. Опущено общее утверждение «Всегда, когда небо чистое, погода будет хорошей». Опущена также посылка: «Небо чистое». Оба эти утверждения очевидны, их незачем произносить вслух. Встретив идущего по улице человека, мы отмечаем: «Обычный прохожий». За этой констатацией опять-таки стоит целое рассуждение. Но оно настолько простое, что протекает почти неосознанно. Писатель В. В. Вересаев приводит такой отзыв одного генерала о неудачном укреплении, которое построил его предшественник: «Я узнаю моего умного предшественника. Если человек большого ума задумает сделать глупость, то сделает такую, какой все дураки не выдумают». Это рассуждение — обычное доказательство, заключение которого опущено. Наши рассуждения полны доказательств, но мы их почти не замечаем.
Нередко в понятие доказательства вкладывается более широкий смысл: под доказательством понимается любая процедура обоснования истинности тезиса, включающая ссылки на связь доказываемого положения с фактами, наблюдениями и т. д. Расширительное истолкование доказательства является обычным в гуманитарных и социальных науках. Оно встречается и в экспериментальных, опирающихся на наблюдения рассуждениях. Как правило, широко понимается доказательство и в обычной жизни. Для подтверждения выдвинутой идеи активно привлекаются факты, типичные в определенном отношении явления и т. п. Логического вывода в этом случае, конечно, нет, тем не менее предлагаемое обоснование называют «доказательством».
Широкое употребление понятия доказательства само по себе не ведет к недоразумениям. Но только при одном условии. Нужно постоянно иметь в виду, что обобщение, переход от частных фактов к общим заключениям дает не достоверное, а лишь правдоподобное знание.
Многие наши утверждения не являются ни истинными, ни ложными. Оценки, нормы, правила, советы, требования и т. п. не описывают рассматриваемую ситуацию. Они указывают, какой она должна стать, в каком направлении ее нужно преобразовать. От описаний мы вправе требовать, чтобы они являлись истинными. Но удачный приказ, совет и т. д. мы характеризуем как эффективный, целесообразный, но не как истинный.
В стандартном определении понятия доказательства всегда используется понятие истины. Говорят, что доказать некоторый тезис — значит логически вывести его из других, являющихся истинными положений. Но есть утверждения, не связанные с истиной. Очевидно также, что, оперируя ими, можно и нужно быть и логичным, и доказательным. Возникает, таким образом, вопрос о существенном расширении понятия доказательства. Им должны охватываться не только описания, но и утверждения типа оценок, требований, идеалов норм и т. п. Задача переопределения понятия доказательства успешно решается современной логикой. Такие ее разделы как логика оценок и логика норм убедительно показывают, что рассуждения о ценностях также подчиняются требованиям логики и не выходят за сферу логического.
Предварительно можно определить доказательство как логическое выведение следствий из обоснованных посылок.
Неясность понятия доказательства связана и с тем, что не существует какого-то единого, так сказать «природного», понятия логического следования. Логических систем, претендующих на определение этого понятия, в принципе бесконечно много. Ни одно из имеющихся в современной логике определений логического закона и логического следования не свободно от критики.
Образцом доказательства, которому стремятся следовать во всех науках, является математическое доказательство. Долгое время считалось, что оно представляет собой ясный и бесспорный процесс. В прошлом веке отношение к математическому доказательству изменилось, математики разбились на группы, каждая из которых придерживалась своего истолкования доказательства. Исчезла уверенность в единственности и непогрешимости лежащих в основе доказательства логических принципов. Полемика по поводу математического доказательства показала, что нет критериев доказательства, не зависящих ни от времени, ни от того, что требуется доказать, ни от тех, кто использует эти критерии. Математическое доказательство представляет собой парадигму доказательства вообще, но даже в математике доказательство не является абсолютным и окончательным. «Нельзя не признать, — пишет математик М. Клайн, — что абсолютное доказательство не реальность, а цель. К ней следует стремиться, но, скорее всего, она так никогда и не будет достигнута. Абсолютное доказательство не более чем призрак, вечно преследуемый и вечно ускользающий. Мы должны неустанно укреплять то доказательство, которым располагаем, не надеясь на то, что нам удастся довести его до совершенства».
2. Прямое и косвенное доказательство
Немецкий философ А. Шопенгауэр считал математику довольно интересной наукой, но не имеющей никаких приложений, в том числе и в физике. Он даже отвергал саму технику строгих математических доказательств. Шопенгауэр называл их мышеловками и приводил в качестве примера доказательство известной теоремы Пифагора. Оно является, конечно, точным: никто не может счесть его ложным. Но оно представляет собой совершенно искусственный способ рассуждения. Каждый шаг его убедителен, однако к концу доказательства возникает чувство, что вы попали в мышеловку. Математик вынуждает вас допустить справедливость теоремы, но вы не получаете никакого реального ее понимания. Это все равно, как если бы вас провели через лабиринт. В конце концов вы выходите из лабиринта и говорите себе: «Да, я вышел, но не знаю, как здесь очутился».
Позиция Шопенгауэра, конечно, курьез, но в ней есть момент, заслуживающий внимания. Нужно уметь проследить каждый шаг доказательства, иначе его части лишатся связи, и оно может рассыпаться, как карточный домик. Но не менее важно понять доказательство в целом как единую конструкцию, каждая часть которой необходима на своем месте. Как раз такого целостного понимания не хватало, по все вероятности, Шопенгауэру. В итоге в общем-то простое доказательство представилось ему блужданиями в лабиринте: каждый шаг пути ясен, но общая линия движения покрыта мраком.
Доказательство, не понятое как целое, ни в чем не убеждает. Даже если выучить его наизусть предложение за предложением, к имеющемуся знанию предмета это ничего не прибавит. Следить за доказательством и лишь убеждаться в правильности каждого его последующего шага — это равносильно такому наблюдению за игрой в шахматы, когда замечаешь только то, что каждый ход делается по правилам игры.
Все доказательства делятся по своей структуре, по общему ходу мысли на прямые и косвенные.
При прямых доказательствах задача состоит в том, чтобы найти убедительные аргументы, из которых логически вытекает тезис.
Косвенное доказательство устанавливает справедливость тезиса тем, что вскрывает ошибочность противоположного ему допущения, антитезиса.
Например, нужно доказать, что астероиды подчиняются действию законов небесной механики. Известно, что эти законы универсальны: они распространяются на все тела в любых точках космического пространства. Отметив это, строим умозаключение: «Все космические тела подпадают под действие законов небесной механики; астероиды — космические тела; значит, астероиды подчиняются данным законам». Это прямое доказательство, осуществляемое в два шага: подыскиваются подходящие аргументы и затем демонстрируется, что из них логически вытекает тезис.
В косвенном доказательстве рассуждение идет как бы окольным путем. Вместо того чтобы отыскивать аргументы для выведения из них доказываемого положения, формулируется антитезис, отрицание этого положения. Далее тем или иным способом показывается несостоятельность антитезиса. По закону исключенного третьего, если одно из противоречащих друг другу утверждений ошибочно, второе должно быть верным. Антитезис ошибочен, значит, тезис является верным. Поскольку косвенное доказательство использует отрицание доказываемого положения, оно является, как говорят, доказательством от противного. Как с иронией замечает математик Д. Пойа, косвенное доказательство имеет некоторое сходство с надувательским приемом политикана, поддерживающего своего кандидата тем, что опорочивает репутацию кандидата другой партии.
К примеру, врач, убеждая пациента, что тот не болен гриппом, говорит ему, что если бы действительно был грипп, имелись бы характерные для него симптомы: головная боль, повышенная температура и т. п.; но ничего подобного нет; значит, нет и гриппа. Это — косвенное доказательство. Вместо прямого обоснования тезиса «У пациента нет гриппа» выдвигается антитезис «У пациента грипп». Из антитезиса выводятся следствия, но они опровергаются объективными данными. Отсюда следует, что тезис «Гриппа нет» истинен.
Другой пример. Оценивая чье-то выступление, мы можем рассуждать так. Если бы выступление было скучным, оно не вызвало бы стольких вопросов и острой, содержательной дискуссии. Но оно вызвало вопросы и дискуссию. Значит, выступление было интересным. Здесь вместо поиска аргументов в поддержку тезиса «Выступление было интересным» выдвигается антитезис «Выступление не являлось интересным». Затем выводятся следствия из него, но они не подтверждаются реальной ситуацией. Значит допущение о неудаче выступления неверно, а тезис об интересном выступлении истинен.
В зависимости от того, как показывается ложность антитезиса, выделяются различные варианты косвенного доказательства.
Чаще всего ложность антитезиса удается установить простым сопоставлением вытекающих из него следствий с фактами, опытными данными. Так обстояло, в частности, дело в рассуждениях, касающихся гриппа и выступления, вызвавшего вопросы и дискуссию.
По логическому закону противоречия одно из двух противоречащих друг другу утверждений ложно. Поэтому, если в числе следствий антитезиса встретились и утверждение, и отрицание одного и того же, можно сразу сказать, что это положение ложно.
К примеру, положение «Квадрат — это окружность» ложно, поскольку из него выводится и то, что квадрат имеет углы, и то, что у него нет углов.
Имеется еще одна разновидность косвенного доказательства, когда прямо не приходится искать ложные следствия. Дело в том, что согласно законам логики для доказательства утверждения достаточно показать, что оно логически вытекает из своего собственного отрицания.
Такую схему использовал однажды древнегреческий философ Демокрит (он, как известно, первым предположил, что все тела состоят из атомов) в споре с философом Протагором. Последний утверждал, что истинно все, что кому-либо приходит в голову, или «Всякое мнение истинно». На это Демокрит ответил, что из данного утверждения вытекает также истинность его отрицания, «Не каждое мнение истинно», поскольку само это отрицание тоже является мнением. И значит, данное отрицание, а не положение Протагора, на самом деле верно.
Для косвенного доказательства утверждения достаточно также показать, что оно логически вытекает из своего собственного отрицания.
В романе И. С. Тургенева «Рудин» есть такой диалог: «— Стало быть, по-вашему, убеждений нет? — Нет — и не существует. — Это ваше убеждение? — Да. — Как же вы говорите, что их нет? Вот вам уже одно на первый случай». Здесь ошибочному мнению, что никаких убеждений нет, противопоставляется его отрицание: существует, по крайней мере, одно убеждение, а именно убеждение, что убеждений нет. Коль скоро утверждение «Убеждения существуют» вытекает из своего собственного отрицания, это утверждение, а не его отрицание является истинным и доказанным.
В рассмотренных косвенных доказательствах выдвигаются две альтернативы: тезис и антитезис. Затем показывается ложность последнего, в итоге остается только тезис. Можно не ограничивать число принимаемых во внимание возможностей только двумя. Это приведет к так называемому разделительному косвенному доказательству, или к доказательству через исключение. Оно применяется в тех случаях, когда известно, что доказываемый тезис входит в число альтернатив, полностью исчерпывающих все возможные альтернативы данной области.
Например, нужно доказать, что одна величина равна другой. Ясно, что возможны только три варианта: или две величины равны, или первая больше второй, или, наконец, вторая больше первой. Если удалось показать, что ни одна из величин не превосходит другую, два варианта будут отброшены и останется только третий: величины равны. Доказательство идет по простой схеме: одна за другой исключаются все возможности, кроме одной, которая и является доказываемым тезисом.
В разделительном доказательстве взаимная несовместимость возможностей и то, что ими исчерпываются все мыслимые альтернативы, определяется не логическими, а фактическими обстоятельствами. Отсюда обычная ошибка разделительных доказательств: рассматриваются не все возможности.
3. Ошибки в доказательстве
Логику редко изучают специально. Навыки логичного, т. е. последовательного и доказательного мышления формируются и совершенствуются в практике рассуждений. Но, как заметил Ф. Бэкон, упражнения, не просветленные теорией, с одинаковым успехом закрепляют как правильное, так и ошибочное. Не удивительно поэтому, что ошибки в доказательствах — вещь довольно обычная.
Доказательство представляет собой логически необходимую связь аргументов и выводимого из них тезиса. Ошибки в доказательствах подразделяются на относящиеся к аргументам, к тезису и к их связи.
Формальная ошибка имеет место тогда, когда доказательство не опирается на логический закон и тезис доказательства не вытекает из принятых посылок. Иногда эту ошибку сокращенно так и называют — «не вытекает».
Допустим, кто-то рассуждает так: «Если я навещу дядю, он подарит мне фотоаппарат; когда дядя подарит мне фотоаппарат, я продам его и куплю велосипед; значит, если я навещу дядю, я продам его и куплю велосипед». Ясно, что это — несостоятельное рассуждение. Его заключение насчет «продажи дяди» абсурдно. Но посылки безобидны и вполне могут быть истинными, так что источник беспокойства не в них. Причина ошибки в самом выведении из принятых утверждений того, что в них вообще не подразумевалось. Вывод из верных посылок всегда дает верное заключение. В данном случае заключение ложно. Значит, умозаключение не опирается на закон логики и неправильно. Ошибка проста: местоимение «его» может указывать на разные предметы; в предложении «Я продам его и куплю фотоаппарат» оно указывает на фотоаппарат; но в заключении оно уже относится к дяде.
Немецкий физик В. Нернст, открывший третье начало термодинамики (о недостижимости абсолютного нуля температуры), так «доказывал» завершение разработки фундаментальных законов этого раздела физики: «У первого начала было три автора: Майер, Джоуль и Гельмгольц; у второго — два: Карно и Клаузиус; у третьего — только один, Нернст. Следовательно, число авторов четвертого начала термодинамики должно равняться нулю, т. е. такого закона просто не может быть». Это шуточное доказательство хорошо иллюстрирует ситуацию, когда между аргументами и тезисом явно нет логической связи. Иллюзия своеобразной «логичности» рассуждения создается чисто внешним для существа дела перечислением.
В гробнице египетских фараонов была найдена проволока. На этом основании один «египтолог» высказал предположение, что в Древнем Египте был известен телеграф. Услышав об этом, другой «исследователь» заключил, что поскольку в гробницах ассирийских царей никакой проволоки не найдено, в Древней Ассирии был известен уже беспроволочный телеграф. Предположение «египтолога» — если это не шутка — очевидная нелепость. Еще большая глупость — если это опять-таки не шутка — заключение «ассиролога». И конечно же, никакой логической связи между этими «предположениями» и теми посылками, на основе которых они выдвигаются, нет.
Характерная ошибка в отношении тезиса — подмена тезиса, неосознанное или умышленное замещение его в ходе доказательства каким-то другим утверждением. Подмена тезиса ведет к тому, что доказывается не то, что требовалось доказать.
Тезис может сужаться и в таком случае он остается недоказанным. Например, для доказательства того, что человек должен быть честным, мало доказать, что разумному, порядочному человеку не следует лгать. Требуется ведь доказать, что каждый человек, а не только тот, кто имеет какие-то достоинства, не должен лгать.
Тезис может также расширяться. В этом случае для доказательства более широкого положения потребуются дополнительные основания и может оказаться, что из них вытекает не только исходный тезис, но и какое-то иное, уже неприемлемое положение. «Кто доказывает слишком много, тот ничего не доказывает» — эта старая латинская пословица как раз и имеет в виду такую опасность.
Иногда случается полная подмена тезиса, притом она не так редка, как это может показаться. Обычно она затемняется какими-то обстоятельствами, связанными с конкретной ситуацией, и благодаря этому ускользает от внимания.
Широкую известность получил случай с древнегреческим философом Диогеном, которого однажды за подмену тезиса спора даже побили. Один философ доказывал, что в мире, как он представляется нашему мышлению, нет движения, нет многих вещей, а есть только одна-единственная вещь, притом неподвижная и круглая. В порядке возражения Диоген встал и начал неспешно прохаживаться перед спорящими. За это его, если верить старым источникам, и побили палкой.
Оставив в стороне вопрос о мере наказания за логическую ошибку, можно сказать, что Диоген очевидным образом был неправ. Речь шла о том, что для нашего ума мир неподвижен. Диоген же своим хождением пытался подтвердить другую мысль: в чувственно воспринимаемом мире движение есть. Но это и не оспаривалось. Автор мнения, что движения нет, считал, что чувства, говорящие о множественности вещей и их движении, просто обманывают нас.
Разумеется, мнение, будто движения нет, ошибочно, как ошибочна идея, что чувства не дают нам правильного представления о мире. Но раз обсуждалось такое мнение, нужно было говорить о нем, а не о чем-то другом, хотя бы и верном.
Наиболее частой является содержательная ошибка — попытка обосновать тезис с помощью ложных аргументов.
Тигры, как известно, не летают. Но рассуждение «Только птицы летают; тигры — не птицы; значит, тигры не летают» не является, конечно, доказательством этого факта. В рассуждении используется неверная посылка, что способны летать одни птицы: летают и многие насекомые, и самолеты и др.
Довольно распространенной ошибкой является круг в доказательстве: справедливость доказываемого положения обосновывается посредством этого же положения, высказанного, возможно, в несколько иной форме.
Почему мы видим через стекло? Обычный ответ: потому, что оно прозрачно. Но назвать вещество прозрачным — значит сказать, что сквозь него можно видеть. Один из героев Мольера глубокомысленно пояснял, что опиум усыпляет, поскольку обладает снотворным действием и что его снотворная сила проявляется в том, что он усыпляет. Получается не доказательство, а пустое хождение по кругу, что, естественно, вызывает смех.
4. Опровержение
О доказательстве в логике говорится много, об опровержении — только вскользь. Причина понятна: опровержение представляет собой как бы зеркальное отображение доказательства.
Опровержение — это рассуждение, направленное против выдвинутого положения и имеющее своей целью установление его ошибочности или недоказанности.
Опровержение может быть направлено на тезис доказательства, на приводимые в поддержку тезиса аргументы или, наконец, на логическую связь аргументов и тезиса. Если какое-то положение приводится без всякого доказательства, то естественно, что опровержение может направляться только против самого этого положения.
Наиболее распространенный прием опровержения — выведение из опровергаемого положения следствий, противоречащих истине. Согласно одному из законов логики, если даже единственное логическое следствие некоторого положения неверно, ошибочным будет и само это положение.
Уже на первых уроках физики в школе показывается опыт, придуманный когда-то итальянским физиком Э. Торричелли. Стеклянную трубку, запаянную с одного конца, наполняют ртутью и опрокидывают в чашку с ртутью. Ртуть из трубки не выливается, она только опускается немного, и над нею образуется вакуум, «торричеллиева пустота». «Опыты с несомненностью доказывают, — заявлял Торричелли, — что воздух имеет вес…» Если кто-то утверждает, что воздух невесом, можно сослаться на этот опыт. Если бы воздух не имел веса, он не давил бы на ртуть в чашке и уровень ртути в трубке сравнялся бы с уровнем в чашке. Но этого не происходит, значит, неверно, что у воздуха нет веса.
Другой прием установления несостоятельности выдвигаемого положения — доказательство справедливости отрицания этого положения. Утверждение и его отрицание не могут быть одновременно истинными. Как только удается показать, что верным является отрицание рассматриваемого положения, вопрос об истинности самого этого положения автоматически отпадает. Достаточно, скажем, показать одного черного лебедя, чтобы опровергнуть убеждение в том, что все лебеди бывают только белыми. Стоит убеждению, что никаких убеждений нет, противопоставить само это убеждение в отсутствии каких-либо убеждений, как становится ясно, что убеждения существуют.
Рассмотренные два приема применимы для опровержения любого утверждения, независимо от того, поддерживается оно какими-либо аргументами или нет. Выводя из утверждения неверное следствие или показывая справедливость отрицания утверждения, мы тем самым доказываем ложность самого утверждения. И какие бы аргументы ни приводились в защиту последнего, они не составят его доказательства.
Логическое следование всегда дает из истинных утверждений только истину. В силу этого доказать можно только истинное утверждение. Доказательств ложных утверждений не существует.
Если положение выдвигается с каким-либо обоснованием, операция опровержения может быть направлена против обоснования. В этом случае нужно показать, что приводимые аргументы ошибочны: вывести из них следствия, которые окажутся в итоге несостоятельными, или доказать утверждения, противоречащие аргументам.
Следует иметь в виду, что опровержение доводов, приводимых в поддержку какого-либо положения, не означает еще неправильности самого этого положения. Утверждение, являющееся по сути верным, может отстаиваться с помощью ошибочных или слабых доводов. Выявляя это, мы демонстрируем именно ненадежность предлагаемого обоснования, а не ложность утверждения. Неопытный спорщик, как правило, отказывается от своей позиции, обнаружив, что приводимые им доводы неубедительны. Нужно, однако, помнить, что правильная в своей основе идея иногда подкрепляется не очень надежными, а то и просто ошибочными соображениями. Когда это выясняется, следует искать другие, более веские аргументы, а не спешить отказываться от самой идеи. С другой стороны, мало раскритиковать аргументы оппонента в споре. Этим будет показано только то, что его позиция плохо обоснована и шатка. Чтобы вскрыть ее ошибочность, надо убедительно обосновать противоположную позицию.
Особое значение при опровержении имеют факты. Ссылка на верные и неоспоримые факты, противоречащие ложным или сомнительным утверждениям оппонента, — самый надежный и успешный способ опровержения. Реальное явление или событие, не согласующееся со следствиями какого-либо универсального положения, опровергает не только эти следствия, но и само положение. Факты, как известно, упрямая вещь. При опровержении ошибочных, оторванных от реальности, умозрительных конструкций «упрямство фактов» проявляется особенно ярко.
Опровержение может быть направлено на саму связь аргументов и доказываемого положения. В этом случае надо показать, что тезис не вытекает из доводов, приведенных в его обоснование. Если между аргументами и тезисом нет логической связи, то нет и доказательства тезиса с помощью указанных аргументов. Из этого не следует, конечно, ни то, что аргументы ошибочны, ни то, что тезис ложен.
5. Трудности с понятием доказательства
Определение понятия доказательства включает два центральных понятия логики: понятие истины и понятие логического следования. Оба эти понятия не являются ясными, и, значит, определяемое через них понятие доказательства также не может быть отнесено к ясным.
Многие утверждения не являются ни истинными, ни ложными, лежат вне «категории истины». Оценки, нормы, советы, декларации, клятвы, обещания и т. п. не описывают каких-то ситуаций, а указывают, какими они должны быть, в каком направлении их нужно преобразовать. От описания требуется, чтобы оно соответствовало действительности. Удачный совет (приказ и т. п.) характеризуется как эффективный или целесообразный, но не как истинный. Высказывание «Вода кипит» истинно, если вода действительно кипит; команда же «Вскипятите воду!» может быть целесообразной, но не имеет отношения к истине. Очевидно, что, оперируя выражениями, не имеющими истинностного значения, можно и нужно быть и логичным, и доказательным. Встает, таким образом, вопрос о существенном расширении понятия доказательства, определяемого в терминах истины. Им должны охватываться не только описания, но и оценки, нормы и т. п. Задача переопределения доказательства пока не решена ни логикой оценок, ни деонтической (нормативной) логикой. Это делает понятие доказательства не вполне ясным по своему смыслу.
Не существует, далее, единого понятия логического следования. Логических систем, претендующих на определение этого понятия, в принципе существует бесконечное множество. Ни одно из имеющихся в современной логики определений логического закона и логического следования не свободно от критики и от того, что принято называть «парадоксами логического следования».
Образцом доказательства, которому в той или иной мере стремятся следовать во всех науках, является математическое доказательство. Долгое время считалось, что оно представляет собой ясный и бесспорный процесс. В нашем веке отношение к математическому доказательству изменилось. Сами математики разбились на враждебные группировки, каждая из которых придерживается своего истолкования доказательства. Причиной этого послужило прежде всего изменение представлений о лежащих в основе доказательства логических принципах. Исчезла уверенность в их единственности и непогрешимости. Логицизм был убежден, что логики достаточно для обоснования всей математики; по мнению формалистов (Д. Гильберт и др.), одной лишь логики для этого недостаточно и логические аксиомы необходимо дополнить собственно математическими; представители теоретико-множественного направления не особенно интересовались логическими принципами и не всегда указывали их в явном виде; интуиционисты из принципиальных соображений считали нужным вообще не вдаваться в логику. Полемика по поводу математического доказательства показала, что нет критериев доказательства, не зависящих ни от времени, ни от того, что требуется доказать, ни от тех, кто использует критерии. Математическое доказательство является парадигмой доказательства вообще, но даже в математике доказательство не является абсолютным и окончательным.
6. Доказательство как вычисление
Еще в ХVII в. Г. Лейбниц высказал идею представить логическое доказательство как «игру со знаками». Эта «игра» должна осуществляться по простым правилам, напоминающим правила вычисления в математике и принимающим во внимание только внешний вид знаков. Лейбниц верил, что если это удастся, наступит золотой век, когда с помощью новой логики самые сложные и отвлеченные проблемы будут «вычисляться» так же легко, как в математике вычисляется сумма чисел. Эта программа формализовать доказательство и тем самым перестроить логику по образцу математики намного опережала свое время и начала реализовываться только двести лет спустя.
Строя доказательства, мы опираемся на интуитивную логику и постоянно обращаемся к содержательному значению используемых понятий, их смыслу. Но смысл — трудноуловимая вещь. Нередко он расплывчат и неопределенен, может истолковываться по-разному и меняться в ходе рассуждения. Чтобы сделать доказательство предельно строгим, нужно свести оперирование смыслами, недоступными наблюдению, к действиям над вещественными, хорошо обозримыми объектами. Для этого требуется выявить все используемые нами принципы интуитивной логики и представить их в виде простых правил преобразования последовательностей знаков, записанных на бумаге. Рассуждение превратится при этом в предметные действия над цепочками знаков.
Метод формализации доказательства состоит в построении исчисления, в котором содержательным рассуждениям соответствуют чисто формальные преобразования. Они осуществляются на основании системы чисто формальных (принимающих во внимание лишь внешний вид знаков) правил, а не смыслового содержания входящих в рассуждение утверждений. Полная формализация теории имеет место тогда, когда совершенно отвлекаются от содержательного смысла исходных понятий и положений теории и перечисляют все правила логического вывода, используемые в доказательствах. Такая формализация включает в себя три момента: обозначение исходных, неопределяемых терминов; перечисление принимаемых без доказательства формул (аксиом); введение правил преобразования этих формул для получения из них новых формул (теорем). В формализованной теории доказательство не требует обращения к каким-либо интуитивным представлениям. Оно является последовательностью формул, каждая из которых либо есть аксиома, либо получается из аксиом по правилам вывода. Проверка такого доказательства превращается в механическую процедуру и может быть передана вычислительной машине.
Одно время на формализованные доказательства возлагались большие надежды. Предполагалось, что удастся формализовать математические доказательства и затем доказать непротиворечивость математики. Эта программа называлась «формализмом» и противопоставлялась как попыткам свести математику к логике (логицизм), так и намерению опереть математику на особую наглядно-содержательную интуицию (интуиционизм). Предложенная формализмом программа обоснования математики оказалась, однако, утопией. Достаточно богатая содержательная теория (охватывающая хотя бы арифметику натуральных чисел) не может быть полностью отображена в ее формализованной версии: как бы ни пополнялась последняя дополнительными утверждениями (новыми аксиомами), в теории всегда останется не выявленный, неформализованный остаток. Но об этом речь пойдет далее.
7. Как мыслит машина
Одно время, когда стали появляться все более совершенные вычислительные машины, производящие миллионы операций в секунду, очень популярным сделался вопрос: может ли машина мыслить? Не окажется ли в недалеком будущем так, что существенно усовершенствованная вычислительная машина начнет мыслить, как человек, а потом и превзойдет его в сфере мышления? В сфере, считающейся отличительной особенностью человека. Ведь человек, согласно его определению, восходящему еще к античности, — всего лишь разумное животное.
Проблема «машинного мышления» вызывала какое-то время бурные дискуссии, преимущественно в околонаучных кругах. Теперь споры совершенно затихли, хотя иногда и сейчас люди, далекие от математики и логики, задумываются над вопросом о том, не станет ли с течением времени бурно прогрессирующая вычислительная техника «лучшим мыслителем», чем ее создатель — человек. Во всяком случае в шахматах вычислительные машины проявили себя просто блестяще, и можно с большой долей уверенности предположить, что уже в недалеком будущем они начнут регулярно обыгрывать лучших гроссмейстеров. В каких еще областях мышления машина может со временем превзойти человека?
Чтобы разобраться с вопросом о «машинном мышлении», нужно более ясно представить как именно «мыслит» машина и способно ли будет это специфическое «мышление» когда-нибудь составить конкуренцию живому человеческой мышлению. Для этого требуется ввести понятие алгоритма и подробнее рассмотреть проблему ограниченности формализованного доказательства.
Алгоритм — это конечный набор правил, позволяющих чисто механически решить любую конкретную задачу из некоторого класса однотипных задач. Примерами наиболее простых алгоритмов могут служить алгоритмы сложения, вычитания, умножения и деления целых чисел в арифметике (использующей десятичную систему счисления).
Осуществление алгоритмического процесса может быть передано машине. Благодаря своему быстродействию, она окажется способной решать задачи, недоступные человеку. Но, естественно, только задачи, для решения которых существуют алгоритмы, и никакие иные.
Потенциальная возможность передать машине осуществление алгоритмических процедур существенно стимулировала разработку математической теории алгоритмов. Первоначально недостаточно ясное понятие «алгоритма» было уточнено с помощью таких понятий как «рекурсивная функция», «машина Тьюринга», «нормальный алгоритм» и др. Со временем теория алгоритмов легла в фундамент вычислительной науки и техники, сделалась основой машинного решения математических задач, моделирования сложных процессов и автоматизации производства и управления.
Алгоритм представляет собой систему правил (предписаний) для эффективного решения некоторого класса однотипных задач. Предполагается, что алгоритм обладает свойствами массовости, детерминированности и результативности. Массовость означает, что данные задач могут в определенных пределах изменяться. Алгоритм связан с решением общей проблемы, в условия которой входят варьирующиеся параметры. Ответ «да» или «нет» на проблему дается не прямо, а косвенно, в зависимости от значений параметров, в общем случае допускающих счетно-бесконечное множество значений. Точное описание алгоритма предполагает указание на множество возможных значений параметров проблемы, т. е. тех частных вопросов, на которые она распадается. Детерминированность алгоритма выражается в том, что когда заданы алгоритм и значения параметров, или, иначе говоря, выбран частный случай проблемы, процесс решения идет чисто формально (механически) и во всех деталях известны последовательность и содержание конкретных шагов работы алгоритма. Алгоритмический процесс изолирован от воздействия извне, так что детерминированность исключает возможность произвольных решений. Именно эта особенность алгоритма делает его синонимом автоматически работающей машины. Результативность алгоритма означает, что на каждом шаге процесса применения правила известно, что считать его результатом.
Проблема, рассматриваемая в свете поиска алгоритма ее решения, называется алгоритмической. Когда алгоритм предложен, возникает вопрос: всегда ли ответы по данному алгоритму будут ответами на частные вопросы рассматриваемой алгоритмической проблемы? Если удается доказать соответствие алгоритма данной проблеме, алгоритмическую проблему считают разрешимой посредством алгоритма, или алгоритмически разрешимой.
Алгоритмически разрешимые проблемы могут быть переданы вычислительной машине, которая справится с ними намного быстрее, чем это способно сделать человеческое мышление.
Вера в алгоритмическую разрешимость проблем математики и логики зародилась в философии более трехсот лет тому назад. Постепенно эта вера распространилась и на проблемы других областей знания. Стало даже складываться чрезвычайно оптимистическое мнение, что со временем машина окажется способной решать едва ли не все, а может быть даже все те проблемы, которые встают перед человеком.
Теорема Гёделя
Однако в первой половине ХХ в. было доказано, что далеко не каждая из даже собственно математических или логических проблем является алгоритмически разрешимой. Тем самым надеждам на универсальную замену человеческого мышления «машинным мышлением» был положен конец. Этому предшествовало уточнение понятия алгоритма в рамках строгой математической теории алгоритмов, уяснение принципиальной завершенности поиска средств, привлекаемых для решения алгоритмических проблем, и одновременно признание существования алгоритмически «абсолютно неразрешимых» проблем. Уточнение понятия алгоритма и границ области алгоритмически разрешимых проблем явилось мощным стимулом для дальнейшего развития теории алгоритмов.
Формализация доказательства сводит процесс доказательства к простым операциям со знаками. Проверка формализованного доказательства (но не его поиск) является механической процедурой. Поскольку она носит алгоритмический характер, ее можно передать машине.
Формализация играет существенную роль в уточнении научных понятий. Многие проблемы не могут быть не только решены, но даже сформулированы, пока не будут формализованы связанные с ними рассуждения. Так обстоит дело, в частности, с широко используемым теперь понятием алгоритма и вопросом о том, существуют ли алгоритмически неразрешимые проблемы. Они существуют, подавляющее большинство проблем, решаемых человеком, не имеет никакого алгоритма своего решения. Только формализация дала возможность поставить вопрос: охватывает ли формализованная, «машинная» арифметика всю содержательную арифметику?
Формализованное доказательство — это доказательство, записанное на специальном искусственном — формализованном — языке. Он имеет точно установленную структуру и простые правила, благодаря чему процесс доказательства сводится к элементарным операциям со знаками.
Формализованное доказательство — это идеальное и неоспоримое доказательство. Но насколько реалистичен этот идеал, не слишком ли формализованные рассуждения отходят от обычных научных рассуждений? Можно ли полностью формализовать любую научную теорию?
Ответы на эти вопросы были получены в 30-е годы, когда был установлен ряд теорем, принципиально ограничивающих формализацию. Наиболее важная из них принадлежит австрийскому математику и логику К. Гёделю. В 1931 г. он показал, что любая достаточно богатая по содержанию и являющаяся непротиворечивой теория неизбежно неполна: она не охватывает все истинные утверждения, относящиеся к ее области. Теорема Гёделя непосредственно относилась к арифметике и утверждала, что существует имеющее смысл утверждение арифметики целых чисел (обозначим это утверждение буквой С), которое в рамках данной теории нельзя ни доказать, ни опровергнуть. Но либо утверждение С, либо утверждение не-С истинно. Следовательно, в арифметике существует истинное утверждение, которое недоказуемо, а значит, и неразрешимо.
Эта теорема произвела эффект разорвавшейся бомбы не только в математике и логике. Она распространяется на любую формализованную теорию, содержащую арифметику, и говорит о внутренней ограниченности процедуры формализации, о невозможности представления достаточно богатой теории в виде завершенной формализованной системы.
Гёделевская теорема не дискредитирует, конечно, метод формализации. Но она говорит, что никакая формализация не способна исчерпать все богатство приемов и методов содержательного мышления. Сравнивая возможности человека и современных вычислительных машин, можно сказать, что для каждой конкретной задачи в принципе можно построить машину, которой эта задача была бы под силу. Нельзя, однако, создать машину, пригодную для решения любой задачи. Из гёделевской теоремы о неполноте следует непреложный вывод: природа и резервы человеческого разума неизмеримо тоньше и богаче любой из существующих или воображаемых вычислительных машин.
Теорема Гёделя иногда истолковывается как свидетельство какой-то внутренней, непреодолимой ограниченности человеческого мышления. Такая пессимистическая интерпретация безосновательна. Теорема устанавливает границы только «машиноподобного», «вычисляющего» разума. Вместе с тем она косвенно говорит о могуществе творческого разума, способного создавать новые понятия и методы для решения принципиально новых проблем.
Глава 9. Правдоподобные рассуждения
Уподобления не доказывают, а лишь объясняют доказанное.
М. В. ЛомоносовДаже в его молчании были слышны орфографические ошибки.
С. Е. ЛецКаждый человек склонен по-своему с чем-то сравнивать человеческую жизнь. Один столяр, например, как-то сказал: «Человек, что столяр: столяр живет, живет и умирает, так же и человек».
Шолом-АлейхемВ аду сама смерть не умирает.
АвгустинЧто не убивает меня, то делает сильнее.
Ф. Ницше1. Дедукция и индукция
«По одной капле воды… человек, умеющий мыслить логически, может сделать вывод о существовании Атлантического океана или Ниагарского водопада, даже если он не видал ни того, ни другого и никогда о них не слыхал… По ногтям человека, по его рукам, обуви, сгибу брюк на коленях, по утолщениям кожи на большом и указательном пальцах, по выражению лица и обшлагам рубашки — по таким мелочам нетрудно угадать его профессию. И можно не сомневаться, что все это вместе взятое подскажет сведущему наблюдателю верные выводы».
Это цитата из программной статьи самого знаменитого в мировой литературе сыщика-консультанта Шерлока Холмса. Исходя из мельчайших деталей, он строил логически безупречные цепи рассуждений и раскрывал запутанные преступления, причем зачастую не выходя из своей квартиры на Бейкер-стрит. Холмс использовал дедуктивный метод, ставящий, как полагал его друг, доктор Уотсон, раскрытие преступлений на грань точной науки.
Конечно, Холмс несколько преувеличивал значение дедукции в криминалистике, но его рассуждения о дедуктивном методе сделали свое дело. «Дедукция» из специального и известного только немногим термина превратилась в общеупотребительное и даже модное понятие. Популяризация искусства правильного рассуждения и, прежде всего, дедуктивного рассуждения — не меньшая заслуга Холмса, чем все раскрытые им преступления. Ему удалось «придать логике прелесть грезы, пробирающейся сквозь хрустальный лабиринт возможных дедукций к единственному сияющему выводу» (В. Набоков).
Определения дедукции и индукции
В широком смысле умозаключение — логическая операция, в результате которой из одного или нескольких принятых утверждений (посылок) получается новое утверждение — заключение (вывод, следствие).
В зависимости от того, существует ли между посылками и заключением связь логического следования, можно выделить два вида умозаключений.
В дедуктивном умозаключении эта связь опирается на логический закон, в силу чего заключение с логической необходимостью вытекает из принятых посылок. Отличительная особенность такого умозаключения в том, что оно от истинных посылок всегда ведет к истинному заключению.
В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения опирается не на закон логики, а на некоторые фактические или психологические основания, не имеющие чисто формального характера. В таком умозаключении заключение не следует логически из посылок и может содержать информацию, отсутствующую в них. Достоверность посылок не означает, поэтому достоверности выведенного из них индуктивно утверждения. Индукция дает только вероятные, или правдоподобные, заключения, нуждающиеся в дальнейшей проверке.
К дедуктивным относятся, к примеру, умозаключение:
Если идет дождь, земля является мокрой.
Идет дождь.
Следовательно, земля мокрая.
Еще одно дедуктивное умозаключение:
Если гелий металл, он электропроводен.
Гелий не электропроводен.
Значит, гелий не металл.
Примером индукции могут служить рассуждение:
Аргентина является республикой; Бразилия — республика;
Венесуэла — республика; Эквадор — республика.
Аргентина, Бразилия, Венесуэла, Эквадор — латиноамериканские государства.
Значит, все латиноамериканские государства являются республиками.
Еще одно индуктивное умозаключение:
Италия — республика; Португалия — республика; Финляндия — республика; Франция — республика.
Италия, Португалия, Финляндия, Франция — западноевропейские страны.
Значит, все западноевропейские страны являются республиками.
Индукция не дает полной гарантии получения новой истины из уже имеющихся. Максимум, о котором можно говорить, — это определенная степень вероятности выводимого утверждения. Так, посылки и первого и второго индуктивного умозаключения истинны, но заключение первого из них истинно, а второго — ложно. Действительно, все латиноамериканские государства — республики; но среди западноевропейских стран имеются не только республики, но и монархии, например Англия, Бельгия и Испания.
Особенно характерными дедукциями являются логические переходы от общего знания к частному:
Все металлы пластичны.
Железо — металл.
Следовательно, железо пластично.
Во всех случаях, когда требуется рассмотреть какие-то явления на основании уже известного общего правила и вывести в отношении этих явлений необходимое заключение, мы умозаключаем в форме дедукции. Рассуждения, ведущие от знания о части предметов (частного знания) к знанию обо всех предметах определенного класса (общему знанию), — это типичные индукции. Всегда остается вероятность того, что обобщение окажется поспешным и необоснованным («Наполеон — полководец; Суворов — полководец; значит, каждый человек полководец»).
Нельзя вместе с тем отождествлять дедукцию с переходом от общего к частному, а индукцию — с переходом от частного к общему. В рассуждении «Шекспир писал сонеты; следовательно, неверно, что Шекспир не писал сонетов» есть дедукция, но нет перехода от общего к частному. Рассуждение «Если алюминий пластичен или глина пластична, то алюминий пластичен» является, как принято думать, индуктивным, но в нем нет перехода от частного к общему. Дедукция — это выведение заключений, столь же достоверных, как и принятые посылки, индукция — выведение вероятных (правдоподобных) заключений. К индуктивным умозаключениям относятся как переходы от частного к общему, так и аналогия, методы установления причинных связей, подтверждение следствий, целевое обоснование и т. д.
Тот особый интерес, который проявляется к дедуктивным умозаключениям, понятен. Они позволяют из уже имеющегося знания получать новые истины, и притом с помощью чистого рассуждения, без обращения к опыту, интуиции, здравому смыслу и т. п. Дедукция дает стопроцентную гарантию успеха, а не просто обеспечивает ту или иную — быть может и высокую — вероятность истинного заключения. Отправляясь от истинных посылок и рассуждая дедуктивно, мы обязательно во всех случаях получим достоверное знание.
Подчеркивая важность дедукции в процессе развертывания и обоснования знания, не следует, однако, отрывать ее от индукции и недооценивать последнюю. Почти все общие положения, включая и научные законы, являются результатами индуктивного обобщения. В этом смысле индукция — основа нашего знания. Сама по себе она не гарантирует его истинности и обоснованности, но она порождает предположения, связывает их с опытом и тем самым сообщает им определенное правдоподобие, более или менее высокую степень вероятности. Опыт — источник и фундамент человеческого знания. Индукция, отправляющаяся от того, что постигается в опыте, является необходимым средством его обобщения и систематизации.
Все ранее рассмотренные схемы рассуждений являлись примерами дедуктивных рассуждений. Логика высказываний, модальная логика, логическая теория категорического силлогизма — все это разделы дедуктивной логики.
Обычные дедукции
Итак, дедукция — это выведение заключений, столь же достоверных, как и принятые посылки.
В обычных рассуждениях дедукция только в редких случаях предстает в полной и развернутой форме. Чаще всего мы указываем не все используемые посылки, а лишь некоторые. Общие утверждения, о которых можно предполагать, что они хорошо известны, как правило, опускаются. Не всегда явно формулируются и заключения, вытекающие из принятых посылок. Сама логическая связь, существующая между исходными и выводимыми утверждениями, лишь иногда отмечается словами, подобными «следовательно» и «значит».
Нередко дедукция является настолько сокращенной, что о ней можно только догадываться. Восстановить ее в полной форме, с указанием всех необходимых элементов и их связей бывает нелегко.
«Благодаря давней привычке, — заметил как-то Шерлок Холмс, — цепь умозаключений возникает у меня так быстро, что я пришел к выводу, даже не заметив промежуточных посылок. Однако они были, эти посылки».
Проводить дедуктивное рассуждение, ничего не опуская и не сокращая, довольно обременительно. Человек, указывающий все предпосылки своих заключений, создает впечатление мелкого педанта. И вместе с тем всякий раз, когда возникает сомнение в обоснованности сделанного вывода, следует возвращаться к самому началу рассуждения и воспроизводить его в возможно более полной форме. Без этого трудно или даже просто невозможно обнаружить допущенную ошибку.
Многие литературные критики полагают, что Шерлок Холмс был «списан» А. Конан Дойлем с профессора медицины Эдинбургского университета Джозефа Белла. Последний был известен как талантливый ученый, обладавший редкой наблюдательностью и отлично владевший методом дедукции. Среди его студентов был и будущий создатель образа знаменитого детектива.
Однажды, рассказывает в своей автобиографии Конан Дойл, в клинику пришел больной, и Белл спросил его:
— Вы служили в армии?
— Так точно! — став по стойке смирно, ответил пациент. — В горнострелковом полку?
— Так точно, господин доктор!
— Недавно ушли в отставку?
— Так точно!
— Были сержантом?
— Так точно! — лихо ответил больной.
— Стояли на Барбадосе?
— Так точно, господин доктор!
Студенты, присутствовавшие при этом диалоге, изумленно смотрели на профессора. Белл объяснил, насколько просты и логичны его выводы.
Этот человек, проявив при входе в кабинет вежливость и учтивость, все же не снял шляпу. Сказалась армейская привычка. Если бы пациент был в отставке длительное время, то давно усвоил бы гражданские манеры. В осанке властность, по национальности он явно шотландец, а это говорит в пользу того, что он был командиром. Что касается пребывания на Барбадосе, то пациент болеет элефантизмом (слоновостью) — такое заболевание распространено среди жителей тех мест. Здесь дедуктивное рассуждение чрезвычайно сокращено. Опущены, в частности, все общие утверждения, без которых дедукция была бы невозможной.
Шерлок Холмс сделался очень популярным персонажем. Появились даже анекдоты о нем и о его создателе.
К примеру, в Риме Конан Дойл берет извозчика и тот говорит: «А, господин Дойл, приветствую вас после вашего путешествия в Константинополь и в Милан!» «Как мог ты узнать, откуда я приехал?» — удивился шерлокхолмсовской проницательности Конан Дойл. «По наклейкам на вашем чемодане», — хитро улыбнулся кучер.
Это еще одна дедукция, очень сокращенная и простая.
Дедуктивная аргументация
Дедуктивная аргументация представляет собой выведение обосновываемого положения из иных, ранее принятых положений. Если выдвинутое положение удается логически (дедуктивно) вывести из уже установленных положений, это означает, что оно приемлемо в той же мере, что и эти положения. Обоснование одних утверждений путем ссылки на истинность или приемлемость других утверждений — не единственная функция, выполняемая дедукцией в процессах аргументации.
Дедуктивное рассуждение служит также для верификации (косвенного подтверждения) утверждений: из проверяемого положения выводятся его эмпирические следствия; подтверждение этих следствий оценивается как индуктивный довод в пользу исходного положения. Дедуктивное рассуждение используется также для фальсификации утверждений путем показа того, что вытекающие из них следствия являются ложными. Не достигшая успеха фальсификация представляет собой ослабленный вариант верификации: неудача в опровержении эмпирических следствий проверяемой гипотезы является аргументом, хотя и весьма слабым, в поддержку этой гипотезы. И, наконец, дедукция используется для систематизации теории или системы знания, прослеживания логических связей, входящих в нее утверждений, построения объяснений и пониманий, опирающихся на общие принципы, предлагаемые теорией. Прояснение логической структуры теории, укрепление ее эмпирической базы и выявление ее общих предпосылок является важным вкладом в обоснование входящих в нее утверждений.
Дедуктивная аргументация является универсальной, применимой во всех областях знания и в любой аудитории.
Удельный вес дедуктивной аргументации в разных областях знания существенно различен. Она очень широко применяется в математике и математической физике и только эпизодически в истории или эстетике. Имея в виду сферу приложения дедукции, Аристотель писал: «Не следует требовать от оратора научных доказательств точно так же, как от математика не следует требовать эмоционального убеждения». Дедуктивная аргументация является очень сильным средством и, как всякое такое средство, должна использоваться узконаправленно. Попытка строить аргументацию в форме дедукции в тех областях или в той аудитории, которые для этого не годятся, приводит к поверхностным рассуждениям, способным создать только иллюзию убедительности.
В зависимости от того, насколько широко используется дедуктивная аргументация, все науки одно время принято было делить на дедуктивные и индуктивные. В первых используется по преимуществу или даже единственно дедуктивная аргументация. Во вторых такая аргументация играет лишь заведомо вспомогательную роль, а на первом месте стоит эмпирическая аргументация, имеющая индуктивный, вероятностный характер. Типично дедуктивной наукой считалась математика, образцом индуктивных наук служили естественные науки. Однако деление наук на дедуктивные и индуктивные, широко распространенное еще в начале этого века, сейчас во многом утратило свое значение. Оно ориентировано на науку, рассматриваемую в статике, как систему надежно и окончательно установленных истин.
2. Разновидности индукции
В индуктивном умозаключении связь посылок и заключения не опирается на логический закон и заключение вытекает из принятых посылок не с логической необходимостью, а только с некоторой вероятностью. Индукция может давать из истинных посылок ложное заключение, ее заключение может содержать информацию, отсутствующую в посылках.
Понятие индукции (индуктивного умозаключения) не является вполне ясным. Индукция определяется, в сущности, как «недедукция» и представляет собой еще менее ясное понятие, чем дедукция. Можно тем не менее указать относительно твердое «ядро» индуктивных способов рассуждения. В него входят, в частности, неполная индукция, так называемые перевернутые законы логики, подтверждение следствий, целевое обоснование и подтверждение общего положения с помощью примера. Типичным примером индуктивного рассуждения является также аналогия.
Неполная индукция
Индуктивное умозаключение, результатом которого является общий вывод обо всем классе предметов на основании знания лишь некоторых предметов данного класса, принято называть неполной, или популярной, индукцией.
Например, из того, что инертные газы гелий, неон и аргон имеют валентность, равную нулю, можно сделать общий вывод, что все инертные газы имеют эту же валентность. Это неполная индукция, поскольку знание о трех инертных газах распространяется на все такие газы, включая не рассматривавшиеся специально криптон и ксенон.
Иногда перечисление является достаточно обширным и тем не менее опирающееся на него обобщение оказывается ошибочным.
«Алюминий — твердое тело; железо, медь, цинк, серебро, платина, золото, никель, барий, калий, свинец — также твердые тела; следовательно, все металлы — твердые тела», Но этот вывод ложен, поскольку ртуть — единственный из всех металлов — жидкость.
Много интересных примеров, поспешных обобщений, встречавшихся в истории науки, приводит в своих работах русский ученый В. И. Вернадский.
До XVII в., пока в науку не вошло окончательно понятие «сила», некоторые формы предметов и по аналогии некоторые формы путей, описываемых предметами, считались, по существу, способными производить бесконечное движение. В самом деле, представим себе форму идеально правильного шара, положим этот шар на плоскость. Теоретически он не может удержаться неподвижно и все время будет в движении. Это считалось следствием идеально круглой формы шара. Ибо чем ближе форма фигуры к шаровой, тем точнее будет выражение, что такой материальный шар любых размеров будет держаться на идеальной зеркальной плоскости на одном атоме, то есть будет больше способен к движению, менее устойчив. Идеально круглая форма, полагали тогда, по своей сущности способна поддерживать раз сообщенное движение. Этим путем объяснялось чрезвычайно быстрое вращение небесных сфер, эпициклов. Эти движения были единожды сообщены им божеством и затем продолжались века как свойство идеально шаровой формы. «Как далеки эти научные воззрения от современных, — пищет Вернадский, — а между тем, по существу, это строго индуктивные построения, основанные на научном наблюдении. И даже в настоящее время в среде ученых-исследователей видим попытки возрождения, по существу, аналогичных воззрений».
Поспешное обобщение, т. е. обобщение без достаточных на то оснований, — обычная ошибка в индуктивных рассуждениях.
Индуктивные обобщения требуют определенной осмотрительности и осторожности. Многое здесь зависит от числа изученных случаев. Чем обширнее база индукции, тем более правдоподобным является индуктивное заключение. Важное значение имеет также разнообразие, разнотипность этих случаев.
Но наиболее существенным является анализ характера связей предметов и их признаков, доказательство неслучайности наблюдаемой регулярности, ее укорененности в сущности исследуемых объектов. Выявление причин, порождающих эту регулярность, позволяет дополнить чистую индукцию фрагментами дедуктивного рассуждения и тем самым усилить и укрепить ее.
Общие утверждения и, в частности, научные законы, полученные индуктивным способом, не являются еще полноправными истинами. Им предстоит пройти длинный и сложный путь, пока из вероятностных предположений они превратятся в составные элементы научного знания.
Индуктивное обоснование оценок
Индукция находит приложение не только в сфере описательных утверждений, но и в области оценок, норм, советов и им подобных выражений.
Эмпирическое обоснование оценок и т. п. имеет иной смысл, чем в случае описательных высказываний. Оценки не могут поддерживаться ссылками на то, что дано в непосредственном опыте. Вместе с тем имеются такие способы обоснования оценок, которые в определенном отношении аналогичны способам обоснования описаний и которые можно поэтому назвать квазиэмпирическими. К ним относятся различные индуктивные рассуждения, среди посылок которых имеются оценки и заключение которых также является оценкой или подобным ей утверждением. В числе таких способов неполная индукция, аналогия, ссылка на образец, целевое обоснование (подтверждение) и др.
Ценности не даны человеку в опыте. Они говорят не о том, что есть в мире, а о том, что должно в нем быть, и их нельзя увидеть, услышать и т. п. Знание о ценностях не может быть эмпирическим, процедуры его получения могут лишь внешне походить на процедуры получения эмпирического знания.
Самым простым и вместе с тем ненадежным способом индуктивного обоснования оценок является неполная (популярная) индукция. Ее общая схема:
S1 должно быть Р.
S2 должно быть Р.
Sn должно быть Р.
Все S1, S2,…, Sn являются Q.
Значит, все Q должны быть P. Здесь первые n посылок являются оценками, последняя посылка представляет собой описательное утверждение; заключение — оценка.
Например:
Суворов должен быть стойким и мужественным.
Наполеон должен быть стойким и мужественным.
Эйзенхауэр должен быть стойким и мужественным.
Суворов, Наполеон, Эйзенхауэр были полководцами.
Значит, каждый полководец должен быть стойким и мужественным.
Наряду с неполной индукцией принято выделять в качестве особого вида индуктивного рассуждения полную индукцию. В ее посылках о каждом из предметов, входящих в рассматриваемое множество, утверждается, что он имеет определенное свойство. В заключении говорится, что все предметы данного множества обладают этим свойством.
К примеру, учитель, читая список учеников какого-то класса, убеждается, что каждый названный им присутствует. На этом основании учитель делает вывод, что присутствуют все ученики.
В полной индукции заключение необходимо, а не с некоторой вероятностью вытекает из посылок. Эта индукция является, таким образом, разновидностью дедуктивного умозаключения.
К дедукции относится и так называемая математическая индукция, широко используемая в математике.
Идея «индуктивной машины»
Ф. Бэкон, положивший начало систематическому изучению индукции, весьма скептически относился к популярной индукции, опирающейся на простое перечисление подтверждающих примеров. Он писал: «Индукция, которая совершается путем простого перечисления, есть детская вещь, она дает шаткие заключения и подвергнута опасности со стороны противоречащих частностей, вынося решение большей частью на основании меньшего, чем следует, количества фактов, и притом только тех, которые имеются налицо».
Этой «детской вещи» Бэкон противопоставлял описанные им особые индуктивные принципы установления причинных связей. Он даже полагал, что предлагаемый им индуктивный путь открытия знаний, являющийся очень простой, чуть ли не механической процедурой, «…почти уравнивает дарования и мало что оставляет их превосходству…». Продолжая его мысль, можно сказать, что он надеялся едва ли не на создание особой «индуктивной машины». Введя в такого рода вычислительную машину все предложения, относящиеся к наблюдениям, мы получали бы на выходе точную систему законов, объясняющих эти наблюдения.
Программа Бэкона была, разумеется, чистой утопией. Никакая «индуктивная машина», перерабатывающая факты в новые законы и теории, невозможна. Индукция, ведущая от частных утверждений к общим, дает только вероятное, а не достоверное знание.
Все это еще раз подтверждает простую в своей основе мысль: познание реального мира — всегда творчество. Стандартные правила, принципы и приемы, какими бы совершенными они ни были, не дают гарантии достоверности нового знания. Самое строгое следование им не предохраняет от ошибок и заблуждений.
Всякое открытие требует таланта и творчества. И даже само применение разнообразных приемов, в какой-то мере облегчающих путь к открытию, является творческим процессом.
3. Пример и иллюстрация
Трудно найти что-то, сравнимое по убедительности с примерами. Формально говоря, пример — всего лишь отдельный факт, которому можно противопоставить множество прямо противоположных фактов. И тем не менее хорошо подобранный пример убеждает. Говорят, что кто-то за компанию, т. е. по примеру других, даже повесился. И еще говорят: дурной пример заразителен, хотя это можно сказать и о большинстве позитивных примеров.
Особенно велика убеждающая сила примеров при обсуждении человеческого поведения. Политики, проповедники и моралисты хорошо чувствуют это. Не случайно они постоянно ссылаются на случаи из жизни выдающихся или просто хорошо известных людей.
Эмпирически наблюдаемые случаи, или факты, могут использоваться трояко: в качестве примеров, иллюстраций и образцов. Как пример такой случай делает возможным выдвижение общего принципа; в качестве иллюстрации частный случай подкрепляет уже установленное общее положение; как образец частный случай побуждает к подражанию чьему-то поведению. Примеры и иллюстрации применяются для поддержки общих описательных высказываний; образцы используются для обоснования оценок и норм.
Употребление фактов как примеров может рассматриваться как один из вариантов обоснования какого-то положения путем подтверждения его следствий (косвенного подтверждения). Но в таком качестве примеры являются весьма слабым средством: о правдоподобности общего положения невозможно сказать что-нибудь конкретное на основе одного-единственного факта, говорящего в его пользу. Например, Сократ прекрасно владел искусством вести спор и определять понятия; но, отправляясь только от этого частного случая, нельзя правдоподобно заключить, что все люди хорошо умеют нести спор и определять понятия или что, по меньшей мере, все древние греки искусно спорили и удачно определяли понятия.
Факты, используемые как примеры и иллюстрации, обладают рядом особенностей, выделяющих их среди всех тех фактов и частных случаев, которые привлекаются для подтверждения общих положении и гипотез. Можно сказать, что примеры более доказательны или более вески, чем остальные факты. Факт или частный случай, избираемый в качестве примера, должен достаточно отчетливо выражать тенденцию к обобщению. Тенденциозность факта-примера существенным образом отличает его от всех иных фактов.
Если говорить строго, то факт-пример никогда не является чистым описанием какого-то реального состояния дел. Он говорит не только о том, что есть, но и отчасти и непрямо о том, что должно быть. Он соединяет функцию описания с функцией оценки (предписания), хотя доминирует в нем, несомненно, первая из них. Этим обстоятельством объясняется широкое распространение примеров в процессах аргументации, прежде всего в гуманитарной и практической аргументации, а также в повседневном общении.
Пример — факт или частный случай, используемый в качестве отправного пункта для последующего обобщения и для подкрепления сделанного обобщения.
Этик М. Оссовская использует примеры для прояснения смысла понятия «умышленное убийство». Мы, несомненно, убиваем кого-то, когда каким-то явным действием, к примеру ударом топора или выстрелом с близкого расстояния, причиняем смерть. Но следует ли понятие убийства применять к случаю, когда женщина, желая избавиться от своей соседки-старушки, сообщила ей о мнимой смерти ее сына, в результате чего происходит то, что и ожидалось: смертельный инфаркт? Можно ли говорить об убийстве в том случае, если муж своим поведением довел жену до самоубийства, или в случае, когда муж, используя свои гипнотические способности, настойчиво внушал ей мысль о самоубийстве? Эти примеры должны подготовить читателя к определению общего понятия «умышленное убийство» и подтвердить приемлемость предлагаемого определения.
Примеры могут использоваться только для поддержки описательных утверждений и в качестве отправного пункта для описательных обобщений. Они не способны поддерживать оценки и утверждения, тяготеющие к оценкам; служить исходным материалом для оценочных и подобных им обобщений; поддерживать нормы, являющиеся частым случаем оценочных утверждений.
То, что иногда представляется в качестве примера, призванного как-то подкрепить оценку, норму и т. п., на самом деле не пример, а образец. Различие примера и образца существенно. Пример представляет собой описательное утверждение, говорящее о некотором факте. Образец — это оценочное утверждение, относящееся к какому-то частному случаю и устанавливающее частный стандарт, идеал и т. п.
Цель примера — подвести к формулировке общего утверждение и в какой-то мере быть доводом в поддержку обобщения. С этой целью связаны критерии выбора примера.
Во-первых, избираемый в качестве примера факт или частный случай должен выглядеть достаточно ясным и неоспоримым.
Если одиночные факты-примеры не подсказывают с должной ясностью направление предстоящего обобщения или не подкрепляют уже сделанное обобщение, рекомендуется перечислять несколько однотипных примеров.
Приводя примеры один за другим, выступающий уточняет свою мысль, как бы комментируя ее. При этом упоминание нового примера модифицирует значение уже известных, уточняет ту точку зрения, в рамках которой следует рассматривать предыдущие факты.
Если кто-то ограничивается одним-единственным примером, это указывает, вероятно, на то, что степень обобщения данного примера представляется самоочевидной. Почти такая же ситуация возникает, когда упоминаются многочисленные примеры, объединенные формулой «часто мы видим, что…» и т. п. Эти примеры чем-то различаются, но с точки зрения конкретного обобщения они рассматриваются как единый пример. Увеличение числа недифференцированных примеров становится важным, когда, не стремясь к обобщению, автор хочет определить частоту события и сделать заключение о вероятности встретиться с ним в будущем.
Иногда, вместо того чтобы приводить много однотипных примеров, аргументацию усиливают с помощью «иерархизированных» примеров. Форма таких примеров проста: «Имеет место то-то, несмотря на…», и далее перечисляются те ограничения, которые в иных случаях могли бы оказаться существенными. Приведем известный пример такого типа, данный Аристотелем:
«…Все почитают мудрецов: паросцы почитали Архилоха, хотя он был клеветник, хиосцы — Гомера, хотя он не был их согражданином, митиленцы — Сафо, хотя она была женщина, лакедемоняне избрали Хилона в число геронтов, хотя чрезвычайно мало любили науки…»
Если намерение аргументировать с помощью примера не объвляется открыто, сам приводимый факт и его контекст должны показывать, что слушатели имеют дело именно с примером, а не с описанием изолированного явления, воспринимаемым как простая информация. Если определенные явления упоминаются вслед за другими, в чем-то им подобными, мы склонны воспринимать их как примеры. Некий прокурор, выведенный в пьесе в качестве персонажа, может сойти просто за частное лицо; если, однако, в той же пьесе выведены два прокурора, то их поведение будет восприниматься как типичное именно для лиц данной профессии.
Во-вторых, пример должен подбираться и формулироваться таким образом, чтобы он побуждал перейти от единичного или частного к общему, а не от частного к частному. Аргументация от частного к частному вполне правомерна. Однако единичные явления, упоминаемые в такой аргументации, не представляют собой примеров.
В-третьих, факт, используемый в качестве примера, должен восприниматься как логически и физически возможное явление. Если это не так, то пример просто обрывает последовательность рассуждения и приводит к обратному результату или к комическому эффекту.
Когда для доказательства того, что из-за невзгод иные несчастные могут поседеть за одну ночь, приводится рассказ о том, как этот незаурядный случай произошел с одним торговцем, который так горевал по поводу пропажи своих товаров во время кораблекрушения, что внезапно поседел… его парик, — этим достигается эффект, придающий комизм аргументации. Сходным образом обстоит дело с рассказом миллионера о том, как ему удалось разбогатеть: «Я купил яблоко за один пенс, помыл его и продал за три пенса. Затем купил три яблока, помыл их и продал за девять пенсов… Этим я занимался целый год, а потом умер мой дядя и оставил мне в наследство миллион».
Особого внимания требуют противоречащие примеры, так как они могут выполнять две разные задачи.
Чаще всего противоречащий пример используется для опровержения ошибочного обобщения, его фальсификации.
Например, если выдвигается общее положение «Все лебеди белые», то пример с черными лебедями способен опровергнуть данное общее утверждение. Если бы удалось встретить хотя бы одну белую ворону, то, приведя ее в качестве примера, можно было бы опровергнуть общее мнение, что все вороны черные, или, по крайней мере, настаивать на введении в него каких-то оговорок.
Опровержение на основе примера ведет к отмене общего положения или к изменению сферы его действия, учитывающему новый, не подпадающий под него случай.
Однако противоречащие примеры нередко реализуют намерение воспрепятствовать неправомерному обобщению и, демонстрируя свое несогласие с ним, подсказать то единственное направление, в котором может происходить обобщение. В этом случае задача противоречащих примеров — не фальсификация какого-то общего положения, а выявление такого положения.
Иногда высказывается мнение, что примеры должны приводиться обязательно до формулировки того обобщения, к которому они подталкивают, так как задача примера — вести от единичного и простого к более общему и сложному. Вряд ли это мнение оправдано. Порядок изложения не особенно существен для аргументации с помощью примера. Примеры могут предшествовать обобщению, если упор делается на то, чтобы придать мысли движение и помочь ей по инерции прийти к какому-то обобщающему положению. Но могут также следовать за ним, если на первый план выдвигается подкрепляющая функция примеров. Однако эти две задачи, стоящие перед примерами, настолько тесно связаны, что разделение их и тем более противопоставление, отражающееся на последовательности изложения, возможно только в абстракции.
Скорее можно говорить о другом правиле, связанном со сложностью и неожиданностью того обобщения, которое делается на основе примеров. Если оно является сложным или просто неожиданным для слушателей, лучше подготовить его введение предшествующими ему примерами. Если обобщение в общих чертах известно слушателям и не звучит для них парадоксом, то примеры могут следовать за его введением в изложении.
Иллюстрация
Иллюстрация — это факт или частный случай, призванный укрепить убежденность слушающего в правильности уже известного и принятого общего положения.
Пример подталкивает мысль к новому обобщению и подкрепляет это обобщение. Иллюстрация проясняет известное общее положение, демонстрирует его значение с помощью ряда возможных применений, усиливает эффект его присутствия в сознании слушающего.
С различием задач примера и иллюстрации связано различие критериев выбора примеров и выбора иллюстраций.
Пример должен выглядеть достаточно твердым, однозначно трактуемым фактом. Иллюстрация вправе вызывать небольшие сомнения, но она должна особенно живо воздействовать на воображение слушателя, останавливая на себе внимание.
Различие между примером и иллюстрацией не всегда отчетливо. Не каждый раз удается решить, служит ли частный случай для обоснования общего положения или же такое положение излагается с опорой на подкрепляющие его примеры.
Часто иллюстрация выбирается с учетом того эмоционального резонанса, который она может вызвать. Так поступает, например, Аристотель, предпочитающий стиль периодический стилю связному, не имеющему ясно видимого конца:
«…потому что всякому хочется видеть конец; по этой-то причине [состязающиеся в беге] задыхаются и обессиливают на поворотах, между тем как раньше они не чувствовали утомления, видя перед собой предел бега».
Неудачный пример ставит под сомнение то общее положение, которое он призван подкрепить, а противоречащий пример способен даже опровергнуть общее положение. Иначе обстоит с дело неудачной, неадекватной иллюстрацией. Общее положение, к которому она приводится, не ставится под сомнение, и неадекватная иллюстрация расценивается скорее как негативная характеристика того, кто ее применяет, как свидетельство непонимания им общего принципа или его неумения подобрать удачную иллюстрацию.
Неадекватная иллюстрация способна произвести комический эффект («Надо уважать своих родителей. Когда один из них ругает вас, тут же ему возражайте»).
4. Образец
Образец — ссылка на поведение лица или группы лиц, которому надлежит следовать.
Образец принципиально отличается от примера: пример говорит о том, что есть в действительности и используется для поддержки описательных высказываний, образец говорит о том, что должно быть, и употребляется для подкрепления общих оценочных утверждений.
В силу своего особого общественного престижа образец не только поддерживает оценку, но и служит порукой выбранному типу поведения: следование общепринятому образцу гарантирует высокую оценку поведения в глазах общества.
Образцы играют исключительную роль в социальной жизни, в формировании и укреплении социальных ценностей. Человек, общество, эпоха во многом характеризуются теми образцами, которым они следуют, и тем, как эти образцы ими понимаются. Имеются образцы, предназначенные для всеобщего подражания, но есть и образцы, рассчитанные только на узкий круг людей. Своеобразным образцом является Дон Кихот: ему подражают именно потому, что он был способен самоотверженно следовать образцу, избранному им самим. Образцом может быть реальный человек, взятый во всем многообразии присущих ему свойств, но в качестве образца может выступать и поведение человека в определенной, достаточно узкой области: есть образцы любви к ближнему, любви к жизни, самопожертвования и т. п. Образцом может быть поведение вымышленного лица: литературного героя, героя мифа и т. д. Иногда такой герой выступает не как целостная личность, а демонстрирует своим поведением лишь отдельные добродетели. Можно, например, подражать Петру I или Пьеру Безухову, но можно также стремиться следовать в своем поведении альтруизму доктора П. Ф. Гааза, любвеобильности Дон Жуана и т. п.
Безразличие к образцу само способно выглядеть как образец: в пример иногда ставится тот, кто умеет избежать соблазна подражания. Если образцом выступает целостный человек, имеющий обычно не только достоинства, но и известные недостатки, нередко бывает, что его недостатки оказывают на поведение людей большее воздействие, чем его неоспоримые достоинства. Как заметил Б. Паскаль, «пример чистоты нравов Александра Македонского куда реже склоняет людей к воздержанности, нежели пример его пьянства — к распущенности. Совсем не зазорно быть менее добродетельным, чем он, и простительно быть столь же порочным».
Наряду с образцами существуют также антиобразцы. Задача последних — дать отталкивающие примеры поведения и тем самым отвратить от такого поведения. Воздействие антиобразца в случае некоторых людей оказывается даже более эффективным, чем воздействие образца. В качестве факторов, определяющих поведение, образец и антиобразец не вполне равноправны. Не все, что может быть сказано об образце, в равной мере приложимо также к антиобразцу, который является, как правило, менее определенным и может быть правильно истолкован только при сравнении его с определенным образцом: что значит не походить в своем поведении на Санчо Пансу, понятно лишь тому, кому известно поведение Дон Кихота.
Рассуждение, апеллирующее к образцу, по своей структуре напоминает рассуждение, обращающееся к примеру: «Если должно быть первое, то должно быть второе. Второе должно быть. Значит, должно быть первое». Это рассуждение идет от утверждения следствия условного высказывания к утверждению его основания и не является правильным дедуктивным умозаключением.
5. Аналогия
Существует интересный способ правдоподобного рассуждения, требующий не только ума, но и богатого воображения, исполненный поэтического полета, но не дающий твердого знания, а нередко и просто вводящий в заблуждение. Этот очень популярный способ — умозаключение по аналогии.
В широком смысле аналогия — сходство между предметами, явлениями и т. д. Умозаключение по аналогии — индуктивное умозаключение, в котором на основе сходства двух объектов в некоторых свойствах делается вывод об их сходстве в других свойствах.
«Умозаключение по аналогии» нередко просто называется «аналогией».
Ставший уже классическим пример жизни на Марсе наглядно демонстрирует простоту аналогии. Сторонники гипотезы о возможности жизни на Марсе рассуждают так. Между Марсом и Землей много общего: это две расположенные рядом планеты Солнечной системы, на обеих есть вода и атмосфера, не очень существенно различается температура на их поверхности и т. д. На Земле имеется жизнь. Поскольку Марс очень похож на Землю с точки зрения условий, необходимых для существования живого, значит, и на Марсе, по всей вероятности, есть жизнь. Этот пример подчеркивает принципиальную особенность умозаключения по аналогии: оно не дает достоверного знания. Есть ли жизнь на Марсе, нет ли там жизни — современной науке не известно. Сопоставление Земли и Марса, прослеживание их сходства не являются, конечно, доказательством существования жизни на Марсе. Это сопоставление, как бы далеко оно ни шло, способно дать только предположительное знание, гипотезу, нуждающуюся в прямой проверке.
Аналогия обладает слабой доказательной силой. Продолжение сходства может оказаться поверхностным или даже ошибочным. Однако доказательность и убедительность далеко не всегда совпадают. Нередко строгое, проводимое шаг за шагом доказательство оказывается неуместным и убеждает меньше, чем мимолетная, но образная и яркая аналогия. Доказательство — сильнодействующее средство исправления и углубления убеждений, в то время как аналогия подобна гомеопатическому лекарству, принимаемому ничтожными дозами, но вызывающему тем не менее заметный лечебный эффект. Аналогия — излюбленное средство убеждения в художественной литературе, которой по самой ее сути противопоказаны сильные, прямолинейные приемы убеждения. Аналогия широко используется также в обычной жизни, в моральном рассуждении, в идеологии и т. п. Аналогия — старое понятие, известное еще греческой науке и средневековому мышлению. И уже в древности было замечено, что уподобляться друг другу, соответствовать и быть сходными по своим свойствам могут не только предметы, но и отношения между ними.
Пионеры воздухоплавания не могли справиться с проблемой продольного изгиба крыльев своих летательных аппаратов. В 1895 г. Ф. Шаню сделал биплан с крыльями, соединенными стойками (подпорками). Конструкция была похожа на ажурный мост и не удивительно: Шаню был инженером-мостостроителем и увидел аналогию между своей профессией и проблемой укрепления крыльев аэроплана без их утяжеления.
Изобретатель паровой турбины Ч. Парсонс начал свою работу, исходя из аналогии между потоком пара и потоком воды в гидравлической турбине.
Уподобление крыла аэроплана — мосту и потока пара — потоку воды — это выявление сходных свойств разных объектов. Заметив это сходство, можно продолжить его и заключить, что сравниваемые предметы подобны и в других своих свойствах.
В хорошо известной планетарной модели атома его строение уподобляется строению Солнечной системы. Вокруг массивного ядра на разном расстоянии от него движутся по замкнутым траекториям легкие электроны, подобно тому как вокруг Солнца обращаются планеты. В этой аналогии устанавливается, как и обычно, сходство, но не самих предметов, а отношений между ними. Атомное ядро не похоже на Солнце, а электроны — на планеты. Но отношение между ядром и электронами во многом подобно отношению между Солнцем и планетами. Заметив это сходство, можно попытаться развить его и высказать, например, предположение, что электроны, как и планеты, движутся не по круговым, а по эллиптическим траекториям. Это будет умозаключение по аналогии, но опирающееся уже не на сходство свойств предметов, а на сходства отношений между в общем-то совершенно разными предметами.
У английского книгопечатника Д. Дантона был счастливый, но очень короткий брак: молодая его жена рано скончалась. Спустя всего полгода он, однако, вновь женился. В истории своей жизни Дантон оправдывал столь скорое утешение тем, то вторая жена была всего лишь повторением первой: «Я поменял только лицо, женские же добродетели в моем домашнем круге остались те же. Моя вторая жена не что иное как первая, но лишь в новом издании, исправленном и расширенном, и я бы сказал заново переплетенном». Здесь отношение новой жены к предыдущей уподобляется отношению второго издания книги к первому. Какое значение имеет то, что второе издание вышло сразу же вслед за первым? Любопытно заметить, что, как истинный любитель книги, Дантон ценит именно первое издание, несмотря на то, что оно утрачено.
В мире бесконечное множество сходных между собой вещей. Абстрактно говоря, при желании и достаточной фантазии можно отыскать сходство между двумя любыми произвольно взятыми объектами. Соседство в пространстве, в котором природа разместила две вещи, может казаться символом их смутной близости и отдаленного родства. Охотник и дичь определенно сходны, поскольку они находятся в отношении соперничества и являются как бы зеркальным отображением друг друга, и т. д.
Но если все можно уподобить всему, возникает вопрос: какие вещи или их отношения разумно, допустимо, целесообразно и т. п. уподоблять, а какие нет?
Очевидно, что однозначного ответа на этот вопрос не существует. Можно сказать, что разумность уподобления зависит в конечном счете от того контекста, от той ситуации, в которой сопоставляются предметы.
Как бы широко ни простиралось и как бы вольно ни истолковывалось сходство, оно никогда не будет полным и абсолютным.
Два близнеца очень похожи, но все-таки во многом они различаются. Настолько различаются, что родители, как правило, не путают их. Две буквы «е» в слове «веер» чрезвычайно похожи, и тем не менее они разные. Одна из них может оказаться пропечатанной слабее, чем другая; если даже типографски они окажутся совершенно идентичными, они все-таки различаются соседствующими с ними буквами или знаками (как в нашем случае). Если бы и в этом буквы «е» совпадали, они все равно остались бы различными: одна из них встречается в данном слове раньше другой. Если бы и этого не было, не было бы вообще двух букв, т. е. двух разных букв.
Сходство всегда сопряжено с различием и без различия не существует. В этом плане аналогия есть попытка продолжить сходство несходного.
Как только это осознается, встает самый важный вопрос, касающийся аналогии. Рассуждение по аналогии продолжает сходство, причем продолжает его в новом, неизвестном направлении. Не наткнется ли эта попытка расширить сходство на неожиданное различие? Как разумно продолжить и развить установленное начальное сходство? Каковы критерии или гарантии того, что подобные в чем-то объекты окажутся сходными и в других своих свойствах?
Умозаключение по аналогии не дает достоверного знания. Если посылки такого умозаключения истинны, это еще не означает, что и его заключение будет истинным: оно может быть истинным, но может оказаться и ложным.
Например: две девушки жили в одном доме, вместе ходили в школу, учились в одном институте, на одном факультете, обе мечтали стать космонавтами. Короче, во всем, не исключая мелочей, их биографии были похожи. Известно, что одна из них вышла замуж за архитектора. Можно ли, продолжая детальное и обширное сходство между девушками, сделать вывод, что и вторая из них одновременно вышла замуж за этого же архитектора? Разумеется, нет. Вероятность такого вывода была бы равна нулю.
Таким образом, при построении аналогии важно не столько обилие сходных черт объектов, сколько характер связи этих черт с переносимым признаком.
Кроме того, при проведении аналогии необходимо тщательно учитывать не только сходные черты сопоставляемых предметов, но и их различия. Как бы ни были подобны два предмета, они всегда в чем-то отличаются друг от друга. И если их различия внутренне связаны с признаком, который предполагается перенести с одного предмета на другой, аналогия неминуемо окажется маловероятной, а возможно вообще разрушится.
Аналогия в искусстве
Естественно, что такой романтический метод как рассуждение по аналогии, предполагающий богатое воображение и позволяющий сблизить самые отдаленные вещи, широко используется в художественной литературе.
Герои произведений, подобно всем иным людям, постоянно обращаются к аналогиям, убеждая с их помощью самих себя и окружающих. Авторы произведений нередко кладут вывод по аналогии в основу сюжета. Излюбленный прием литературных критиков — проведение параллелей между героями разных произведений и их авторами, сравнение мыслей и дел героев с убеждениями и обстоятельствами жизни их создателей и т. д. Иногда, и чаще незаметно для писателя, рассуждение по аналогии оказывается подтекстом всех описанных им событий, той незаметной нитью, которая связывает воедино внешне эксцентричные и, казалось бы, слабо мотивированные поступки героя.
В романе Р. Стивенсона «Остров сокровищ» описывается как пираты, возглавляемые Джоном Сильвером, вдруг услышали из ближайшей рощи чей-то голос. Они тут же решили, что это голос привидения. Сильвер первым пришел в себя: «— По-вашему, это — привидение? Может быть, и так, — сказал он. — Но меня смущает одно. Мы все явственно слышали эхо. А скажите, видел ли кто-нибудь, чтобы у привидения была тень? Если нет тени, значит, нет и эха. Иначе быть не может». Такие доводы, замечает мальчик, от лица которого ведется рассказ, кажутся слабыми. Но никогда нельзя предугадать, что сильнее всего подействует на суеверных людей.
Сильвер стремится убедить своих спутников, что услышанный ими голос принадлежит человеку, а не привидению. Он сопоставляет отношение тела к тени и отношение голоса к эху. Человеческое тело отбрасывает тень, голос человека вызывает эхо. У привидений, как тогда полагали, нет тела, а есть только его форма; рассуждая по аналогии, можно сказать, что их голос не имеет эха.
«Дон Кихот» М. Сервантеса — этот самый читаемый из всех когда-либо написанных романов — в сущности, является описанием одного большого рассуждения по аналогии. Дон Кихот начитался средневековых рыцарских романов и отправился в странствие, чтобы продолжить подвиги их героев. Он целиком живет в вымышленном мире прочитанных романов, беспрестанно советуется с их героями, чтобы знать, что делать и что говорить. Он не чудак, как думают многие, а человек долга, человек чести, так же как и рыцари, преемником которых он себя считает. Он пытается доказать, что его любимые романы правдивы. С этой целью он усердно устанавливает подобие между описанными в романах событиями и реальными ситуациями. Ветряные мельницы, стада, служанки, постоялые дворы оказываются для него великанами, замками, благородными дамами и воинством. Сопоставляя романы и жизнь, Дон Кихот переносит в реальную жизнь все то, что узнал из книг, ни на секунду не сомневаясь в правомерности такого переноса. Все, что с ним происходит, только подтверждает, как ему кажется, что рыцарские романы — безупречная модель окружающего его мира, а их язык — это язык самого мира.
Странствия и приключения Дон Кихота — это умозаключение по аналогии, воплощаемое не в слове, а в практическом, предметном действии. Самому Дон Кихоту проводимая им аналогия представляется безупречной. И только тем, кто находится рядом с ним — и, прежде всего, Санчо Пансе, — ясно, что параллели между миром рыцарских романов и реальной жизнью давно уже не существует.
И, наконец, последний пример — из воспоминаний С. Ермолинского о М. Булгакове. Сопоставляя пьесы Булгакова «Мольер» и «Пушкин» и его роман «Мастер и Маргарита», Ермолинский пишет, что в «Пушкине» возникал тревожный булгаковский мотив, тот же, что и в «Мольере», и в «Мастере и Маргарите». Недомолвки, шепотки, ловушки — вот атмосфера. Шеф жандармов Бенкендорф едва уловимо намекает, что дуэль между Пушкиным и Дантесом надо предотвратить, однако же… место дуэли может быть изменено: «Смотрите, чтобы люди не ошиблись, а то поедут не туда». Они поехали «не туда» и дуэль состоялась. У Понтия Пилата происходит, по сути, такая же сцена с начальником тайной полиции. Прокуратор выражает тревогу, что Иуду могут убить, надо бы проследить, чтобы с ним ничего не случилось, а начальник тайной полиции понимает, что это значит, и организовывает убийство. Полицейский мотив то и дело прорывается в произведениях, далеких друг от друга по времени и по жанру. Мольер окружен интригами Кабалы святош и предан своим учеником, которому верил. И вокруг Пушкина вьется паутина из доносчиков. Повыше — Бенкендорф, а ниже — богомазовы, долгорукие, наконец, в квартире, притворившийся часовщиком, свой, домашний шпион — Битков. У него появляется странное душевное влечение к Пушкину. Неловко сравнивать Биткова с римским прокуратором, потянувшимся к Иешуа, но у Биткова тоже помутилось сердце, заколдовали пушкинские строчки — «Буря мглою небо кроет…».
Здесь аналогия между несколькими произведениями одного и того же автора позволяет яснее понять идейный замысел каждого из них и подчеркнуть единство и своеобразие художественной манеры их автора.
Глава 10. Достаточные основания
Боясь… собственной тени и собственного невежества, не расставайся с надежным и верным основанием.
ПлатонНе следует требовать от оратора научных доказательств, точно так же как от математика не следует требовать эмоционального убеждения.
АристотельДоказательства ценятся по качеству, а не по количеству.
Латинская пословицаДоводы, до которых человек додумывается сам, обычно убеждают его больше, нежели те, которые пришли в голову другим.
Б. ПаскальТолько тот, кто ничего не смыслит в машинах, попытается ехать без бензина; только тот, кто ничего не смыслит в разуме, попытается размышлять без твердой, неоспоримой основы.
Г. Д. Честертон1. Принцип достаточного основания
Логическая культура, являющаяся важной составной частью общей культуры человека, включает многие компоненты. Но наиболее важным из них, соединяющим, как в оптическом фокусе, все другие компоненты, является умение рассуждать обоснованно.
Особую роль требование обоснованности знания играет в науке. В каждой конкретной научной дисциплине исторически складывается свой уровень точности и доказательности. Математическое доказательство не спутаешь с рассуждением историка, философа или психолога. Но к какой бы отрасли знания ни относилось то или иное положение, всегда предполагается, что имеются достаточные основания, в силу которых оно принимается и считается истинным.
Требование обоснованности относится и к нашему повседневному знанию. При всей неточности и аморфности последнего, оно также должно опираться на определенные, достаточно надежные основания. Пренебрежительное отношение к обоснованности высказываемых утверждений, фразерство и декларативность недопустимы не только в науке, но и в других областях.
Требование обоснованности знания обычно называют принципом достаточного основания. Впервые этот принцип в явном виде сформулировал немецкий философ и математик Г. Лейбниц. «Все существующее, — писал он, — имеет достаточные основания для своего существования», в силу чего ни одно явление не может считаться действительным, ни одно утверждение истинным или справедливым без указания его основания. Требование обоснования знания обсуждалось, однако, еще в античной философии, хотя особого имени оно не получило.
В самом общем смысле обосновать некоторое утверждение — значит привести те убедительные или достаточные основания, в силу которых оно должно быть принято. Обоснование теоретических положений является, как правило, сложным процессом, не сводимым к построению отдельного умозаключения или проведению одноактной эмпирической, опытной проверки. Обоснование обычно включает целую серию процедур, касающихся не только самого рассматриваемого положения, но и той системы утверждений, той теории, составным элементом которой оно является. Существенную роль в механизме обоснования играют дедуктивные умозаключения, хотя, как уже сказано, лишь в редких случаях процесс обоснования удается свести к умозаключению или цепочке умозаключений.
Все многообразные способы обоснования, обеспечивающие в конечном счете «достаточные основания» для принятия утверждения, можно разделить на эмпирические и теоретические. Первые опираются по преимуществу на опыт, вторые — на рассуждение. Различие между ними является, конечно, относительным, как относительна сама граница между эмпирическим и теоретическим знанием.
2. Прямое подтверждение
Эмпирические способы обоснования называются также подтверждением или верификацией (от лат. verus — истинный и facere — делать).
Прямое подтверждение — это непосредственное наблюдение тех явлений, о которых говорится в утверждении.
Хорошим примером такого подтверждения служит доказательство гипотезы о существовании планеты Нептун: вскоре после выдвижения гипотезы эту планету удалось увидеть в телескоп.
Французский астроном Ж. Леверье на основе изучения возмущений в орбите Урана теоретически предсказал существование Нептуна и указал, куда надо направить телескопы, чтобы увидеть новую планету. Когда самому Леверье предложили посмотреть в телескоп на найденную на «кончике пера» планету, он отказался: «Это меня не интересует, я и так точно знаю, что Нептун находится именно там, где и должен находиться, судя по вычислениям».
Это была, конечно, неоправданная самоуверенность. Как бы ни были точны вычисления Леверье, утверждение о существовании Нептуна оставалось до наблюдения этой планеты пусть высоковероятным, но только предположением, а не достоверным фактом. Могло оказаться, что возмущения в орбите Урана вызываются не неизвестной пока планетой, а какими-то иными факторами. Именно так и оказалось при исследовании возмущений в орбите другой планеты — Меркурия.
Иногда для подтверждения утверждения путем непосредственного наблюдения его нужно определенным образом «расшифровать» или «перевести». Если, к примеру, кто-то сказал: «She is tall and nice-looking», мы, не зная английского языка, не можем сказать, истинно это предложение или нет. После перевода («Она высокая и привлекательная») мы способны, конечно, определить, так это или нет. Некоторые утверждения и, в частности, те, которые включают определения и математические формулы, благодаря «переводу» могут оказываться описаниями наблюдений.
Чувственный опыт человека — его ощущения и восприятия — источник знания, связывающий его с миром. Обоснование путем ссылки на опыт дает уверенность в истинности таких утверждений как «Эта роза красная», «Холодно» и т. п.
Нетрудно, однако, заметить, что даже в таких простых констатациях нет «чистого» чувственного созерцания. У человека оно всегда пронизано мышлением, без понятий и без примеси рассуждения он не способен выразить даже самые простые свои наблюдения, зафиксировать самые очевидные факты.
Мы говорим, например, «Этот дом голубой», когда видим дом при нормальном освещении и наши чувства не расстроены. Но мы скажем «Этот дом кажется голубым», если мало света или мы сомневаемся в нашей способности наблюдения. К восприятию, к чувственным «данным» мы примешиваем определенное представление о том, какими видятся предметы в обычных условиях и каковы эти предметы в других обстоятельствах, в случае, когда наши чувства способны нас обмануть.
«Твердость» чувственного опыта, фактов является, таким образом, относительной. Нередки случаи, когда факты, представляющиеся поначалу достоверными, приходится — при их теоретическом переосмыслении — пересматривать, уточнять, а то и вовсе отбрасывать. На это обращал внимание русский биолог К. А. Тимирязев. «Иногда говорят, — писал он, — что гипотеза должна быть в согласии со всеми известными фактами; правильнее было бы сказать — или быть в состоянии обнаружить несостоятельность того, что неверно признается за факты и находится в противоречии с нею».
Кажется, например, несомненным, что если между экраном и точечным источником света поместить непрозрачный диск, то на экране образуется сплошной темный круг тени, отбрасываемый этим диском. Во всяком случае в начале прошлого века это представлялось очевидным фактом. Французский физик О. Френель выдвинул гипотезу, что свет — не поток частиц, а движение волн. Из гипотезы следовало, что в центре тени должно быть небольшое светлое пятно, поскольку волны, в отличие от частиц, способны огибать края диска. Получалось явное противоречие между гипотезой и фактом. В дальнейшем более тщательно поставленные опыты показали, что в центре тени действительно образуется светлое пятно. В итоге отброшенной оказалась не гипотеза Френеля, а казавшийся очевидным факт. Особенно сложно обстоит дело с фактами в науках о человеке и обществе. Проблема не только в том, что некоторые факты могут оказаться сомнительными, а то и просто несостоятельными. Она еще и в том, что полное значение факта и его конкретный смысл могут быть поняты только в определенном теоретическом контексте, при рассмотрении факта с какой-то общей точки зрения. Эту особую зависимость фактов гуманитарных наук от теорий, в рамках которых они устанавливаются и интерпретируются, не раз подчеркивал известный философ и филолог А. Ф. Лосев. В заметке «Реальность общего» он, в частности, писал: «Меня, как и всех, всегда учили: факты, факты, факты; самое главное — факты. От фактов — ни на шаг. Но жизнь меня научила другому. Я слишком часто убеждался, что все так называемые факты всегда случайны, неожиданны, текучи и ненадежны, часто непонятны. Поэтому мне волей-неволей часто приходилось не только иметь дело с фактами, но еще более того с теми общностями, без которых нельзя было понять и самих фактов».
Прямое подтверждение возможно лишь в случае утверждений о единичных объектах или ограниченных их совокупностях. Теоретические же положения обычно касаются неограниченных множеств вещей. Факты, используемые при таком подтверждении, далеко не всегда надежны и во многом зависят от общих, теоретических соображений. Нет ничего странного поэтому, что сфера приложения прямого наблюдения является довольно узкой.
Широко распространено убеждение, что в обосновании и опровержении утверждений главную и решающую роль играют факты, непосредственное наблюдение исследуемых объектов. Это убеждение нуждается, однако, в существенном уточнении. Приведение верных и неоспоримых фактов — надежный и успешный способ обоснования. Противопоставление таких фактов ложным или сомнительным положениям — хороший метод опровержения. Действительное явление, событие, не согласующееся со следствиями какого-то универсального положения, опровергает не только эти следствия, но и само положение. Факты, как известно, упрямая вещь. При подтверждении утверждений, относящихся к ограниченному кругу объектов, и опровержении ошибочных, оторванных от реальности, спекулятивных конструкций «упрямство фактов» проявляется особенно ярко.
И тем не менее факты, даже в этом узком своем применении, не обладают абсолютной твердостью. Они не составляют, даже взятые в совокупности, совершенно надежного, незыблемого фундамента для опирающегося на них знания. Факты значат много, но далеко не все. Как говорит французская пословица, к которой любил прибегать К. Маркс, «даже самая красивая девушка Франции может дать только то, что она имеет».
3. Подтверждение следствий
В науке, да и не только в ней, непосредственное наблюдение того, о чем говорится в проверяемом утверждении, редкость. Наиболее важным и вместе с тем универсальным способом подтверждения является выведение из обосновываемого положения логических следствий и их последующая опытная проверка. Подтверждение следствий оценивается при этом как свидетельство в пользу истинности самого положения.
Вот два примера такого подтверждения.
Тот, кто ясно мыслит, ясно говорит. Пробным камнем ясного мышления является умение передать свои знания кому-то другому, возможно, далекому от обсуждаемого предмета. Если человек обладает таким умением и его речь ясна и убедительна, это можно считать подтверждением того, что его мышление также является ясным.
Известно, что сильно охлажденный предмет в теплом помещении покрывается капельками росы. Если мы видим, что у человека, вошедшего в дом, тут же запотели очки, мы можем с достаточной уверенностью заключить, что на улице морозно.
В каждом из этих примеров рассуждение идет по схеме: «из первого вытекает второе; второе истинно; значит, первое также является, по всей вероятности, истинным»: «Если на улице мороз, у человека, вошедшего в дом, очки запотеют; очки и в самом деле запотели; значит, на улице мороз». Это — не дедуктивное рассуждение, истинность посылок не гарантирует здесь истинности заключения. Из посылок «если есть первое, то есть второе» и «есть второе» заключение «есть первое» вытекает только с некоторой вероятностью. Например, человек, у которого в теплом помещении запотели очки, мог специально охладить их, скажем, в холодильнике, чтобы затем внушить нам, будто на улице сильный мороз.
Выведение следствий и их подтверждение, взятое само по себе, никогда не в состоянии установить справедливость обосновываемого положения. Подтверждение следствия только повышает его вероятность. Но ясно, что далеко не безразлично, является выдвинутое положение маловероятным или же оно правдоподобно.
Чем большее число следствий нашло подтверждение, тем выше вероятность проверяемого утверждения. Отсюда — рекомендация выводить из выдвигаемых и требующих надельного фундамента положений как можно больше логических следствий с целью их проверки.
Значение имеет не только количество следствий, но и их характер. Чем более неожиданные следствия какого-то положения получают подтверждение, тем более сильный аргумент они дают в его поддержку. И наоборот, чем более ожидаемо в свете уже получивших подтверждение следствий новое следствие, тем меньше его вклад в обоснование проверяемого положения.
Общая теория относительности А. Эйнштейна предсказала своеобразный и неожиданный эффект: не только планеты вращаются вокруг Солнца, но и эллипсы, которые они описывают, должны очень медленно вращаться относительно Солнца. Это вращение тем больше, чем ближе планета к Солнцу. Для всех планет, кроме Меркурия, оно настолько мало, что не может быть уловлено. Эллипс Меркурия, ближайшей к Солнцу планеты, осуществляет полное вращение в 3 млн. лет, что удается обнаружить. И вращение этого эллипса действительно было открыто астрономами, причем задолго до Эйнштейна. Никакого объяснения такому вращению не находилось. Теория относительности не опиралась при своей формулировке на данное об орбите Меркурия. Поэтому, когда из ее гравитационных уравнений было выведено оказавшееся верным заключение о вращении эллипса Меркурия, это справедливо было расценено как важное свидетельство в пользу теории относительности.
Подтверждение неожиданных предсказаний, сделанных на основе какого-то положения, существенно повышает его правдоподобность. Однако, как бы ни было велико число подтверждающихся следствий и какими бы неожиданными, интересными или важными они не оказались, положение, из которого они выведены, все равно остается только вероятным. Никакие следствия не способны сделать его истинным. Даже самое простое утверждение в принципе не может быть доказано на основе одного подтверждения вытекающих из него следствий.
Это — центральный пункт всех рассуждений об эмпирическом подтверждении. Непосредственное наблюдение того, о чем говорится в утверждении, дает уверенность в истинности последнего. Но область применения такого наблюдения является ограниченной. Подтверждение следствий — универсальный прием, применимый ко всем утверждениям. Однако прием, только повышающий правдоподобие утверждения, но не делающий его достоверным.
Теоретическое знание не сводимо полностью к эмпирическому. Опыт не является абсолютным и бесспорным гарантом неопровержимости знания. Он тоже может критиковаться, проверяться и пересматриваться.
«В эмпирическом базисе объективной науки, — пишет К. Поппер, — нет ничего «абсолютного». Наука не покоится на твердом фундаменте фактов. Жесткая структура ее теорий поднимается, так сказать, над болотом. Она подобна зданию, воздвигнутому на сваях. Эти сваи забиваются в болото, но не достигают никакого естественного или «данного» основания. Если же мы перестали забивать сваи дальше, то вовсе не потому, что достигли твердой почвы. Мы останавливаемся просто тогда, когда убеждаемся, что сваи достаточно прочны и способны, по крайней мере некоторое время, выдерживать тяжесть нашей структуры».
Таким образом, если ограничить круг способов обоснования утверждений их прямым или косвенным подтверждением в опыте, то окажется непонятным, каким образом все-таки удается переходить от гипотез к теориям, от предположений к истинному знанию.
4. Теоретическое обоснование
Все общие положения, научные законы, принципы и т. п. не могут быть обоснованы чисто эмпирически, путем ссылки только на опыт. Они требуют также теоретического обоснования, опирающегося на рассуждение и отсылающего нас к другим принятым утверждениям. Без этого нет ни абстрактного теоретического знания, ни твердых, хорошо обоснованных убеждений.
Логическое выведение
Одним из важных способов теоретического обоснования утверждения является логическое выведение его из некоторых более общих положений. Если выдвинутое предположение удается логически (дедуктивно) вывести из каких-то установленных истин, это означает, что оно истинно.
Допустим, кто-то, не знакомый с азами теории электричества, высказывает догадку, что постоянный ток характеризуется не только силой, но и напряжением. Для подтверждения этой догадки достаточно открыть любой справочник и узнать, что всякий вообще ток имеет определенное напряжение. Из этого общего положения вытекает, что постоянный ток также имеет напряжение.
Обосновывая утверждение путем выведения его из других принятых положений, мы не делаем это утверждение абсолютно достоверным и неопровержимым. Но мы в полной мере переносим на него ту степень достоверности, которая присуща положениям, принимаемым в качестве посылок дедукции. Если, скажем, мы убеждены, что все люди смертны и что Иван Ильич, при всей его особенности и неповторимости, человек, мы обязаны признать также, что и он смертен.
Может показаться, что дедуктивное обоснование является, так сказать, лучшим из всех возможных способов обоснования, поскольку оно сообщает обосновываемому утверждению ту же твердость, какой обладают посылки, из которых оно выводится. Однако такая оценка была бы явно завышенной. Выведение новых положений из утвердившихся истин находит в процессе обоснования только ограниченное применение. Самые интересные и важные утверждения, нуждающиеся в обосновании, являются, как правило, наиболее общими и не могут быть получены в качестве следствий имеющихся истин. К тому же утверждения, требующие обоснования, обычно говорят об относительно новых, не изученных в деталях явлениях, не охватываемых еще универсальными принципами.
Условие совместимости
Обоснованное утверждение должно находиться в согласии с фактическим материалом, на базе которого и для объяснения которого оно выдвинуто. Оно должно соответствовать также имеющимся в рассматриваемой области законам, принципам, теориям и т. п. Это — так называемое условие совместимости.
Если, к примеру, кто-то предлагает детальный проект вечного двигателя, то нас в первую очередь заинтересуют не тонкости конструкции и не ее оригинальность, а то, знаком ли ее автор с законом сохранения энергии. Энергия, как хорошо известно, не возникает из ничего и не исчезает бесследно, она только переходит из одной формы в другую. Это означает, что вечный двигатель несовместим с одним из фундаментальных законов природы и, значит, в принципе невозможен, какой бы ни была его конструкция.
Являясь принципиально важным, условие совместимости не означает, конечно, что от каждого нового положения следует требовать полного, пассивного приспособления к тому, что сегодня принято считать «законом». Как и соответствие фактам, соответствие найденным теоретическим истинам не должно истолковываться чересчур прямолинейно. Может случиться, что новое знание заставит иначе посмотреть на то, что принималось раньше, уточнить или даже отбросить что-то из старого знания. Согласование с принятыми теориями разумно до тех пор, пока оно направлено на отыскание истины, а не на сохранение авторитета старой теории.
Новое положение должно находиться в согласии не только с хорошо зарекомендовавшими себя теориями, но и с определенными общими принципами, сложившимися в практике научных исследований. Эти принципы разнородны, они обладают разной степенью общности и конкретности, соответствие им желательно, но не обязательно.
Наиболее известный из них — принцип простоты. Он требует использовать при объяснении изучаемых явлений как можно меньше независимых допущений, причем последние должны быть возможно более простыми. Принцип простоты проходит через всю историю естественных наук. Многие крупнейшие естествоиспытатели указывали, что он неоднократно играл руководящую роль в их исследованиях. В частности, И. Ньютон выдвигал особое требование «не излишествовать» в причинах при объяснении явлений.
Вместе с тем понятие простоты не является однозначным. Можно говорить о простоте допущений, лежащих в основе теоретического обобщения, о независимости друг от друга таких допущений. Но простота может пониматься и как удобство манипулирования, легкость изучения и т. д. Не очевидно также, что стремление обойтись меньшим числом посылок, взятое само по себе, повышает надежность выводимого из них заключения.
«Казалось бы, разумно искать простейшее решение, — пишет американский логик и философ У. Куайн. — Но это предполагаемое свойство простоты намного легче почувствовать, чем описать». И тем не менее, продолжает он, действующие нормы простоты, как бы их ни было трудно сформулировать, играют все более важную роль. В компетенцию ученого входит обобщение и экстраполяция образцовых данных и, следовательно, постижение законов, покрывающих больше явлений, чем было учтено; и простота в его понимании как раз и есть то, что служит основанием для экстраполяции. Простота относится к сущности статистического вывода. Если данные ученого представлены в виде точек графа, а закон должен быть представлен в виде кривой, проходящей через эти точки, то он чертит самую плавную, самую простую кривую, какую только может. Он даже немного воздействует на точки, чтобы упростить задачу, оправдываясь неточностью измерений. Если он может получить более простую кривую, вообще опустив некоторые точки, он старается объяснить их особым образом. Чем бы ни была простота, она не просто увлечение.
Еще одним общим принципом, часто используемым при оценке выдвигаемых предположений, является так называемый принцип привычности. Он рекомендует избегать неоправданных новаций и стараться, насколько это возможно, объяснять новые явления с помощью известных законов. «Польза принципа привычности, — пишет У. Куайн, — для непрерывной активности творческого воображения является своего рода парадоксом. Консерватизм, предпочтение унаследованной или выработанной концептуальной схемы своей собственной проделанной работе является одновременно и защитной реакцией лени, и стратегией открытия». Если, однако, простота и консерватизм дают противоположные рекомендации, предпочтение должно быть отдано простоте.
Вырабатываемая наукой картина мира не предопределяется однозначно самими изучаемыми объектами. В этих условиях неполной определенности и разворачивается действие разнообразных общих рекомендаций, помогающих выбрать одно из нескольких конкурирующих представлений о мире.
Опровержимость, проверяемость, универсальность
Еще одним способом обоснования является анализ утверждения с точки зрения возможности эмпирического его подтверждения и опровержения.
От научных положений требуется, чтобы они допускали принципиальную возможность опровержения и предполагали определенные процедуры своего подтверждения. Если этого нет, относительно выдвинутого положения нельзя сказать, какие ситуации и факты несовместимы с ним, а какие — поддерживают его.
Положение, в принципе не допускающее опровержения и подтверждения, оказывается вне конструктивной критики, оно не намечает никаких реальных путей дальнейшего исследования.
Несопоставимое ни с опытом, ни с имеющимся знанием утверждение нельзя, конечно, признать обоснованным.
Если кто-то предсказывает, что завтра будет дождь или его не будет, то это предположение принципиально невозможно опровергнуть. Оно будет истинно как в случае, если на следующий день пойдет дождь, так и в случае, если его не будет. В любое время, независимо от состояния погоды, дождь или идет, или нет. Опровергнуть такого рода «прогноз погоды» никогда не удастся. Его нельзя также подтвердить.
Вряд ли можно назвать обоснованным и предположение, что ровно через десять лет в этом же месте будет солнечно и сухо. Оно не опирается ни на какие факты, нельзя даже представить, как можно было бы его опровергнуть или подтвердить если не сейчас, то хотя бы в недалеком будущем.
В начале этого века биолог Г. Дриш попытался ввести некую гипотетическую «жизненную силу», присущую только живым существам и заставляющую их вести себя так, как они себя ведут. Эта сила — Дриш назвал ее «энтелехией» — имеет будто бы различные виды, зависящие от стадии развития организмов. В простейших одноклеточных организмах энтелехия сравнительно проста. У человека она значительно больше, чем разум, потому что она ответственна за все то, что каждая клетка делает в теле. Дриш не определял чем энтелехия, допустим, дуба отличается от энтелехии козла или жирафа. Он просто говорил, что каждый организм имеет свою собственную энтелехию. Обычные законы биологии он истолковывал как проявления энтелехии. Если отрезать у морского ежа конечность определенным образом, то еж не выживет. Если отрезать другим способом, то еж выживет, но у него вырастет лишь неполная конечность. Если разрез сделать иначе и на определенной стадии роста морского ежа, то конечность восстановится полностью. Все эти зависимости, известные зоологам, Дриш истолковывал как свидетельства действия энтелехии.
Можно ли было проверить на опыте существование таинственной «жизненной силы»? Нет, поскольку ничем, кроме известного и объяснимого и без нее, она себя не проявляла. Она ничего не добавляла к научному объяснению и никакие конкретные факты не могли ее коснуться. Не имеющая принципиальной возможности эмпирического подтверждения, гипотеза энтелехии вскоре была оставлена как бесполезная.
Другим примером принципиально непроверяемого утверждения может служить предположение о существовании сверхъестественных, нематериальных объектов, которые никак себя не проявляют и ничем себя не обнаруживают.
Положения, в принципе не допускающие проверки, надо, конечно, отличать от тех утверждений, которые являются непроверяемыми лишь сегодня, на нынешнем уровне развития науки. Сто с небольшим лет назад представлялось очевидным, что мы никогда не узнаем химического состава отдаленных небесных тел. Различные гипотезы на этот счет казались принципиально непроверяемыми. Но после создания спектроскопии они сделались не только проверяемыми, но и перестали быть гипотезами, превратившись в экспериментально устанавливаемые факты.
Утверждения, не допускающие проверки сразу, не отбрасываются, если в принципе остается возможность проверки их в будущем. Но обычно такие утверждения не становятся предметом серьезных научных дискуссий.
Так обстоит дело, к примеру, с предположением о существовании внеземных цивилизаций, практическая возможность проверки которого пока что ничтожна.
К способам теоретического обоснования относится также проверка выдвинутого положения на возможность приложения его к широкому классу исследуемых объектов. Если утверждение, верное для одной области, оказывается достаточно универсальным и ведет к новым заключениям не только в исходной, но и в смежных областях, его объективная значимость заметно возрастает. Тенденция к экспансии, к расширению сферы своей применимости в большей или меньшей мере присуща всем плодотворным научным обобщениям.
Хорошим примером здесь может служить гипотеза квантов, выдвинутая М. Планком. В конце ХIХ века физики столкнулись с проблемой изучения так называемого абсолютно черного тела, т. е. тела, поглощающего все падающее на него излучение и ничего не отражающего. Чтобы избежать не имеющих физического смысла бесконечных величин излучаемой энергии, Планк предположил, что энергия излучается не непрерывно, а отдельными дискретными порциями-квантами. На первый взгляд гипотеза казалась объясняющей одно сравнительно частное явление — излучение абсолютно черного тела. Но если бы это действительно было так, то гипотеза квантов вряд ли удержалась бы в науке. На самом деле введение квантов оказалось необычайно плодотворным и быстро распространилось на целый ряд других областей. А. Эйнштейн разработал на основе идеи о квантах теорию фотоэффекта, Н. Бор — теорию атома водорода. В короткое время квантовая гипотеза объяснила из одного основания чрезвычайно широкое поле весьма различных явлений.
Расширение поля действия утверждения, его способность объяснять и предсказывать совершенно новые факты является несомненным и важным доводом в его поддержку. Подтверждение какого-то научного положения фактами и экспериментальными законами, о существовании которых до его выдвижения невозможно было даже предполагать, прямо говорит о том, что это положение схватывает глубокое внутреннее родство изучаемых явлений.
Системность обоснования
Трудно назвать утверждение, которое обосновывалось бы само по себе, в изоляции от других утверждений. Обоснование всегда носит системный характер. Включение нового положения в систему других положений, придающую устойчивость своим элементам, является одним из наиболее важных шагов в его обосновании.
Так, в нашем обществе все более утверждается полемичность как норма идейно-теоретической, духовной жизни. Требование обсуждать проблемы в духе правды, открытости, в атмосфере действительно свободного, творческого обмена мнениями обретает прочное основание, будучи включенным в систему представлений о демократическом обществе, предполагающем многообразие в суждениях, взаимоотношениях и деятельности людей, широкий диапазон убеждений и оценок.
Подтверждение следствий, вытекающих из теории, является одновременно и подкреплением самой теории. С другой стороны, теория сообщает выдвинутым на ее основе положениям определенные импульсы и силу и тем самым содействует их обоснованию. Утверждение, ставшее частью теории, опирается уже не только на отдельные факты, но во многом также на широкий круг явлений, объясняемых теорией, на предсказание ею новых, ранее неизвестных эффектов, на связи ее с другими научными теориями и т. д. Включив анализируемое положение в теорию, мы тем самым распространяем на него ту эмпирическую и теоретическую поддержку, какой обладает теория в целом.
Этот момент не раз отмечался философами и учеными, размышлявшими об обосновании знания.
Так, Л. Витгенштейн писал о целостности и системности знания: «Не изолированная аксиома бросается мне в глаза как очевидная, но целая система, в которой следствия и посылки взаимно поддерживают друг друга». Системность распространяется не только на теоретические положения, но и на данные опыта: «Можно сказать, что опыт учит нас каким-то утверждениям. Однако он учит нас не изолированным утверждениям, а целому множеству взаимозависимых предложений. Если бы они были разрознены, я, может быть, и сомневался бы в них, потому что у меня нет опыта, непосредственно связанного с каждым из них». Основания системы утверждений, замечает Витгенштейн, не поддерживают эту систему, но сами поддерживаются ею. Это значит, что надежность оснований определяется не ими самими по себе, а тем, что над ними может быть надстроена целостная теоретическая система. «Фундамент» знания оказывается как бы висящим в воздухе до тех пор, пока на нем не будет построено устойчивое здание. Утверждения научной теории взаимно переплетены и поддерживают друг друга. Они держатся, как люди в переполненном автобусе, когда подпирают со всех сторон и они не падают, потому что некуда упасть.
Поскольку теория сообщает входящим в нее утверждениям дополнительную поддержку, совершенствование теории, укрепление ее эмпирической базы и прояснение ее общих, в том числе философских предпосылок одновременно является вкладом в обоснование входящих в нее утверждений.
Среди способов прояснения теории особую роль играют выявление логических связей ее утверждений, минимизация ее исходных допущений, построение ее в форме аксиоматической системы и, наконец, если это возможно, ее формализация.
При аксиоматизации теории некоторые ее положения избираются в качестве исходных, а все остальные положения выводятся из них чисто логическим путем. Исходные положения, принимаемые без доказательства, называются аксиомами (постулатами), положения, доказываемые на их основе, — теоремами.
Аксиоматический метод систематизации и прояснения знания зародился еще в античности и приобрел большую известность благодаря «Началам» Евклида — первому аксиоматическому истолкованию геометрии. Сейчас аксиоматизация используется в математике, логике, а также в отдельных разделах физики, биологии и др. Аксиоматический метод требует высокого уровня развития аксиоматизируемой содержательной теории, ясных логических связей ее утверждений. С этим связана довольно узкая его применимость и наивность попыток перестроить всякую науку по образцу геометрии Евклида.
Кроме того, как показал австрийский логик и математик К. Гёдель, достаточно богатые научные теории (например, арифметика натуральных чисел) не допускают полной аксиоматизации. Это говорит об ограниченности аксиоматического метода и невозможности полной формализации научного знания.
5. Неуниверсальные способы обоснования
Неуниверсальная аргументация эффективна лишь в некоторых, но не всех аудиториях. Ее эффективность зависит от ситуации, или контекста, поэтому ее можно назвать также ситуативной или контекстуальной. Неуниверсальные способы аргументации охватывают аргументы к традиции и авторитету, к интуиции и вере, к здравому смыслу и вкусу и др.
Универсальная аргументация иногда характеризуется как «рациональная», а неуниверсальная — как «нерациональная» или даже как «иррациональная». Такое различение не является, конечно, оправданным. Оно резко сужает сферу «рационального», исключая из нее большую часть гуманитарных и практических рассуждений, немыслимых без использования «классики» (авторитетов), продолжения традиции, апелляции к здравому смыслу, вкусу и т. п. Неуниверсальная аргументация должна быть принята как необходимый составной элемент рациональной аргументации. Этого требует правильное понимание той конечности, которая господствует над человеческим бытием и историческим сознанием: человек погружен в историю, особенности его мышления и сам горизонт его мышления определяются эпохой. Каждый конкретный человек живет в своем настоящем, которое определяется не только универсальными закономерностями, но и своими собственными традициями, авторитетами, здравым смыслом, вкусом и т. д.
Особую роль контекстуальное обоснование играет в социально-гуманитарных науках. Причина этого — включенность данных наук в человеческую историю, особая роль в них понятия «настоящего».
Размышление о том, чем является истина в науках о духе, пишет современный немецкий философ Х. — Г. Гадамер о рациональности контекстуального обоснования, не должно стремиться к мыслительному выделению самого себя из исторического предания, связанность которым сделалась для него очевидной. Такое размышление должно, следовательно, поставить себе самому требование, добиться от себя наиболее возможной исторической ясности своих собственных посылок. Оно должно ясно сознавать, что его собственное понимание и истолкование не является чистым построением из принципов, но продолжением и развитием издалека идущего свершения. Оно не может поэтому просто и безотчетно пользоваться своими понятиями, но должно воспринять то, что дошло до него из их первоначального значения.
В случае контекстуальных способов обоснования речь нужно вести, однако, не столько о «науках о духе» (науках о культуре), как это делает Гадамер, сколько о науках, истолковывающих мир не как бытие (постоянное повторение одного и того же), а как становление, т. е непрерывное возникновение чего-то нового. Именно в последних науках всегда фигурирует «настоящее», от которого исследователь не в состоянии избавиться. Как раз они учитывают «стрелу времени», делающую контекстуальные аргументы необходимой составной частью всякого процесса обоснования. Что касается наук о культуре, то контекстуальное обоснование необходимо в них потому, что они предполагают не только «стрелу времени», но и оценки.
Традиция
Из всех контекстуальных аргументов наиболее употребляемым и наиболее значимым является аргумент к традиции. В сущности, все контекстуальные аргументы содержат в свернутом, имплицитном виде ссылку на традицию. Признаваемые авторитеты, интуиция, вера, здравый смысл, вкус и т. п. формируются исторической традицией и не могут существовать независимо от нее.
Традиция представляет собой анонимную, стихийно сложившуюся систему образцов, норм, правил и т. п., которой руководствуется в своем поведении достаточно обширная и устойчивая группа людей.
Традиция может быть настолько широкой, чтобы охватывать все общество в определенный период его развития. Наиболее популярные традиции, как правило, не осознаются теми, кто следует им. Особенно наглядно это проявляется в так называемом «традиционном» обществе, где традициями определяются все сколько-нибудь существенные стороны социальной жизни.
Традиция является формой передачи социальных ценностей и способом воздействия прошлого на настоящее.
Взаимодействие, говорит Г. Зиммель, сплетающее индивидов в их совместном бытии, постоянно пересекается с традицией, где определенное содержание переносится одним индивидом на другого, но не вызывает его противодействия. Это превращает общество в подлинно историческое образование: оно уже не только предмет истории, но прошлое еще обладает в нем действенной реальностью, в форме общественной традиции прошедшее становится основанием для определения настоящего. «Традиция, — пишет Зиммель, — поразительное и создающее, собственно говоря, всю культуру и духовную жизнь человечества явление, посредством которого содержание мышления, деятельности, созидания, а также чувствования становится самостоятельным по отношению к своему первоначальному носителю и может передаваться им дальше как материальный предмет. Это освобождение духовного продукта от его создателя — даже если этот продукт чисто духовен, если он состоит только в учениях, в религиозных идеях, в возможности распространения чувства или в выражениях чувства, — есть подлинное условие роста культуры. Ибо культура прежде всего создает возможность суммирования достижений человечества, ведет … к тому, что человек — не только потомок, но и наследник».
Чуткость аудитории к приводимым аргументам в значительной мере определяется теми традициями, которые она разделяет. Традиция закрепляет те наиболее общие допущения, в которые нужно верить, чтобы аргумент казался правдоподобным, создает ту предварительную установку, без которой он утрачивает свою силу.
«… Один и тот же аргумент, выражающий одно и то же отношение между понятиями и опирающийся на хорошо известные допущения, — отмечает П. Фейерабенд, — в одно время может быть признан и даже прославляться, в другое — не произвести никакого впечатления».
В качестве примера Фейерабенд приводит спор между сторонниками и противниками гипотезы Коперника. Стремление Коперника разработать такую систему мироздания, в которой каждая часть вполне соответствовала бы всем другим частям и в которой ничего нельзя было бы изменить, не разрушая целого, не могло найти отклика у тех, кто был убежден, что фундаментальные законы природы открываются нам в повседневном опыте, и кто, следовательно, рассматривал полемику между Аристотелем и Коперником как решающий аргумент против идей последнего. Из анализа индивидуальных реакций на учение Коперника следует, заключает Фейерабенд, что «аргумент становится эффективным только в том случае, если он подкреплен соответствующей предварительной установкой, и лишается силы, если такая установка отсутствует… Чисто формальных аргументов не существует».
Традиции имеют отчетливо выраженный двойственный, описательно-оценочный характер. В них аккумулируется предшествующий опыт успешной деятельности и они оказываются своеобразным его выражением. С другой стороны, они представляют собой проект и предписание будущего поведения. Традиции являются тем, что выражает пребывание человека в историческом времени, присутствие в «настоящем» как звене, соединяем прошлое и будущее.
То, что освящено преданием и обычаем, обладает безымянным авторитетом. Все наше историческое, постоянно меняющееся и конечное бытие определяется постоянным господством унаследованного от предков — а не только понятого на разумных основаниях — над нашими поступками и делами.
В значительной степени благодаря обычаям и преданию существуют нравы и этические установления. Все попытки основать систему морали на одном разуме, остаются абстрактными. Философы, начиная с Декарта, много раз обращались к проблеме рационально обоснованной системы морали, но, в сущности, ничего не достигли.
Безусловной противоположности между традицией и разумом не существует. Традиция завоевывает свое признание, опираясь, прежде всего, на познание и не требует слепого повиновения. Она не является также чем-то подобным природной данности, ограничивающей свободу действия и не допускающем критического обсуждения. Традиция — это точка пересечения человеческой свободы и человеческой истории.
У каждой традиции имеются свои способы привлечения сторонников. Традиция действительно способна усиливать или ослаблять значение аргументов и даже производить определенную их селекцию. В первую очередь это касается контекстуальной аргументации. Но возможности традиции являются ограниченными. Она может снизить воздействие универсальной аргументации, но не способна отменить ее полностью. Точно так же она не способна превращать любой аргумент в простую пропагандистскую уловку.
Авторитет
Аргументу к традиции близок аргумент к авторитету — ссылка на мнение или действие лица, прекрасно зарекомендовавшего себя в данной области своими суждениями или поступками. Традиция складывается стихийно и не имеет автора, авторитетом же является конкретное лицо.
Нужно различать авторитет эпистемический — авторитет знатока, специалиста в своей области, и авторитет деонтический — авторитет вышестоящего лица, имеющего право наказывать за непослушание. Мы верим прогнозу гидрометцентра потому, что считаем этот центр более сведущим в вопросах погоды, чем мы сами. Команда судна слушается своего капитана, поскольку он имеет деонтический авторитет: у него есть право наказывать за ослушание. Если судно тонет, капитан приобретает и эпистемический авторитет: команда осознает, что он самый опытный и знающий из всех членов экипажа.
Как известно, суть догматизма в стремлении всегда идти от затверженной доктрины к реальности, к практике и ни в коем случае не в обратном направлении. Догматик не способен заметить несовпадения идеи с изменившимися обстоятельствами. Он не останавливается даже перед тем, чтобы препарировать последние так, чтобы они оказались — или хотя бы казались — соответствующими идее.
Порождением и продолжением догматизма является авторитарное мышление. Оно усиливает и конкретизирует догматизм за счет поиска и комбинирования цитат, высказываний, изречений, принадлежащих признанным авторитетам. При этом последние канонизируются, превращаются в кумиров, не способных ошибаться и гарантирующих от ошибок тех, кто следует за ними.
Мышления беспредпосылочного, опирающегося только на себя, не существует. Всякое мышление исходит из определенных, явных или неявных, анализируемых или принимаемых без анализа предпосылок, ибо оно всегда опирается на прошлый опыт и его осмысление. Но предпосылочность теоретического мышления и его авторитарность не тождественны. Авторитарность — это особый, крайний, так сказать, вырожденный случай предпосылочности, когда функцию самого исследования и размышления пытаются почти полностью переложить на авторитет.
Авторитарное мышление еще до начала изучения конкретных проблем ограничивает себя определенной совокупностью «основополагающих» утверждений, тем образцом, который определяет основную линию исследования и во многом задает его результат. Изначальный образец не подлежит никакому сомнению и никакой модификации, во всяком случае в своей основе. Предполагается, что он содержит в зародыше решение каждой возникающей проблемы, или по крайней мере ключ к такому решению. Система идей, принимаемых в качестве образца, считается внутренне последовательной. Если образцов несколько, они признаются вполне согласующимися друг с другом.
Если все основное уже сказано авторитетом, на долю его последователя остается лишь интерпретация и комментарий известного. Мышление, плетущееся по проложенной другими колее, лишено творческого импульса не открывает новых путей.
Разумеется, авторитеты нужны, в том числе в теоретической сфере. Возможности отдельного человека ограничены, далеко не все они в состоянии самостоятельно проанализировать и проверить. Во многом он вынужден полагаться на мнения и суждения других.
Но полагаться следует не потому, что это сказано «тем-то», а потому, что сказанное представляется правильным. Слепая вера во всегдашнюю правоту авторитета, а тем более суеверное преклонение перед ним — плохо совместимы с поисками истины, добра и красоты, требующими непредвзятого, критичного ума. Как говорил Б. Паскаль, «ничто так не согласно с разумом, как его недоверие к себе».
Авторитарное мышление осуждается едва ли не всеми. И тем не менее такое «зашоренное мышление» далеко не редкость. Причин этому несколько. Одна из них уже упоминалась: человек не способен не только жить, но и мыслить в одиночку. Он остается «общественным существом» и в сфере мышления: рассуждения каждого индивида опираются на открытия и опыт других людей. Нередко бывает трудно уловить ту грань, где критическое, взвешенное восприятие переходит в неоправданное доверие к написанному и сказанному другими.
Американский предприниматель и организатор производства Г. Форд как-то заметил: «Для большинства людей наказанием является необходимость мыслить». Вряд ли это справедливо в отношении большинства, но определенно есть люди, больше склонные положиться на чужое мнение, чем искать самостоятельное решение. Намного легче плыть по течению, чем пытаться грести против него.
Некий дофин Франции никак не мог понять из объяснении своего преподавателя, почему сумма углов треугольника равна двум прямым углам. Наконец преподаватель воскликнул: «Я клянусь Вам, Ваше высочество, что она им равна!» «Почему же Вы мне сразу не объяснили столь убедительно?» — спросил дофин.
«Мы все ленивы и не любопытны», — сказал поэт, имея в виду, наверное, и нередкое нежелание размышлять самостоятельно. Случай с дофином, больше доверяющим клятве, чем геометрическому доказательству, — концентрированное выражение «лени и не любопытства», которые, случается, склоняют к пассивному следованию за авторитетом.
Однажды норвежская полиция, обеспокоенная распространением самодельных лекарств, поместила в газете объявление о недопустимости использовать лекарство, имеющее следующую рекламу: «Новое лекарственное средство Луризм-300х: спасает от облысения, излечивает все хронические болезни, экономит бензин, делает ткань пуленепробиваемой. Цена — всего 15 крон». Обещания, раздаваемые этой рекламой, абсурдны, к тому же слово «луризм» на местном жаргоне означало «недоумок». И тем не менее газета, опубликовавшая объявление, в ближайшие дни получила триста запросов на это лекарство с приложением нужной суммы.
Определенную роль в таком неожиданном повороте событий сыграли, конечно, вера и надежда на чудо, свойственные даже современному человеку, а также и характерное для многих доверие к авторитету печатного слова. Раз напечатано, значит верно, — такова одна из предпосылок авторитарного мышления. А ведь стоит только представить, сколько всякого рода небылиц и несуразностей печаталось в прошлом, чтобы не смотреть на напечатанное некритично.
Проблема авторитета сложна, у нее много аспектов. Здесь затронута только одна ее сторона — использование мнений, считаемых достаточно авторитетными, для целей обоснования новых положений. Закончить же этот раздел лучше всего, пожалуй, цитатой из «Литературных и житейских воспоминаний» И. С. Тургенева. Она убедительно говорит о том, как в молодости важно иметь наставника и каким должен быть подлинный авторитет: «Авторитет авторитету — рознь. Сколько я помню, никому из нас (я говорю об университетских товарищах) и в голову не пришло бы преклониться перед человеком потому только, что он богат или важен, или очень большой чин имел; это обаяние на нас не действовало — напротив… Даже великий ум нас не подкупал; нам нужен был вождь, и весьма свободные, чуть не республиканские убеждения отлично уживались в нас с восторженным благоговением перед людьми, в которых мы видели своих наставников и вождей. Скажу более: мне кажется, что такого рода энтузиазм, даже преувеличенный, свойственен молодому сердцу; едва ли оно в состоянии воспламениться отвлеченной идеей, как бы прекрасна и возвышенна она ни была, если эта самая идея не явится ему воплощенною в живом лице-наставнике… Независимость собственных мнений, бесспорно, дело почтенное и благое; не добившись ее, никто не может назваться человеком в истинном смысле слова; но в том-то и вопрос, что ее добиться надо, надо ее завоевать, как почти все хорошее на сей земле; а начать это завоевание всего удобнее под знаменем избранного вождя».
Интуиция
Интуицию обычно определяют как прямое усмотрение истины, постижение ее без всякого рассуждения и доказательства. Для интуиции типичны неожиданность, невероятность, непосредственная очевидность и неосознанность ведущего к ней пути.
Интуитивное обоснование представляет собой ссылку на непосредственную, интуитивную очевидность выдвигаемого положения.
Интуитивное обоснование в чистом виде является редкостью. В «непосредственном схватывании», внезапном озарении и прозрении много неясного и спорного. Философ науки М. Бунге говорит даже, что «интуиция — это коллекция хлама», куда мы сваливаем все интеллектуальные механизмы, о которых мы не знаем, как их проанализировать, или даже как точно их назвать, либо такие, анализ которых нас не интересует. Поэтому, как правило, для результата, найденного интуитивно, задним числом подыскиваются основания, кажущиеся более убедительными, чем простая ссылка на интуитивную очевидность.
Тем не менее интуиция существует и играет заметную роль в познании. Далеко не всегда процесс научного постижения мира осуществляется в развернутом, расчлененном на этапы виде. Нередко человек охватывает мыслью сложную ситуацию, не отдавая отчета во всех ее деталях, да и просто не обращая внимания на них. Особенно наглядно это проявляется в принятии новых научных теорий, в военных сражениях, при постановке диагноза, при установлении виновности и невиновности и т. п.
Роль интуиции и, соответственно, интуитивной аргументации в математике и логике трудно переоценить. Существенное значение имеет интуиция в социальном и гуманитарном познании.
Слово «интуиция» вошло в философию в качестве аналога древнегреческого термина, означающего познание предмета не по частям, а сразу, одним движением. В позднее средневековье интуиция означала по преимуществу познание того, что конкретно и единично, в противовес абстрактному познанию.
Некоторые средневековые философы противопоставляли интуицию и обычное мышления. Интуиция — это якобы божественный способ познания чего-нибудь одним лишь взглядом, в один миг, вне времени. Обычное же мышление — человеческий способ познания, состоящий в том, что в ходе некоторого рассуждения последовательно, шаг за шагом развертывается обоснование.
Голландским математиком Л. Э. Я. Брауэром в начале прошлого века была выдвинута интересная концепция интуиционизма. Математика, по Брауэру, — это деятельность мысленного конструирования математических объектов на основе чистой интуиции времени. Математика — автономный, находящий основание в самом себе вид человеческой деятельности. Она совершенно свободна от языка. Слова используются в математике лишь для передачи открытых истин. Последние не зависят от словесного одеяния, в которое их облекает язык, и не могут быть полностью выражены даже на особом математическом языке.
Общим для всех истолкований интуиции является признание непосредственного характера интуитивного знания — оно представляет собой знание без осознания путей и условий его получения.
Существует давняя традиция противопоставлять интуицию логике. Нередко интуиция ставится выше логики даже в математике, где роль строгих доказательств особенно велика.
Чтобы усовершенствовать метод в математике, говорил немецкий философ А. Шопенгауэр, необходимо прежде всего решительно отказаться от предрассудка — веры в то, будто доказанная истина превыше интуитивного знания. Паскаль проводил различие между «духом геометрии» и «духом проницательности». Первый выражает силу и прямоту ума, проявляющиеся в железной логике рассуждений, второй — широту ума, способность видеть глубже и прозревать истину как бы в озарении. Для Паскаля даже в науке «дух проницательности» независим от логики и стоит неизмеримо выше ее. Еще раньше некоторые математики утверждали, что интуитивное убеждение превосходит логику, подобно тому, как ослепительный блеск Солнца затмевает бледное сияние Луны.
Вряд ли такое неумеренное возвеличение интуиции в ущерб строгому логическому доказательству оправдано. Ближе к истине был, скорее, великий французский математик А. Пуанкаре, считавший, что логика и интуиция играют каждая свою необходимую роль. Обе они неизбежны. Логика, способная дать достоверность, есть орудие доказательства; интуиция есть орудие изобретательства.
Логика и интуиция не исключают и не подменяют друг друга. В реальном процессе познания они, как правило, тесно переплетаются, поддерживая и дополняя друг друга. Доказательство санкционирует и узаконивает завоевания интуиции оно сводит к минимуму риск противоречия и субъективности, которыми всегда чревато интуитивное озарение.
Логика, по выражению математика Г. Вейля, — это своего рода гигиена, позволяющая сохранять идеи здоровыми и сильными. Если интуиция — господин, а логика — всего лишь слуга, пишет другой математик М. Клайн, то это тот случай, когда слуга обладает определенной властью над своим господином. Логика сдерживает необузданную интуицию. Хотя интуиция играет в математике главную роль, все же сама по себе она может приводить к чрезмерно общим утверждениям. Надлежащие ограничения устанавливает логика. Интуиция отбрасывает всякую осторожность — логика учит сдержанности. Правда, приверженность логике приводит к длинным утверждениям с множеством оговорок и допущений и обычно требует множества теорем и доказательств, мелкими шажками преодолевая то расстояние, которое мощная интуиция перемахивает одним прыжком. Но на помощь интуиции, отважно захватившей расположенное перед мостом укрепление, необходимо выслать боевое охранение, иначе неприятель может окружить захваченную территорию, заставив нас отступить на исходные позиции.
Уточняя и закрепляя завоевания интуиции, логика вместе с тем сама обращается к ней в поисках поддержки и помощи. Логические принципы не являются чем-то заданным раз и навсегда. Они формируются в многовековой практике познания и преобразования мира и представляют собой очищение и систематизацию стихийно складывающихся «мыслительных привычек». Вырастая из аморфной и изменчивой дологической интуиции, из непосредственного, хотя и неясного «видения логического», эти принципы всегда остаются интимно связанными с изначальным, интуитивным «чувством логического». Не случайно строгое доказательство ничего не значит даже для математика, если результат остается непонятным ему интуитивно. Как заметил математик Л. Лебег, логика может заставить нас отвергнуть некоторые доказательства, но она не в силах заставить нас поверить ни в одно доказательство.
Логику и интуицию не следует, таким образом, направлять друг против друга. Каждая из них необходима на своем месте и в свое время. Внезапное интуитивное озарение способно открыть истины, вряд ли доступные строгому логическому рассуждению. Однако ссылка на интуицию не может служить твердым и тем более окончательным основанием для принятия каких-то утверждений. Интуиция дает интересные новые идеи, но нередко порождает также ошибки, вводит в заблуждение. Интуитивные догадки субъективны и неустойчивы, они нуждаются в логическом обосновании. Чтобы убедить в интуитивно схваченной истине не только других, но и самого себя, требуется развернутое рассуждение, доказательство.
С интуицией связан ряд явно ошибочных идей. Такова, в частности, идея, что без интуиции, во всяком случае, без интуиции интеллектуальной, можно обойтись. Человек способен познавать, только рассуждая, выводя заключения, и не может что-то знать непосредственно. Хорошими контрпримерами этому убеждению являются математика и логика, опирающиеся, в конечном счете, на интеллектуальную интуицию.
Ошибочно и представление, будто интуиция лежит в основе всего нашего знания, а разум играет только вспомогательную роль. Интуиция не может заменить разум даже в тех областях, где ее роль особенно существенна. Она не является непогрешимой, ее прозрения всегда нуждаются в критической проверке и обосновании, даже если речь идет о фундаментальных видах интуиции.
Интуиция никогда не является окончательной и ее результат обязательно подлежит критическому анализу. Даже в математике интуиция не всегда ясна. Как пишет представитель интуиционизма в математике А. Гейтинг, понятие интуитивной ясности в математике само не является интуитивно ясным. Можно даже построить нисходящую шкалу степеней очевидности. Высшую степень имеют такие утверждения, как 2 + 2 = 4. Однако 1002 + 2 = 1004 имеет более низкую степень; мы доказываем это утверждение не фактическим подсчетом, а с помощью рассуждения.
Интуиция может просто обманывать. На протяжении большей части XIX в. математики были интуитивно убеждены, что любая непрерывная функция имеет производную. Но К. Вейерштрасс доказал существование непрерывной функции, ни в одной точке не имеющей производной. Такая функция явно противоречила математической интуиции. Математическое рассуждение «исправило» интуицию и «дополнило» ее.
Интуиция меняется со временем и в значительной степени является продуктом культурного развития и успехов в дискурсивном мышлении. Интуиция Эйнштейна, касающаяся пространства и времени, явно отлична от соответствующих интуиций Ньютона или Канта. Интуиция специалиста, как правило, превосходит интуицию дилетанта.
Интуитивная аргументация обычна в математике и логике, хотя и здесь она редко является эксплицитной. Вместо оборота «Интуитивно очевидно, что …» изложение ведется так, как если бы апеллирующие к интуиции утверждения выделялись сами собой, уже одним тем, что в их поддержку не приводится никаких аргументов. Кроме того ссылка на чужие или ранее полученные результаты обычно является также неявным признанием того, что в их основе лежит интуиция.
Еще более замаскирована интуитивная аргументация в других областях. Интуитивно очевидное нередко выдается за бесспорное и доказательное и не ставится в ясную связь с интуицией.
Вера
Интуиции близка вера — глубокое, искреннее, эмоционально насыщенное убеждение в справедливости какого-то положения или концепции.
Вера заставляет принимать какие-то положения за достоверные и доказанные без критики и обсуждения. Как и интуиция, вера субъективна. В разные эпохи предметом искренней веры были диаметрально противоположные воззрения. То, во что когда-то свято верили все, спустя время большинству представлялось уже наивным предрассудком.
В отличие от интуиции вера затрагивает не только разум, но и эмоции. Нередко она захватывает всю душу и означает не только интеллектуальную убежденность, но и психологическую расположенность. Интуиция же, даже когда она является наглядно содержательной, затрагивает только разум. Если интуиция — это непосредственное усмотрение истины и добра, то вера — непосредственное тяготение к тому, что представляется истиной или добром.
Вера противоположна сомнению и отлична от знания. Если человек верит в какое-либо утверждение, он считает его истинным на основании соображений, которые представляются ему достаточными.
В зависимости от способа, каким оправдывается вера, различают рациональную и нерациональную веру. Последняя служит оправданием самой себе: сам факт веры считается достаточным для ее оправдания. Самодостаточную веру иногда называют «слепой». Например, религиозная вера в чудо не требует какого-либо обоснования чуда, помимо самого акта веры в него. Рациональная вера предполагает некоторые основания для своего принятия. Ни рациональная, ни тем более нерациональная вера не гарантируют истины. Из того, что кто-то твердо верит, что на Луне тоже есть жизнь, не вытекает, что она там действительно имеется. Рациональная вера может быть названа убеждением.
Соотношение знания и веры во многом является неясным. Очевидно только, что они существенно переплетены, нередко взаимно поддерживают друг друга и разделение их и отнесение к разным, не соприкасающимся друг с другое сторонам действительности может быть только временным и условным. Знание всегда подкрепляется интеллектуальным чувством субъекта. Предположения не становятся частью науки до тех пор, пока их кто-нибудь не выскажет и не заставит в них поверить.
Как всякое интеллектуальное действие, искреннее убеждение всегда несет в себе также эмоциональную нагрузку, пишет М. Полани. С его помощью мы стараемся уверить, убедить тех, кому мы адресуем свою речь. Нам памятны крики безумного ликования, дошедшие до нас благодаря записям Кеплера, которые он сделал в предвкушении открытия; мы знаем много других подобных проявлений в ситуациях, когда людям только казалось, что они приблизились к открытию; нам известно также с какой силой великие пионеры науки, такие как Пастер, отстаивали свои взгляды перед лицом критики. Врач, который ставит серьезный диагноз в сложном случае, или член суда, выносящий приговор в сомнительном деле, чувствуют тяжелейший груз личной ответственности. В обычных ситуациях, когда нет ни оппонентов, ни сомнений, такие страсти спят, но не отсутствуют вовсе; всякая искренняя констатация факта сопровождается чувством интеллектуального удовлетворения или стремлением постичь что-то, а также ощущением личной ответственности.
Ссылка на твердую веру, решительную убежденность в правильности какого-либо положения может использоваться в качестве аргумента в пользу принятия этого положения.
Однако аргумент к вере кажется убедительным и веским, как правило, лишь тем, кто разделяет эту веру или склоняется к ее принятию. Другим аргумент от веры может казаться субъективным или почти что пустым: верить можно и в самые нелепые утверждения.
Тем не менее, встречаются, как замечает Л. Витгенштейн, ситуации, когда аргумент к вере оказывается едва ли не единственным. Это — ситуации радикального инакомыслия, непримиримого «разноверия». Обратить инакомыслящего разумными доводами невозможно. В таком случае остается только крепко держаться за свою веру и объявить противоречащие взгляды еретическими, безумными и т. п. Там, где рассуждения и доводы бессильны, выражение твердой, неотступной убежденности может сыграть со временем какую-то роль. Если аргумент к вере заставит все-таки инакомыслящего присоединиться к противоположным убеждениям, это не будет означать, конечно, что данные убеждения по каким-то межсубъективным основаниям предпочтительнее.
Аргумент к вере только в редких случаях выступает в явном виде. Обычно он только подразумевается и только слабость или неотчетливость приводимых прямо аргументов косвенно показывает, что за их спиной стоит неявный аргумент к вере.
Средневековый комментатор Д. Картузианец так раскрывает идею, что мрак — это сокровеннейшая сущность бога: «Чем более дух близится к сверхблистающему божественному твоему свету, тем полнее обнаруживаются для него твоя неприступность и непостижимость, и когда он вступает во тьму, то вскоре и совсем исчезают все имена и все знания. Но ведь это и значит для духа узнать тебя: узреть вовсе незримого; и чем яснее зрит он сие, тем более светлым он тебя прозревает. Сподобиться стать этой сверхсветлою тьмою — о том тебя молим, о, преблагословенная Троица, и дабы через незримость и неведение узреть и познать тебя, ибо пребываешь сверх всякого облика и всякого знания. И взору тех лишь являешься, кои, все ощутимое и все постижимое и все сотворенное, равно как и себя самих, преодолев и отринув, во тьму вступили, в ней же истинно пребываешь».
Здесь только один явный аргумент, понятный средневековой аудитории — ссылка на авторитет. В Библии сказано: «И содеял мрак покровом Своим». Другим, подразумеваемым доводом является аргумент к вере: тому, кто уже верит, что бог непредставим и невыразим, могут показаться убедительными и свет, обращающийся во мрак («сверхсветлая тьма»), и отказ от всякого знания («узрение и познание через незримость и неведение»).
Иногда аргумент к вере маскируется специально, чтобы создать впечатление, будто убедительность рассуждения зависит только от него самого, а не от убеждений аудитории.
Фома Аквинский пытался строго разделить то, что может быть доказано при помощи разума, и то, что требует для своего доказательства авторитета Священного писания. Б. Рассел упрекает св. Фому в неискренности: вывод к которому тот должен прийти, определен им заранее. Возьмем, например, вопрос о нерасторжимости брака. Нерасторжимость брака защищается св. Фомой на основании того, что отец необходим в воспитании детей: потому что он разумнее матери; потому что, обладая большей силой, он лучше справится с задачей физического наказания. На это современный педагог мог бы возразить, что нет никаких оснований считать мужчин в целом более разумными, чем женщины, и что наказания, требующие большой физической силы, вообще нежелательны в воспитании. Современный педагог мог бы пойти еще дальше и указать, что в современном мире отцы вообще вряд ли принимают серьезное участие в воспитании детей.
Таким образом, аргумент к вере не так редок и не так предосудителен, как это может показаться. Он встречается и в науке, особенно в периоды ее кризисов. Он неизбежен при обсуждении многих общих вопросов, таких, как скажем, вопрос о будущем человечества. Аргумент к вере обычен в общении людей, придерживающихся какой-либо общей системы веры. Как и все контекстуальные аргументы, он нуждается в определенной, сочувственно воспринимающей его аудитории. В другой аудитории он может оказаться не только неубедительным, но и попросту неуместным.
Французский социолог Э. Дюркгейм высказывал убеждение, что вся наука держится на коллективной вере, или коллективном мнении. Социальная жизнь порождает коллективное мышление, совершенно отличное по своей природе от индивидуального мышления. Коллективное мышление включает определенные коллективные взгляды, или представления. Они навязываются индивидам в качестве концептов, определяющих приемлемый для общества способ формирования знания о мире. Власть науки становится реальностью только тогда, когда этого хочет общество. Далеко не все научные положения, даже когда они построены по всем правилам науки, пользуются влиянием исключительно благодаря своей объективной ценности. Положениям недостаточно быть истинными, чтобы пользоваться доверием. Если они не находятся в согласии с другими верованиями, мнениями, словом, с совокупностью коллективных представлений, они будут отвергнуты; умы для них будут закрыты; следовательно, будет так, как если бы их не было, если сегодня, в общем, им достаточно нести на себе печать науки, чтобы пользоваться доверием, значит, мы верим в науку. Но эта вера, по существу, сродни религиозной. Ценность, придаваемая нами науке, в общем и целом зависит от коллективно вырабатываемого нами представления о ее природе и роли в жизни. Это значит, что она выражает состояние мнения. В самом деле, как и все в общественной жизни, наука держится на мнении. Мнение можно рассматривать в качестве объекта науки, к этому в основном и сводится социология. Однако наука о мнении не создает мнения, она может лишь его прояснить. На этом пути она действительно может быть причиной его изменения. Но наука продолжает зависеть от мнения и в то время, когда она, как кажется, повелевает им, — ибо мнение снабжает ее силой, необходимой для воздействия на мнение.
Дюркгейм прав, что если в каком-то обществе нет веры в науку и в эффективность ее методов, все научные доказательства теряют свою силу. Однако вера в науку только внешне напоминает религиозную веру. Вера в существование особого небесного мира основывается на совершенно ином фундаменте, чем вера в науку. Научные способы обоснования инородны для религии. Наука, в отличие от религии, ориентируется на истину и объективность. Если в некотором обществе ослабевает или вообще исчезает вера в науку, установленные ею результаты тем не менее сохраняют свое значение, хотя и не в этом обществе. Отсутствие веры в науку способно ослабить или даже лишить силы научную аргументацию, но наука держится вовсе не на коллективной вере в нее. Аргумент к вере, центральный в религии, в науке всегда имеет вспомогательный и преходящий характер. Аргумент к коллективной вере саму науку вообще может быть элективным, пожалуй, только за пределами научного сообщества.
Аргумент к вере был в свое время основательно скомпрометирован противопоставлением веры и, прежде всего, религиозной веры, разуму, тем, что «конкретная реальность» веры ставилась выше «абстрактным истин умозрения».
«Верую, чтобы понимать», — заявляли в средние века Августин и Ансельм Кентерберийский. Христианский теолог Тертуллиан силу веры измерял именно несоизмеримостью ее с разумом: легко верить в то, что подтверждается и рассуждением; но нужна особенно сильная вера, чтобы верить в то, что противостоит и противоречит разуму. Только вера способна заставить, по Тертуллиану принять логически недоказуемое и нелепое: «Сын божий распят; нам не стыдно, ибо полагалось бы стыдиться. И умер сын божий; это вполне достоверно, ибо ни с чем несообразно. И после погребения он воскрес; это несомненно, ибо невозможно». Но уже в начале XII в. философ и теолог П. Абеляр поставил разум и опирающееся на него понимание перед верой. Выдвинутая им максима «Понимаю, чтобы верить» — ключ к истолкованию соотношения разума и веры.
Бездоказательная вера является антиподом знания, к которому она обычно относится с недоверием, а то и с неприязнью. Отстаивающие такую веру усматривают ее преимущество в том, что она крепка и активна, ибо идет из глубин души, охватывает и выражает ее всю, в то время как теоретизирующий разум односторонен, поверхностен и неустойчив. Но этот довод малоубедителен. Прежде всего, самые надежные истины, подобные истинам математики и физики, открываются именно разумом, а не верой; не следует, далее, путать веру, требующую, скажем признания чудес, с верой как глубокой убежденностью, являющейся следствием исторического или жизненного опыта.
Аргумент к вере достаточно обычен в естественнонаучных теориях в период их зарождения и укрепления. Однако, как только находят более надежные основания, чем вера, они легко расстаются с апелляцией к вере. Сложнее обстоит дело в случае социальных теорий, особенно тех теорий, которые касаются острых проблем социальной жизни. Объем и формы равенства людей, их свободы, необходимые в конкретном обществе формы справедливости, способы распределения богатства, степень эксплуатации одними людьми других и т. п. — все это те проблемы, которые даже в случае, казалось бы, хорошо обоснованных социальных концепций во многом остаются предметом веры.
Здравый смысл
Здравый смысл можно примерным способом охарактеризовать как общее, присущее каждому человеку чувство истины к справедливости, приобретаемое с жизненным опытом.
Здравый смысл в основе своей не столько знание, сколько способ отбора знания, то общее освещение, благодаря которому в знании различаются главное и второстепенное и обрисовываются крайности.
Здравый смысл играет особую роль в социальной и гуманитарной аргументации и при обсуждении всех проблем, касающихся жизни и деятельности человека.
Аргумент к здравому смыслу — это обращение с целью поддержки выдвигаемого положения к чувству здравого смысла, несомненно имеющемуся у аудитории.
Апелляция к здравому смыслу высоко ценилась в античности и шла в русле противопоставления мудрости («софии») и практического знания («фронесис»). Это противопоставление было теоретически разработано Аристотелем и развито его последователями до уровня критики теоретического жизненного идеала.
Практическое знание, руководящее поступками человека, — это особый, самостоятельный тип знания. Практическое знание направлено на конкретную ситуацию и требует учета «обстоятельств» в их бесконечном разнообразии. Жизнь не строится, исходя из теоретических начал и общих принципов, она конкретна и руководствуется конкретным знанием, оцениваемым с точки зрения здравого смысла.
В схоластике, например, у Ф. Аквинского, здравый смысл — это общая основа внешних чувств, а также опирающейся на них способности судить о данном, присущей всем людям.
Важную роль отводил здравому смыслу Д. Вико, истолковывавший его как общее чувство истины и права. На этом чувстве Вико основывал значение красноречия и его право на самостоятельность. Воспитание не может идти путем критического исследования и нуждается в образах для развития фантазии. Изучение наук не способно дать этого и нуждается в дополнении искусством находить аргументы. Это искусство служит для развития чувства убежденности, функционирующего инстинктивно и мгновенно и не заменяемого наукой. Здравый смысл, по Вико, — это чувство правильности и общего блага, которое живет во всех людях, но в еще большей степени это чувство, получаемое благодаря общности жизни, благодаря ее укладу и целям. Здравый смысл направлен против теоретических спекуляций философов и определяет своеобразие исследования в социальных и гуманитарных науках. Их предмет — моральное и историческое существование человека, обнаруживающееся в его деяниях. Само это существование решающим образом определяется здравым смыслом.
Моральные мотивы в понятии здравого смысла подчеркивал А. Бергсон. В его определении указывается, что, хотя здравый смысл и связан и чувствами, но реализуется на социальном уровне. Чувства ставят нас в какое-то отношение к вещам, здравый смысл руководит отношениями с людьми. Он не столько дар, сколько постоянная корректировка вечно новых ситуаций, работа по приспособлению к действительности общих принципов.
Существенное значение придает здравому смыслу современная философская герменевтика, выступающая против его интеллектуализации и сведения его до уровня простой поправки: то, что в чувствах, суждениях и выводах противоречит здравому смыслу, не может быть правильным.
Здравый смысл — одно из ведущих начал человеческой жизни. Она разворачивается не под действием науки, философии или каких-то общих принципов, а под решающим воздействием здравого смысла. Именно поэтому он необходим представителям социальных и гуманитарных наук, исследующим моральное и историческое существование человека.
Здравый смысл проявляется в суждениях о правильном и неправильном, годном и негодном, справедливом и несправедливом.
Обладатель здравого суждения не просто способен определять особенное с точки зрения общего, но знает, к чему оно действительно относится, то есть видит вещи с правильной, справедливой, здоровой точки зрения. Авантюрист, правильно рассчитывающий людские слабости и всегда верно выбирающий объект для своих обманов, тем не менее не является носителем здравого суждения в полном смысле слова.
Приложим здравый смысл, прежде всего, в общественных, практических делах. С его помощью судят, опираясь не на общие предписания разума, а скорее на убедительные примеры. Поэтому решающее значение для него имеет история и опыт жизни.
Здравому смыслу нельзя выучить, в нем можно только упражняться. Он имеет двойственный, описательно-оценочный характер: с одной стороны, опирается на прошлые события, а с другой, является наброском, проектом будущего.
С изменением общественной жизни и человека меняется и здравый смысл. Так в древности сны представлялись обычному человеку одним из важнейших выражений его души, материалом для предсказания будущего. В эпоху Просвещения идея о том, что сны могут быть вещими, уже казалась предрассудком: в них видели преимущественно отражение соматических факторов и избыток душевных страстей. Позднее снова начала усматриваться связь между характером человека и его сновидениями: в сновидениях отражается характер и особенно те его стороны, которые не проявляются наяву: во сне человеком осознаются скрытые мотивы его действий, и потому, толкуя сновидения, можно предсказать его будущие действия. Как говорил З. Фрейд, «сновидения — это царская дорога к бессознательному».
Здравый смысл способен впадать в заблуждение, но это, как правило, своеобразное заблуждение: оно является ошибкой не столько с точки зрения того контекста, в котором сформировался здравый смысл, сколько с точки зрения последующего периода, порождающего новые представления здравого смысла. Так обстоит, в частности, дело с пренебрежительным отношением античного и средневекового человека к науке и ученым.
«Все методы, все предпосылки нашей сегодняшней научной мысли, — жалуется Ф. Ницше, — тысячелетиями вызывали глубочайшее презрение; ученый не допускался в общество «приличных» людей — считался «врагом бога», презирающим истину, считался «одержимым»… Весь пафос человечества, все понятия о том, чем должна быть истина, чем должно быть служение науке, — все было против нас; произнося «ты обязан!..», всегда обращали эти слова против нас… Наши объекты, наши приемы, наш нешумный, недоверчивый подход к вещам… Все казалось совершенно недостойным, презренным… В конце концов, чтобы не быть несправедливым, хочется спросить, не эстетический ли вкус столь долгое время ослеплял человечество; вкус требовал, чтобы истина была картинной; от человека вкус равным образом требовал, чтобы он энергично воздействовал на наши органы чувств. Скромность шла вразрез со вкусом…».
Дело здесь, конечно, не в грубом эстетическом вкусе, требующем от ученых и науки «истин-картин», а в отдаленности античной и средневековой науки от основного потока социальной жизни, в скудости результатов этой науки и их несущественности с точки зрения реальной практической деятельности. Наука должна была обнаружить себя как важное измерение повседневной жизни, чтобы здравый смысл смог изменить о ней свое мнение. Здравый смысл служит своей эпохе, и значимость его суждений не выходит за пределы этой эпохи.
Хотя здравый смысл касается в первую очередь социальной жизни, по своей природе он более универсален, так как способен судить о любой деятельности и ее результатах, включая теоретическую деятельность и ее результаты — сменяющие друг друга теории и концепции.
Однако в естественнонаучной области здравый смысл является, как правило, ненадежным советчиком: от современных естественнонаучных теорий резоннее требовать парадоксальности, разрыва с ортодоксальным, чем соответствия устоявшимся представлениям о мире. Аргумент к здравому смыслу применим здесь только на первых этапах развития научных теорий. Дальнейшее обсуждение здравого смысла и вкуса существенно опирается на эту работу. В достаточно зрелой естественнонаучной теории апелляция к здравому смыслу является редкой и ненадежной. Такие теории всегда стремятся абстрагироваться от своей истории и вынести ее за скобки. Для суждений здравого смысла, непосредственно связанных с историей и меняющихся вместе с нею, не остается тем самым места.
Вкус
Аргументация к вкусу — это обращение к чувству вкуса, имеющемуся у аудитории и способному склонить ее к принятию выдвинутого положения.
Понятие вкуса существенно уже понятия здравого смысла. Вкус касается только совершенства каких-то вещей и опирается на непосредственное чувство, а не на рассуждение. Кант характеризовал вкус как «чувственное определение совершенства» и видел в нем основание своей критики способности суждения.
Понятие вкуса первоначально было моральным и лишь впоследствии его употребление сузилось до эстетической сферы «прекрасной духовности».
Идея человека, обладающего вкусом, пришла в ХVII в. на смену христианскому идеалу придворного и была идеалом так называемого «образованного общества».
Вкус — это не только идеал, провозглашенный новым обществом, пишет Гадамер, это в первую очередь образующийся под знаком этого идеала «хороший вкус», то, что отныне отличает «хорошее общество». Оно узнается и узаконивается теперь не по рождению и рангу, а в основном благодаря общности суждений или, вернее, благодаря тому, что вообще умеет возвыситься над ограниченностью интересов и частностью пристрастий до уровня потребности в суждении.
Хороший вкус не является субъективным, он предполагает способность дистанциироваться от себя самого и групповых пристрастий.
Вкус по самой сокровенной своей сущности не есть нечто приватное. Это общественный феномен первого ранга. Он в состоянии даже выступать против частной склонности отдельного лица подобно судебной инстанции по имени «всеобщность», которую он представляет и мнение которой он выражает. Можно отдавать чему-то предпочтение несмотря на неприятие этого собственным вкусом.
Вкус — это не простое своеобразие подхода индивида к оцениваемому им явлению. Вкус всегда стремится к тому, чтобы стать хорошим и реализовать свое притязание на всеобщность.
Хороший вкус уверен в своем суждении, он принимает и отвергает, не зная колебаний, не оглядываясь на других и не подыскивая оснований. Вкус в чем-то приближается к чувству. Он не располагает познанием, на чем-то основанном. Если в делах вкуса что-то негативно, он не в состоянии сказать почему. Но узнает он это с величайшей уверенностью. Следовательно, уверенность вкуса — это уверенность в безвкусице. Определение вкуса состоит, прежде всего, в том, что его уязвляет все ему противоречащее, и он уходит от этого, как избегают всего, что грозит травмой.
Понятию хорошего вкуса противостоит понятие отсутствия вкуса, а не понятие плохого вкуса. Хороший вкус — это такой тип восприятия, при котором все утрированное избегается так естественно, что эта реакция, по меньшей мере, непонятна тем, у кого нет вкуса.
Широко распространено мнение, что о вкусах не спорят: приговор вкуса обладает своеобразной непререкаемостью. Кант полагал, что в этой сфере возможен спор, но не диспут. Причину того, что в вопросах вкуса нет возможности аргументировать, Гадамер видит в непосредственности вкуса и несводимости его к каким-то другим и в особенности понятийным основаниям: это происходит не потому, что невозможно найти понятийно всеобщие масштабы, которые всеми с необходимостью принимаются, а потому, что их даже не ищут, и ведь их невозможно правильно отыскать, даже если бы они и были. Нужно иметь вкус, его невозможно преподать путем демонстрации и нельзя заменить простым подражанием.
Принцип «о вкусах не спорят» не кажется верным в своей общей формулировке. Споры о вкусах достаточно обычны, эстетика и художественная критика состоят по преимуществу из таких споров. Когда выражается сомнение в их возможности или эффективности, имеются в виду, скорее, лишь особые случаи спора, не приложимые к суждениям вкуса.
Действительно, о вкусах невозможно вести дискуссию — спор, направленный на поиски истины и ограничивающийся только корректными средствами аргументации. О вкусах невозможен также эклектический спор, тоже ориентирующийся на истину, но использующий и некорректные приемы. Суждения вкуса являются оценками: они определяют степень совершенства рассматриваемых объектов. Как и всякие оценки, эти суждения не могут быть предметом дискуссии или эклектического спора. Но об оценках возможна полемика — спор, цель которого — победа над другой стороной и который пользуется только корректными приемами аргументации. Оценки и, в частности, суждения вкуса могут быть также предметом софистического спора, тоже ориентированного на победу, но использующего и некорректные приемы.
Идея, что вкусы лежат вне сферы аргументации, нуждается, таким образом, в серьезной оговорке. О вкусах можно спорить, но лишь с намерением добиться победы, утверждения своей системы оценок, примем спорить не только некорректно, но и вполне корректно.
Мода
Вкус всегда претендует на общую значимость. Это особенно наглядно проявляется в феномене моды, тесно связанной со вкусом. Мода касается быстро меняющихся вещей и воплощает в себе не только вкус, но и определенный, общий для многих способ поведения.
Мода управляет лишь такими вещами, которые в равной степени могут быть такими или иными. Фактически ее составляющей является эмпирическая общность, оглядка на других, сравнение, а вместе с тем и перенесение себя на общую точку зрения.
Будучи формой общественной деятельности, мода создает общественную зависимость, от которой трудно уклониться. В частности, Кант считал, что лучше быть модным дураком, чем идти против моды, хотя и глупо принимать моду чересчур всерьез. А. Пушкин писал: «Быть можно модным человеком и спорить о красе ногтей… К чему бесплодно спорить с веком? Обычай — деспот меж людей…»
Хороший вкус характеризуется тем, что умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего «стиля», то есть согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются.
Аргумент к моде является, таким образом, частным случаем аргумента к вкусу и представляет собой ссылку на согласие выдвинутого положения с господствующей в данное время модой.
Обоснование путем ссылки на соответствие моде встречается даже в науке, чаще всего в период становления новых идей и теорий. Формирующаяся теория оценивается с многих точек зрения и, в частности, — в эстетическом отношении. Теория, как и все произведения ума и рук человека, может быть «красивой» или «некрасивой». Позитивное эстетическое впечатление, производимое новой теорией, может оказываться одним из аргументов в ее поддержку.
Как и другие области человеческой жизни, наука не стоит в стороне от моды. В определенные периоды модными являются одни научные построения или их типы, в другие периоды современными, отвечающими духу времени и т. п. оказываются другие построения и их виды.
Например, в 30–40-е гг. прошлого века из всех философских концепций наиболее модным и влиятельным был неопозитивизм, в 50-е гг. — экзистенциализм, в 60-е — философская герменевтика.
Модными могут быть как определенные идеи, так и способы исследования и обоснования. Мода в науке не так заметна, однако, как в других областях и изменяется относительно медленно. Аргумент к моде, как и вообще аргумент к вкусу, только в редких случаях предстает здесь в открытой форме.
Мода — явление социальное и она проявляется в каждом обществе по-своему. Все общества и цивилизации движутся между двумя постоянными полюсами: индивидуалистическим устройством общества и коллективистическим его устройством. Общества, ориентирующиеся на полюс индивидуализма, не ставят перед собой никакой глобальной цели и предоставляют широкую автономию своим индивидам. Общества, движущиеся к полюсу коллективизма, выдвигают такую цель и требуют от своих граждан максимальных усилий для ее реализации. Примерами индивидуалистических обществ могут служить древнегреческие античные демократии и современные западноевропейское и американское общества; коллективистическими являлись средневековое общество и существовавшие в прошлом веке коммунистическое и национал-социалистическое общества. Мода существует во всяком обществе, но в индивидуалистическом и коллективистическом обществе она проявляется по-разному. Иногда говорят, что мода — феномен только индивидуалистического общества, но это не так. В сдержанных формах мода проявляется и в коллективистическом обществе.
Такое общество стремится унифицировать не только мысли, чувства и поступки людей, но и их вкусы и даже внешний вид. Для него почти чуждо понятие вкуса, разделяющее людей на тех, кто обладает хорошим вкусом, и тех, кто его не имеет. Мода, вовлекающая людей в постоянную погоню за ее веяниями и выделяющая тех, кто модно одет, причесан и т. д., из всей остальной массы, тоже почти незаметна в коллективистическом обществе. Его индивид, как правило, не стремится отличаться ни особо отточенным вкусом, ни своим следованием капризной моде.
Социальные императивы вкуса и моды существуют в этом обществе в чрезвычайно ослабленной форме.
В своих мечтаниях некоторые социалисты-утописты шли еще дальше: они хотели, чтобы не только вкусы и одежда всех людей были одинаковыми, а чтобы даже их лица не имели существенных различий. В частности, Л. М. Дешан, описывая будущее социалистическое общество, высказывал пожелание, чтобы «почти все лица имели бы почти один и тот же вид». Сходную идею выражает в подготовительных материалах Ф. М. Достоевского к роману «Бесы» один из его героев (социалист Нечаев, в романе названный Петром Верховенским): «По-моему, даже красивые очень лицом мужчины или женщины не должны быть допускаемы». Эту мысль Достоевский почерпнул из идеологии современных ему нигилистических и социалистических движений. Реальные коллективистические общества, к счастью, воздерживались от такой далеко идущей унификации своих индивидов, хотя коммунизм и стремился к единообразию их тел, достигаемому благодаря физкультуре и здоровому образу жизни, а нацизм — даже к сходству их лиц, являющемуся естественным результатом борьбы за «расовую чистоту».
Активное проявление феноменов вкуса и моды в жизни коллективистического общества свидетельствует о начинающихся в его недрах брожении и разложении.
Вкус и мода постоянно взаимодействуют. Человек, обладающий хорошим вкусом, умеет приспособиться к вкусовому направлению, представленному модой, или же умеет приспособить требования моды к собственному хорошему вкусу. «Тем самым в понятии вкуса заложено умение и в моде соблюдать умеренность, и обладатель хорошего вкуса не следует вслепую за меняющимися требованиями моды, но имеет относительно них собственное суждение. Он придерживается своего „стиля“, т. е. согласовывает требования моды с неким целым, которое учитывает индивидуальный вкус и принимает только то, что подходит к этому целому с учетом того, как они сочетаются». В стабильном коллективистическом обществе представления о вкусе и моде неразвиты и вкус слабо корректирует моду, приспосабливая ее к требованиям индивидуальности. В прошлом веке в коммунистических странах, когда стала обнаруживаться их очевидная слабость и в их жизнь начала активно вторгаться мода, большинство тех, кто стал одеваться «по моде», оказались одеты совершенно одинаково.
Средневековое общество является умеренно коллективистическим, в нем сохраняются имущественные различия и важные различия в статусе. В силу этого единообразие вкусов и стандартизация моды не проявляются в нем с той отчетливостью, с какой они выступают в жизни коммунистического общества. Тем не менее и в средние века излишества и разнообразие в одежде строго осуждаются как нечто греховное.
В коммунистическом обществе нет сословий, различие между которыми должна была бы подчеркивать мода, и в нем царит гораздо большее однообразие одежды, чем в средние века. Кроме того, большинство его членов чрезвычайно бедны, им зачастую просто не до моды. Если у кого-то и появится возможность следовать моде, он не рискнет этого сделать: в условиях всеобщей бедности это будет несомненным вызовом. Но, что важнее, сама атмосфера этого общества отвращает от моды, расцениваемой как «буржуазное понятие» и несовместимой с основными ценностями, прокламируемыми обществом. Даже коммунистическая номенклатура, чувствующая необходимость отграничения от всех остальных граждан, никогда не прибегает к дорогой, и тем более модной одежде. Представители номенклатуры одеваются иначе, чем все иные, но опять-таки чрезвычайно однообразно: добротно, но без всякой претензии на роскошь. Обычно они конструируют себе нечто полувоенное: френчи, кителя, военного образца фуражки, пальто, похожие на шинели, и т. п. Эта одежда должна подчеркнуть, что они относятся к особой касте, главная черта которой — строгая, может быть, даже не в пример армейской, дисциплина.
Однообразие, царящее в одежде коммунистического общества, и связь этого однообразия с идеологией данного общества хорошо показывает А. А. Зиновьев. В его романе «Зияющие высоты» описывается жизнь вымышленной страны со столицей в городе Ибанск. Эта страна строит «изм» — совершенный во всех отношениях социальный строй, подобный строившемуся в России коммунизму: «Во времена Хозяина (Сталина) был установлен единый общеибанский стандарт штанов. Один тип штанов на все возрасты и росты. На все полности и должности. Широкие в поясе, в коленях и внизу. С мотней до колен. С четко обозначенной ширинкой и карманами до пят. Идеологически выдержанные штаны. По этим штанам ибанцев безошибочно узнавали во всем мире. И сейчас еще на улицах Ибанска можно увидеть эти живые памятники славной эпохи Хозяина. Их демонстративно донашивают пенсионеры — соратники Хозяина. Донашивают ли? Однажды Журналист спросил обладателя таких штанов, как он ухитрился их сохранить до сих пор. Пенсионер потребовал предъявить документ. Потом сказал, что он эти штаны сшил совсем недавно. Когда Журналист уходил, пенсионер прошипел ему вслед: мерзавцы, к стенке давно вас не ставили». История создания всеибанского типа штанов — это, конечно же, замечает Зиновьев, история ожесточенной борьбы с уклонами в партии и борьбы с классовыми врагами. «Левые уклонисты хотели сделать штаны шире в поясе, а мотню спереди опустить до пят. Они рассчитывали построить полный изм в ближайшие полгода и накормить изголодавшихся трудящихся до отвала. Своевременно выступил Хозяин и поправил их… Левых уклонистов ликвидировали правые уклонисты. Те, напротив, хотели расширить штаны в коленках и ликвидировать ширинку. Они не верили в творческие потенции масс и все надежды возложили на буржуазию. Опять своевременно выступил Хозяин и поправил их… Правых уклонистов ликвидировали левые».
Появление после хрущевской «оттепели» первых отступлений от общепринятого стиля одежды — узких брюк, ярких галстуков, туфель на толстой подошве — было почти единодушно воспринято советским обществом резко отрицательно.
В 60-е гг. прошлого века ситуация начала меняться: мода и эстетика начали все более активно вторгаться в жизнь. Поверхностно это объяснялось предстоящим в ближайшие десятилетия вступлением в коммунизм, реально это было внешним проявлением ослабления коммунистического общества и его идеологии.
Слово «эстетика» перекочевало из философских трактатов в популярные издания и никого уже не шокировал заголовок «Эстетика колхозного рынка». Выяснилось, что советская женщина не всегда изящно выглядит. В популярных журналах писали: «Неприлично, когда из-под юбки торчат штаны, неприлично, когда женщина, одетая в юбку, взбирается на леса, и не только вполне прилично, но и необходимо надевать брюки женщине-строителю, крановщице, сварщице…». Не возникло еще сомнения, что женщине следует варить сталь и месить бетон, но делать это она должна изящно и эстетично.
Майор с Дальнего Востока открыл широкую дискуссию: «Достойное ли занятие для женщины — манекенщица?» Мнения разделились, но большинство уверенно отвечало: вполне, но с условием, что внешность не будет затенять суть. Советская манекенщица выступила на ЭКСПО-67, а стюардесса Аэрофлота выиграла в Монреале конкурс красоты 15 авиакомпаний. Гордясь этими победами, неизменно подчеркивали: «И все говорят не столько о белизне зубов, длине ног, объеме талии и бедер, сколько об образе советской женщины». «Переворот произошел и в цветовой гамме страны, — отмечают писатели П. Вайль и А. Генис. — Запестрели щиты реклам, оживились витрины, засияли неоновые вывески. Граждане одинаково, на манер Китая, наряженные в китайские же синие плащи, вдруг накрутили яркие шарфы, надели светлые пальто и вышли на пляж в пестрых ситцевых халатах. Никого уже не смущали безумные сочетания ярко-красного с ярко-зеленым: „рязанская гамма“… Яркость эпохи отразилась на лице народа буквально: в косметике. Прежде применение косметики носило корпоративный характер: красились женщины из мира искусства, или зрительницы в театре, или, наконец, женщины легкого поведения. Массовое употребление косметики стало протестом против мещанского ханжества и закреплением права на красоту в индивидуальном порядке».
Коммунизм, считавший себя «естественным» состоянием общества, не любил косметику, как и все другое, порывающее, как ему кажется, с «естественным».
В заключение можно отметить, что не только коллективистические общества, но и коллективистические сообщества, подобные армии и церкви, явственно тяготеют к единообразию в одежде. Не только военные, но и служители церкви одеваются одинаково, хотя в этом случае одежда с большей выразительностью подчеркивает различие в ранге и даже может быть богатой. Члены тоталитарной партии обычно похожи друг на друга не только своими убеждениями и поведением, но и одеждой. Корпоративная психология, господствующая в коллективистическом сообществе, диктует его членам не только исполнительность и полную лояльность сообществу, но и внешнее сходство и в первую очередь — сходство в одежде.
6. Объяснение и понимание
Важными шагами в обосновании принимаемых утверждений являются те операции объяснения и понимания, которые мы используем постоянно. Интуитивно эти операции хорошо известны каждому человеку: они выполнялись каждым несчетное число раз. Но структура объяснения и понимания не особенно ясна, поэтому следует рассмотреть ее более подробно.
Выявление многообразных связей, имеющихся между утверждениями научной теории, является важным моментом в обосновании как самой теории, так и входящих в нее утверждений. Особую роль в систематизации теории играет прослеживание тех цепочек, которые ведут от общих ее положений к утверждениям, непосредственно связанным с опытом. Такие цепочки проясняют внутреннюю структуру теории. Но, что важнее, они прочно привязывают ее к фактам, к тому, что дано в непосредственном наблюдении. Тем самым теория превращается в средство ориентации в окружающем мире, в предпосылку его объяснения и понимания.
В самом широком смысле теоретическое объяснение — это рассуждение, посылки которого содержат информацию, достаточную для выведения из нее рассматриваемого факта или события.
Наиболее развитая форма научного объяснения — объяснение на основе теоретических законов. Так, чтобы объяснить, почему тело за первую секунду своего падения проходит путь в 4,9 м, мы ссылаемся на закон Галилея, который в самой общей форме описывает поведение разнообразных тел, движущихся под воздействием силы тяжести. Если требуется объяснить сам этот закон, мы обращаемся к более общей теории гравитации Ньютона. Получив из нее закон Галилея в качестве логического следствия, мы тем самым объясняем его.
Аналогично обстоит дело и с нашими повседневными объяснениями. Они также опираются на законы. Однако последние, как правило, настолько просты и очевидны, что мы не формулируем их явно, а иногда даже не замечаем их.
Например, мы спрашиваем ребенка, почему он плачет. Ребенок объясняет: «Я упал и сильно ударился». Почему этот ответ кажется нам достаточным объяснением? Потому что мы знаем, что сильный удар вызывает боль, и знаем, что когда ребенку больно, он плачет. Это определенный психологический закон. Подобные законы просты и известны всем, поэтому нет нужды выражать их явно. Тем не менее это законы и объяснение плача ребенка осуществляется через эти элементарные законы.
Представим себе, что мы встретились с плачущим марсианским ребенком. Мы не знаем, бывает ли марсианским детям больно от удара или нет, и плачут ли они от боли. Понятно, что в данном случае объяснение типа «Я упал и ударился» вряд ли удовлетворит нас. Нам не известны те общие законы, на которые оно опирается. А без них нет и объяснения.
Объяснить что-то — значит подвести под уже известный закон.
Глубина объяснения определяется глубиной той теории, к которой относится закон.
Законы обеспечивают не только объяснение наблюдаемых фактов, но служат также средством предсказания, или предвидения, новых, еще не наблюдавшихся фактов.
Предсказание факта — это, как и объяснение, выведение его из уже известного закона. Схема рассуждения здесь та же самая: из общего утверждения (закона) выводится утверждение о факте. Предсказание, в сущности, отличается от объяснения только тем, что речь идет о неизвестном еще факте.
Скажем, нам известен закон теплового расширения и мы знаем также, что металлический стержень был нагрет. Это дает основу для предсказания, что если теперь измерить стержень, он окажется длиннее, чем прежде.
Понимание
Проблема понимания долгое время рассматривалась в рамках экзегетики (от греч. еxegesis — толкование), занимавшейся толкованием древних, особенно религиозных (библейских), текстов. В XIX в. благодаря усилиям прежде всего В. Шлейермахера и В. Дильтея начала складываться более общая теория истолкования и понимания — герменевтика (от греч. hermeneutike (techne) — истолковательное (искусство)).
До сих пор распространена точка зрения, согласно которой пониматься может только текст, наделенный определенным смыслом: понять означает раскрыть смысл, вложенный в текст его автором. Однако очевидно, что это очень узкий подход. Мы говорит не только о понимании написанного или сказанного, но и о понимании действий человека, его переживаний. Понятными или непонятными, требующими размышления и истолкования, могут быть поступки как наши собственные, так и других людей. Пониматься может и неживая природа: в числе ее явлений всегда есть не совсем понятные для современной науки, а то и просто непонятные для нее. Не случайно физик П. Ланжевен утверждал, что «понимание ценнее знания», а другой физик — В. Гейзенберг считал, что А. Эйнштейн не понимал процессов, описываемых квантовой механикой, и так и не сумел их понять.
Идея, что пониматься может только текст, будучи приложена к пониманию природы, ведет к неясным рассуждениям о «книге бытия», которая должна «читаться» и «пониматься», подобно другим текстам. Но кто же автор этой книги? Кем вложен в нее скрытый, не сразу улавливаемый смысл, истолковать и понять который призвана естественная наука? Поскольку у «книги природы» нет ни автора, ни зашифрованного им смысла, «понимание» и «толкование» этой книги — только иносказание. А если пониматься может лишь смысл текста, естественно-научное понимание оказывается пониманием в некотором переносном, метафорическом значении.
Понимание — универсальная операция. Как и объяснение, оно присутствует во всех науках — и естественных, и гуманитарных. Но понимание разных вещей — природных и духовных — имеет разную ценность для человека.
Понимание неразрывно связано с ценностями и выражающими их оценками. Если объяснение — это подведение под истину, то понимание представляет собой подведение под ценность. Объяснение предполагает выведение объясняемого явления из имеющихся общих истин или из истинного каузального утверждения. Понимание означает подведение интересующего нас явления под некоторую оценку. Это означает, что объяснение, как и всякое описание, говорит о том, что есть, а понимание, подобно всякой оценке, — говорит о том, что должно быть.
О неразрывной связи понимания и ценностей писал еще в ХIХ веке немецкий философ В. Дильтей, основавший вместе с филологом В. Шлейермазхером особую науку о понимании — герменевтику.
«Понимание и оценка. Безоценочное понимание невозможно, — пишет М. М. Бахтин. — Нельзя разделить понимание и оценку: они одновременны и составляют единый целостный акт. Понимающий подходит к произведению со своим уже сложившимся мировоззрением, со своей точкой зрения, со своими позициями. Эти позиции в известной мере определяют его оценку, но сами при этом не остаются неизменными: они подвергаются воздействию произведения, которое всегда вносит нечто новое. Только при догматической инертности позиции ничего нового в произведении не раскрывается (догматик остается при том, что у него уже было, он не может обогатиться). Понимающий не должен исключать возможности изменения или даже отказа от своих уже готовых точек зрения или позиций. В акте понимания происходит борьба, в результате которой происходит взаимное изменение и обогащение». «Точки зрения» и «позиции», упоминаемые здесь, — это общие оценки, используемые в процессе понимания произведения; сами эти оценки могут изменяться под воздействием произведения.
Хотя идея о связи понимания с оценками имеет довольно долгую историю, детально эта идея пока что не была разработана.
Нужно отметить, что слово «понимание» многозначно. Под «пониманием» может, в частности, иметься в виду как понятийное, так и интуитивное понимание. Понятийное, или рациональное, понимание представляет собой результат более или менее отчетливого рассуждения и является умозаключением. К интуитивным, или «нерассудочным», формам понимания относятся, в частности, непосредственное схватывание некоторого единства и эмоциональное (чувственное) понимание с такой его разновидностью, как эмпатия. Все формы понимания предполагают ценности, но не всякое понимание является результатом рассуждения.
Далее речь пойдет только о понимании, представляющем собой некоторое рассуждение. Интуитивное понимание обычно при постановке сложного медицинского диагноза, при принятии решений на поле сражения, в случае переживания чувства симпатии или антипатии в отношении другого человека и т. п. Такое понимание, как и всякое интуитивное озарение, не допускает расчленения на шаги, ведущие к конечному выводу.
Распространенное представление, будто понимание не имеет никакой отчетливой структуры, опирается, можно думать, на неявное убеждение, что всякое понимание — это интуитивное понимание. Однако в подавляющем большинстве случаев понимание представляет собой не непосредственное схватывание, а некоторое рассуждение. В таком рассуждении могут быть выделены посылки и заключение и установлен характер их связи между собой.
Существуют две разновидности понимания: сильное и слабое. Первое является дедуктивным умозаключением, второе представляет собой правдоподобное умозаключение.
Простой пример сильного понимания:
Трагедия должна вызывать катарсис.
Пьеса Шекспира «Гамлет» является трагедией.
Следовательно, «Гамлет» должен вызывать катарсис. Общая форма сильного понимания: «Всякое А должно быть В. Всякое С есть А. Значит, всякое С должно быть В». Это — дедуктивное рассуждение, одной из посылок которого является общая оценка, а другой — утверждение о начальных условиях. В заключении общее предписание распространяется на частный случай и тем самым достигается понимание того, почему конкретный объект должен иметь определенные свойства.
Общая форма слабого понимания: «А причина В; В — позитивно ценно. Значит, А также является, вероятно, позитивно ценным».
Проиллюстрируем данные схемы понимания несколькими элементарными примерами:
Если в доме протопить печь, в доме будет тепло.
В доме должно быть тепло.
Значит, нужно, вероятно, протопить печь.
Первая посылка говорит о средстве, необходимом для получения определенного результата. Вторая посылка является оценочным утверждением, представляющим этот результат как цель и превращающим связь причина-следствие в связь цель-средство. В заключении говорится о том действии, которое должно быть осуществлено для достижения поставленной цели. Такое рассуждение называется целевым пониманием.
Если человек не побежит, он не успеет на поезд.
Человек должен (хочет, обязан и т. п.) успеть на поезд.
Значит, он должен, по всей вероятности, бежать.
Таким образом, различие между объяснением и пониманием не в их строении, а в характере принимаемых посылок. В случае объяснения его посылки — это описательные утверждения, являющиеся, подобно всем описаниям, истинными или ложными; одна из посылок должна быть общим утверждением или утверждением о каузальной связи. При понимании, по меньшей мере, одна из посылок является утверждением, говорящим не о том, что есть, а о том, что должно быть, т. е. представляет собой оценку; заключение акта понимания всегда является высказыванием о том, что должно иметь место.
Как уже отмечалось, при объяснении заключение является необходимым. Объясняемое явление подводится под закон природы, что сообщает этому явлению статус физически (онтологически) необходимого.
При понимании заключение не является физически необходимым, но оно аксиологически (ценностно) необходимо, поскольку приписывает позитивную ценность действию, о котором говорится в заключении. Различие между физической необходимостью и аксиологической необходимостью существенно. Если какое-то явление или действие физически необходимо, то оно имеет место; но из того, что какое-то явление или действие аксиологически необходимо (позитивно ценно), не вытекает, что это явление или действие на самом деле реализуется.
Если объяснить — значит вывести из имеющихся истин, то понять — значит вывести из принятых оценок.
Несколько элементарных примеров понимания прояснят его структуру.
Всякий ученый должен быть критичным.
Галилей — ученый.
Значит, Галилей должен быть критичным.
Первая посылка данного умозаключения представляет собой общую оценку, распространяющую требование критичности на каждого ученого. Вторая посылка — описательное высказывание, аналогичная посылке объяснения, устанавливающей «начальные условия». Заключение является оценкой, распространяющей общее правило на конкретного индивида.
Следующий пример относится к пониманию неживой природы:
На стационарной орбите электрон не должен излучать.
Электрон атома водорода находится на стационарной орбите.
Значит, электрон атома водорода не должен излучать.
Понимание представляет собой оценку на основе некоторого образца, стандарта, нормы, принципа и т. п. Дедуктивный характер объяснения и понимания не всегда нагляден и очевиден, поскольку наши обычные дедукции являются до предела сокращенными. Например, мы видим плачущего ребенка и говорим: «Он упал и ударился». Это — дедуктивное объяснение, но, как обычно, крайне сокращенное. Видя идущего ночью навстречу нам по улице человека, мы отмечаем: «Обычный прохожий». И в этом качестве он понятен для нас. Но за простой как будто констатацией стоит целое рассуждение, результат которого — оценка: «Этот человек таков, каким должен быть стандартный прохожий».
Всякое слово, обозначающее объекты и явления, достаточно тесно связанные с жизнью и деятельностью человека, сопряжено с определенным стандартом, или образцом, известным каждому, кто употребляет это слово. Языковые образцы функционируют почти автоматически, так что рассуждение, подводящее рассматриваемое явление под образец, скрадывается, и понимание этого явления в свете образца кажется не результатом дедуктивного рассуждения, а неким «схватыванием» без всякого рассуждения.
Понимание, как и объяснение, обыденно, и только свернутый характер этих операций внушает обманчивое впечатление, что они редки и являются результатом специальной деятельности, требующей особых знаний и способностей.
Имеются три типичных области понимания: понимание действий человека, его поведения и характера; понимание природы; понимание языковых выражений («текста»). Можно предположить, что именно понимание человеческой деятельности является парадигмой, или образцом, понимания вообще, поскольку именно в понимании человеческого поведения ценности, играющие центральную роль во всяком понимании, обнаруживают себя наиболее явно и недвусмысленно.
Сильное понимание опирается на некоторый общий стандарт и распространяет его на частный или конкретный случай. Хорошие примеры сильного понимания человеческих мыслей и действий дает художественная литература. Эти примеры отчетливо говорят, что понятное в жизни человека — это привычное, соответствующее принятому правилу или традиции.
В романе «Луна и грош» С. Моэм сравнивает две биографии художника, одна из которых написана его сыном-священником, а другая неким историком. Сын «нарисовал портрет заботливейшего мужа и отца, добродушного малого, трудолюбца и глубоко нравственного человека. Современный служитель церкви достиг изумительной сноровки в науке, называемой, если я не ошибаюсь, экзегезой (толкованием текста), а ловкость, с которой пастор Стрикленд «интерпретировал» все факты из жизни отца, «не устраивающие» почтительного сына, несомненно, сулит ему в будущем высокое положение в церковной иерархии». Историк же, «умевший безошибочно подмечать низкие мотивы внешне благопристойных действий», подошел к той же теме совсем по-другому: «Это было увлекательное занятие: следить, с каким рвением ученый автор выискивал малейшие подробности, могущие опозорить его героя».
Этот пример хорошо иллюстрирует предпосылочность всякого понимания, его зависимость не только от интерпретируемого материала, но и от позиции интерпретатора. Однако важнее другой вывод, который следует из приведенного примера: поведение становится понятным, если удается убедительно подвести его под некоторый общий принцип или образец, т. е. под общую оценку. В одной биографии образцом служит распространенное представление о «заботливом, трудолюбивом, глубоко нравственном человеке», каким якобы должен быть выдающийся художник, в другой — вера, что «человеческая натура насквозь порочна», и это особенно заметно, когда речь идет о неординарном человеке. Оба эти образца, возможно, никуда не годятся. Но если один из них принимается интерпретатором и ему удается подвести поведение своего героя под избранную общую ценность, оно становится понятным как для интерпретатора, так и для тех, кто соглашается с предложенным образцом.
О том, что понятное — это отвечающее принятому правилу, а потому правильное и в определенном смысле ожидаемое, хорошо говорит Д. Данин в «Человеке вертикали». Сознание человека забито привычными представлениями, как следует и как не следует вести себя в заданных обстоятельствах. «Эти представления вырабатывались статистически. Постепенно наиболее вероятное в поведении стало казаться нормой. Обязательной. А порою и единственно возможной. Это не заповеди нравственности. Это не со скрижалей Моисея. И не из Нагорной проповеди Христа. Это — не десять, не сто, а тысячи заповедей общежития (мой руки перед едой). И физиологии (от неожиданности не вздрагивай). И психологии (по пустякам не огорчайся). И народной мудрости (семь раз отмерь). И здравого смысла (не питай иллюзий)… В этой неписанной системе правильного, а главное — понятного поведения всегда есть заранее ожидаемое соответствие между внутренним состоянием человека и его физическими действиями».
В характеристике Данина понятного как правильного и ожидаемого интересен также такой момент. Предпосылкой понимания внутренней жизни индивида является не только существование образцов для ее оценки, но и наличие определенных стандартов проявления этой жизни вовне, в физическом, доступном восприятию действии.
Целевое понимание поведения предполагает раскрытие связи между мотивами (целями, ценностями), которыми руководствуется человек, и его поступками. В этом смысле понять поведение индивида — значит, указать ту цель, которую он преследовал и надеялся реализовать, совершая конкретный поступок.
Например, мы видим бегущего человека и пытаемся понять, почему он бежит. Для этого надо уяснить цель, которую он преследует: он хочет, допустим, успеть на встречу, и поэтому бежит.
Примеры целевого обоснования
Целевое обоснование оценок находит широкое применение в самых разных областях оценочных рассуждений, начиная с обыденных, моральных, политических дискуссий и кончая методологическими, философскими и научными спорами. Вот характерный пример, взятый из книги Б. Рассела «История западной философии». Большая часть противников школы Джона Локка, пишет Рассел, восхищалась войной как явлением героическим и предполагающим презрение к комфорту и покою. Те же, которые восприняли утилитарную этику Локка, напротив, были склонны считать большинство войн безумием. Это снова, по меньшей мере в XIX столетии, привело их к союзу с капиталистами, которые не любили войн, так как войны мешали торговле. Побуждения капиталистов, конечно, были чисто эгоистическими, но они привели к взглядам, более созвучным с общими интересами, чем взгляды милитаристов и их идеологов.
В этом отрывке упоминаются три разные целевые аргументации, обосновывающие оправдание или осуждение войны:
— Война является проявлением героизма и воспитывает презрение к комфорту и покою; героизм и презрительное отношение к комфорту и покою позитивно ценны; значит, война также позитивно ценна.
— Война не только не способствует общему счастью, но, напротив, самым серьезным образом препятствует ему; общее счастье — это то, к чему следует всячески стремиться; значит, войны нужно категорически избегать.
— Война мешает торговле; торговля является позитивно ценной; значит, война вредна.
Некоторые выводы Дж. Локка настолько странны, пишет Рассел в этой же книге, что я не вижу, каким образом изложить их в разумной форме. Он говорит, что человек не должен иметь такого количества слив, которое не могут съесть ни он, ни его семья, так как они испортятся, но он может иметь столько золота и бриллиантов, сколько может получить законным образом, ибо золото и бриллианты не портятся. Локку не приходит в голову, что обладатель слив мог бы продать их прежде, чем они испортятся.
По-видимому, Локк рассуждал так, используя схему целевого обоснования: «Если у человека слишком много слив, то часть их непременно испортится; плохо, когда сливы портятся; значит, нельзя иметь чересчур много слив». Это рассуждение представляет собой попытку целевого обоснования оценки: «Нельзя иметь слишком много слив». Рассел правильно замечает, что данное рассуждение неубедительно: первая его посылка не является истинным утверждением.
Другое целевое обоснование, присутствующее у Локка: «Драгоценные металлы являются источником денег и общественного неравенства; экономическое неравенство достойно сожаления и осуждения; значит, драгоценные металлы заслуживают осуждения». Локк принимал первую посылку этого рассуждения, чисто теоретически сожалел об экономическом неравенстве, но не думал, что было бы разумно предпринимать меры, которые могли бы предотвратить это неравенство. Логической непоследовательности в такой позиции нет, поскольку заключение не вытекает логически из посылок.
Убедительность целевого обоснования существенным образом зависит от трех обстоятельств: во-первых, насколько эффективной является связь между целью и тем средством, которое предлагается для ее достижения; во-вторых, является ли само средство в достаточной мере приемлемым; в-третьих, насколько приемлема и важна оценка, фиксирующая цель. В разных аудиториях одно и то же целевое обоснование может обладать разной убедительностью. Это означает, что целевое обоснование относится к контекстуальным (ситуативным) способам аргументации, эффективным не во всех аудиториях.
7. Обоснование и объективная истина
Примеры из истории науки показывают, что обоснование — не только сложная, но и многоэтапная процедура. Обоснованное утверждение, вошедшее в теорию в качестве ее составного элемента, перестает быть проблематнчным знанием. Но это не означает, что оно становится абсолютной истиной, истиной в последней инстанции, не способной к дальнейшему развитию и уточнению.
Обоснование утверждения делает его не абсолютной, а лишь относительной истиной, верно схватывающей на данном уровне познания механизм исследуемых явлений. В процессе дальнейшего углубления знаний такая истина может быть и непременно будет преодолена. Но ее основное содержание, подвергнувшись ограничению и уточнению, сохранит свое значение.
Сложность процедуры обоснования теоретических утверждений склоняет некоторых философов и ученых к мнению, что эта процедура никогда не приводит к твердому результату и все наше знание по самой своей природе условно и гипотетично. Оно начинается с предположения и навсегда остается им, поскольку не существует пути, ведущего от правдоподобного допущения к несомненной истине.
Б. Рассел писал, что «все человеческое знание недостоверно, неточно и частично». «Не только наука не может открыть нам природу вещей, — утверждал А. Пуанкаре, — ничто не в силах открыть нам ее». К. Поппер долгое время отстаивал мысль, что такая вещь как подтверждение гипотез, вообще выдумка. Возможно только их опровержение на основе установления ложности вытекающих из них следствий. То, что мы привыкли считать достоверным знанием, представляет собой, по мысли Поппера, лишь совокупность предположений, до поры до времени выдерживающих попытки опровергнуть их.
Еще более радикальную позицию занимает американский философ Л. Фейерабенд, утверждающий, что так называемый «научный метод», всегда считавшийся наиболее эффективным средством получения нового знания него обоснования, не более чем фикция: «Наука не выделяется в положительную сторону своим методом, ибо такого метода не существует; она не выделяется и своими результатами: нам известно, чего добилась наука, однако у нас нет ни малейшего представления о том, чего могли бы добиться другие традиции». Авторитет науки Фейерабенд склонен объяснять внешними для нее обстоятельствами: «…Сегодня наука господствует не ввиду ее сравнительных достоинств, а благодаря организованным для нее пропагандистским и рекламным акциям». В ключе этого «развенчания» научного метода и его результата — объективного научного знания идет и общий вывод Фейерабенда: «…Наука гораздо ближе к мифу, чем готова допустить философия науки. Это одна из многих форм мышления, разработанных людьми, и не обязательно самая лучшая. Она ослепляет только тех, кто уже принял решение в пользу определенной идеологии или вообще не задумывается о преимуществах и ограничениях науки. Поскольку принятие или непринятие той или иной идеологии следует предоставлять самому индивиду, постольку отсюда следует, что отделение государства от церкви должно быть дополнено отделением государства от науки — этого наиболее агрессивного и наиболее догматического религиозного института. Такое отделение — наш единственный шанс достичь того гуманизма, на который мы способны, но которого никогда не достигали».
Если наука не дает объективного, обоснованного знания настолько близка к мифу и религии, что должна быть, подобно им, отделена от государства и, в частности, от процесса обучения, то сама постановка задачи обоснования знания лишается смысла. Факт и слово авторитета, научный закон и вера или традиция, научный метод и интуитивное озарение становятся совершенно равноправными. Тем самым стирается различие между объективной истиной, требующей надежного основания, и субъективным мнением, зачастую не опирающимся на какие-либо разумные доводы.
Так сложность и неоднозначность процесса обоснования склоняет к идее, что всякое знание — гипотеза, и даже внушает мысль, что наука мало отличается от религии.
Действительно, поиски абсолютной надежности и достоверности обречены на провал, идет ли речь о химии, истории или математике. Научные теории всегда в той или иной мере предположительны. Они дают не абсолютную, а только относительную истину.
Но это именно истина, а не догадка или рискованное предположение. Практические результаты применения научного знания для преобразования мира, для осуществления человеческих целей ясно свидетельствуют о том, что в теориях науки есть объективно истинное и, значит, неопровержимое содержание.
8. Границы обоснования
«В настоящее время наука становится главной, — писал Л. Толстой. — Но это противоречит истине, надо начинать с нравственности, остальное придет потом, более естественно, легко, с новыми, возросшими за это время силами».
Наука, при всей ее важности, не является ни единственной, ни даже центральной сферой человеческой деятельности. Научное познание — по преимуществу только средство для решения обществом своих, многообразных проблем. Сводить все формы человеческой деятельности к такому познанию или строить их по его образцу не только наивно, но и опасно. Результатом подобного сведения были бы «супружество как точная наука» (так называется пьеса Б. Шоу), «игра в карты по-научному» (название итальянского фильма), воспитание детей по-научному, любовь «по науке» и даже милосердие, обоснованное по-научному.
Ранее речь шла о способах обоснования, применяемых в науке и в тех областях жизни, в которых центральную роль играет последовательное, доказательное рассуждение. Но даже систему научного знания нельзя утвердить исключительно аргументами. Попытка обосновать всякое научное положение привела бы к регрессу в бесконечность. В фундаменте обоснования лежит способ действия, конкретная практика.
Неоправданно распространять приемы обоснования, характерные для науки, на другие области, имеющие с нею, возможно, мало общего и убеждающие совсем иными средствами.
В художественном произведении не нужно специально доказывать, надо, напротив, отрешиться от желания строить цепочки рассуждении, выявляя следствия принятых посылок.
«Сила разума в том, — писал Б. Паскаль, — что он признает существование множества явлений, ему непостижимых; он слаб, если не способен этого понять». Под «разумом» имеется, конечно, в виду аргументирующий, обосновывающий разум, находящий наиболее совершенное воплощение в науке.
Французский эстетик Ж. Жубер замечает об Аристотеле: «Он был не прав в своем стремлении сделать все в своих книгах научным, то есть доказуемым, аргументированным, неопровержимым; он не учел, что существуют истины, доступные одному лишь воображению, и что, быть может, именно эти истины — самые прекрасные». И если это верно в отношении Аристотеля, занимавшегося прежде всего логикой и философией, то тем более не правы те, кто, «поверяя алгеброй гармонию», хотят перестроить по строгому научному образцу идеологию, мораль, художественную критику и т. д.
«Человеческое сознание, — пишет математик Б. В. Раушенбах, — складывается из двух составляющих (соответственно левое и правое полушария человеческого мозга): рациональное (на нем держится наука, промышленность, здравый смысл и так далее) и иррациональное. Сейчас мы склонны ценить рациональное гораздо выше. Но это досадный — и, надеюсь, временный — перекос. Ценнейших человеческих качеств мы не досчитались бы, сводись человек к одному лишь рациональному началу. Такое понятие как «милосердие» рационально объяснить нельзя, потому что рациональное милосердие — это уже не милосердие… Собственно, вся нравственность иррациональна: когда вы поступаете вопреки своим интересам, это как раз и есть высокая нравственность».
В этой позиции может вызвать возражение только использование термина «иррациональное» для обозначения всего того, что не входит в сферу рационального. Обычно под «иррациональным» понимается алогичное, несоизмеримое с рациональным мышление или даже противоречащее ему. Скажем, мораль не является рациональной в том же смысле, что и физика или биология, но мораль не противоречит разуму, она вполне согласуется с законами логики и нуждается в специальном обосновании.
Рациональные способы обоснования — незаменимое орудие человеческого разума. Но область их приложения не безгранична. Расширение ее сверх меры столь же неоправданно, как и неумеренное сужение. «Две крайности: зачеркивать разум, признавать только разум» (Б. Паскаль).
9. Логика и теория аргументации
Проблемой обоснования, взятой во всей ее широте, занимается не логика, а другая дисциплина — теория аргументации. Она не является, конечно, какой-то «прикладной логикой», поскольку говорит по преимуществу о вещах, не имеющих к логике прямого отношения.
Теория аргументации, называвшаяся долгое время «риторикой», начала складываться раньше логики, в период, называемый «осевым временем» (VII–II вв. до н. э.). В это время в Китае, Индии и на Западе почти одновременно начался распад мифологического миросозерцания, переход «от мифа к логосу». Не удовлетворенный объяснением мира в форме мифа, человек все больше обращается к своему разуму. Начинает формироваться наука логика, исследующая законы и операции правильного мышления, а чуть раньше риторика — дисциплина, изучающая технику убеждающей речи.
Интерес к риторике предполагает определенную социальную среду. Такой интерес возникает в обществе, в котором существует потребность в убеждении посредством речи, а не путем принуждения, насилия, угроз, обмана и т. п. Реальная практика убеждающих речей должна постоянно подталкивать теорию, описывающую сложную механику воздействия на убеждения людей.
Иными словами, развитие риторики предполагает демократическое общество, в котором живое, постоянно меняющееся слово, не закосневшее в пропагандистских штампах, выступает как основное средство воздействия на умы и души людей.
Риторика достигла расцвета в Древней Греции, но уже в древнем Риме, как только демократия начала постепенно свертываться, риторика быстро пришла в упадок.
Особых успехов в исследовании искусства убеждения и в обучении ему добились философы-софисты. Они первыми стали брать плату за обучение, что шокировало всех тех, кто обучал философии и риторике бесплатно. Преподававший риторику философ Протагор в конце концов по уровню богатства превзошел знаменитого скульптора Фидия.
Г. Гегель как-то заметил, что нет худшего способа зарабатывать деньги, чем заниматься философией. Протагор оказался редким исключением из этого правила и то лишь потому, что занимался не только чистой философией, но и смежной с ней дисциплиной — теорией аргументации.
Софисты осмыслили речь как искусство, подчиняющееся определенным приемам и правилам, и подчеркнули, что она далеко не всегда копирует реальность, но допускает ложь и обман. Протагор настаивал на том, что «человек есть мера всех вещей» и что как кому кажется, так оно и есть на самом деле. Он уверял, что способен заставить слушателей в корне изменить свои убеждения по любому вопросу.
Подчеркивая изменчивость человеческих убеждений и их зависимость от множества противоречивых факторов, софисты все более отказывались от идеи, что главное, к чему должен стремиться оратор — это выяснение истины. Они ставили своей целью научить выдавать слабое за сильное, а сильное — за слабое, совершенно не заботясь о том, как все обстоит на самом деле. По этому поводу с софистами остро полемизировали Сократ и Платон. Противопоставление софистами правдоподобия истине и моральная неразборчивость предложенной ими концепции искусства убеждения заставили Аристотеля задуматься над построением теории аргументации на совершенно иных принципах.
Возникновение теории аргументации как особой научной дисциплины, изучающей способы речевого воздействия на убеждения людей, можно связывать с написанием Аристотелем книги «Риторика».
В духе уже сложившейся традиции Аристотель определял риторику как «способность находить возможные способы убеждения относительно каждого предмета». Эта наука должна исследовать универсальные, не зависящие от обсуждаемых объектов способы, или приемы, убеждения. «Риторика полезна, — писал Аристотель, — потому что истина и справедливость по своей природе сильнее своих противоположностей, а если решения принимаются не должным образом, то истина и справедливость необходимо побеждаются своими противоположностями, что достойно сожаления». Если позорно не быть в состоянии помочь себе своим телом, то не может не быть позорным бессилие помочь себе словом, так как пользование словом более свойственно человеческой природе, чем пользование телом.
Аристотель выделял три фактора, определяющих убедительность речи: характер самой речи, особенности говорящего и особенности слушающих. Первый фактор можно назвать внутренним, два других — внешними. Внутренние факторы убеждения Аристотель отнес к компетенции только логики, что было явным сужением предмета теории аргументации, называвшейся во времена Аристотеля «риторикой».
Узкая трактовка теории аргументации была обусловлена особенностями античного стиля мышления, за рамки которого не мог выйти и Аристотель. Античность настаивала на исключительном значении для убеждения логического доказательства. «Способ убеждения, — утверждал в духе своего времени Аристотель, — есть некоторого рода доказательство». Другая ограниченность античного мышления — пренебрежение опытным, эмпирическим подтверждением выдвигаемых идей. Аристотель говорил вскользь об «оружии фактов» и о необходимости вероятностных рассуждений, если нет твердых доказательств. Но эти ссылки на опыт не играли существенной роли в трактовке им теории аргументации. Основной способ убеждения — логическое доказательство, опыт же, к которому иногда приходится прибегать, не дает ни надежного знания, ни твердого убеждения.
О пренебрежительном отношении Аристотеля к эмпирической проверке выдвигаемых положений выразительно говорит такой факт: будучи дважды женатым, он тем не менее всерьез утверждал, что у женщины меньше зубов, чем у мужчины.
В дальнейшем две указанные особенности античной теории аргументации, или риторики, — стремление свести все надежные способы убеждения к доказательству и принципиальное недоверие к опыту — долгое время принимались как сами собою разумеющиеся. В конечном итоге они привели теорию аргументации к многовековому застою.
Со времен Цицерона теория аргументации как наука об убеждении почти остановилась в своем развитии. Во всяком случае, она не породила ни одной интересной идеи. Материал, накопленный теорией аргументации, начал использоваться стилистикой и поэтикой, являющимися разделами лингвистики. Уже у Квинтиллиана убеждение выступало в качестве возможной, но отнюдь не главной цели речи оратора. Из искусства убеждающей речи теория аргументации все более превращалась в искусство красноречия. Построение искусственных, опирающихся на неясные посылки доказательств и красивость выражения на долгое время стали самоцелью практики аргументации.
Возрождение теории аргументации началось только в середине прошлого века, прежде всего под влиянием логического исследования естественного языка. Новая теория аргументации восстановила то позитивное, что было в античной риторике, отбросила предрассудок, будто процедура убеждения всегда должна сводиться к построению логического доказательства, и стала уделять особое внимание эмпирическому обоснованию, а также обоснованию путем ссылки на традицию, здравый смысл, интуицию, веру, вкус и т. п.
В формировании идей «новой риторики» все чаще называвшейся «теорией аргументации», важную роль сыграли работы Х. Перельмана, Г. Джонстона, Р. Гроотендорста, Ф. ван Еемерена и др.
Из отечественных работ, посвященных теории аргументации, можно упомянуть работы автора этой книги: «Основы теории аргументации» (1997), «Теория аргументации» (2000), «Риторика: искусство убеждать» (2002), «Логика и теория аргументации» (2007), «Теория и практика аргументации» (2013).
Глава 11. Софизмы
Право же, какую можно высказать еще нелепость, которая не была бы высказана кем-то из философов!
М. Т. ЦицеронЕсли дружишь с хромым, сам начинаешь прихрамывать.
ПлутархШедевры появляются точно в срок.
С. ДжобсРядом с красотой ум и сердце выглядят бедными родственниками.
Э. РейЕсть люди, у которых есть деньги, и есть богатые люди.
Коко ШанельМожно дойти до совершенства в совершении одной и той же ошибки.
А. Кумор1. Софизм как интеллектуальное мошенничество
Софизмы обычно трактуются вскользь и с очевидным осуждением. И в самом деле, стоит ли задерживаться и размышлять над такими, к примеру, рассуждениями:
«Сидящий встал; кто встал, тот стоит; следовательно, сидящий стоит»
«Сократ — человек; человек — не то же самое, что Сократ; значит, Сократ — это нечто иное, чем Сократ»;
«Этот пес твой; он является отцом; значит, он — твой отец»?
А чего стоит такое, допустим, «доказательство»: «Для того чтобы видеть, необязательно иметь глаза, так как без правого глаза мы видим, без левого тоже видим; кроме правого и левого других глаз у нас нет, поэтому ясно, что глаза не являются необходимыми для зрения»!
Или такое неожиданное «заключение»: «Но когда говорят: «камни, бревна, железо», то ведь это — молчащие, а говорят»!
Софизм «рогатый» стал знаменитым еще в Древней Греции. И сейчас он кочует из энциклопедии в энциклопедию в качестве «образцового». С его помощью можно уверить каждого, что он рогат: «Что ты не терял, то имеешь; рога ты не терял; значит, у тебя рога».
Впрочем, рога — это мелочь в сравнении с тем, что вообще может быть доказано с помощью этого и подобных ему рассуждений.
Убедить человека в том, что у него есть рога, копыта и хвост или что любой, произвольно взятый отец, в том числе и не являющийся вообще человеком, — это как раз его отец и т. д., можно только посредством обмана или злоупотребления доверием. А это и есть, как говорит уголовный кодекс, мошенничество. Не случайно учитель императора Нерона древнеримский философ Сенека в своих «Письмах» сравнивал софизмы с искусством фокусников, относительно манипуляций которых мы не можем сказать, как они совершаются, хотя и твердо знаем, что в действительности все делается совсем не так, как это нам кажется.
Обычное истолкование софизмов
В обычном и распространенном понимании софизм — это умышленный обман, основанный на нарушении правил языка или логики. Но обман тонкий и завуалированный, так что его не сразу и не каждому удается раскрыть. Цель его — выдать ложь за истину. Прибегать к софизмам предосудительно, как и вообще обманывать и внушать ложную мысль, зная, в чем заключается истина.
Софизму как ошибке, сделанной умышленно, с намерением ввести кого-либо в заблуждение, обычно противопоставляется «паралогизм», понимаемый как непреднамеренная ошибка в рассуждении, обусловленная нарушением законов и правил логики. Паралогизм кажется намного предпочтительнее софизма, так как является, в сущности, не обманом, а искренним заблуждением и не связан с умыслом подменить истину ложью.
Софизмы связаны чаще всего как с недостаточной самокритичностью ума и неспособностью его сделать надлежащие выводы, так и с его стремлением охватить то, что пока ему неподвластно. Нередко софизм представляет собой просто защитную реакцию незнания или даже невежества, нежелающего признать свое бессилие и уступить знанию.
Софизм традиционно считается помехой в обсуждении и споре. Использование софизмов уводит рассуждение в сторону: вместо избранной темы приходится говорить о правилах и принципах логики. Но, в конце концов, это препятствие не является чем-то серьезным. Использование софизмов имеет с точки зрения рассматриваемой проблемы чисто внешний характер и при известном навыке в логическом анализе рассуждений софизм несложно обнаружить и убедительно опровергнуть.
Софизмы иногда кажутся настолько случайными и несерьезными, что известный немецкий историк философии В. Виндельбанд, не отказывавший в общем-то софистике как философскому течению в значительности и глубине, относил их к шуткам: «Тот большой успех, каким пользовались эти шутки в Греции, особенно в Афинах, обусловливается юношеской склонностью к остроумным выходкам, любовью южан к болтовне и пробуждением разумной критики повседневных привычек».
Если софизм представляет собой всего лишь сбивчивое доказательство, попытку выдать ложь за истину, имеет случайный, не связанный с существом рассматриваемой темы характер и является сугубо внешним препятствием на пути проводимого рассуждения, то ясно, что никакого глубокого и требующего специального разъяснения содержания за ним не стоит. В софизме как результате заведомо некорректного применения семантических и логических операций не проявляются также какие-либо действительные логические трудности. Коротко говоря, софизм — это мнимая проблема.
Таково стандартное истолкование софизмов.
Оно подкупает своей простотой. За ним также многовековая история. Однако, несмотря на кажущуюся его очевидность, оно слишком многое оставляет недосказанным и неясным.
Недостатки стандартного истолкования софизмов
Прежде всего, обычное истолкование софизмов отвлекается от тех исторических обстоятельств, в которых рождаются софизмы и в которых протекает их последующая, нередко богатая событиями жизнь. Исследование софизмов, вырванных из среды их обитания, подобно попытке составить полное представление о растениях, пользуясь при этом только гербариями.
Софизмы существуют и обсуждаются более двух тысячелетий. Периодически острота их обсуждения напоминает ту, какая была в момент их возникновения. Если они всего лишь хитрости и словесные уловки, выведенные на чистую воду еще Аристотелем, то долгая их история и устойчивый интерес к ним непонятны.
Имеются, конечно, случаи, и, возможно, нередкие, когда ошибки в рассуждении используются с намерением ввести кого-то в заблуждение. Но это явно не относится к большинству софизмов древних.
Когда софизмы впервые формулировались, о правилах логики еще ничего не было известно. Говорить в этой ситуации об умышленном нарушении законов и правил логики можно только с натяжкой.
Тут что-то другое. Ведь несерьезно предполагать, что можно с помощью «рогатого» убедить человека, что он рогат. Сомнительно также, что с помощью софизма «лысый» кто-то надеялся уверить окружающих, что лысых людей нет. Невероятно, что софистическое рассуждение способно заставить кого-то поверить, что его отец — пес. Речь здесь, очевидно, идет не о «рогатых», «лысых» и т. п., а о чем-то совершенно ином и более значительном. И как раз чтобы подчеркнуть это обстоятельство, софизм формулируется так, что его заключение является заведомо ложным, прямо и резко противоречащим фактам.
Возникновение софизмов обычно связывается с философией софистов (V–IV века до новой эры), которая их обосновывала и оправдывала. Однако софизмы существовали задолго до философов-софистов, а наиболее известные и интересные были сформулированы позднее, в сложившихся под влиянием Сократа философских школах.
Термин «софизм» впервые ввел Аристотель, охарактеризовавший софистику как мнимую, а не действительную мудрость. К софизмам им были отнесены и апории Зенона, направленные против движения и множественности вещей, и рассуждения собственно софистов, и все те софизмы, которые открывались в других философских школах. Это говорит о том, что софизмы не были изобретением одних софистов, а являлись скорее чем-то обычным для многих школ античной философии.
Характерно, что для широкой публики софистами были также Сократ, Платон и сам Аристотель. Не случайно Аристофан в комедии «Облака» представил Сократа типичным софистом. В ряде диалогов Платона человеком, старающимся запутать своего противника тонкими вопросами, выглядит иногда в большей мере Сократ, чем Протагор.
Широкую распространенность софизмов в Древней Греции можно понять, только если предположить, что они как-то выражали дух своего времени и являлись одной из особенностей античного стиля мышления.
Отношения между софизмами и парадоксами еще одна тема, не получающая своего развития в рамках обычного истолкования софизмов.
Парадокс в широком смысле — это утверждение, резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися мнениями. Парадоксами в этом довольно неопределенном смысле являются и афоризмы, подобные «люди жестоки, но человек добр», и так называемые «космологические парадоксы», и вообще любые мнения и суждения, отклоняющиеся от традиции и противостоящие общепринятому, проверенному, «ортодоксальному». Все софизмы являются, конечно, парадоксами в этом смысле.
В отличие от софизмов парадоксы трактуются со всей серьезностью: наличие в теории парадокса говорит о явном несовершенстве допущений, лежащих в ее основе.
Однако очевидно, что грань между софизмами и парадоксами не является сколько-нибудь определенной. В случае многих конкретных рассуждений невозможно решить на основе стандартных определений софизма и парадокса, к какому из этих двух классов следует отнести данные рассуждения.
Отделение софизмов от парадоксов является настолько неопределенным, что о целом ряде конкретных рассуждений нередко прямо говорится как о софизмах, не являющихся пока парадоксами или не относимых еще к парадоксам. Так обстоит дело, в частности, с рассматриваемыми далее софизмами «медимн зерна», «покрытый», «Протагор и Еватл» и целым рядом других.
Уже из одних общих соображений ясно, что с софизмами дело обстоит далеко не так просто, как это принято обычно представлять. Стандартное их истолкование сложилось, конечно, не случайно. Но оно очевидным образом не исчерпывает всего существа дела. Необходим специальный, и притом конкретно-исторический анализ, который только и способен показать узость и ограниченность этого истолкования. Одновременно он должен выявить роль софизмов как в развитии теоретического мышления, так и, в частности, в развитии формальной логики.
2. Апории Зенона
Обратимся теперь к конкретным софизмам и тем проблемам, которые стоят за ними.
Знаменитые рассуждения древнегреческого философа Зенона «Ахиллес и черепаха», «дихотомия» и др., называемые обычно «апориями» («затруднениями»), были направлены будто бы против движения и существования многих вещей. Сама идея доказать, что мир — это одна-единственная и к тому же неподвижная вещь, нам сегодня кажется странной. Да странной она считалась и древними. Настолько странной, что «доказательства», приводившиеся Зеноном, сразу же были отнесены к простым уловкам, причем лишенным, в общем-то, особой хитрости. Такими они и считались две с лишним тысячи лет, а иногда считаются и теперь. Посмотрите, читатель, как они формулируются, и обратите внимание на их внешнюю простоту и незамысловатость.
Самое быстрое существо не способно догнать самое медленное, быстроногий Ахиллес никогда не настигнет медлительную черепаху. Пока Ахиллес добежит до черепахи, она продвинется немного вперед. Он быстро преодолеет и это расстояние, но черепаха уйдет еще чуточку вперед. И так до бесконечности. Всякий раз, когда Ахиллес будет достигать места, где была перед этим черепаха, она будет оказываться хотя бы, немного, но впереди.
В «дихотомии» обращается внимание на то, что движущийся предмет должен дойти до половины своего пути прежде, чем он достигнет его конца. Затем он должен пройти половину оставшейся половины, затем половину этой четвертой части и т. д. до бесконечности. Предмет будет постоянно приближаться к конечной точке, но так никогда ее не достигнет.
Это рассуждение можно несколько переиначить. Чтобы пройти половину пути, предмет должен пройти половину этой половины, а для этого нужно пройти половину этой четверти и т. д. Предмет в итоге так и не сдвинется с места.
Этим простеньким на вид рассуждениям посвящены сотни философских и научных работ. В них десятками разных способов доказывается, что допущение возможности движения не ведет к абсурду, что наука геометрия свободна от парадоксов и что математика способна описать движение без противоречия.
Обилие опровержений доводов Зенона показательно. Не вполне ясно, в чем именно состоят эти доводы, что они доказывают. Не ясно, как это «что-то» доказывается и есть ли здесь вообще доказательства? Чувствуется только, что какие-то проблемы или затруднения все-таки есть. И прежде чем опровергать Зенона, нужно выяснить, что именно он намеревался сказать и как он обосновывал свои тезисы. Сам он не формулировал прямо ни проблем, ни своих решений этих проблем. Есть, в частности, только коротенький рассказ, как Ахиллес безуспешно пытается догнать черепаху.
Извлекаемая из этого описания мораль зависит, естественно, от того более широкого фона, на котором оно рассматривается и меняется с изменением этого фона.
Рассуждения Зенона сейчас, надо думать, окончательно выведены из разряда хитроумных уловок. Они, по словам Б. Рассела, «в той или иной форме затрагивают основания почти всех теорий пространства, времени и бесконечности, предлагавшихся с его времени до наших дней».
Общность этих рассуждений с другими софизмами древних несомненна. И те и другие имеют форму краткого рассказа или описания простой в своей основе ситуации, за которой не стоит как будто никаких особых проблем. Однако описание преподносит обыденное явление так, что оно оказывается явно несовместимым с устоявшимися представлениями о нем. Между этими обычными представлениями о явлении и описанием его в апории или софизме возникает резкое расхождение, даже противоречие. Как только оно замечается, рассказ теряет видимость простой и безобидной констатации. За ним открывается неожиданная и неясная глубина, в которой смутно угадывается какой-то вопрос или даже многие вопросы. Трудно сказать с определенностью, в чем именно состоят эти вопросы, их еще предстоит уяснить и сформулировать, но очевидно, что они есть. Их надо извлечь из рассказа подобно тому, как извлекается мораль из житейской притчи. И как в случае притчи, результаты размышления над рассказом важным образом зависят не только от него самого, но и от того контекста, в котором этот рассказ рассматривается. В силу этого вопросы оказываются не столько поставленными, сколько навеянными рассказом. Они меняются от человека к человеку и от времени ко времени. И нет полной уверенности в том, что очередная пара «вопрос — ответ» исчерпала все содержание рассказа.
3. «Медимн зерна»
Зенон предложил еще один софизм — «медимн зерна» (примерно мешок зерна), послуживший прототипом для знаменитых софизмов Евбулида «куча» и «лысый».
Большая масса мелких, просяных, например, зерен при падении на землю всегда производит шум. Он складывается из шума отдельных зерен, и, значит, каждое зерно и каждая малейшая часть зерна должны, падая, производить шум. Однако отдельное зерно падает на землю совершенно бесшумно. Значит и падающий на землю медимн зерна не должен был бы производить шум, ведь он состоит из множества зерен, каждое из которых падает бесшумно. Но все-таки медимн зерна падает с шумом!
Во второй половине ХIX века начала складываться экспериментальная психология. «Медимн зерна» стал истолковываться — в духе времени — как первое неясное указание на существование только что открытых порогов восприятия. Это истолкование многим кажется убедительным и сегодня.
Человек слышит не все звуки, а только достигающие определенной силы. Падение отдельного зерна производит шум, но он настолько слаб, что лежит за пределами человеческого слуха. Падение же многих зерен дает шум, улавливаемый человеком. «Если бы Зенон был знаком с теорией звука, — писал тогда немецкий философ Т. Брентано, — он не измыслил бы, конечно, своего аргумента».
Как-то при таком объяснении совершенно не замечалось одно простое, но меняющее все дело обстоятельство: софизм «медимн зерна» строго аналогичен софизмам «куча» и «лысый». Но последние не имеют никакого отношения ни к теории звука, ни к психологии слуха.
Значит, для них нужны какие-то другие и притом разные объяснения.
Это кажется явно непоследовательным. Однотипные софизмы должны решаться одинаково. Кроме того, раз уловлен принцип построения подобных софизмов, их можно формулировать сколько заблагорассудится. Было бы наивно, однако, для каждого из них искать какое-то свое решение.
Ясно, что ссылки на психологию восприятия не улавливают существа того затруднения, которое обыгрывается рассматриваемыми софизмами.
Гораздо более глубоким является их анализ, данный Г. Гегелем. Вопросы: «Создает ли прибавление одного зерна кучу?», «Становится ли хвост лошади голым, если вырвать из него один волос?» — кажутся наивными. Но в них находит свое выражение попытка древних греков представить наглядно противоречивость всякого изменения.
Постепенное, незаметное, чисто количественное изменение какого-то объекта не может продолжаться бесконечно. В определенный момент оно достигает своего предела, происходит резкое качественное изменение и объект переходит в другое качество. Например, при температуре от 0° до 100 °C вода представляет собой жидкость. Постепенное нагревание ее заканчивается тем, что при 100 °C она закипает и резко, скачком переходит в другое качественное состояние — превращается в пар. «Когда происходит количественное изменение, — пишет Гегель, — оно кажется сначала совершенно невинным, но за этим изменением скрывается еще и нечто другое, и это кажущееся невинным изменение количественного представляет собой как бы хитрость, посредством которой уловляется качественное».
Софизмы типа «медимн зерна», «куча», «лысый» являются также наглядным примером тех трудностей, к которым ведет употребление неточных или «размытых» понятий. Но об этом уже говорилось в третьей главе.
4. «Неопредмеченное» знание
Софизмы «Электра» и «покрытый» до сих пор приводятся в качестве характерных образцов «мнимой мудрости».
В одной из трагедий Еврипида есть сцена, в которой Электра и Орест, брат и сестра, встречаются после очень долгой разлуки. Знает ли Электра своего брата? Да, она знает Ореста. Но вот он стоит перед нею, непохожий на того, которого она видела последний раз, и она не знает, что этот человек — Орест. Значит, она знает то, что она не знает?
Близкой вариацией на эту же тему является «покрытый». Я знаю, скажем, Сидорова, но не знаю, что рядом со мной, чем-то накрывшись, стоит именно он. Меня спрашивают: «Знаете ли вы Сидорова?» Мой утвердительный ответ будет и верным и неверным, так как я не знаю, что за человек рядом со мной. Если бы он открылся, я мог бы сказать, что всего лишь не узнал его.
Иногда этому софизму придают форму, в которой, как кажется, его пустота и беспомощность становятся особенно наглядными.
— Знаете ли вы, о чем я сейчас хочу вас спросить?
— Нет.
— Неужели вы не знаете, что лгать — нехорошо?
— Конечно, знаю.
— Но именно об этом я и собирался вас спросить, а вы ответили, что не знаете.
Дело, однако, не в форме изложения, сколь бы пустой она ни казалась. Дело в том, что такие ситуации «незнающего» знания обычны в познании, и притом не только в абстрактной, увлекшейся теоретизированием науке, но и в самых элементарных актах познания. Читателю такая мысль может показаться, пожалуй, странной. Но не стоит торопиться с возражениями, в дальнейшем простые примеры наглядно покажут, что это действительно так.
Аристотель пытался разрешать подобные софизмы, ссылаясь на двусмысленность глагола «знать». Действительно, момент двусмысленности здесь есть. Можно знать, что ложь предосудительна, и не знать, что именно об этом вас хотят спросить.
Но ограничиться здесь простой ссылкой на двусмысленность — значит не понять глубины самой двусмысленности и упустить самое важное и интересное.
Могут ли считаться истинными знания о предмете, если их не удается поставить в соответствие с самим предметом. Эта проблема непосредственно стоит за рассматриваемыми софизмами. Они фиксируют живое противоречие между наличием знания о предмете и опознанием этого предмета. О том, насколько важным является такое противоречие, говорит вся история теоретической науки и в особенности развитие современной, обычно высоко абстрактной науки.
Истина является бесконечным приближением к своему объекту. Абстрактной истины, как известно, нет, истина всегда конкретна. Отождествляя наши знания о некотором предмете с конкретным предметом, мы тем самым изменяем и углубляем их. Очевидно, что конкретное применение знаний требует узнавания предмета, и неудивительно, что узнавание является важной составляющей познавательной деятельности.
Всегда имеется расхождение между сложившимися представлениями об исследуемом фрагменте действительности и самим этим фрагментом. В случае научной теории — это расхождение или рассогласование между теоретическими представлениями об изучаемых объектах и самими эмпирическими данными в опыте объектами. Такое расхождение особенно велико на начальных этапах исследования, когда целому ряду теоретических выводов еще не удается поставить в соответствие никаких эмпирических данных.
Хорошим примером здесь может служить предсказание выдающимся русским химиком Д. И. Менделеевым существования новых химических элементов. Поскольку эмпирически они не были еще открыты и существовали только в «теоретическом пространстве», которое само еще не устоялось и не имело отчетливых очертаний, Менделеев несколько лет не решался обнародовать свое предсказание.
Характерным примером, относящимся уже к современной физике, является предсказание в начале 30-х годов английским физиком П. Дираком существования элементарной частицы нейтрино. Физики сразу же согласились, что введение этой «высокотеоретической» частицы было полезным и, возможно, даже необходимым с точки зрения теории. Но только спустя примерно два десятилетия непосредственные следы нейтрино удалось обнаружить в сцинтилляционных камерах. Теория давала определенное знание об этой частице, но понадобился сравнительно большой промежуток времени, пока оно было, наконец, дополнено опознанием самой частицы. Чисто теоретическое до той поры знание было с этого момента связано с эмпирическими явлениями и тем самым «опредмечено».
Несовпадение теоретического вывода и эмпирического результата всегда означает существование «неопредмеченного» знания, или знания о «неопознанных» объектах, которое было образно названо «незнающим» знанием. Софизмы, подобные «покрытому», как раз и обращают внимание на возможность и в общем-то обычность такого знания.
Они ставят также вопрос о том, что является критерием истинности теоретических утверждений, объекты которых еще не обнаружены в действительности или вообще не существуют реально, подобно «абсолютно черному телу» или «идеальному газу».
Истинной является мысль, соответствующая описываемому ею объекту. Но если этот объект неизвестен, с чем тогда должна сопоставляться мысль для суждения о ее истинности? Ответ на этот вопрос сложен и вызывает немало споров в современной методологии науки.
Эта и другие проблемы могут быть «вычитаны» из обсуждаемых софизмов только при достаточно высоком уровне научного знания и знания о самом этом знании. Но эти проблемы, пусть в самой «зародышевой» и иносказательной форме, все-таки поднимались данными софизмами.
Что касается двусмысленности слова «знать», как и двусмысленности вообще, то нужно заметить, что она далеко не всегда является досадной ошибкой отдельного, недостаточно последовательного ума. Двусмысленность может носить не только субъективный характер, являясь выражением некоторой логической нетренированности. Расхождение теоретического и эмпирического — постоянный и вполне объективный источник неопределенности и двусмысленности.
5. «Вечно перестраиваемое здание»
Софизм «покрытый» можно переформулировать так, что обнаружится еще одна сторона скрывающейся за ним проблемы.
Допустим, что рядом со мной стоит, накрывшись, не Сидоров, а какой-то другой человек, но я не знаю об этом. Знаю ли я Сидорова? Конечно, знаю. Но рядом со мной кто-то неизвестный. А вдруг это как раз Сидоров? Отвечая «знаю», я в какой-то мере рискую, ибо опять могу оказаться в положении, когда, зная Сидорова, я не узнал его, пока он не раскрылся.
Можно даже упростить ситуацию. Рядом со мной, не прячась, стоит Сидоров. Знаю ли я его? Да, знаю и узнаю. А знаю ли я, что у Сидорова восемь детей? Нет, этого я как раз и не знаю. Но без знания такого важного факта, определяющего, скорее всего, все остальное в жизни Сидорова, чего стоят имеющиеся у меня разрозненные сведения о нем?
Эти упрощенные до предела и звучащие наивно примеры намекают, однако, на важные моменты, касающиеся знания. Оно всегда является в определенном смысле неполным и никогда не приобретает окончательных, окостеневших очертаний. Элементы знания многообразно связаны между собой. Сомнение в каких-то из них непременно иррадиирует на другие области и элементы, и неясность даже на окраинах системы знания легкой дымкой растекается по всей системе. Введение новых элементов, особенно если они выглядят существенными с точки зрения данной системы, нередко заставляет перестроить ее всю.
Научная теория как система утверждений напоминает в этом плане здание, которое приходится перестраивать снизу доверху с надстройкой каждого нового этажа.
Все эти намеки на неполноту, системность и постоянную перестройку знания тоже можно — при большом, правда, желании — усмотреть за софизмами типа «покрытого».
Многое из сказанного здесь о научном знании приложимо и ко всем другим формам знания.
Имеется знание о Гамлете, принце датском, описанном в трагедии В. Шекспира. Но сколько есть талантливых актеров, столько и разных Гамлетов. Известный русский актер В. Качалов изображал в своем Гамлете почти и исключительно одну сыновнюю любовь к матери.
Во всей трагедии он подчеркивал, прежде всего, слова, выражающие эту любовь. Другие актеры выдвигают на первый план одиночество, покинутость, беспомощность, крайнее отчаяние и полное бессилие Гамлета. Иногда, наоборот, в нем видятся воля, сила и мощь, и всем его поступкам придается характер запланированности и заранее замысленного зла. Существовали Гамлеты-философы, абстрактные мыслители, не столько действующие и чувствующие, сколько над всем рефлектирующие и все анализирующие. Были Гамлеты, потерявшиеся в дворцовом окружении.
Гамлет в описании В. Шекспира — это только литературный персонаж, так сказать, теоретический, «не-опредмеченный» Гамлет. Гамлет в спектакле по Шекспиру — это «опредмечивание» литературного Гамлета.
Полное знание Гамлета требует единства теоретического и предметного, литературного и сценического. При совсем уж плохом исполнении пьесы можно сказать: «Знаю Гамлета, но не узнаю его».
Рассматриваемые софизмы затрагивают, помимо общих вопросов, и собственно логические проблемы. Они обращают, в частности, внимание на различие между экстенсиональными и интенсиональными контекстами, имеющее важное значение в современной логике. Особенность вторых в том, что они не допускают замены друг на друга разных имен, обозначающих один и тот же предмет. Форма «Электра знает, что X — ее брат» является, как раз частным случаем интенсиональных выражений. Подстановка в эту форму вместо переменной X имени «Орест» дает истинное высказывание. Но, подставив имя «этот покрытый человек», обозначающее того же человека, что и имя «Орест», получим уже ложное высказывание.
Конечно, теперь это различие является хорошо известным в логике. Но в седой античности, когда еще и логики как науки не существовало, удалось все-таки если и не выразить его явно и отчетливо, то хотя бы почувствовать. Это и сделали «Электра» и «покрытый». Они указали, сверх того, на опасности, связанные с пренебрежением данным различием.
6. Софизмы и зарождение логики
Очень многие софизмы выглядят как лишенная смысла и цели игра с языком; игра, опирающаяся на многозначность языковых выражений, их неполноту, недосказанность, зависимость их значений от контекста и т. д. Эти софизмы кажутся особенно наивными и несерьезными.
Платон описывает как два софиста запутывают простодушного человека по имени Ктесипп. — Скажи-ка, есть ли у тебя собака?
— И очень злая, — отвечал Ктесипп.
— А есть ли у нее щенята?
— Да, тоже злые.
— А их отец, конечно, собака же?
— Я даже видел, как он занимается с самкой.
— И этот отец тоже твой?
— Конечно.
— Значит, ты утверждаешь, что твой отец — собака и ты брат щенят!
Смешно, если и не Ктесиппу, то всем окружающим, ведь такие беседы обычно происходили при большом стечении народа. Но только ли смешно?
Или «доказательство» того, что глаза не нужны для зрения, поскольку, закрыв любой из них, мы продолжаем видеть. Только ли комичная ерунда здесь?
Или такое рассуждение:
«Тот, кто лжет, говорит о деле, о котором идет речь, или не говорит о нем; если он говорит о деле, он не лжет; если он не говорит о деле, он говорит о чем-то несуществующем, а о нем невозможно ни мыслить, ни говорить».
Эту игру понятиями Платон представлял просто как смешное злоупотребление языком и сам, придумывая софизмы, не раз показывал софистам, насколько легко подражать их искусству играть словами. Но нет ли здесь и второго, более глубокого и серьезного плана? Не вытекает ли отсюда интересная для логики мораль?
И, как это ни кажется поначалу странным, такой план здесь определенно есть и такую мораль, несомненно, можно извлечь. Нужно только помнить, что эти и подобные им рассуждения велись очень давно. Так давно, что не было даже намеков на существование особой науки о доказательстве и опровержении, не были открыты ни законы логики, ни сама идея таких законов.
Все эти софистические игры и шутки, несерьезность и увертливость в споре, склонность отстаивать самое нелепое положение и с одинаковой легкостью говорить «за» и «против» любого тезиса, словесная эквилибристика, являющаяся вызовом как обычному употреблению языка, так и здравому смыслу, — все это только поверхность, за которой скрывается глубокое и серьезное содержание. Оно не осознавалось ни самими софистами, ни их противниками, включая Платона и Аристотеля, но оно очевидно сейчас.
В софистике угас интерес к вопросу как устроен мир, но осталась та же мощь абстрагирующей деятельности, какая была у предшествующих философов. И одним из объектов этой деятельности стал язык. В софистических рассуждениях он подвергается всестороннему испытанию, осматривается, ощупывается, переворачивается с ног на голову и т. д. Это испытание языка действительно напоминает игру, нередко комичную и нелепую для стороннего наблюдателя, но в основе своей подобную играм подрастающих хищников, отрабатывающих в них приемы будущей охоты. В словесных упражнениях, какими были софистические рассуждения, неосознанно отрабатывались первые, конечно, еще неловкие приемы логического анализа языка и мышления.
Обычно Аристотеля, создавшего первую последовательную логическую теорию, рисуют как прямого и недвусмысленного противника софистов во всех аспектах. В общем, это так. Однако в отношении логического анализа языка он был прямым продолжателем начатого ими дела. И можно сказать, что, если бы не было Сократа и софистов, не создалось бы почвы для его подвига.
Софисты придавали исключительное значение человеческому слову и первыми не только подчеркнули, но и показали на деле его силу. «Слово, — говорил софист Горгий, — есть великий властелин, который, обладая весьма малым и совершенно незаметным телом, совершает чудеснейшие дела. Ибо оно может и страх изгнать, и печаль уничтожить, и радость вселить, и сострадание пробудить… То же самое значение имеет сила слова в отношении к настроению души, какую сила лекарства относительно природы тел. Ибо подобно тому, как из лекарств одни изгоняют из тела одни соки, другие — иные, и одни из них устраняют болезнь, а другие прекращают жизнь, точно так же и из речей одни печалят, другие радуют, третьи устрашают, четвертые ободряют, некоторые же отравляют и околдовывают душу, склоняя ее к чему-нибудь дурному».
Вопрос о «силе слова» — это, используя выражение Аристотеля, вопрос об истоках «принудительной силы наших речей». В конечном счете это вопрос о логической необходимости, заставляющей нас принять вывод рассуждение, если приняты его посылки.
Язык, являвшийся до софистов только незаметным стеклом, через которое рассматривается мир, со времени софистов впервые стал непрозрачным. Чтобы сделать его таким, а тем самым превратить его в объект исследования, необходимо было дерзко и грубо обращаться с устоявшимися и инстинктивными правилами его употребления. Превращение языка в серьезный предмет особого анализа, в объект систематического исследования было первым шагом в направлении создания науки логики.
Важным является также типичное для софистов подчеркнуто формальное отношение к языку. Отрывая мысль от ее объекта, они отодвигают в сторону вопрос о соответствии ее этому объекту, поглощающий обычно все внимание, и замыкают мысль, потерявшую интерес к действительности и истине, только на слове. Как раз на этом пути, на пути преимущественного структурного восприятия языка и отвлечения от выражаемого им содержания, и возникло центральное понятие логики — понятие о чистой, или логической, форме мысли.
«…О чем бы ни шла речь, — говорит о софистах Платон, — об истинном или ложном, они опровергали все совершенно одинаково». Со всех, пожалуй, точек зрения такое поведение предосудительно, кроме одной, именно той, что связана с логической формой. Выявление этой формы требует как раз полного отвлечения от конкретного содержания и, таким образом, от вопроса об истине. В идее аргументации с равной силой «за» и «против» любого положения, идее, проводимой сознательно и последовательно, можно усматривать зародыш основного принципа формальной логики: правильность рассуждения зависит только от его формы и ни от чего иного. Она не зависит, в частности, от существования или не существования обсуждаемого объекта, от его ценности или никчемности и т. д. Она не зависит и от истинности или ложности входящих в рассуждение утверждений — эта мысль смутно просматривается как будто за вольным обращением софистов с истиной и ложью.
В софизмах есть смутное предвосхищение многих конкретных законов логики, открытых гораздо позднее. Особенно часто обыгрывается в них тема недопустимости противоречий в мышлении.
— Скажи, — обращается софист к молодому любителю споров, — может одна и та же вещь иметь какое-то свойство и не иметь его?
— Очевидно, нет. — Посмотрим. Мед сладкий?
— Да.
— И желтый тоже?
— Да, мед сладкий и желтый. Но что из этого?
— Значит, мед сладкий и желтый одновременно. Но желтый — это сладкий или нет?
— Конечно, нет. Желтый — это желтый, а не сладкий.
— Значит, желтый — это не сладкий?
— Конечно.
— О меде ты сказал, что он сладкий и желтый, а потом согласился, что желтый, значит, не сладкий, и значит, как бы сказал, что мед является сладким и не сладким одновременно. А ведь вначале ты твердо говорил, что ни одна вещь не может и обладать и не обладать каким-то свойством.
Конечно, софисту не удалось доказать, что мед имеет противоречащие друг другу свойства, являясь сладким и несладким вместе. Подобные утверждения невозможно доказать: они несовместимы с логическим законом противоречия, говорящим, что высказывание и его отрицание («мед сладкий» и «мед не является сладким») не могут быть истинными одновременно.
И вряд ли софист всерьез стремится опровергнуть данный закон. Он только делает вид, что нападает на него, ведь он упрекает собеседника, что тот путается и противоречит себе. Такая попытка оспорить закон противоречия выглядит скорее защитой его. Ясной формулировки закона здесь, разумеется, нет, речь идет только о приложении его к частному случаю.
«Софисты, — пишет французский историк философии Э. Гратри, — это те, которые не допускают ни в умозрении, ни в практике той основной и необходимой аксиомы разума, что невозможно и утверждать и отрицать одно и то же, в одно и то же время, в одном и том же смысле и в одном и том же отношении».
Очевидно, что это совершенно несправедливое обвинение. Актерство софистов, разыгрывание ими сомнения в справедливости приложений закона противоречия принимается Гратри за чистую монету. Когда софист говорит от себя, а не по роли, что, впрочем, бывает крайне редко, он вовсе не кажется защитником противоречивого мышления. В диалоге «Софист» Платон замечает, что испытание мыслей на противоречивость является несомненным требованием справедливости. Эта мысль Платона является только повторением утверждения софиста Горгия.
Таким образом, софизмы древних, сформулированные еще в тот период, когда логики как теории правильного рассуждения еще не было, в большинстве своем прямо ставят вопрос о необходимости ее построения. «Прямо» в той мере, в какой это вообще возможно для софистического способа постановки проблем. Именно с софистов началось осмысление и изучение доказательства и опровержения. И в этом плане они явились прямыми предшественниками Аристотеля.
7. Трагедия и фарс
Чаще всего анализ софизма не может быть завершен раскрытием логической или фактической ошибки, допущенной в нем. Это как раз самая простая часть дела. Сложнее уяснить проблемы, стоящие за софизмом, и тем самым раскрыть источник недоумения и беспокойства, вызываемого им, и объяснить, что придает ему видимость убедительного рассуждения.
В обычном представлении и в специальных работах, касающихся развития науки, общим местом является положение, что всякое исследование начинается с постановки проблемы. Последовательность «проблема — исследование — решение» считается приложимой ко всем стадиям развития научных теорий и ко всем видам человеческой деятельности. Хорошая, то есть ясная и отчетливая, формулировка задачи рассматривается как непременное условие успеха предстоящего исследования или иной деятельности.
Все это верно, но лишь применительно к развитым научным теориям и достаточно стабилизировавшейся и отработанной деятельности. В теориях, находящихся на начальных этапах своего развития и только нащупывающих свои основные принципы, выдвижение и уяснение проблем во многом совпадает и переплетается с самим процессом исследования и не может быть однозначно отделено от него. Аналогично в случае других видов человеческой деятельности.
В обстановке, когда нет еще связной, единой и принятой большинством исследователей теории, твердой в своем ядре и развитой в деталях, проблемы ставятся во многом в расчете на будущую теорию. И они являются столь же расплывчатыми и неопределенными, как и те теоретические построения и сведения, в рамках которых они возникают.
Эту особую форму выдвижения проблем можно назвать «парадоксальной» или «софистической». Она подобна в своем существе тому способу, каким в античности поднимались первые проблемы, касающиеся языка и логики.
Отличительной особенностью софизма является его двойственность, наличие, помимо внешнего, еще и определенного внутреннего содержания. В этом он подобен символу и притче.
Подобно притче, внешне софизм говорит о хорошо известных вещах. При этом рассказ обычно строится так, чтобы поверхность не привлекала самостоятельного внимания и тем или иным способом — чаще всего путем противоречия здравому смыслу — намекала на иное, лежащее в глубине содержание. Последнее, как правило, неясно и многозначно. Оно содержит в неразвернутом виде, как бы в зародыше, проблему, которая чувствуется, но не может быть сколько-нибудь ясно сформулирована до тех пор, пока софизм не помещен в достаточно широкий и глубокий контекст. Только в нем она обнаруживается в сравнительно отчетливой форме. С изменением контекста и рассмотрением софизма под углом зрения иного теоретического построения обычно оказывается, что в том же софизме скрыта совершенно иная проблема.
В русских сказках встречается мотив очень неопределенного задания. «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Как это ни удивительно, однако герой, отправляясь «неизвестно куда», попадает как раз туда, куда требуется, и, отыскивая «неизвестно что», находит именно то, что нужно. Задача, которую ставит софизм, подобна этому заданию, хотя и является намного более определенной.
В притче «Перед параболами» Ф. Кафка пишет: «Слова мудрецов подобны параболам. Когда мудрец говорит: «Иди туда», то он не имеет в виду, что ты должен перейти на другую сторону. Нет, он имеет в виду некое легендарное «Там», нечто, чего мы не знаем, что и он сам не мог бы точнее обозначить». Это точная характеристика софизма как разновидности притчи. Нельзя только согласиться с Кафкой, что «все эти параболы только одно — непостижимое непостижимо». Содержание софизмов разностороннее и глубже, и оно, как показывает опыт их исследования, вполне постижимо.
В заключение обсуждения проблем, связанных с софизмами, необходимо подчеркнуть, что не может быть и речи о реабилитации или каком-то оправдании тех рассуждений, которые преследуют цель выдать ложь за истину, используя для этого логические или семантические ошибки.
Речь идет только о том, что слово «софизм» имеет, кроме этого современного и хорошо устоявшегося смысла, еще и иной смысл. В этом другом смысле софизм представляет собой неизбежную на определенном этапе развития теоретического мышления форму постановки проблем. Сходным образом и само слово «софист» означает не только «интеллектуального мошенника», но и философа, впервые задумавшегося над проблемами языка и логики.
Все в истории повторяется, появляясь в первый раз как трагедия, а во второй — как фарс. Перефразируя этот афоризм, можно сказать, что софизм, впервые выдвигающий некоторую проблему, является, в сущности, трагедией недостаточно зрелого и недостаточно знающего ума, пытающегося как-то понять то, что он пока не способен выразить даже в форме вопроса. Софизм, вуалирующий известную и, возможно, уже решенную проблему, повторяющий тем самым то, что уже пройдено, является, конечно, фарсом.
Глава 12. Логические парадоксы
Влюбленная лягушка не была бы в восторге, превратись ее избранник в прекрасного принца.
М. КулиХорошо быть свободным, когда ты не один.
Э. М. РемаркПравда, в отличие от лжи, не должна быть правдоподобной.
А. КуморВечная загадка не та, у которой нет разгадки, а та, у которой разгадка всякий день новая.
С. Е. ЛецФакт всегда глуп.
Ф. НицшеСовершенство представляет собой знание о собственном несовершенстве.
Августин1. Что такое парадокс
В широком смысле парадокс — это положение, резко расходящееся с общепринятыми, устоявшимися, «ортодоксальными» мнениями.
Парадокс в более узком и специальном значении — это два противоположных, несовместимых утверждения, для каждого из которых имеются кажущиеся убедительными аргументы.
Наиболее резкая форма парадокса — антиномия, рассуждение, доказывающее эквивалентность двух утверждений, одно из которых является отрицанием другого.
Особой известностью пользуются парадоксы в самых строгих и точных науках — математике и логике. И это не случайно.
Логика — абстрактная наука. В ней нет экспериментов, нет даже фактов в обычном смысле этого слова. Строя свои системы, логика исходит, в конечном счете, из анализа реального мышления. Но результаты этого анализа носят синтетический, нерасчлененный характер. Они не являются констатациями каких-либо отдельных процессов или событий, которые должна была бы объяснить теория. Такой анализ нельзя, очевидно, назвать наблюдением: наблюдается всегда конкретное явление.
Конструируя новую теорию, ученый обычно отправляется от фактов, от того, что можно наблюдать в опыте. Как бы ни была свободна его творческая фантазия, она должна считаться с одним непременным обстоятельством: теория имеет смысл только в том случае, когда она согласуется с относящимися к ней фактами. Теория, расходящаяся с фактами и наблюдениями, является надуманной и ценности не имеет.
Но если в логике нет экспериментов, нет фактов и нет самого наблюдения, то чем сдерживается логическая фантазия? Какие если не факты, то факторы принимаются во внимание при создании новых логических теорий?
Расхождение логической теории с практикой действительного мышления нередко обнаруживается в форме более или менее острого логического парадокса, а иногда даже в форме логической антиномии, говорящей о внутренней противоречивости теории. Этим как раз объясняется то значение, которое придается парадоксам в логике, и то большое внимание, которым они в ней пользуются.
Специальная литература на тему парадоксов практически неисчерпаема. Достаточно сказать, что только об одном из них — парадоксе лжеца — написано более тысячи работ.
Внешне логические парадоксы, как правило, просты и даже наивны. Но в своей лукавой наивности они подобны старому колодцу: с виду лужица, а дна не достанешь.
Большая группа парадоксов говорит о том круге вещей, к которому они сами относятся. Их особенно сложно отделить от утверждений, по виду парадоксальных, но на самом деле не ведущих к противоречию.
Возьмем, к примеру, высказывание «Из всех правил имеются исключения». Само оно является, очевидно, правилом. Значит, из него можно найти, по крайней мере, одно исключение. Но это означает, что существует правило, не имеющее ни одного исключения. Высказывание содержит ссылку на само себя и отрицает само себя. Есть ли здесь логический парадокс, замаскированное и утверждение, и отрицание одного и того же? Впрочем, ответить на этот вопрос довольно просто.
Можно задуматься также над тем, не является ли внутренне непоследовательным мнение, будто всякое обобщение неверно, ведь само это мнение — обобщение. Или совет — никогда ничего не советовать? Или максима «Не верьте ничему!», относящаяся и к самой себе? Древнегреческий поэт Агафон как-то заметил: «Весьма правдоподобно, что совершается много неправдоподобного». Не оказывается ли здесь правдоподобное наблюдение поэта само неправдоподобным событием?
2. «Король логических парадоксов»
Парадоксы не всегда легко отделить от того, что только напоминает их. Еще труднее сказать, откуда возник парадокс, чем не устраивают нас самые естественные, казалось бы, допущения и многократно проверенные способы рассуждения.
С особой выразительностью это показывает один из наиболее древних и, пожалуй, самый знаменитый из логических парадоксов — парадокс лжеца. Он относится как раз к выражениям, говорящим о самих себе. Открыл его Евбулид из Милета, придумавший многие интересные, до сих пор вызывающие полемику задачи. Но подлинную славу Евбулиду принес как раз парадокс лжеца.
В простейшем варианте этого парадокса человек произносит всего одну фразу: «Я лгу». Или говорит: «Высказывание, которое я сейчас произношу, является ложным». Или: «Это высказывание ложно».
Если высказывание ложно, то говорящий сказал правду и, значит, сказанное им не является ложью. Если же высказывание не является ложным, а говорящий утверждает, что оно ложно, то это его высказывание ложно. Оказывается, таким образом, что, если говорящий лжет, он говорит правду, и наоборот.
В средние века распространенной была такая формулировка: «— Сказанное Платоном — ложно, — говорит Сократ. — То, что сказал Сократ, — истина, — говорит Платон».
Возникает вопрос, кто из них высказывает истину, а кто — ложь? А вот современная перефразировка данного парадокса. Допустим, что на лицевой стороне карточки написаны только слова: «На другой стороне этой карточки написано истинное высказывание». Ясно, что эти слова представляют собой осмысленное утверждение. Перевернув карточку, мы должны либо обнаружить обещанное высказывание, либо нет. Если оно написано на обороте, то оно является либо истинным, либо нет. Однако на обороте стоят слова: «На другой стороне этой карточки написано ложное высказывание» — и ничего более. Допустим, что утверждение на лицевой стороне истинно. Тогда утверждение на обороте должно быть истинным, и, значит, утверждение нa лицевой стороне должно быть ложным. Но если утверждение с лицевой стороны ложно, тогда утверждение на обороте также должно быть ложным, и, следовательно, утверждение ни лицевой стороне должно быть истинным. В итoгe — парадокс.
Парадокс «лжеца» произвел громадное впечатление на греков. И легко понять почему. Вопрос, который в нем ставится, с первого взгляда кажется совсем простым: лжет ли тот, кто говорит только то, что он лжет? Но ответ «да» приводит к ответу «нет», и наоборот. И размышление ничуть не проясняет ситуацию. За простотой и даже обыденностью вопроса оно открывает какую-то неясную и неизмеримую глубину.
Ходит даже легенда, что некий Ф. Косский, отчаявшись разрешить этот парадокс, покончил с собой. Говорят также, что один из известных древнегреческих логиков, Д. Кронос, уже на склоне лет дал обет не принимать пищу до тех пор, пока не найдет решение «лжеца», и вскоре умер, так ничего и не добившись.
В средние века этот парадокс был отнесен к так называемым «неразрешимым предложениям» и сделался объектом систематического анализа.
В новое время «лжец» долго не привлекал никакого внимания. За ним не видели никаких, даже малозначительных затруднений, касающихся употребления языка. И только в наше, так называемое новейшее время развитие логики достигло, наконец, уровня, когда проблемы, стоящие, как представляется, за этим парадоксом, стало возможным формулировать уже в строгих терминах.
Теперь «лжец» нередко именуется «королем логических парадоксов». Ему посвящена обширная научная литература.
Предложенные решения парадокса «лжец»
И тем не менее как и в случае многих других парадоксов, остается не вполне ясным, какие именно проблемы скрываются за ним и как следует избавляться от него.
Итак, существуют высказывания, говорящие о своей собственной истинности или ложности. Идея, что такого рода высказывания не являются осмысленными, очень стара. Еe отстаивал еще древнегреческий логик Хрисипп.
В средние века английский философ и логик У. Оккам заявил, что утверждение «Всякое высказывание ложно» бессмысленно, поскольку оно говорит в числе прочего и о своей собственной ложности. Из этого утверждения прямо следует противоречие. Если всякое высказывание ложно, то это относится и к самому данному утверждению. Но то, что оно ложно, означает, что не всякое высказывание является ложным. Аналогично обстоит дело и с утверждением «Всякое высказывание истинно». Оно также должно быть отнесено к бессмысленным и также ведет к противоречию: если каждое высказывание истинно, то истинным является и отрицание самого этого высказывания, то есть высказывание, что не всякое высказывание истинно.
Почему, однако, высказывание не может осмысленно говорить о своей собственной истинности или ложности?
Уже современник Оккама, французский философ Ж. Буридан, не был согласен с его решением. Буридан широко известен своей притчей об осле, стоящем между совершенно одинаковыми охапками сена. Осел не в состоянии выбрать, какая охапка лучше, и в конце концов умирает с голоду. Этого осла, придерживающегося принципа, что выбирать нужно только лучшее, в дошедших до нас сочинениях Буридана, однако, нет.
С точки зрения обычных представлений о бессмысленности выражения типа «Я лгу», «Всякое высказывание истинно (ложно)» и т. п. вполне осмысленны. О чем можно подумать, о том можно высказаться — таков общий принцип Буридана. Человек может думать об истинности утверждения, которое он произносит, значит, он может и высказаться об этом. Не все утверждения, говорящие о самих себе, относятся к бессмысленным. Например, утверждение «Это предложение написано по-русски» является истинным, а утверждение «В этом предложении десять слов» ложно. И оба они совершенно осмысленны. Если допускается, что утверждение может говорить и о самом себе, то почему оно не способно со смыслом говорить и о таком своем свойстве, как истинность?
Сам Буридан считал высказывание «Я лгу» не бессмысленным, а ложным. Он обосновывал это так. Когда человек утверждает какое-то предложение, он утверждает тем самым, что оно истинно. Если же предложение говорит о себе, что оно само является ложным, то оно представляет собой только сокращенную формулировку более сложного выражения, утверждающего одновременно и свою истинность, и свою ложность. Это выражение противоречиво и, следовательно, ложно. Ho оно никак не бессмысленно.
Аргументация Буридана и сейчас иногда считается убедительной.
По идее польского логика А. Тарского, высказанной в 30-х гг. прошлого века, причина парадокса лжеца в том, что на одном и том же языке говорится как о предметах, существующих в мире, так и о самом этом «предметном» языке. Язык с таким свойством Тарский назвал «семантически замкнутым». Естественный язык, очевидно, семантически замкнут. Отсюда неизбежность возникновения в нем парадокса. Чтобы устранить его, надо строить своеобразную лесенку, или иерархию языков, каждый из которых используется для вполне определенной цели: на первом говорят о мире предметов, на втором — об этом первом языке, на третьем — о втором языке и т. д. Ясно, что в этом случае утверждение, говорящее о своей собственной ложности, уже не может быть сформулировано и парадокс исчезнет.
Это разрешение парадокса не является, конечно, единственно возможным. Одно время оно было общепринятым, но сейчас былого единодушия уже нет. Традиция устранять парадоксы такого типа путем «расслаивания» языка осталась, но наметились и другие подходы.
Как видим, проблемы, связывавшиеся на протяжении веков с «лжецом», радикально менялись в зависимости от того, рассматривался ли он как пример двусмысленности, или как выражение, внешне представляющееся осмысленным, но по своей сути бессмысленное, или же, как образец смешения языка и метаязыка. И нет уверенности в том, что с этим парадоксом не окажутся связанными в будущем и другие проблемы.
Современный финский логик и философ Г. фон Вригт пишет о своей работе, посвященной «лжецу», что данный парадокс ни в коем случае не должен пониматься как локальное, изолированное препятствие, устранимое одним изобретательным движением мысли. «Лжец» затрагивает многие наиболее важные темы логики и семантики; это и определение истины, и истолкование противоречия и доказательства, и целая серия важных различий: между предложением и выражаемой им мыслью, между употреблением выражения и его упоминанием, между смыслом имени и обозначаемым им объектом.
«Расслаивание языка»
Сейчас «лжец» обычно считается характерным примером тех трудностей, к которым ведет смешение двух языков: «предметного языка», на котором говорится о лежащей вне языка действительности, и «метаязыка», на котором говорят о самом предметном языке.
В повседневном языке нет различия между этими уровнями: и о действительности, и о языке мы говорим на одном и том же языке. Например, человек, родным языком которого является русский язык, не видит никакой особой разницы между утверждениями: «Стекло прозрачно» и «Верно, что стекло прозрачно», хотя одно из них говорит о стекле, а другое — о высказывании относительно стекла.
Если бы у кого-то возникла мысль о необходимости говорить о мире на одном языке, а о свойствах этого языка — на другом, он мог бы воспользоваться двумя разными существующими языками, допустим русским и английским. Вместо того, чтобы просто сказать: «Корова — это существительное» сказал бы «Корова is a noun», а вместо: «Утверждение «Стекло не прозрачно» ложно» произнес бы: «The assertion «Стекло не прозрачно» is false». При таком использовании двух разных языков сказанное о мире ясно отличалось бы от сказанного о языке, с помощью которого говорят о мире. В самом деле, первые высказывания относились бы к русскому языку, в то время как вторые — к английскому.
Если бы далее нашему знатоку языков захотелось высказаться по поводу каких-то обстоятельств, касающихся уже английского языка, он мог бы воспользоваться еще одним языком, допустим немецким. Для разговора об этом последнем можно было бы прибегнуть, положим, к испанскому языку и т. д.
Получается, таким образом, своеобразная лесенка, или иерархия языков, каждый из которых используется для вполне определенной цели: на первом говорят о предметном мире, на втором — об этом первом языке, на третьем — о втором языке и т. д. Такое разграничение языков по области их применения — редкое явление в обычной жизни. Но в науках, специально занимающихся, подобно логике, языками, оно иногда оказывается весьма полезным. Язык, на котором рассуждают о мире, обычно называют предметным языком. Язык, используемый для описания предметного языка, именуют метаязыком.
Ясно, что, если язык и метаязык разграничиваются указанным образом, утверждение «Я лгу» уже не может быть сформулировано. Оно говорит о ложности того, что сказано на русском языке, и, значит, относится к метаязыку и должно быть высказано на английском языке. Конкретно, оно должно звучать так: «Everything I speak in Russian is false» («Все сказанное мной по-русски ложно»), в этом английском утверждении ничего не говорится о нем самом, и никакого парадокса не возникает.
Различение языка и метаязыка позволяет устранить парадокс «лжеца». Тем самым появляется возможность корректно, без противоречия определить классическое понятие истины: истинным является высказывание, соответствующее описываемой им действительности.
Понятие истины, как и все иные семантические понятия, имеет относительный характер: оно всегда может быть отнесено к определенному языку.
Как показал Тарский, классическое определение истины должно формулироваться в языке более широком, чем тот язык, для которого оно предназначено. Иными словами, если мы хотим указать, что означает оборот «высказывание, истинное в данном языке» нужно, помимо выражений этого языка, пользоваться также выражениями, которых в нем нет.
Тарский ввел понятие «семантически замкнутого языка». Такой язык включает, помимо своих выражений, их имена, а также, что важно подчеркнуть, высказывания об истинности формулируемых в нем предложений.
Границы между языком и метаязыком в семантически замкнутом языке не существует. Средства его настолько богаты, что позволяют не только что-то утверждать о внеязыковой реальности, но и оценивать истинность таких утверждений. Этих средств достаточно, в частности, для того, чтобы воспроизвести в языке антиномию «лжеца». Семантически замкнутый язык оказывается, таким образом, внутренне противоречивым. Каждый естественный язык является, очевидно, семантически замкнутым.
Единственно приемлемый путь для устранения антиномии, а значит, и внутренней противоречивости — это согласно Тарскому отказ от употребления семантически замкнутого языка. Этот путь приемлем, конечно, только в случае искусственных, формализованных языков, допускающих ясное подразделение на язык и метаязык. В естественных же языках с их неясной структурой и возможностью говорить обо всем на одном и том же языке такой подход не очень реален. Ставить вопрос о внутренней непротиворечивости этих языков не имеет смысла. Их богатые выразительные возможности имеют и свою обратную сторону — парадоксы.
3. Три неразрешимых спора
Протагор и Еватл
В основе одного знаменитого парадокса лежит как будто небольшое происшествие, случившееся две с лишним тысячи лет назад и не забытое до сих пор.
У известного софиста Протагора, жившего в V веке до новой эры, был ученик по имени Еватл, обучавшийся праву. По заключенному между ними договору Еватл должен был заплатить за обучение лишь в том случае, если выиграет свой первый судебный процесс. Если же он этот первый процесс проиграет, он вообще не обязан платить. Однако, закончив обучение, Еватл не стал участвовать в процессах. Это длилось довольно долго, терпение учителя иссякло и он подал на своего ученика в суд. Таким образом, для Еватла это первый был процесс; от него ему уже не удалось бы отвертеться. Свое требование Протагор обосновал так:
— Каким бы ни было решение суда, Еватл должен будет заплатить мне. Он либо выиграет этот свой первый процесс, либо проиграет. Если выиграет, то заплатит в силу нашего договора. Если проиграет, то заплатит согласно этому решению.
Судя по всему, Еватл был способным учеником, поскольку он ответил Протагору:
— Действительно, я либо выиграю процесс, либо проиграю его. Если выиграю, решение суда освободит меня от обязанности платить. Если решение суда будет не в мою пользу, значит, я проиграл свой первый процесс и не заплачу в силу нашего договора.
Озадаченный таким оборотом дела, Протагор посвятил этому спору с Еватлом особое сочинение «Тяжба о плате». К сожалению, оно, как и большая часть написанного Протагором, не дошло до нас. Тем не менее нужно отдать должное Протагору, сразу почувствовавшему за простым судебным казусом проблему, заслуживающую специального исследования.
Немецкий философ Г. В. Лейбниц, сам юрист по образованию, также отнесся к этому спору всерьез. В своей докторской диссертации «Исследование о запутанных казусах в праве» он пытался показать, что все случаи, даже самые запутанные, подобно тяжбе Протагора и Еватла, должны находить правильное разрешение на основе здравого смысла. По мысли Лейбница, суд должен отказать Протагору за несвоевременностью предъявления иска, но оставить, однако, за ним право потребовать уплаты денег Еватлом позже, а именно после первого выигранного им процесса.
Было предложено много других решении данного парадокса.
Ссылались, в частности, на то, что решение суда должно иметь большую силу, чем частная договоренность двух лиц. На это можно ответить, что, не будь этой договоренности, какой бы незначительной она ни казалась, не было бы ни суда, ни его решения. Ведь суд должен вынести свое решение именно по ее поводу и на ее основе.
Обращались также к общему принципу, что всякий труд, a значит и труд Протагора, должен быть оплачен. Но ведь известно, что этот принцип всегда имел исключения, тем более в рабовладельческом обществе. К тому же он просто неприложим к конкретной ситуации спора: ведь Протагор, гарантируя высокий уровень обучения, сам отказывался принимать плату в случае неудачи в первом процессе своего ученика.
Иногда рассуждают так. И Протагор, и Еватл — оба правы частично, и ни один из них в целом. Каждый из них учитывает только половину возможностей, выгодную для себя. Полное или всестороннее рассмотрение открывает четыре возможности, из которых только половина выгодна для одного из спорящих. Какая из этих возможностей реализуется, это решит не логика, а жизнь. Если приговор судей будет иметь большую силу, чем договор, Еватл должен будет платить, только если проиграет процесс, то есть в cилу решения суда. Если же частная договоренность будет ставиться выше, чем решение судей, то Протагор получит плату только в случае проигрыша процесса Еватлу, то есть в силу договора с Протагором.
Эта апелляция к «жизни» окончательно все запутывает. Чем, если не логикой, могут руководствоваться судьи в условиях, когда все относящиеся к делу обстоятельства совершенно ясны? И что это будет за «руководство», если Протагор, претендующей на оплату через суд, добьется ее, лишь проиграв процесс?
Впрочем, и решение Лейбница, кажущееся поначалу убедительным, только немногим лучший совет суду, чем неясное противопоставление «логики» и «жизни». В сущности, Лейбниц предлагает изменить задним числом формулировку договора и оговорить, что первым с участием Еватла судебным процессом, исход которого решит вопрос об оплате, не должен быть суд по иску Протагора. Мысль глубокая, но не имеющая отношения к конкретному суду. Если бы в исходной договоренности была такая оговорка, нужды в судебном разбирательстве вообще не возникло бы.
Если под решением данного затруднения понимать ответ на вопрос, должен Еватл платить Протагору или нет, то все эти, как и все другие мыслимые решения, являются, конечно, несостоятельными. Они представляют собой не более чем уход от существа спора, являются, так сказать, уловками и хитростями в безвыходной и неразрешимой ситуации. Ибо ни здравый смысл, ни какие-то общие принципы, касающиеся социальных отношений, не способны разрешить спор.
Невозможно выполнить вместе договор в его первоначальной форме и решение суда, каким бы последнее ни было. Для доказательства этого достаточно простых средств логики. С помощью этих же средств можно также показать, что договор, несмотря на его вполне невинный внешний вид, внутренне противоречив. Он требует реализации логически невозможного положения: Еватл должен одновременно и уплатить за обучение и вместе с тем не платить.
«Выход из безвыходного положения»
Человеческому уму, привыкшему не только к своей силе, но и к своей гибкости и даже изворотливости, трудно, конечно, смириться с этой абсолютной безвыходностью и признать себя загнанным в тупик. Это особенно трудно тогда, когда тупиковая ситуация создается самим этим умом: он, так сказать, оступается на ровном месте и угождает в свои собственные сети. И, тем не менее, приходится признать, что иногда, и впрочем не так уж редко, соглашения и системы правил, сложившиеся стихийно или введенные сознательно, приводят к неразрешимым, безвыходным положениям. Пример из недавней шахматной жизни еще раз подтвердит эту мысль.
Международные правила проведения шахматных соревнований обязывают шахматистов записывать партию ход за ходом, ясно и разборчиво. До недавнего времени в правилах было указано также, что шахматист, пропустивший из-за недостатка времени запись нескольких ходов, должен, «как только его цейтнот закончится, немедленно дополнить свой бланк, записав пропущенные ходы». На основе этого указания один судья на шахматной олимпиаде 1980 года (Мальта) прервал проходившую в жестоком цейтноте партию и остановил часы, заявив, что контрольные ходы сделаны и, следовательно, пора привести в порядок записи партий.
— Но позвольте, — вскричал участник, находившийся на грани проигрыша и рассчитывавший только на накал страстей в конце партии, — ведь ни один флажок еще не упал и никто и никогда (так тоже записано в правилах) не может подсказывать, сколько сделано ходов!
Судью поддержал, однако, главный арбитр, заявивший, что действительно, поскольку цейтнот закончился, надо, следуя букве правил, приступить к записи пропущенных ходов.
Спорить в этой ситуации было бессмысленно: сами правила завели в тупик. Оставалось только изменить их формулировку таким образом, чтобы подобные случаи не могли возникнуть в будущем.
Это и было сделано на проходившем в то же время конгрессе Международной шахматной федерации: вместо слов «как только цейтнот закончится» в правилах теперь записано: «Как только флажок укажет на окончание времени».
Этот пример наглядно показывает как следует поступать в тупиковых ситуациях. Спорить о том, какая сторона права, бесполезно: спор неразрешим и победителя в нем не будет. Остается только смириться с досадой с настоящим и позаботиться о будущем. Для этого нужно так переформулировать исходные соглашения или правила, чтобы они не заводили более никого в такую же безвыходную ситуацию.
Разумеется, подобный способ действий никакое не «решение неразрешимого спора» и не «выход из безвыходного положения». Это скорее остановка перед непреодолимым препятствием и дорога в обход его.
Крокодил и мать
В Древней Греции пользовался большой популярностью рассказ о крокодиле и матери, совпадающий по своему логическому содержанию с парадоксом «Протагор и Еватл».
Крокодил выхватил у египтянки, стоявшей на берегу реки, ее ребенка. На ее мольбу вернуть ребенка крокодил, пролив, как всегда, крокодилову слезу, ответил:
— Твое несчастье растрогало меня и я дам тебе шанс получить назад ребенка. Угадай, отдам я его тебе или нет. Если ответишь правильно, я верну ребенка. Если не угадаешь, я его не отдам.
Подумав, мать ответила:
— Ты не отдашь мне ребенка.
— Ты его не получишь, — заключил крокодил. — Ты сказала либо правду, либо неправду. Если то, что я не отдам ребенка — правда, я не отдам его, так как иначе сказанное мной не будет правдой. Если сказанное — неправда, значит, ты не угадала, и я не отдам ребенка по уговору.
Однако матери это рассуждение не показалось убедительным.
— Но ведь если я сказала правду, то ты отдашь мне ребенка, как мы и договорились. Если же я не угадала, что ты не отдашь ребенка, то ты должен мне его отдать, иначе сказанное мною не будет неправдой.
Кто прав: мать или крокодил? К чему обязывает крокодила данное им обещание? К тому, чтобы отдать ребенка или, напротив, чтобы не отдавать его? И к тому и к другому одновременно. Это обещание внутренне противоречиво, и, таким образом, оно невыполнимо в силу законов логики.
Суд Санчо Пансы
Сходный парадокс обыгрывается в «Дон Кихоте» М. Сервантеса. Санчо Панса сделался губернатором острова Баратария и вершит суд. Первым к нему является какой-то приезжий и говорит:
— Сеньор, некое поместье делится на две половины многоводной рекой… Через эту реку переброшен мост, и тут же с краю стоит виселица и находится нечто вроде суда, в нем обыкновенно заседает четверо судей, и судят они на основании закона, изданного владельцем реки, моста и всего поместья. Закон составлен таким образом: «Всякий проходящий по мосту через реку должен объявить под присягою: куда и зачем он идет. Кто скажет правду, тех пропускать, а кто солжет, тех без всякого снисхождения отправлять на виселицу и казнить». С того времени, когда этот закон был обнародован, многие успели пройти через мост, и как только судьи удостоверялись, что прохожие говорят правду, то пропускали их. Но однажды некий человек, приведенный к присяге, поклялся и сказал, что он пришел за тем, чтобы его вздернули вот на эту самую виселицу и ни за чем другим. Эта клятва привела судей в недоумение и они сказали: «Если позволить этому человеку беспрепятственно следовать дальше, это будет означать, что он нарушил клятву и согласно закону повинен смерти; если же его повесить, то ведь он клялся, что пришел только за тем, чтобы его вздернули на виселицу, следовательно, клятва его не ложна, и на основании того же самого закона надлежит пропустить его». Я вас спрашиваю, сеньор губернатор, что делать судьям с этим человеком, ибо они до сих пор недоумевают и колеблются…
Санчо предложил, пожалуй, не без хитрости: ту половину человека, которая сказала правду, пусть пропустят, а ту, которая соврала, пусть повесят, и таким образом правила перехода через мост будут соблюдены по всей форме.
Этот отрывок интересен в нескольких отношениях. Прежде всего, он является наглядной иллюстрацией того, что с описанным в парадоксе безвыходным положением вполне может столкнуться — и не в чистой теории, а на практике — если не реальный человек, то хотя бы литературный герой.
Выход, предложенный Санчо Пансой, не был, конечно, решением парадокса. Но это было как раз то решение, к которому только и оставалось прибегнуть в его положении.
Когда-то Александр Македонский, вместо того чтобы развязать хитрый гордиев узел, чего еще никому не удалось сделать, просто разрубил его. Подобным же образом поступил и Санчо. Пытаться решить головоломку на ее собственных условиях было бесполезно — она попросту неразрешима. Оставалось отбросить эти условия и ввести свое.
И еще один момент. Сервантес этим эпизодом явно осуждает непомерно формальный, пронизанный духом схоластической логики масштаб средневековой справедливости. Но какими распространенными в его время — а это было около четырехсот лет назад — были сведения из области логики! Не только самому Сервантесу известен данный парадокс. Писатель находит возможным приписать своему герою, безграмотному крестьянину, способность понять, что перед ним неразрешимая задача!
И, наконец, одна из современных перефразировок спора Протагора и Еватла.
Миссионер очутился у людоедов и попал как раз к обеду. Они разрешают ему выбрать, в каком виде его съедят. Для этого он должен произнести какое-нибудь высказывание с условием, что если это высказывание окажется истинным, они его сварят, а если оно окажется ложным, его зажарят. Что следует сказать миссионеру?
Разумеется, он должен сказать: «Вы зажарите меня». Если его действительно зажарят, окажется, что он высказал истину и, значит, его надо сварить. Если же его сварят, его высказывание будет ложным и его следует как раз зажарить. Выхода у людоедов не будет: из «зажарить» вытекает «сварить», и наоборот.
4. Некоторые современные парадоксы
Самое серьезное воздействие не только на логику, но и на математику оказал парадокс, обнаруженный английским логиком и философом прошлого века Б. Расселом.
Рассел придумал такой популярный вариант своего парадокса — «парадокс парикмахера». Допустим, что совет какой-то деревни так определил обязанности деревенского парикмахера: брить всех мужчин, которые не бреются сами, и только этих мужчин. Должен ли он брить самого себя? Если да, то он будет относиться к тем, кто бреется сам; но тех, кто бреется сам, он не должен брить. Если нет, он будет принадлежать к тем, кто не бреется сам, и, значит, он должен будет брить себя. Мы приходим, таким образом, к заключению, что этот парикмахер бреет себя в том и только том, случае, когда он не бреет себя. Это, разумеется, невозможно.
В исходной версии парадокс Рассела касается множеств, т. е. совокупностей, в чем-то сходных друг с другом объектов. Относительно произвольного множества можно задать вопрос: является оно своим собственным элементом или нет? Так, множество лошадей не есть лошадь и потому оно не собственный элемент. Но множество идей есть идея и содержит само себя; каталог каталогов — это опять-таки каталог. Множество всех множеств также есть собственный элемент, поскольку оно — множество. Разделив все множества на те, которые являются собственными элементами, и те, которые не таковы, можно спросить: множество всех множеств, не являющихся собственными элементами, содержит себя в качестве элемента или нет? Ответ, однако, оказывается обескураживающим: это множество есть свой элемент только в том случае, когда оно не является таким элементом.
Данное рассуждение опирается на допущение, что есть множество всех множеств, не являющихся собственными элементами. Полученное из этого допущения противоречие означает, что такое множество не может существовать. Но почему столь простое и ясное множество невозможно? В чем заключается различие между возможными и невозможными множествами?
На эти вопросы исследователи отвечают по-разному. Открытие парадокса Рассела и других парадоксов математической теории множеств привело к решительному пересмотру ее оснований. Оно послужило, в частности, стимулом для исключения из ее рассмотрения «слишком больших множеств», подобных множеству всех множеств, для ограничения правил оперирования с множествами и т. д. Несмотря на большое число предложенных к настоящему времени способов устранения парадоксов из теории множеств, полного согласия в вопросе о причинах их возникновения пока нет. Нет соответственно и единого, не вызывающего возражений способа предупреждать их появление.
Приведенное выше рассуждение о парикмахере опирается на допущение, что такой парикмахер существует. Полученное противоречие означает, что это допущение ложно, и нет такого жителя деревни, который брил бы всех тех и только тех ее жителей, которые не бреются сами.
Обязанности парикмахера не кажутся на первый взгляд противоречивыми, поэтому вывод, что его не может быть, звучит несколько неожиданно. Но этот вывод не является все-таки парадоксальным. Условие, которому должен удовлетворять «деревенский брадобрей», на самом деле внутренне противоречиво и, следовательно, невыполнимо. Подобного парикмахера не может быть в деревне по той же причине, по какой в ней нет человека, который был бы старше самого себя или который родился бы до своего рождения.
Рассуждение о парикмахере может быть названо «псевдопарадоксом». По своему ходу оно строго аналогично парадоксу Рассела и этим интересно. Но оно все-таки не является подлинным парадоксом.
Каталог библиографических каталогов
Другой пример такого же псевдопарадокса представляет собой известное рассуждение о каталоге.
Некая библиотека решила составить библиографический каталог, в который входили бы все те и только те библиографические каталоги, которые не содержат ссылки на самих себя. Должен ли такой каталог включать ссылку на себя?
Нетрудно показать, что идея создания такого каталога неосуществима: он просто не может существовать, поскольку должен одновременно и включать ссылку на себя и не включать.
Интересно отметить, что составление каталога всех каталогов, не содержащих ссылки на самих себя, можно представить как бесконечный, никогда не завершающийся процесс.
Допустим, что в какой то момент был составлен каталог, скажем K1, включающий все отличные от него каталоги, не содержащие ссылки на себя. С созданием K1 появился еще один каталог, не содержащий ссылки на себя. Так как задача заключается в том, чтобы составить полный каталог всех каталогов, не упоминающих себя, то очевидно, что K1 не является ее решением. Он не упоминает один из таких каталогов — самого себя. Включив в K1 это упоминание о нем самом, получим каталог К2. В нем упоминается K1, но не сам К2. Добавив к К2 такое упоминание, получим K3, который опять-таки неполон из-за того, что не упоминает самого себя. И так далее без конца.
Парадоксы Греллинга и Берри
Интересный логический парадокс был открыт немецкими логиками К. Греллингом и Л. Нельсоном («парадокс Греллинга»). Этот парадокс можно сформулировать очень просто.
Некоторые слова, обозначающие свойства, обладают тем самым свойством, которое они называют. Например, прилагательное «русское» само является русским, «многосложное» — само многосложное, а «пятислоговое» само имеет пять слогов. Такие слова, относящиеся к самим себе, называются «самозначными», или «аутологическими». Подобных слов не так много, в подавляющем большинстве прилагательные не обладают называемым ими свойством. «Новое» не является, конечно, новым, «горячее» — горячим, «однослоговое» — состоящим из одного слога, «английское» — английским. Слова, не имеющие свойства, обозначаемого ими, называются «инозначными», или «гетерологическими». Очевидно, что все прилагательные, обозначающие свойства, неприложимые к словам, будут гетерологическими.
Это разделение прилагательных на две группы кажется ясным и не вызывает возражений. Оно может быть распространено и на существительные: «слово» является словом, «существительное» — существительным, но «часы» — это не часы и «глагол» — не глагол.
Парадокс возникает, как только задается вопрос: к какой из двух групп относится само прилагательное «гетерологическое»? Если оно аутологическое, оно обладает обозначаемым им свойством и должно быть гетерологическим. Если же оно гетерологическое, оно не имеет называемого им свойства и должно быть поэтому аутологическим. Налицо парадокс.
Оказалось, что парадокс Греллинга был известен еще в средние века как антиномия выражения, не называющего самого себя.
Еще одна, внешне простая антиномия была указана в самом начале прошлого века Д. Берри.
Множество натуральных чисел бесконечно. Множество же тех имен этих чисел, которые имеются, например, в русском языке и содержат меньше чем, допустим, сто слов, является конечным. Это означает, что существуют такие натуральные числа, для которых в русском языке нет имен, состоящих менее чем из ста слов. Среди этих чисел есть, очевидно, наименьшее число. Его нельзя назвать посредством русского выражения, содержащего менее ста слов. Но выражение: «Наименьшее натуральное число, для которого не существует в русском языке его сложное имя, слагающееся менее чем из ста слов», является как раз именем этого числа! Это имя только что сформулировано в русском языке и содержит только девятнадцать слов. Очевидный парадокс: названным оказалось то число, для которого нет имени!
5. О чем говорят парадоксы
Никакого исчерпывающего перечня логических парадоксов не существует, да он и невозможен.
Рассмотренные парадоксы — это только часть из всех обнаруженных к настоящему времени. Вполне вероятно, что в будущем будут открыты и многие другие и даже совершенно новые их типы. Само понятие парадокса не является настолько определенным, чтобы удалось составить список хотя бы уже известных парадоксов.
Необходимым признаком логических парадоксов считается логический словарь. Парадоксы, относимые к логическим, должны быть сформулированы в логических терминах. Однако в логике нет четких критериев деления терминов на логические и внелогические. Логика, занимающаяся правильностью рассуждений, стремится свести понятия, от которых зависит правильность практически применяемых выводов, к минимуму. Но этот минимум не предопределен однозначно. Кроме того, в логических терминах можно сформулировать и внелогические утверждения. Использует ли конкретный парадокс только чисто логические посылки, далеко не всегда удается определить однозначно.
Логические парадоксы не отделяются жестко от всех иных парадоксов, подобно тому как последние не отграничиваются ясно от всего не парадоксального и согласующегося с господствующими представлениями.
На первых порах изучения логических парадоксов казалось, что их можно выделить по нарушению некоторого, еще не исследованного правила логики. Особенно активно претендовал на роль такого правила введенный Расселом «принцип порочного круга». Этот принцип утверждает, что совокупность объектов не может содержать членов, определимых только посредством этой же совокупности.
Все парадоксы имеют одно общее свойство — самоприменимость, или циркулярность. В каждом из них объект, о котором идет речь, характеризуется посредством некоторой совокупности объектов, к которой он сам принадлежит. Если мы выделяем, например, человека как самого хитрого в классе, мы делаем это при помощи совокупности людей, к которой относится и данный человек (при помощи «его класса»). И если мы говорим: «Это высказывание ложно», мы характеризуем интересующее нас высказывание путем ссылки на включающую его совокупность всех ложных высказываний.
Во всех парадоксах имеет место самоприменимость, a значит есть как бы движение по кругу, приводящее в конце концов к исходному пункту. Стремясь охарактеризовать интересующий нас объект, мы обращаемся к той совокупности объектов, которая включает его. Однако оказывается, что сама она для своей определенности нуждается в рассматриваемом объекте и не может быть ясным образом понята без него. В этом круге, возможно, и кроется источник парадоксов.
Ситуация осложняется, однако, тем, что такой круг имеется также во многих совершенно не парадоксальных рассуждениях. Циркулярным является огромное множество самых обычных, безвредных и вместе с тем удобных способов выражения. Такие примеры как «самый большой из всех городов», «наименьшее из всех натуральных чисел», «один из электронов атома железа» и т. п. показывают, что далеко не всякий случай самоприменимости ведет к противоречию и что она широко используется не только в обычном языке, но и в языке науки.
Простая ссылка на использование самоприменимых понятий недостаточна, таким образом, для дискредитации парадоксов. Необходим еще какой-то дополнительный критерий, отделяющий самоприменимость, ведущую к парадоксу, от всех иных ее случаев.
Было много предложений на этот счет, но удачного уточнения циркулярности так и не было найдено. Невозможно, оказалось, охарактеризовать циркулярность таким образом, чтобы каждое циркулярное рассуждение вело к парадоксу, а каждый парадокс был итогом некоторого циркулярного рассуждения.
Попытка найти какой-то специфический принцип логики, нарушение которого было бы отличительной особенностью всех логических парадоксов, ни к чему определенному не привела.
Несомненно, полезной была бы какая-то классификация парадоксов, подразделяющая их на типы и виды, группирующая одни парадоксы и противопоставляющая их другим. Однако и в этом деле ничего устойчивого не было достигнуто.
Не всегда парадокс выступает в таком прозрачном виде, как в случае, скажем, парадокса лжеца или парадокса Рассела. Иногда парадокс оказывается своеобразной формой постановки проблемы, относительно которой сложно даже решить, в чем именно последняя состоит. Размышление над такими проблемами обычно не приводит к какому-то определенному результату. Но и оно, несомненно, полезно в качестве логической тренировки.
Какие выводы для логики следует из существования парадоксов?
Прежде всего, наличие большого числа парадоксов говорит о силе логики как науки, а не о ее слабости, как это может показаться. Обнаружение парадоксов не случайно совпало как раз с периодом наиболее интенсивного развития современной логики и наибольших ее успехов.
Первые парадоксы были открыты еще до возникновения логики как особой науки. Многие парадоксы были обнаружены в средние века. Позднее они оказались, однако, забытыми и были вновь открыты уже в прошлом веке.
Только современная логика извлекла из забвения саму проблему парадоксов, открыла или переоткрыла большинство конкретных логических парадоксов. Она показала далее, что способы мышления, традиционно исследовавшиеся логикой, совершенно недостаточны для устранения парадоксов, и указала принципиально новые приемы обращения с ними.
Парадоксы ставят важный вопрос: в чем, собственно, подводят нас некоторые обычные методы образования понятий и методы рассуждений? Ведь они представлялись совершенно естественными и убедительными, пока не выявилось, что они парадоксальны.
Парадоксами подрывается вера в то, что привычные приемы теоретического мышления сами по себе и без всякого особого контроля за ними обеспечивают надежное продвижение к истине.
Требуя радикальных изменений в излишне доверчивом подходе к теоретизированию, парадоксы представляют собой резкую критику логики в ее наивной, интуитивной форме. Они играют роль фактора, контролирующего и ставящего ограничения на пути конструирования дедуктивных систем логики. И эту их роль можно сравнить с ролью эксперимента, проверяющего правильность гипотез в таких науках как физика и химия и заставляющего вносить в эти гипотезы изменения.
Парадокс в теории говорит о несовместимости допущений, лежащих в ее основе. Он выступает как своевременно обнаруженный симптом болезни, без которого ее можно было бы и проглядеть.
Разумеется, болезнь проявляется многообразно, и ее в конце концов удается раскрыть и без таких острых симптомов, как парадоксы. Скажем, основания теории множеств были бы проанализированы и уточнены, если бы даже никакие парадоксы в этой области не были обнаружены. Но не было бы той резкости и неотложности, с какой поставили проблему пересмотра теории множеств обнаруженные в ней парадоксы.
Парадоксам посвящена обширная литература, предложено большое число их объяснений. Но ни одно из этих объяснений не является общепризнанным и полного согласия в вопросе о происхождении парадоксов и способах избавления от них нет.
У Фреге, являющегося одним из основателей современной логики, был, к сожалению, очень скверный характер. Кроме того, он был безоговорочен и даже жесток в своей критике современников. Возможно, поэтому его вклад в логику и обоснование математики долго не получал признания. И вот когда оно начало приходить к нему, молодой английский логик Рассел написал ему, что в системе, опубликованной в первом томе его наиболее важной книги «Основные законы арифметики», возникает противоречие. Второй том этой книги был уже в печати и Фреге лишь добавил к нему специальное приложение, в котором изложил это противоречие («парадокс Рассела») и признал, что он не способен его устранить.
Последствия были для Фреге трагическими. Ему было тогда всего пятьдесят пять лет, но после испытанного потрясения он не опубликовал больше ни одной значительной работы по логике, хотя прожил еще более двадцати лет. Он не откликнулся даже на оживленную дискуссию, названную парадоксом Рассела, и никак не прореагировал на многочисленные предлагавшиеся решения этого парадокса.
Фреге был типичным представителем логики конца XIX века, свободной от каких бы то ни было парадоксов, логики, уверенной в своих возможностях и претендующей на то, чтобы быть критерием строгости даже для математики. Парадоксы показали, что «абсолютная строгость», достигнутая якобы логикой, была не более чем иллюзией. Они бесспорно показали, что логика — в том интуитивном виде, какой она тогда имела, — нуждается в глубоком пересмотре.
Прошел целый век с тех пор, как началось оживленное обсуждение парадоксов. Предпринятая ревизия логики так и не привела, однако, к недвусмысленному их разрешению.
И вместе с тем такое состояние вряд ли кому кажется теперь невыносимым. С течением времени отношение к парадоксам стало более спокойным и даже более терпимым, чем в момент их обнаружения.
Дело не только в том, что парадоксы сделались чем-то хотя и неприятным, но тем не менее привычным. И, разумеется, не в том, что с ними смирились. Они все еще остаются в центре внимания логиков, поиски их решений активно продолжаются.
Ситуация изменилась прежде всего в том отношении, что парадоксы оказались, так сказать, локализованными. Они обрели свое определенное, хотя и неспокойное место в широком спектре логических исследований.
Стало ясно, что абсолютная строгость, какой она рисовалась в конце прошлого века и даже иногда в начале нынешнего, — это в принципе недостижимый идеал.
Было осознано также, что нет одной-единственной, стоящей особняком проблемы парадоксов. Проблемы, связанные с ними, относятся к разным типам и затрагивают, в сущности, все основные разделы логики. Обнаружение парадокса заставляет глубже проанализировать наши логические интуиции и заняться систематической переработкой основ науки логики. При этом стремление избежать парадоксов не является ни единственной, ни даже, пожалуй, главной задачей. Они являются хотя и важным, но только поводом для размышления над центральными темами логики. Продолжая сравнение парадоксов с особо отчетливыми симптомами болезни, можно сказать, что стремление немедленно исключить парадоксы было бы подобно желанию снять такие симптомы, не особенно заботясь о самой болезни. Требуется не просто разрешение парадоксов, необходимо их объяснение, углубляющее наши представления о логических закономерностях мышления.
Размышление над парадоксами является, без сомнения, одним из лучших испытаний наших логических способностей и одним из наиболее эффективных средств их тренировки.
Знакомство с парадоксами, проникновение в суть стоящих за ними проблем — непростое дело. Оно требует максимальной сосредоточенности и напряженного вдумывания в несколько, казалось бы, простых утверждений. Только при этом условии парадокс может быть понят. Трудно претендовать на изобретение новых решений логических парадоксов, но уже ознакомление с предлагавшимися их решениями является хорошей школой практической логики.
6. Устранить — еще не значит объяснить
Какие выводы для логики следуют из существования парадоксов?
Прежде всего, наличие большого числа парадоксов говорит как раз о силе логики как науки, а не о ее слабости, как это может показаться. Обнаружение парадоксов не случайно совпало как раз с периодом наиболее интенсивного развития современной логики и наибольших ее успехов.
Первые парадоксы были открыты еще до возникновения логики как особой науки. Многие парадоксы были обнаружены в средние века. Позднее они оказались, однако, забытыми и были вновь открыты уже в нашем веке.
Средневековым логикам не были известны понятия «множество» и «элемент множества», введенные в науку только во второй половине XIX века. Но «чутье» на парадоксы было отточено в средние века настолько, что уже в то давнее время высказывались определенные опасения по поводу «самоприменимых» понятий. Простейшим их примером является понятие «быть собственным элементом», фигурирующее во многих нынешних парадоксах.
Однако такие опасения, как и вообще все предостережения, касающиеся парадоксов, не были до нашего века в должной мере систематическими и определенными. Они не вели к каким-либо четким предложениям о пересмотре привычных способов мышления и выражения.
Только современная логика извлекла из забвения саму проблему парадоксов, открыла или переоткрыла большинство конкретных логических парадоксов. Она показала далее, что способы мышления, традиционно исследовавшиеся логикой, совершенно недостаточны для устранения парадоксов, и указала принципиально новые приемы обращения с ними.
Парадоксы ставят важный вопрос: в чем, собственно, подводят нас некоторые обычные методы образования понятий и методы рассуждений? Ведь они представлялись совершенно естественными и убедительными, пока не выявилось, что они парадоксальны.
Парадоксами подрывается вера в то, что привычные приемы теоретического мышления сами по себе и без всякого особого контроля за ними обеспечивают надежное продвижение к истине.
Требуя радикальных изменений в излишне доверчивом подходе к теоретизированию, парадоксы представляют собой резкую критику логики в ее наивной, интуитивной форме. Они играют роль фактора, контролирующего и ставящего ограничения на пути конструирования дедуктивных систем логики. И эту их роль можно сравнить с ролью эксперимента, проверяющего правильность гипотез в таких науках, как физика и химия, и заставляющего вносить в эти гипотезы изменения.
Парадокс в теории говорит о несовместимости допущений, лежащих в ее основе. Он выступает как своевременно обнаруженный симптом болезни, без которого ее можно было бы и проглядеть.
Разумеется, болезнь проявляется многообразно и ее в конце концов удается раскрыть и без таких острых симптомов как парадоксы. Скажем, основания теории множеств были бы проанализированы и уточнены, если бы даже никакие парадоксы в этой области не были обнаружены. Но не было бы той резкости и неотложности, с какой поставили проблему пересмотра теории множеств обнаруженные в ней парадоксы.
Парадоксам посвящена обширная литература, предложено большое число их объяснений. Но ни одно из этих объяснений не является общепризнанным и сколь-нибудь полного согласия в вопросе о происхождении парадоксов и способах избавления от них нет.
«За последние шестьдесят лет сотни книг и статей были посвящены цели разрешения парадоксов, однако результаты поразительно бедны в сравнении с затраченными усилиями», — пишет А. Френкель. «Похоже на то, — заключает свой анализ парадоксов X. Карри, — что требуется полная реформа логики, и математическая логика может стать главным инструментом для проведения этой реформы».
Следует обратить внимание на одно важное различие. Устранение парадоксов и их разрешение — это вовсе не одно и то же. Устранить парадокс из некоторой теории — значит перестроить ее так, чтобы парадоксальное утверждение оказалось в ней недоказуемым. Каждый парадокс опирается на большое число определений, допущений и аргументов. Его вывод в теории представляет собой некоторую цепочку рассуждений. Формально говоря, можно подвергнуть сомнению любое ее звено, отбросить его и тем самым разорвать цепочку и устранить парадокс. Во многих работах так и поступают и этим ограничиваются.
Но это еще не разрешение парадокса. Мало найти способ как его исключить, надо убедительно обосновать предлагаемое решение. Само сомнение в каком-то шаге, ведущем к парадоксу, должно быть хорошо обосновано.
Прежде всего, решение об отказе от каких-то логических средств, используемых при выводе парадоксального утверждения, должно быть увязано с нашими общими соображениями относительно природы логического доказательства и другими логическими интуициями. Если этого нет, устранение парадокса оказывается лишенным твердых и устойчивых оснований и вырождается в техническую по преимуществу задачу.
Кроме того, отказ от какого-то допущения, даже если он и обеспечивает устранение некоторого конкретного парадокса, вовсе не гарантирует автоматически устранения всех парадоксов. Это говорит о том, что за парадоксами не следует «охотиться» поодиночке. Исключение одного из них всегда должно быть настолько обосновано, чтобы появилась определенная гарантия, что этим же шагом будут устранены и другие парадоксы.
Каждый раз как обнаруживается парадокс, пишет Тарский, мы должны подвергнуть наши способы мышления основательной ревизии, отвергнуть какие-то посылки, в которые верили, и усовершенствовать способы аргументации, которыми пользовались. Мы делаем это, стремясь не только избавиться от антиномий, но и с целью не допустить возникновения новых.
И, наконец, непродуманный и неосторожный отказ от слишком многих или слишком сильных допущений может привести просто к тому, что получится хотя и не содержащая парадоксов, но существенно более слабая теория, имеющая только частный интерес.
Каким может быть минимальный, наименее радикальный комплекс мер, позволяющих избежать известных парадоксов?
Логическая грамматика
Один путь — это выделение наряду с истинными и ложными предложениями также бессмысленных предложений. Этот путь был принят Расселом. Парадоксальные рассуждения были объявлены им бессмысленными на том основании, что в них нарушаются требования логической грамматики. Не всякое предложение, не нарушающее правил обычной грамматики, является осмысленным — оно должно удовлетворять также правилам особой, логической грамматики.
Рассел построил теорию логических типов — своеобразную логическую грамматику, задачей которой было устранение всех известных антиномий. В дальнейшем эта теория была существенно упрощена и получила название простой теории типов.
Основная идея теории типов — выделение разных в логическом отношении типов предметов, введение своеобразной иерархии, или лестницы, рассматриваемых объектов. К низшему, или нулевому, типу относятся индивидуальные объекты, не являющиеся множествами. К первому типу относятся множества объектов нулевого типа, то есть индивидов; ко второму — множества множеств индивидов и т. д. Иными словами, проводится различие между предметами, свойствами предметов, свойствами свойств предметов и т. д. При этом вводятся определенные ограничения на конструирование предложений. Свойства можно приписывать предметам, свойства свойств — приписывать свойствам и т. д. Но нельзя осмысленно утверждать, что свойства свойств имеются у предметов.
Возьмем серию предложений:
Этот дом — красный.
Красное — это цвет.
Цвет — это оптическое явление.
В этих предложениях выражение «этот дом» обозначает определенный предмет, слово «красный» указывает на свойство, присущее данному предмету, «являться цветом» — на свойство этого свойства («быть красным») и «быть оптическим явлением» — указывает на свойство свойства «быть цветом», принадлежащего свойству «быть красным». Здесь мы имеем дело не только с предметами и их свойствами, но и со свойствами свойств («свойство быть красным имеет свойство быть цветом»), и даже со свойствами свойств свойств.
Все три предложения из приведенной серии являются, конечно, осмысленными. Они построены в соответствии с требованиями теории типов. А скажем, предложение «Этот дом есть цвет» нарушает данные требования. Оно приписывает предмету ту характеристику, которая может принадлежать только свойствам, но не предметам. Аналогичное нарушение содержится и в предложении «Этот дом является оптическим явлением». Оба эти предложения должны быть отнесены к бессмысленным.
Простая теория типов устраняет парадокс Рассела. Однако для устранения парадоксов «лжеца» и Берри простое разделение рассматриваемых объектов на типы уже недостаточно. Необходимо вводить дополнительно некоторое упорядочение внутри самих типов.
Исключение слишком больших множеств
Исключение парадоксов может быть достигнуто также на пути отказа от использования «слишком больших» множеств, подобных множеству всех множеств. Этот путь был предложен немецким математиком Е. Цермело, связавшим появление парадоксов с неограниченным конструированием множеств. Допустимые множества были определены им некоторым списком аксиом, сформулированных так, чтобы из них не выводились известные парадоксы. Вместе с тем эти аксиомы были достаточно сильны для вывода из них обычных рассуждений классической математики, но без парадоксов. Ни эти два, ни другие предлагавшиеся пути устранения парадоксов не являются общепризнанными. Нет единого убеждения, что какая-то из предложенных теорий разрешает логические парадоксы, а не просто отбрасывает их без глубокого объяснения. Проблема объяснения парадоксов по-прежнему открыта и по-прежнему важна.
Устранение и разрешение парадоксов
Впечатление, произведенное на математиков и логиков только что открытыми парадоксами, хорошо выразил математик Д. Гильберт: «…состояние, в котором мы находимся сейчас в отношении парадоксов, на продолжительное время невыносимо. Подумайте: в математике — этом образце достоверности и истинности — образование понятий и ход умозаключений, как их всякий изучает, преподает и применяет, приводит к нелепости. Где же искать надежность и истинность, если даже само математическое мышление дает осечку?»
Следует подчеркнуть одно важное различие. Устранение парадоксов и их разрешение — это вовсе не одно и то же. Устранить парадокс из некоторой теории — значит перестроить ее так, чтобы парадоксальное утверждение оказалось в ней недоказуемым. Каждый парадокс опирается на большое число определений и допущений. Его вывод в теории представляет собой некоторую цепочку рассуждений. Формально говоря, можно подвергнуть сомнению любое ее звено, отбросить его и тем самым разорвать цепочку и устранить парадокс. Во многих работах так и поступают и этим oграничиваются.
Но это еще не разрешение парадокса. Мало найти способ как его исключить, надо убедительно обосновать предлагаемое решение. Само сомнение в каком-то шаге, ведущем к парадоксу, должно быть хорошо обосновано.
Прежде всего, решение об отказе от каких-то логических средств, используемых при выводе парадоксального утверждения, должно быть увязано с нашими общими соображениями относительно природы логического доказательства и другими логическими интуициями. Если этого нет, устранение парадокса оказывается лишенным твердых и устойчивых оснований и вырождается в техническую по преимуществу задачу.
Кроме того, отказ от какого-то допущения, даже если он и обеспечивает устранение некоторого конкретного парадокса, вовсе не гарантирует автоматически устранения всех парадоксов. Это говорит о том, что за парадоксами не следует «охотиться» поодиночке. Исключение одного из них всегда должно быть настолько обосновано, чтобы появилась определенная гарантия, что этим же шагом будут устранены и другие парадоксы.
И, наконец, непродуманный и неосторожный отказ от слишком многих или слишком сильных допущений может привести просто к тому, что получится хотя и не содержащая парадоксов, но существенно более слабая теория, имеющая только частный интерес.


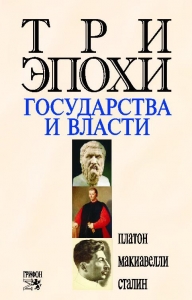


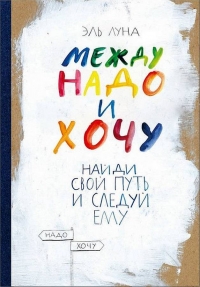



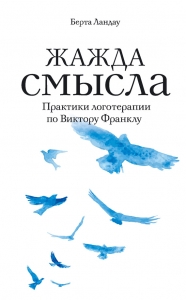
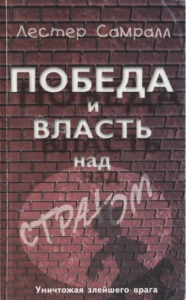
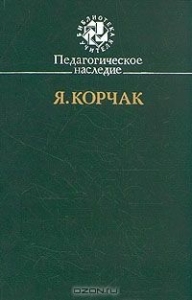
Комментарии к книге «Искусство мыслить правильно», Александр Архипович Ивин
Всего 0 комментариев