Гагик Назлоян Концептуальная психотерапия: портретный метод
Никакое предположение не кажется мне более естественным, чем то, что не существует протекающего в мозгу процесса, связанного с мышлением
Людвиг Витгенштейн* * *
Автор: Назлоян Г. М. – врач-психиатр, науч. рук. Моск. ин-та маскотерапии, канд. психолог. наук, почет. д-р Ин-та майевтики в Лозанне.
© Г. М. Назлоян, 2002
© ПЕР СЭ, оригинал-макет, оформление, 2002
Предисловие
Еще в студенческие годы я заметил, как мало спорят врачи других профессий о способах медицинского вмешательства и какое значение они придают исполнительскому мастерству специалиста, его компетенции. В психотерапии же ученик не превзошел еще своего учителя, что косвенно свидетельствует о привязанности терапевтического ритуала к его создателю. У каждого из известных психотерапевтов прошлого есть несколько случаев, которые переходят из книги в книгу, иллюстрируя миф о великом мастере. Будущий аналитик, принимая знания «из первых рук», до конца не преодолевает смятение и комплекс собственной неполноценности. Поэтому в целях самоутверждения психотерапевты нередко создают собственную точку отсчета при лечении пациентов.
Можно провести аналогию с развитием живописи, где тоже существуют два подхода: создание техник (темпера, акварель, масло, пастель) и реализация исполнительского мастерства художника, его стиль, манера. Однако здесь не говорят, что, к примеру, изобретатель масляной живописи Ван Эйк при всем его величии значительнее других художников – Босха, Джотто или Сезана. Он создал масляные краски не потому, что был изумительным художником, а потому, что увлекался алхимией. Некоторые искусствоведы даже укоряют Леонардо, что он пытался (не совсем удачно) создавать новые пигменты, а его привычка вместо кисти пользоваться иногда ребром ладони никак не отражается на нашем эстетическом восприятии «Дамы с горностаем».
Настоящее издание основано на публикациях разных лет. Оно объединяет критические и конструктивные идеи, сформулированные нами часто независимо друг от друга. Книга создавалась с учетом замечаний и пожеланий наших читателей – психологов, психиатров, психотерапевтов в процессе расширения темы предыдущей монографии (Назлоян 2001).
Несмотря на критическую направленность, работа примыкает к интегративным тенденциям в современной психотерапии. Критические замечания касаются лишь тех деталей и нюансов, которые препятствуют объединению существующих методов психотерапии в единый концептуальный узел. Ибо цель научной публикации – лучше понимать других специалистов и быть понятым ими. В своей практической деятельности мы учитывали лишь самые доказательные идеи наших коллег и предшественников, а также их пожелания другим врачам. Соединив в одно целое науку и искусство, мы выдвинули достаточно много перспективных приемов психотерапии, которые теперь уже ждут своего мастера.
Введение
Клиническая психиатрия – особая область медицины. Будучи «нравственно отягощенным» знанием, она развивается несколько иначе, чем другие науки о человеке. Ее развитие во многом определяется тесными связями с общественными и государственными структурами, необходимостью решать судьбу пациента постановкой адекватного диагноза. В то же время, будучи наукой эмпирической, клиническая психиатрия ориентирована не на теорию, а на классификационные принципы с их определениями и ярлыками, которые периодически уточняются психиатрическим сообществом (Жариков, Тюльпин, с.20). Она также не лишена субъективности и часто зависит от вкусов, культуры, обаяния лидера той или иной школы в пределах страны или города, большого или маленького учреждения.
Критический анализ общих проблем нашей науки должен быть конструктивным, здесь нельзя огульно отрицать общепринятые стандарты или высказывать слишком смелые идеи, проводить эксперименты методом проб и ошибок: «теории всегда замолкают у постели больного» – говорили первые клиницисты (Фуко, с. 166). Клинические испытания новых гипотез длятся порой многие годы. В то же время психиатрия как дисциплина, возникшая на границе естественных и гуманитарных наук, нуждается в постоянном обновлении. Она не может подчиняться уже устаревшим и отвергнутым в смежных науках представлениям, пусть даже фундаментальным.
Полтора столетия клиническая психиатрия развивалась на естественнонаучной основе, что было связано с открытиями в области нейрофизиологии и психологии (Гризингер; Кречмер, 1998; Ярошевский, 1985). «Отправным пунктом ее служит научное познание сущности душевных расстройств» (Крепелин, с.1). Ее недавние успехи вызваны интенсификацией обмена опытом между разными школами, повышением качества параклинических и патопсихологических обследований, появлением психофармакологических препаратов различной направленности, выделением и развитием психосоматики, геронтологии, наркологии, сексологии, значительным расширением реабилитационной службы.
Эти и другие факторы привели к обеспечению стойких «ремиссий» у пациентов, к быстрому и эффективному преодолению функциональных и других расстройств, к серьезной либерализации опеки психически больных, условий их быта, к популяризации психиатрии как социально значимой науки, а также идей гуманного отношения к душевнобольным. Но в последние два десятилетия наметились признаки застоя, простого воспроизведения опыта наших непосредственных предшественников. Психиатрия не только уступает передовые позиции в медицине, но и теряет свою значимость в общественном мнении.
Объектом настоящего исследования является душевнобольной, в частности его патологические переживания, известные своей резистентностью к психотерапевтическому воздействию. Трудности лечения обусловлены тем, что психотерапия, как и лекарственная терапия, направлена на преодоление расстройств, декларируемых самим пациентом, т. е. на следствия, а не на их причину (Бурно 1985; Жислин; Констрорум; Роджерс; Fromm-Reichmann). Психотерапия, как об этом свидетельствует история становления психоанализа и других известных школ, успешна лишь тогда, когда она концептуализует психическую же причину патологического явления, определяет патологическое начало, «почву» произрастания невротических, психических и психосоматических расстройств.
Отсутствие такой концептуализации – главная особенность клинической интерпретации психических нарушений, здесь доминируют «авторитет чистого взгляда», традиция и соматическая каузальность (Фуко, с. 166–190). «В психиатрии, – пишет известный историк науки М. Г. Ярошевский, – господствовала ориентация (обусловленная укорененностью ее понятий в естественнонаучном подходе к этиологии заболеваний) на выявление органических причин патологических процессов. Психоанализ же, исходя из принципа психической причинности, искал эти причины в сфере бессознательной психики безотносительно к физиологическим (нейрогуморальным) механизмам, которыми обусловлено ее функционирование» (Ярошевский, 1991, с. 443). Хотя Фрейд сомневался в успешности глубинной психотерапии психозов (из-за проблем переноса), именно он, в отличие от представителей соматогенеза психических нарушений, положил начало психотерапии душевных заболеваний.
Тем не менее в вопросах диагностики и лечения душевнобольных мы не видим альтернативы клиническому направлению, вобравшему в себя опыт многих поколений теоретиков и практиков. Всем остальным концептуальным направлениям (психоанализ и его ответвления) свойственна выясненная еще Фрейдом избыточная дифференциация неврозов и психозов (Фрейд, 1991, с. 154–162). По его мнению, «невроз не отрицает реальности, он не хочет только ничего знать о ней; психоз же отрицает ее и пытается заменить ее» (Овчаренко, с.190). Развитие клинической (медицинской) психотерапии значимо не только в исследовательской сфере, оно нужно и в прикладной области (Бурно, 1993, с. 213–220).
Клиническая беседа давно уже соседствует с другими арт– и психотерапевтическими техниками, но уступает им из-за ограниченности в методологическом плане. Клинические принципы «видеть и знать», «спрашивать и анализировать» недостаточны для последовательного избавления пациента от психического недомогания. Проблема расширения клинического мировоззрения, создания на его базе новых эффективных методов психотерапии стимулировала настоящее исследование. Это, на наш взгляд, единственный путь сохранения психиатрической культуры и культуры сострадания душевнобольным, в отличие от всякой известной психотерапии, которая так или иначе игнорирует наблюдения и факты, известные психиатрической науке и систематизированные нашими предшественниками.
К 70-м годам, когда началась наша клиническая практика, основная масса душевнобольных во всем мире уже прошла интенсивную медикаментозную терапию и принимала амбулаторные (в лучшем случае) дозы нейролептиков или их пролонгов. Уже получила известность большая часть современных, в высшей степени активных препаратов, были разработаны и внедрены существующие до сих пор стандарты их применения. Лекарственный патоморфоз и бурный рост атипических форм фактически разрушил классификацию Э. Крепелина во всех ее вариантах способом «от противного», причем произошло это за короткое время. Каждый случай, попадавший в поле нашего внимания, выходил за пределы книжных описаний, нуждался в индивидуальном подходе, чего нельзя было достичь в условиях стационара, где терапия напоминает конвейер, а многие врачебные функции отданы на откуп младшему и среднему медицинскому персоналу.
Это обусловлено, думается, тем не учтенным еще фактом, что категориальный аппарат клинической психиатрии формировался в середине XIX века, на почве грубого физиологизма и вульгарного материализма (Дубровский, 1974; Каннабих; Ярошевский, 1961). Он сохранился до нашего времени, препятствуя внедрению новых масштабных идей и мировоззрений, в отличие от развития психологии, педагогики, лингвистики, этнологии. Чрезмерная ортодоксальность представителей клинической психиатрии обусловлена тем, что многие из них не до конца осознают уникальность своего предмета в системе медицинских наук.
Когда исследователь находится в трудном положении, он обращается к истокам своей дисциплины. Так и мы совершили экскурс к началам клинической психиатрии, пытаясь найти предпосылки для формирования новых методологических позиций, изобретения эффективных способов воздействия на патологическое начало. Это было важно не столько в порядке «чистого творчества», сколько ради помощи каждому из пациентов, доверивших нам свою жизнь. Цели настоящего исследования формировались в гуще клинической практики, а отдельные догадки обсуждались не только с консультантами и коллегами по работе, но и с опекунами наших больных – представителями различных профессий. Новая, концептуальная психотерапия возникла на фоне разочарования в традиционных методах лечения душевнобольных, – от суггестивных до психодинамических.
Из всех конструктивных идей, сложившихся в клинической психиатрии, наиболее перспективна, на наш взгляд, теория патологического отчуждения, аутизма. Ее выдвинул швейцарский психопатолог, один из классиков психиатрии Ойген Блейлер. Выдвинутая позитивно, она осталась во многом незавершенной и нераспознанной современниками; она явно опередила свое время, как и близкие по смыслу идеи М. М. Бахтина, М. Бубера, Л. С. Выготского, О. Розенштока-Хюсси, С. Л. Франка, Ф. Эбнера. Эвристический потенциал понятия аутизма мы попытались, как и наш предшественник, раскрыть в клинической практике, выразить то, что, мы полагаем, не договорил выдающийся ученный.
В настоящей работе мы пытаемся впервые систематически изложить наш более чем двадцатилетний опыт лечения душевнобольных в неординарных для врача и пациента условиях (отношения художника и модели). Дается новое решение задач нелекарственного воздействия на патологическое начало, имеющее существенное значение для психотерапии психозов, неврозов, а также проявлений судорожного синдрома. В работе обоснованы теоретические, экспериментальные, технические разработки, обеспечивающие решение важных прикладных задач.
В наши задачи входило создание методов воздействия на психические расстройства, строго соответствующих завету «не навреди». За первые десять лет работы в стационарах, диспансерах, кабинетах, комиссиях возможности официальных лечебных учреждений были для нас исчерпаны, и мы основали психотерапевтическое учреждение, свободное от бюрократической опеки и контроля. Такие не зависящие от государственной системы здравоохранения структуры создаются для того, чтобы расширить диапазон возможностей врача, освободить его от рутинного труда.
Институт маскотерапии – учреждение альтернативной психиатрии. Последние десять лет мы, пользуясь большей, чем у наших коллег, степенью свободы, стремились преодолеть стереотипы лекарственного воздействия на патологию, развить концепцию клинической психиатрии, добавить недостающее научному подходу звено. В то же время, ощущая свою связь с обычными психиатрическими учреждениями, наши специалисты-психиатры тяготеют к сотрудничеству со своими коллегами, порой работая по совместительству в этих организациях.
Пересмотр важнейших постулатов клинической психиатрии произошел не сразу, он развивался на основе принципиально новых наблюдений и самонаблюдения, критического взгляда на действующие правила опеки и лечения. Такая возможность появилась благодаря предельной индивидуализации лечебного процесса, длительному (до сотен часов) ненормированному общению с душевнобольным в удобной для него и для врача обстановке. Кроме возникновения совершенно новых техник психотерапии, формировался видоизмененный способ применения уже известных лекарственных средств, в целях большей их эффективности и безопасности для больного. В частности, мы отказались от излишней опеки пациентов и курсового назначения шоков и больших нейролептиков – последнего оплота карательной психиатрии.
Портретный метод психотерапии разрабатывался в психиатрических отделениях, где мы искали подтверждения некоторых идей, возникших в период нашей работы над проблемами психологии научного творчества в ИИЕиТ АН СССР под руководством М. Г. Ярошевского. Нас интересовало не только творчество душевнобольных, но и различные формы нарушения творческих функций. Общий корень всех этих нарушений мы нашли в феномене патологического отчуждения. Нас привлекло к нему то место книги А. А. Ухтомского «Доминанта как фактор поведения», где автор дает суммарные образы нетворческих людей – аутиста и схоласта (Ухтомский, с. 311).
Но умозрительные представления, внесенные в клиническую практику, преломляются своеобразно и приводят к самым неожиданным результатам. Психиатрическое отделение отличается от экспериментальной базы других наук тем, что здесь выводы и наблюдения формируются при оказании медицинской помощи. Другими словами, обнаружение и изучение феномена патологического одиночества мы сочетали с его лечением. И поскольку стандарты психофармакологического воздействия на аутистические расстройства не определены, возникла необходимость в усилении психотерапевтического компонента терапии психозов.
Психотерапию душевных болезней и практикующие врачи и теоретики отечественной психиатрии до недавнего времени считали невозможной. Это убеждение было основано на том несомненном факте, что большинство принятых в здравоохранении техник терапии психических расстройств не приводило к убедительным результатам. До 1985 года, когда была установлена профессия психотерапевта (приказ Минздрава СССР № 750 от 31 мая), мы были вынуждены, подчиняясь инструкциям стационара, сочетать психотерапию с назначением психотропных препаратов, а после этого стали применять наши методы неограниченно. Главным среди них остается портретная психотерапия, особенность которой в том, что скульптурный портрет создается не профессиональным художником, а самим лечащим врачом. Это полностью меняет атмосферу психотерапии душевных заболеваний, структуру взаимоотношений врача и пациента.
Концепция патологического одиночества, основанная на диалогическом мировоззрении, дает возможность использовать принципиально новые идеи и методы в области психотерапии душевнобольных. Она позволяет соединить разные жанры портретного искусства с клиническими представлениями. Возникшие на границе науки и искусства, наши методы диагностики и терапии обладают высокой степенью гуманности, сохраняя научные достоинства клинического метода. Они дают возможность подчинить терапевтическому процессу искусство портрета.
Предлагаемые методы исследования распространяются на пять уровней: мировоззренческий, теоретический, экспериментальный, прикладной и психопедагогический. Мировоззренческий уровень сформировался в противостоянии монологической (манипулятивной) парадигме с выдвижением на первый план понятия о патологическом одиночестве, обозначающего единственный в клинической психиатрии феномен, имеющий отношение к диалогическому мировосприятию. Теоретический уровень – благодаря критическому пересмотру понятия об аутизме, привязанного к одной нозологии (четыре «А» шизофрении Блейлера) или к детской психиатрии (аутизм Каннера). Это позволило концептуализовать гипотетическую причину возникновения нервных и психических расстройств, определить перспективы развития клинической психотерапии.
Выдвинутая нами идея об одиночестве как нарушении образа «я» и диалога человека с самим собой обусловила экспериментальные исследования с использованием техники интервью «зеркальные переживания». Этот тест подтвердился на сотнях пациентов и вместе с методикой диагноза пространственно-временных нарушений оказался достаточно точным критерием аутистических расстройств.
Прикладная часть нашей работы – самая обширная и ценная в познавательном плане, она порождена применением авторских методов психотерапии, направленных на реконструкцию образа «я». Здесь зафиксирован и проанализирован опыт терапевтического контакта с душевнобольными, иногда в течение сотен творческих часов. Этот опыт излагается не только в научных статьях и докладах, но и передается непосредственно – врачам, психологам и определенной категории больных посредством разработанных нами психопедагогических методов и приемов.
В первой главе анализируется состояние современной психиатрической науки в стационаре и в амбулаторной практике. Прослеживается отрицательное влияние ортодоксальных идей на судьбу конкретных больных, характерные методологические ошибки, допускаемые практическими врачами. Излагается многолетний опыт наших сотрудников по преодолению укоренившихся догм и предрассудков в реальной практике, попыток либерализации психиатрической помощи и опеки пациентов. Дано критическое рассмотрение одной из главных парадигм клинической психиатрии, имеющей отношение к линейному, процессуальному видению психических явлений. Анализируются последствия сциентисткого клише в клинической практике, определяются пути преодоления этой, по нашему убеждению, устаревшей методологии. Обосновывается необходимость равноценного использования научного и эстетического методов при лечении душевнобольных.
Во второй главе исследуется понятие аутизма. Выявлено тесное родство этого понятия с клиническими представлениями о других формах социальной дезадаптации, выдвинута принципиально новая концепция патологического одиночества. Мы не отказались от устоявшегося понятия об аутизме, но лишь расширили сферу его приложения, пытаясь охватить весь спектр изложенных в литературе и встречающихся в текущем опыте психопатологических расстройств. Классическое определение аутизма, как и детского аутизма, стали в нашем контексте частными случаями более широкого круга явлений, объединяемых под названием патологического одиночества – ключа к личностным расстройствам психики.
Патологическое одиночество, по причине его присутствия в каждом психическом расстройстве, возводится нами в основополагающую категорию; это некоторая инварианта, с распознания которой и начинается терапия психозов в Институте маскотерапии. Такое одиночество для нас не только распространенный патологический признак, но и критерий психической болезни. Разработка этой проблемы перевела практику диагностики и лечения психических расстройств в русло другой, более плодотворной парадигмы – представления о диалогическом характере мышления. В этой же главе впервые дается новая концепция патологического одиночества с опорой на представлении человека о его зеркальном «я».
Глава третья посвящена методу психотерапии скульптурным портретированием душевнобольного. Проводится сравнение этого метода с известными техниками арт– и психотерапии. Обосновываются психотерапевтические приемы и правила проведения сеансов скульптурной психотерапии. Характеризуются современные направления психотерапии неврозов и психозов, различаемые нами по признаку концептуализации психической причины болезни.
Рассматриваются актуальные и недостаточно исследованные проблемы пространства и времени психотерапии. Выявляются различные формы подчинения психотерапевтического сеанса часовому, измеряемому времени. Определяется времеобразующая функция лечебного портрета, дается характеристика качества портретного времени, его интервалы и разметки. Описана структура портретного пространства, атмосфера творческой мастерской, манера лепки лечебного портрета, материал и инструменты. Проведена жанровая идентификация создаваемого врачом-психотерапевтом скульптурного портрета. Критически рассмотрено представление о терапевтическом альянсе, обосновывается необходимость двойного договора с опекуном и пациентом.
Исследуются особенности психотерапевтического диалога, структурные элементы которого создают условия для равного партнерства врача и пациента. На конкретных примерах описаны множественные идентификации больного с портретом и с врачом, а также врача с больным и с портретом. Показывается, как благодаря фактору идентификации удается пробить брешь в аутизме, трансформировать основной синдром заболевания в направлении его поэтапного упрощения, редукции и дезактуализации.
Нами также рассмотрена проблема завершения лечебного портрета, так называемая постаналитическая фаза. В этой связи исследуется феномен самоидентификации, дается критический анализ понятия катарсиса. Наряду с клиническим критерием утверждается эстетический критерий завершения психотерапевтического процесса.
Главе четвертая содержит описание других авторских техник, в частности техники лечебного автопортрета. Рассматривается также группа других авторских методов психотерапии, объединенных под названием бодиарттерапии, – лепка и живопись по живому лицу. Анализируются трудности и преимущества использования этих методик, их значение для модернизации традиционных техник психотерапии (психоаналитической, рациональной, суггестивной терапии), а также для реализации метода параллельного лечения родственников душевнобольных. В этой же главе даны краткие характеристики других применяемых техник: усовершенствованная техника арттерапии (рисунок, живопись, гобелен), ритмическая пластика, другие формы двигательного диалога, групповая психотерапия «беседы у костра», принципы сочетания лекарственных и нелекарственных форм воздействия на патологическое начало, способы обучения техникам маскотерапии. Список литературы сведен к необходимому минимуму, – к тем авторам, труды которых были наиболее влиятельными в нашей практической работе и при составлении данного текста.
Автор приносит благодарность всем специалистам, которые в частных беседах и на конференциях, помогали прокладывать путь к новым методам лечения. Наша особая признательность философам Д. И. Дубровскому и В. М. Розину, К. Чаликяну, психологам П. Г. Белкину и М. Г. Ярошевскому, психиатрам Р. Г. Голодец,A. И. Белкину, М. Блейлеру, М. И. Рыбальскому и В. П. Самохвалову, психотерапевтам Т. В. Снегиревой, М. Е. Бурно, Ф. Е. Василюку, B. П. Колосову и В. Е. Рожнову, этнологу Л. А. Абрамяну, арттерапевтам Ж. П. Клайну, Дж. Мастропаоло и Сукину Ю, художнику Р. Хачатряну, кинорежисерам Н. Верховскому, М. Ляховецкому, А. Пелешяну, Д. Сендрикову, фотографам А. Морковкину, А. Полякову, искусствоведу Г. Ельшевской, филологам Т. В. Цивьян, Ю. Акопяну, В. Айрапетяну, сотрудникам Института маскотерапии.
Глава 1. Современное состояние практической психиатрии
Психиатрическая практика совершенно необоснованно отдана на откуп сугубо естественнонаучному знанию. В игнорировании гуманитарного мышления – одна из коренных причин того кризиса, который переживает сегодня психиатрия. Выход из этого кризиса, по нашему убеждению, следует искать на путях не только еще большего сближения психиатрии с биохимией и нейрофизиологией, но и, в частности, обращения ее к эстетике и искусству как такому методу постижения человека, который содержит в себе огромный психотерапевтический потенциал. Однако это пожелание, высказанное задолго до нас многими видными психопатологами, должно непременно ответить на вопрос: как? Необходим способ сближения науки и искусства, нужна концепция, опирающаяся на глобальный, охватывающий личность феномен, патологическое явление, которое имеет не только клиническую ценность, но которое представлено также в гуманитарных науках.
1.1. В отсутствии новой парадигмы
Массовое применение психотропных препаратов изменило традиционное восприятие душевных заболеваний, обусловило упрощенный, прагматический подход к их диагностике. На базе текущего опыта и катамнестических сведений возникли новые наблюдения, которые во многом противоречат концепциям долекарственной психиатрии. Психофармакотерапия, развиваясь и расширяя сферу своего приложения, фактически подрывала основы клинического подхода, тормозила развитие психотерапии душевных заболеваний. Догматизация классических воззрений, отсутствие новых идей и наблюдений способствовали кризису в тех областях гуманитарных наук, для которых кий опыт является некой «питательной средой»[1]. Нарушился механизм обратной связи между теоретическими изысканиями и практикой.
Изменилась также объективная картина психических болезней. Так называемый лекарственный патоморфоз коснулся подавляющего числа лиц, зарегистрированных в амбулаториях и стационарах[2]. Доступность психотропных препаратов, их неограниченное и бесконтрольное применение оказали также деформирующее влияние на относительно легкие и распространенные расстройства: неврозы, реактивные и соматически обусловленные состояния. Можно сказать, что в результате роста атипических форм количество болезней приблизилось к количеству больных, а критерии идентификации отдельных случаев стали формальными.
Преобразился не только тип течения, но и структура болезни, резко снизились возможности прогнозирования. Нарастает тенденция к превращению приступообразного проявления психических расстройств в непрерывное, а вероятность спонтанных улучшений приблизилась к нулю. Отныне попытка осмыслить каждое патологическое изменение с позиций систематики Кальбаума – Крепелина или соотнести их с международной классификацией в последнем пересмотре (МКБ-10) представляется ввиду быстрого развития новых форм психических заболеваний все более абсурдной (см.: Чуркин, Мартюшов). А это значит, что клиницисты оказались заложниками собственной фармакотерапевтической практики, т. е. результатов применения нескольких десятков наиболее употребительных транквилизаторов, нейролептиков и антидепрессантов.
Сегодня трудно назвать какое-либо альтернативное лечение, которое могло бы заменить практику применения психотропных препаратов. Их интенсивное действие на мозг больного освобождает врача от трудоемкого, многолетнего процесса расшифровки переживаний и поступков наших пациентов. Мы приобрели некий новый способ сдерживания патологической активности и потеряли интерес к образу мысли и образу жизни душевнобольных. Основная часть психиатрических учреждений осуществляет лишь охранительные, карательные функции, так как голый эмпиризм и суеверия пришли на смену научному поиску.
Таким образом, можно утверждать, что почти полувековой путь, который иногда называют «эпохой нейролептиков», видоизменив психические болезни, не привел к ожидаемому решению проблемы. Хотя поиск новейших средств воздействия продолжается, уже ясно, что клиническая психиатрия испытывает новый кризис. По-прежнему остаются актуальными проблема личности пациента, его возвращения в общество, критерии психического здоровья. В связи с этим объективация и стандартизация лечебного процесса менее предпочтительна, чем ее индивидуализация. Вместо дистанцирования участников психотерапевтического сеанса делается желательной эмпатия, предельная близость до полного слияния в творческом процессе мыслей и переживаний врача и больного. По мнению многих видных психопатологов, «единственным „действенным началом“ психотерапии являются тесные эмоциональные связи, аффективные отношения между больным и терапевтом» (Ротенберг, с. 112; Психотерапевтическая энциклопедия, с. 984–985; Мишара, Шварц; Rogers). Этих целей можно достичь на пути комплексного использования лекарственных и нелекарственных форм лечения.
Психологическая атмосфера большинства лечебниц обусловлена не только поведением душевнобольных, но и многими другими факторами:
• архитектурой, интерьером больниц, диспансеров, дневных стационаров;
• распределением палат, кабинетов, вспомогательных помещений, прогулочных дворов, спортивных площадок;
• защитой дверей, окон, территории;
• иерархией ролей сотрудников – врачей, научных консультантов, персонала;
• режимом прихода, ухода, дежурств медицинских служащих;
• проведением внутрибольничных конференций, комиссий, консилиумов, докладов дежурных врачей;
• режимом сна, пробуждения пациентов, приема пищи, лекарств, гигиенических процедур, досуга, свиданий с родственниками, трудотерапии, арттерапии[3].
Все это сложное образование приходит в движение благодаря столкновению двух основополагающих принципов, двух противоположных тенденций: максимальной эффективности лечения и завета «не навреди». Поиск оптимального соотношения этих мотивов и определяет развитие практической психиатрии. Технически это осуществляется, с одной стороны, посредством расширения знаний о предмете, с другой – посредством разработок новых приемов психо– и фармакологического воздействия на патологическое начало. Анализируя работу психиатрических учреждений в разных странах, мы замечаем, что между ними больше сходства, чем различий. А это значит, что, при всем своем разнообразии диагностические критерии имеют единую точку отсчета, скрытую в основе психиатрической практики парадигму, выявление которой представляется очень важным.
Между тем долгосрочные катамнестические сведения свидетельствуют о том, что психозы, изрядно видоизмененные, не перешли в другой, более легкий регистр мозговых расстройств; что внушительная часть современных препаратов все более напоминает средство контроля, а не лечения душевных болезней. Понятия «нейролептической смирительной рубашки», «нейролептической шизофрении» давно утвердились в психиатрическом лексиконе[4]. Все чаще можно услышать, что ни одно, даже самое сильное лекарство не влияет на структуру личностных расстройств, не затрагивает ядра больной души[5]. Клинический подход, основанный на научном методе, фиксирует лишь повторяющееся, типовое, стандартное; он в принципе не ориентирован на создание средств воздействия на индивидуальное, неповторимое, в конечном счете, на личность. В то же время взгляды и установки среднестатистического психиатра не обязательно совпадают с идеями известных психиатров и психопатологов. Критический анализ этих взглядов представляет значительный интерес. В связи с этим можно выразить сомнение в необходимости для практической психиатрии широты и разнообразия наименований, представленных в международной классификации психических болезней. Достаточно просмотреть статистические карты архивов обычной больницы, чтобы убедиться, что большая часть нозологических единиц там не представлена[6].
Мы утверждаем, что нет такого лечащего врача, который мог бы свободно пользоваться всеми диагностическими формулировками типичных и атипичных форм заболеваний. Во-первых, это невозможно по причине внушительного объема вариантов и толкований психических расстройств; во-вторых, назначая одни и те же лекарства при разных нозологических единицах, ни один врач в подобной эрудиции не нуждается. Но даже если бы ему удалось осуществить такую «компьютерную» работу, то она не отразилась бы на конечном результате лечения. Для врача-психиатра или психотерапевта важно другое – развитие и накопление собственного живого опыта, интуиции и умения, необходимых человеческих качеств, гуманитарной культуры. «Не увлекайся частными проблемами, – писал Л. Витгенштейн в своих дневниках, – но всегда старайся ускользнуть туда, где можно свободно обозреть, пусть и недостаточно ясным взглядом, некоторую большую проблему в целом…» (Витгенштейн, 1987, с. 107).
Хотя некоторые наши идеи находят опору в работах других исследователей (М. М. Бахтина, О. и М. Блейлеров, О. фон Вайцзекера, Э. Кречмера, Э. Крепелина, З. Фрейда, К. Юнга, К. Ясперса, многих современных авторов), приходится констатировать, что они так и не были востребованы практической психиатрией. Поэтому, не теряя из виду первоисточников, мы будем исходить из собственного опыта и опыта наших коллег, работающих в различных психиатрических учреждениях у нас и за рубежом.
Над практической деятельностью современного психиатра (отсутствие госпитальной адвокатуры, четких критериев целесообразности назначений) почти нет контроля, цензуры, он монопольно владеет судьбами своих пациентов, особенно когда занимается частной практикой. Можно предположить, что в такой ситуации не существует особых преград для проявлений субъективизма, экспериментаторства, шарлатанства. Значит, речь идет о вполне узнаваемом, самом распространенном случае насильственного вторжения врача-психиатра в мир переживаний душевнобольного. То, что мы называем экспериментаторством, чрезвычайно распространено в психиатрических стационарах, меньше – в амбулаторной практике, см.: МПЖ, 2000, № 3, с. 11). Символичным является пример, который переходит из учебника в учебник, а именно случай ученика Блейлера Klaessi, когда застывшего кататоника бросили в бассейн с водой (Клиническая психиатрия, с. 53). Никто из авторов не заметил, что этот опыт был самым настоящим произволом по отношению к пациенту и научной или клинической ценности не имеет.
Очевидно также, что практикующий врач старается в первую очередь «ликвидировать», искоренить бред, галлюцинации, психомоторное возбуждение и пр., минуя носителя этих переживаний – душевнобольного. Лечение, как правило, проходит в дуальной структуре с чрезвычайно жесткой иерархией: врач – больной. Наших коллег мало интересует обстановка, в которой они работают, собственные состояния: настроение, физическая кондиция, загруженность сознания другими проблемами, характер отношений с опекунами, возможности памяти, интеллекта, творческих функций на момент назначения лекарств. Можно считать удачей, если мы заметим признаки сострадания, сочувствия к больному. Эмоции практикующего негативны – это эмоции отторжения от пациента с его бреднями как от какой-то заразы, наваждения. Активность медперсонала питается энергией нежелания оказаться вовлеченным в мир «кривых зеркал», энергией выхода из психотерапевтической атмосферы[7].
Отсюда масса отвлекающих маневров в клинической беседе, от ее регламентирования до соглашательских жестов, мимических масок, лицемерных вопросов, не влияющих на решение проблемы, – своеобразных «громоотводов» в наэлектризованном воздухе между врачом и пациентом. И не оттого, что первый относится к душевнобольному без добрых чувств. Типичный клиницист отстранен ради некоей научной «объективности» и стремится еще больше отстраниться в надежде опереться на конкретную систему знаний о законах психики, о механизмах действия препаратов[8]. Он избегает всякой терапевтической интриги с пациентом и в этом отношении холоден, интеллектуален, стоит над своим больным, соблюдает «высокомерную дистанцию» между собой («знающим истину») и пациентом (Цивьян, с. 10). Подобный путь представляется нам совершенно бесперспективным, особенно если речь идет о шизофрении, само понятие которой весьма многозначно и не конкретизировано настолько, чтобы стать руководством к действию.
Вот уже двадцать лет мы наблюдаем у наших коллег два противоположных отношения к этой проблеме – или глубокий скепсис и уныние, или странный оптимизм и ожидание, что вот-вот обнаружатся физико-химические механизмы психозов, а может быть, сразу найдутся и средства от этих болезней. Подобные мысли удостаиваются популяризации (см.: МПЖ, 2000, № 3, с. 13).
Таким образом, одна из важнейших функций лекарственной терапии психических заболеваний сводится к преодолению отдельных симптомов и ликвидации переживаний (пусть даже патологических) данного индивида, то есть признаков, которые находятся в секторе жалоб пациента и его опекуна. Происходит подспудное подчинение диагностической мысли врача основному мотиву заболевания. Можно с уверенностью говорить, что такой упадок психиатрической мысли, ее паралич возник именно в эпоху психофармакотерапии – химического воздействия не на причину, а на следствие, на сигнал болезни.
Комплекс проблем, с которым приходит к нам пациент, на чем настойчиво фиксирует наше внимание, похож на описание душевной боли, душевного дискомфорта. Здесь выявляется еще одно весьма недвусмысленное значение нейролептиков. Они служат психиатру средством устранения нежелательных для пациента или его окружения признаков, а не воздействия на причину самой болезни[9]. Все, кто работал в стационаре, знают категорию недовольных опекунов душевнобольных, которые после многих лет мытарств называют нейролептики наркотиками, говорят, что больных не лечат – только «оглушают»[10].
Здесь возникают вопросы одного и того же порядка. Почему в то время как подавляющее большинство больных недовольны определенными препаратами, а опекуны разочарованы результатом лечения, врачи без тени робости и сомнения продолжают насильственно назначать их? Мог ли такой массовый протест быть игнорирован в соматической медицине? Сколько пользы принес бы опыт хотя бы недельного приема нейролептиков будущими психиатрами во время прохождения интернатуры! Скольких пациентов они впоследствии уберегли бы от лекарственной инвалидизации! Напомним, что однократный прием нейролептиков вызывает у здорового человека оглушенность, апатию, ослабление внутренних импульсов – «расстройство инициативы», а, скажем, паук сначала перестает ткать паутину, затем, когда приходит в себя, начинает ткать в уменьшенном виде (Клиническая психиатрия, с.47). Ряд ведущих отечественных авторов еще в 60-х годах также отмечал вредное «дезадаптационное» влияние аминазина и других нейролептиков (Авруцкий, Недува). Обезболивающие и устраняющие дискомфорт препараты в соматической медицине представлены в сложном комплексе терапевтического и хирургического вмешательства, в клинической же психиатрии последних десятилетий они становятся центральной, часто единственной целью лекарственного воздействия. Более того, поиск новых препаратов ведется именно в данном направлении. Хотя нейролептики считаются лечебными, а не наркотическими препаратами, нам часто приходится признавать правоту опекунов пациентов.
«Охота» за отдельными признаками болезни (чаще всего – теми симптомами, которые декларировал пациент или его опекуны) началась с момента возникновения основного набора нейролептиков, когда, по нашему убеждению, значение личности как «носителя» болезни перестало интересовать психиатров. Причем содержание этих признаков обесценилось в представлении врача – его уже не интересует тонкая структура бредово-галлюцинаторных расстройств, он разучился идти вглубь и путем детального анализа искать причины патологических знаков, пытаться снять завесу с больной души. Наши коллеги почти лицемерно спрашивают: женские или мужские голоса, внутри или вне головы и т. п., но даже форма болезни уже не имеет практического значения – примерно одни и те же лекарства дозируются «на глаз». Ведь все равно цель одна – ликвидировать (а не трансформировать) указанные патологические явления, мешающие больному или его окружению. Остальное имеет отношение к любознательности самого врача или к его добросовестности, «школе» и др.
Любопытно, что, обращаясь в наш институт, родственники пациентов требуют только выздоровления, а не купирования симптома, дезактуализации и т. п., потому что все это было в многолетних мытарствах по больницам и диспансерам. В их последней надежде скрыто напряжение уже отчаявшихся людей. И если мы принимаем решение лечить, то должны идти ва-банк – «все или ничего». Любовь и вера опекунов вынуждают брать всю меру ответственности на себя и находить решения по ту сторону рациональной медицины.
1.2. Эндогенный процесс и «синдромы-мишени»
Главная задача лекарственной терапии – «прервать эндогенный процесс» – один из самых распространенных и едва ли не столь же нелепых в современной психиатрии мифов. Достижение этой сомнительной цели возможно при крайне рискованном, близком к хирургическому вмешательстве – шоковой терапии. По опыту многих лет работы в различных больницах мы знаем, что шоковые методы терапии применяются довольно регулярно. Верная, на наш взгляд, концепция В. фон Байера об искусственно вызванном органическом синдроме парадоксально соединилась в умах практиков с мнением А. Майера о внезапном разрыве непрерывного потока переживаний, на основе чего и родился указанный миф (Клиническая психиатрия, с. 44).
В остальных же случаях происходит медикаментозное заигрывание с мифическим «процессом», якобы в целях ненанесения вреда больному шоками. Считается нравственно допустимым как бы «обстругать» этот процесс, лишить его остроты, внешних атрибутов, вызвать по возможности стойкую «ремиссию» – еще одно понятие, занесенное из соматической медицины. Типичный практик понимает, что с эндогенным процессом ничего не поделаешь, что даже при отсутствии внешних атрибутов болезни – это уже навсегда, на всю жизнь! Подобное лечение проводится из псевдогуманистических соображений. Та же цель преследуется при гипогликемических формах воздействия инсулиновой терапии.
Итак, прервать «скрытый» процесс, которого, возможно, и нет, потому что его существование не доказано, с помощью шоков (на манер «малярияшока» при прогрессивном параличе), подавить его максимальными дозами нейролептиков, а затем многие годы держать в узде пролонгами или малыми дозами нейролептиков – вот терапевтическая цель современного психиатра. Гегель в своей «Философии духа» высказал мнение, что душевнобольного можно вылечить, если незаметно подойти к нему и ударить. Это ли не прообраз шоковой терапии? Подобного рода «гегельянство» в психиатрии не только наносит колоссальный ущерб развитию всей нашей области, но и ощутимо вредит людям, попавшим в сферу влияния психиатра. Стоит также вспомнить, как до последнего времени пугали больных внезапными трюками, – кататоников бросали в бассейн с ледяной водой, инсценировали «кровавые» сцены ужасов и т. п. Сейчас эти техники «лечения» отданы на откуп санитарам некоторых загородных больниц. Если объединить указанные меры и затем попытаться понять логику их происхождения, то ничего кроме слепой агрессии, жестокости, проявляемой к непонятному явлению, выявить невозможно. Но шоковая терапия – многовековая традиция лечения душевнобольных, к которой достаточно серьезно относятся специалисты. Именно она считается нозотропной. В истории этого метода отмечен даже определенный прогресс.
Современная тенденция к возвращению синдромологического подхода показывает разочарование врачей в нозологическом. Появилось даже понятие «синдромов-мишеней». Это некий самообман, светлая надежда, через которую проходят все начинающие психиатры, испытав первые разочарования в себе, запутавшись в распознавании нозологических единиц. Рост новых форм болезней и невозможность «объять необъятное» во многом обусловили и сдвиг гипердиагностики в сторону одной из нозологий, в частности шизофрении[11]. Это своего рода завуалированный переход к концепции единого психоза, хотя бы потому, что тип течения болезни, основа основ нозологического подхода, по существу давно уже не учитывается.
Но на самом деле все гораздо сложнее. Как известно, синдром – структурно организованная единица. Он может встречаться при разных болезнях. Синдромы подробно описаны в общей психопатологии, это одно из выдающихся ее достижений. Преодоление патологического синдрома происходит путем его перестройки, а не «ликвидации». Мы утверждаем, что не существует психофармакологических препаратов, которые трансформируют болезненное структурное образование в здоровое вне непосредственного участия врача. Осуществить эту цель можно только психотерапевтически. Известные нам лекарства имеют отношение лишь к подавлению отдельных признаков болезни или всех вместе без учета ее структуры, самое большее – к снятию душевной «боли», душевного дискомфорта. Соматические и неврологические побочные действия больших транквилизаторов подробно описаны в литературе; что касается психических последствий, то они освещены недостаточно полно.
Понятие о терапевтической «мишени», актуальных расстройствах, тесно связано, как отмечалось, с внедрением антипсихотиков – препаратов, способных кардинально влиять на мозговую активность. Оно возникло в результате несоответствия теории практике лечения душевнобольных. В то же время практикующий врач заранее лишает себя шанса увидеть феномен психического выздоровления в стенах больницы. С годами он вообще перестает ориентировать пациентов с психическими расстройствами на существующее в них здоровое начало. Почти анекдотичные случаи госпитализации здоровых людей известны на опыте каждому врачу и в изобилии встречаются в литературе, хотя со времени эксперимента Раппопорта с рассылкой психологов в качестве пациентов в психиатрические учреждения различных штатов прошло более трех десятилетий.
Если следовать общепринятой медицинской деонтологии, неназначение больному больших нейролептиков и шоков может принести значительно больше положительных результатов, чем назначение таковых, а степень риска, количество потерь уменьшатся[12]. Подчеркнем, что речь идет не о самих препаратах, а о способах их назначения – синдромологизации или нозологизации симптоматических препаратов. Нейролептики, как известно, не являются нозотропными препаратами (Клиническая психиатрия, с. 43), нозотропным является способ назначения лекарств. Это еще один признак избыточности современной систематики болезней.
Здесь есть существенное отличие от соматической медицины, где знание нюансов имеет отношение к этиологии и патогенезу болезни. В этой области даже незначительная деталь может изменить тактику терапевтического или хирургического вмешательства. Когда диагноз строится на позитивных признаках, эрудиция врача, его умение распознавать симптомы, известная технологизация обоснованны, а изучение физико-химических, анатомо-физиологических механизмов позволяет устранить причину и проявления болезни.
Обобщая сказанное, надо признать, что в погоне за мнимой эффективностью практическая психиатрия почти не соблюдает принципа «не навреди». А это означает полную ее беспомощность в собственно медицинском плане. Она гораздо больше занимается сдерживанием, своего рода жесткой опекой патологической активности людей, попавших в сферу ее влияния, нежели действительно лечением, забывая слова Минковского о том, что «идея, преобладающая в психозе, не является производящей» (Аккерман, с. 32). В этой связи следует отметить однотипные и порой роковые ошибки, которые допускали психиатры, приехавшие в зону Спитакского землетрясения. На фоне успехов представителей других областей медицины можно констатировать полный провал их работы с людьми, испытавшими посттравматический стресс.
Итак, бытующую среди психиатров-практиков точку зрения можно выразить следующим образом: что бы врач ни делал, на какие бы ухищрения ни шел, процесс психической болезни продолжается, он скрывается где-то в глубине человеческой личности, представляя собой враждебное, разрушительное начало[13]. Этот процесс способен привести к слабоумию, особенно если возник в раннем возрасте (еще один предрассудок, так как, по нашим наблюдениям, как раз ранние проявления болезни лечатся гораздо легче поздних) или лечение начато слишком поздно (как при запущенной онкологии)[14].
Когда из области функциональных психозов были выведены прогрессивный паралич и другие экзогенно-органические и сомато-психические заболевания, осталась группа психических расстройств, биохимическая основа которых не выявляется. С тех пор выдвигаются гипотезы соматического процесса, который обусловливает психотические расстройства. Поиск в этом направлении безуспешен. К тому же термин «шизофрения» абстрактен и, по нашему убеждению, не является собственно медицинским понятием, так как не обладает скрытым планом терапевтических действий. Это только обозначение некоторого феномена, или, как сказал бы Блейлер, группы явлений, некий классификационный «ярлык». А в нашей стране – приговор. В знаменитую клинику Блейлера Бургхельци под Цюрихом поступало 29 % мужчин и 39 % женщин, больных шизофренией (Клиническая психиатрия, с. 26); в наш институт – более 90 %. Впрочем, диагноз, как правило, не подтверждается. К. Ясперс совершенно справедливо считал, что шизофрения – не просто определенный процесс, но прежде всего «способ переживания, постижимый в психолого-феноменологическом плане, целый мир своеобразного психического существования (Dasein), для выражения отдельных моментов которого найдено много тонких понятий, но которое в своем целом не получило удовлетворительной характеристики» (там же, с.22). Налет шизоидности как нечто преходящее мы наблюдаем у многих из наших больных, впрочем и у здоровых людей. Здесь главный, на наш взгляд, принцип – не относиться к эфемерному явлению, как к чему-то постоянному, не культивировать в себе мнительность в отношении личности и судьбы пациента. Справедливости ради следует отметить, что в «руководствах» старых психиатров (Блейлер, Корсаков, Крепелин и др.) данной нозологии отводится незначительное место, чего не скажешь о современных учебниках и монографиях. В реальной же практике удельный вес этого диагноза сравнительно с другими многократно увеличивается.
К. Юнг первый, еще работая ассистентом у О. Блейлера, высказал мнение о психогенезе шизофрении и о психических же причинах этого заболевания (Зеленский, 1996, с. 236). Его идея не стала популярной среди клиницистов во многом потому, что психотерапия шизофрении в практике самого Юнга и других терпела неудачу. Оставалась надежда создать биохимическую концепцию «эндогенных» психозов, воздействуя на них также биохимическим способом. Но при отсутствии физико-химической концепции ортодоксальный психиатр невольно встает на точку зрения Юнга.
Когда появились нейролептики, механизмы химической активности которых (при очевидных изменениях психики) оставались неизвестными, клиницисты вынуждены были судить о влиянии этих препаратов по динамике психического состояния больного. Происходила подмена патофизиологического процесса психопатологическим. Казалось вполне возможным, поскольку все происходящее в организме своеобразно отображается в нашей психической сфере, говорить о каких-то новых, еще не выясненных физических изменениях, которые сопровождаются теми или иными психопатологическими явлениями, например галлюцинациями. Ведь используют же нейролептики и транквилизаторы в соматической медицине. Можно перечислить десятки соматотропных лекарственных форм или токсических веществ, которые тоже влияют на психическую сферу, хотя и не носят названия психотропных. И наоборот, мы знаем, сколь ощутимы изменения в организме, вызванные теми или иными социально обусловленными душевными переживаниями.
Повсеместно в клинической психиатрии происходит разрушение тонкой грани между психическими и физиологическими функциями мозга. Многие психиатры принимают желаемое за действительное, питаясь иллюзией прошлого столетия, когда считали, что душу можно «препарировать» и исследовать наподобие тела лабораторных животных. А между тем не психиатр, а теоретик литературы, философ М. М. Бахтин справедливо замечал: «Чужие сознания нельзя созерцать, анализировать, определять как объекты, как вещи, – с ними можно только диалогически общаться» (Бахтин, 1963, с. 92).
Таким образом, созданная в далеком прошлом классификация душевных заболеваний, в основу которой положен принцип неизлечимости и отрицательного «прогрессирования», в эпоху сильнодействующих средств получила новый, достаточно абсурдный смысл, вызвав появление списка якобы психотропных лекарств. Однако упомянутые сильнодействующие препараты являются по существу не психо-, а нейротропными или соматотропными средствами.
Будучи восприняты в качестве психотропных, они способны извращать картину болезни и даже формировать новые расстройства, особенно в условиях их тотального и непрерывного приема (атипичные, нейролептические формы шизофрении, широкий спектр диэнцефальных, нейроэндокринологических, соматопсихических расстройств). Их действие можно сравнить разве что с хронической интоксикацией. Сегодня можно с уверенностью сказать, что, стремясь предупредить мнимое развитие болезни, поставить перед нею шоковые и нейролептические заслоны, мы никогда не увидим тех психопатологических явлений, которые описывали наши предшественники. Так происходит постепенная утрата психиатрической культуры, созданной многими поколениями врачей. Нанесен ущерб многовековой традиции понимания душевнобольных. Только пересмотр принципов применения некоторых групп фармакологических веществ, принятых на ошибочном пути теоретизирования, может восстановить связь нашей психиатрической науки с ее прошлым.
Мы не согласны с простой идентификацией клинического и естественнонаучного методов. Здесь есть существенные отличия, нуждающиеся в специальном рассмотрении, как показывает замечание Леви-Строса о том, что наука «не выдвигает на первый план практическую пользу. Она отвечает интеллектуальным побуждениям, прежде чем или вместо того чтобы удовлетворять нужды» (Леви-Строс, с. 120). Напротив, клинический метод направлен на извлечение этой самой «пользы» и «удовлетворение нужд». Здесь простой совет врача, основанный на обыденном здравом смысле, который может послужить точкой опоры для пациента, и сложная длительная процедура терапевтического изменения внутреннего мира душевнобольного в рамках концептуальной психотерапии – явления одного порядка, равного значения. Еще невролог Мёбиус сказал, что «патология» – это ценностное понятие (Юдин, с. 34).
Излечение от психического заболевания в современной психиатрии связывается с научным прогрессом вообще, с раскрытием сложных психофизических механизмов, с синтезом новых сильнодействующих препаратов. Все это дело будущего. Однако такое положение находится в нравственном противоречии с тем, чего ожидают больной и его родственники от медицины, от врача, ибо потерявшие душевное здоровье люди требуют выздоровления сейчас и отнюдь не утешаются тем, что наука когда-нибудь решит эту проблему. Отсюда неуверенность врача в своих возможностях, вынужденная экономия сил (к чему тратить их зря?), поневоле возникает фальшивый тон в беседе с больным и опекуном. Врачу приходится с грустью видеть повторные поступления больных с симптоматикой, которую он уже пытался преодолеть всеми возможными средствами. Поскольку научный прогресс в этой области пока непрогнозируем, психиатр начинает робеть перед некоим «темным», трудноопределимым патологическим процессом (в кулуарах его называют «эндогенным»), начинает повторяться в своей работе, не пытаясь углубиться в картину болезни. Отсюда отчаянная вера некоторых родственников больных в шарлатанов, обещающих скорое и окончательное выздоровление[15].
Привыкание к нейролептикам категорически отрицается, это убеждение может считаться господствующим (см. Кабанов, с. 47–50). «Антипсихотические препараты относятся к наиболее безопасным из всех применяющихся в медицине лекарств», – утверждает американский специалист Р. Дж. Бальдесарини; к сожалению, он представляет здесь мнение большинства практикующих врачей. Ему вторит его популяризатор Э. Фуллер Торри: «Антипсихотические препараты действительно относятся к наиболее безопасным лекарствам. Практически невозможно совершить самоубийство, используя большие дозы этих лекарств, очень редко они дают и серьезные нежелательные побочные эффекты» (Торри, с.254). Однако наш собственный опыт позволяет считать привыкание к нейролептикам несомненным фактом (Назлоян в МПЖ, 2000, № 3). Толчком к формированию подобной точки зрения послужил случай больной Т. Ш., 27 лет.
Несколько лет она неизменно получала монолечение галдолом. Лечащий врач то уменьшал, то увеличивал дозы препарата в зависимости от текущего состояния пациентки. Начав работу над портретом по нашей методике, мы по привычке отменили этот препарат, назначив дезинтоксикацию и витамины. Однако через некоторое время у пациентки возник тяжелый приступ агрессии с выраженной галлюцинаторно-параноидной симптоматикой. «Голоса» говорили ей о враждебных намерениях пожилой регентши, проживавшей, как и больная, на территории храма. Так как условия не позволяли переждать этот приступ, мы решили остановить его равноценными дозами фенотиазиновых препаратов и транквилизаторов, но безрезультатно. Однако стоило один раз вернуться к приему галдола, и приступ прекратился.
С этих пор мы стали расценивать многие «обострения» как проявления абстинентного синдрома. Они с успехом купировались кратковременным назначением малых доз привычного нейролептика с последующими процедурами отвыкания[16].
У нас есть претензии не только к побочным действиям самих лекарств, но и к режиму их назначения. На большом доступном нам материале – отчетах самих пациентов и их опекунов – можно сделать вывод, что нейролептики, в частности бутирофеноны, способны формировать галлюцинации у пациентов с навязчивостями, фенотиазины – бред, а тактика назначения этих и ряда других препаратов – в прогредиентной форме параноидную шизофрению. М. И. Рыбальский, много лет посвятивший изучению продуктивных расстройств, считает, что подобные явления могут иметь место при назначении малых доз галоперидола, а М. Блейлер говорил нам об опасности применения средних и больших доз (устные сообщения).
Нейролептики способны вызвать грубые расстройства мышления, снижение критики, ослабление памяти и обеднение ассоциативных процессов. Агрессия и аутоагрессия применявших нейролептики пациентов протекает нередко с особой жестокостью. Эти лекарственные средства способны формировать шизофреноподобные болезни, особенно стадию дефекта, переводить легкие рекуррентные формы шизофрении в прогредиентные. Любопытно, что в судебно-психиатрической практике симуляция удается именно тем испытуемым, которые перед экспертизой принимают нейролептик, т. е. лечащее средство (устное сообщение судебного психиатра А. В. Арутюняна). Но важнее всего для нас – усугубление личностных расстройств, грубая аутизация больного. Она наступает в результате непрерывного приема больным пролонгов или других форм нейролептиков. Такая практика приводит к ужесточению лечения, назначению хемио-, инсулино-, электрошоков. Все это приводит к лекарственному дефекту психики и быстрой инвалидизации пациентов.
М. Блейлер еще в 1941 году опубликовал одну из наиболее достоверных статистических сводок, основанную на анализе сотен случаев, квалифицированных как шизофрения. При остром начале – 25–30 % самопроизвольного излечения, 30–40 % излечения со стойким дефектом, 5-15 % с исходом в слабоумие. При хроническом простом течении – 10–20 % с исходом в слабоумие, 5-10 % со стойким дефектом, остальные – с исходом в выздоровление (Клиническая психиатрия, с. 21). Эти данные, конечно, хорошо известны психиатрам. Мы повторяем их потому, что никаких выводов из них за минувшие годы сделано не было. Учет приведенной статистики мог бы коренным образом изменить стиль лечения душевнобольных и благотворно повлиять на их судьбы, если только соблюдался бы завет «не навреди».
Кажется странным, когда наши коллеги «просвещают» родственников, а то и самих больных, прибегая к упрощенным формулам, касающемся весьма проблематичного с научной точки зрения эндогенного процесса, и к другим не менее сомнительным понятиям, отдаляя близких от пациента, лишая их возможности своей любовью и заботой о нем помогать лечению. Опекуны, как правило, начинают углубляться в проблему, читают специальную литературу и приходят в лучшем случае либо к полному недоумению, а в худшем – к еще более категоричной формуле болезни. Существуют наработанные штампы для родственников, для представителей правоохранительных органов. В результате больной на протяжении многих лет остается как бы в вакууме. С ним уже не говорят о простых вещах, от него напряженно ждут только внезапных проявлений болезни.
Значит, типовой врач, «просвещая» родных и близких и тем самым лишая их возможности участвовать в судьбе пациента, монополизирует лечебный процесс, а это приводит к потере и без того не очень больших шансов на выздоровление. Он также отвергает все остальные подходы к душе, кроме научного метода, а по большому счету – псевдонаучного. «Ибо человеческая душа, – писал Юнг, – это не психиатрическая, ни физиологическая, ни вообще биологическая проблема, а исключительно психологическая проблема. Душа есть самостоятельная область со своими особыми закономерностями» (Юнг, 1998, с. 285). Здесь великий психотерапевт, безупречно выделив объект своего исследования, на наш взгляд, не договорил того, что всегда хорошо чувствовал. Ведь психология традиционно мыслится в системе естественных наук, как это определил один из крупнейших специалистов – Ж. Пиаже (см.: Кедров). Такое недостаточно полное определение сказалось на всем творчестве Юнга – и там, где он размышляет о психозах, и там, где пишет о методах и принципах психотерапии. Эту неточность почти в тех же выражениях, как бы отвечая Юнгу, убедительно преодолел другой выдающийся мыслитель минувшего столетия. «Проблема души, – пишет М. М. Бахтин, – методологически есть проблема эстетики, она не может быть проблемой психологии, науки безоценочной и каузальной, ибо душа, хотя развивается и становится во времени, есть индивидуальное, ценностное и свободное целое…, то индивидуальное и ценностное целое протекающей во времени внутренней жизни, которое переживается нами в другом, которое описывается и изображается в искусстве словом, красками, звуком…» (Бахтин, 1979, с. 89).
1.3. Естественнонаучная парадигма
Клиническая психиатрия является прикладной наукой. Она подвержена влиянию идей, которые проникают в ее атмосферу из пограничных областей знания. Наряду с биохимическими, нейрофизиологическими представлениями, особой активностью обладают концепции чрезвычайно разветвленной и быстро развивающейся экспериментальной науки психологии. Идеи психологов преломляются в области клинической психиатрии, выполняя новые функции и обретая новый смысл. Порой они не сохраняют прочных связей со своими истоками и действуют автономно. Конструкции общего плана выполняют здесь роль некоего клише, дающего направление психиатрическим поискам. Немалая часть актуальных в психиатрии представлений давно уже принадлежит истории психологии (ассоцианизм, гештальтпсихология и др.). Эти идеи называются у разных авторов моделью, структурой, контекстом, парадигмой, категориальной сеткой; они создают систему ценностей в психиатрических отделениях и имеют колоссальное влияние на формирование перспектив каждой семьи, связавшей свое будущее с тем или иным психиатрическим учреждением.
Как известно, Т. Кун коренным образом пересмотрел позитивистское понятие нормативной методологии и вложил в него другой смысл. Парадигма, согласно Куну, определяет некую эпоху в развитии системы научных идей, «дисциплинарную матрицу», как он позднее выражался, творчества ученых. Она призвана настолько прочно детерминировать то или иное направление в развитии естественных наук, что ее смена протекает революционным путем. По Куну, «открытие начинается с осознания аномалий, то есть с установлением того факта, что природа каким-то образом нарушила навеянные парадигмой ожидания, направляющие развитие нормальной науки» (Кун, с. 78).
В истории научного познания Кун выделяет допарадигмальный период развития, когда на основе смутно осознаваемых общемировоззренческих представлений собираются и систематизируются определенные фактические данные. Этот процесс проходил в разных науках с разной скоростью; в психиатрии – до середины XIX столетия. Затем наступает эпоха зрелой науки, когда теория развивается и детализируется, она находится в непротиворечивых отношениях с практикой. Под давлением новых накоплений возникает экстрапарадигмальная фаза – эпоха научной революции, «банкротство существующих правил означает прелюдию к поиску новых» (там же, с. 95).
Парадигма, на наш взгляд, отражает присутствие мировоззренческой идеи в границах той или иной научной дисциплины и в этом смысле максимально конкретна. В то же время она является наиболее общей категорией этой самой науки. Часто парадигмы возникают спонтанно, «снизу», как некий продукт коллективного соглашения ввиду многократного подтверждения опыта, например геоцентрическая картина мира. Ниже мы собираемся рассмотреть не теоретические клише отдельных школ в клинической психиатрии или в психотерапии, а то, что их объединяет.
Эти вопросы наиболее подробно обсуждаются в работах отечественных теоретиков Ю. Л. Нуллера и Ю. С. Савенко. Рассмотрим основные доводы этих авторов, поскольку наша практическая деятельность тоже осуществлялась под знаком пересмотра установившихся догм, действующей в клинической психиатрии парадигмы (Назлоян,1978; Наука и религия, 1998, № 8; Назлоян, 1994; многочисленные интервью в периодической печати с 1987 г.). Точки зрения, которые мы вкратце рассматриваем, довольно ярко иллюстрируют частую методологическую ошибку – идеологизацию той или иной медицинской дисциплины, хотя некоторые итоги расширения зоны действия рефлекторной теории И. П. Павлова ученый мир подвел недавно. Еще в 80-х годах мы слышали от старших коллег в коридорах психиатрических отделений блиц-объяснения состояния пациентов с опорой на понятия первой и второй сигнальных систем.
Этические мотивы и критический взгляд на состояние современной практической психиатрии в работах Нуллера и Савенко не вызывают сомнений. Мы, как и они, исходили из идей гуманного отношения к пациентам и наряду с другими авторами понимали, что обстановку в психиатрических отделениях следует улучшать не только борьбой за права наших больных путем создания альтернативных служб, но и структурно, теоретизируя. Таких попыток было довольно много, особенно в довоенную эпоху; само существование психодинамического и феноменологического подходов, наконец, антипсихиатрического направления – яркое тому подтверждение.
Ю. Савенко подходит к проблеме весьма основательно – с анализа понятия о парадигме. Он присоединяется к авторам, считающим понимание парадигмы Т. Куна устаревшим, достаточно девальвированным, и пытается придать ей новый смысл, поскольку это «принятый в нашей стране термин». Он считает более удачными формулировки других авторов: смена «научных мировоззрений» (В. И. Вернадский), смена «глобальных предпосылок мышления» (А. Койре), смена «типов рациональности» (С. Тулмин), смена «стилей мышления» (Л. Флек). «Нам представляется продуктивной, – пишет он, – позиция не тех авторов, так называемых экстерналистов, которые акцентируют и тем более абсолютизируют в генезисе научных революций политические, социологические, экономические факторы, а позиция интерналистов, которые отдают приоритет собственно научным и общемировоззренческим факторам, то есть собственной логике саморазвития научного знания» (Савенко, с.16). Данная позиция не выдерживает критики. В качестве опровержения достаточно вспомнить идею эволюционизма, принятую в середине XIX века.
Другой вопрос, что Савенко как теоретизирующему психиатру нет нужды в таком глобальном охвате и он может ограничиться интерналистским фрагментом этого понятия. Если не ставить перед собой науковедческих целей, то позитивистское понятие парадигмы, как «дисциплинарной матрицы» (Философский энциклопедический словарь) представляется нам вполне удобным и емким для обращения к основам такой прикладной области науки, как психиатрия. Еще одна особенность трудов рассматриваемых авторов заключается в том, что они не определяют конкретно и ясно, какие идеи сформировали контекст развития клинического метода, в чем суть парадигмы практической психиатрии. Именно эта неточность обусловила шаткость выдвигаемых ими альтернатив.
Оба автора предлагают некий способ реанимации клинического метода. Первым это сделал Ю. Нуллер, он считает, что необходимо заменить существующую систематику новой, с опорой на теорию стресса Г. Селье (Нуллер, 1993). А Савенко призывает заменить ее классификацией, основанной на философии Э. Гуссерля и К. Ясперса. Причем эти призывы во многом прогностические, поскольку неизвестно, как технически это должно состояться, они даже носят некий просветительский характер.
Далее авторы допускают методологическую ошибку, предлагая принять новую парадигму взамен старой, «сверху»; предполагается прийти к мировому соглашению, т. е. сообщество психиатров должно не только отказаться от старой классификации, но и игнорировать все другие направления в психиатрии и психотерапии. Представляют ли авторы масштабы подобных перемен? Даже форма отрицания систематики нозологических единиц выбрана неверно, потому что приводит к отрицанию всех остальных школ и течений. Они считают главной парадигмой клинического мышления второстепенное для практической психиатрии учение о регистрах, уровнях психических нарушений и противопоставляют ей собственную точку зрения. Хотя мировоззренческая позиция Савенко близка нам по выбору авторов, предпочтение необходимо отдать Нуллеру. Повторная попытка внедрения нейрогуморальной теории Селье методологически более верна, так как существует некий позитивный опыт и можно представить, что автор в своей практической деятельности помогал больным с послестрессовой травматизацией, не прибегая к жесткому ортодоксальному лечению. Однако и Нуллер не всегда чувствует недостаточность предлагаемых им решений – «надлом» как причина психической патологии взамен существующей полиэтиологичности, сопоставление одной из гипотетических причин психических расстройств с перечнем этих расстройств.
Возвращаясь к трудам Савенко, заметим, что мы так и не смогли найти в них более точных признаков действующей в клинической психиатрии парадигмы, аналогичных категориям других наук (химии, физики, биологии), а также собственной парадигмы автора. Не приводит он и сведений об опыте внедрения своих идей в практической области (клинические испытания), как это делали истинные реформаторы – Крепелин, Фрейд. Ведь глобальные изменения клинического мышления автора должны были привести к новым, эффективным приемам при лечении психически больных.
Однако надежда обнаружить формулировку авторской парадигмы все же появилась, когда в самом конце одной из его статей мы обнаружили следующую фразу: «Сразу можем сказать, что солидарны с помещенной в этом выпуске работой Альфреда Крауса, которую и считаем воплощением новой парадигмы в психиатрии» (Савенко, с. 22). Заинтересованность была настолько велика, что мы внимательно прочитали работу профессора из Гейдельберга, где, как известно, и появилась систематика Э. Крепелина.
Автор проекта новой парадигмы не менее тенденциозен, чем его последователь, и тоже отрицает современную систематику психических болезней (DSM-IV b и ICD-10), поскольку она не учитывает интуитивный компонент в постановке диагноза, «интуитивный диагноз» (Краус, 1997, с. 10). Но, заметим, она не учитывает и дискурсивный способ постижения диагноза. Это определенная типология диагнозов, или, говоря гастрономически, меню. Вопрос, видимо, заключается в том, что лежит в основе этой систематики. Как пришли ученые к принципу классификации психических болезней, какой смысл они вкладывали в обозначение каждой нозологии (причем скорее всего интуитивно), должно интересовать не психиатров, а исследователей научного творчества.
Однако Краус идет дальше и претендует на изменение существующей типологии. Поэтому обратимся к его определению интуиции. Он пишет: «Под интуицией мы здесь понимаем – в отличие от дискурсивного, объяснительного мышления – непосредственное восприятие смысла или комплекса связей, восприятие значений и осознание сущностей,… интуиция – это особые акты понимания» (Краус, с. 10–13). В первой части этого определения не трудно узнать определение Декарта, а во второй – Ясперса. «Понятие ясного и внимательного ума» Декарта, как известно, легло в основу картезианской гносеологии с характерным для нее психофизическим параллелизмом. К психологии же творчества оно не имеет прямого отношения – там другая традиция в интерпретации рассматриваемого понятия, другой (психологический, а не гносеологический) аспект проблемы. О невозможности и непродуктивности смешения этих двух плоскостей знания мы подробно писали в историко-научной работе (Назлоян, 1978).
Судя по первой части определения, источники Крауса ограничиваются толковым словарем, вторая часть является отсылкой к «субъективно-понятным» сочетаниям Ясперса. Последний был современником таких интуитивистов, как А. Пуанкаре и А. Бергсон, но об интуиции он в этом месте своего труда по психопатологии не пишет. Общее впечатление можно выразить одной фразой: врач-психиатр может игнорировать нозологическую классификацию, но должен иметь развитую интуицию (в обыденном понимании этого слова). Мы бы добавили, что врач должен быть еще и самоотверженным, добрым, порядочным, талантливым и т. п.
Но дальше Краус допускает явное противоречие: отказываясь от дискурсивного элемента в классификации болезней, он становится чистым интуитивистом, но безосновательно. Он говорит об интуиции истерии, интуиции шизофрении – понятий, имеющих отношение, согласно автору, к «дискурсивному» подходу. Автор не заменяет их новыми, интуитивными. И здесь он без комментариев переходит на психологический уровень анализа проблемы интуиции.
Психологические идеи тоже не оригинальны, они представляют собой простое расширение (истерия, маниакально-депрессивный психоз, даже бред) «чувства шизофрении» А. Рюмке. Речь идет о психологических, иррациональных механизмах постановки диагноза, а именно шизофрении. Это была попытка решить проблему личности пациента через определение креативных функций врача, учитывая роль наблюдателя, – попытка интересная, очень важная в плане исследования личностных расстройств у больных шизофренией, но не оправдавшая себя как диагностический прием. Краус же говорит об интуиции как о диагностическом приеме, свободно распространяет представление о безотчетном, иррациональном восприятии пациентов не только на нозологические единицы, но и на «безличностные» симптомы и синдромы. С деонтологической точки зрения подобные рассуждения, на наш взгляд, являются безответственными. Достаточно представить, какие последствия для душевнобольного имеет «интуитивная» постановка и без того во многом субъективного диагноза, особенно в случае шизофрении. «Но будем осторожными, – писал Эйнштейн, – и постараемся дать строгие определения, так как мы знаем, как опасно переоценивать интуицию» (Эйнштейн, Инфельд, с. 470). Об опасности для пациентов распространения этого представления в практической психиатрии мы подробно писали в разные годы. Создается впечатление, что любые концепции или выдвинутые точки зрения, гипотезы, имеющие общий характер, можно называть парадигмой и противопоставлять вековой традиции распознавания психических болезней.
Понятие о парадигме хорошо представлено в историко-научной литературе, однако нас интересует мало изученный тип парадигм, который чаще всего встречается в истории развития биологических знаний. Речь идет о тех глобальных идеях, которые ввиду внутренней противоречивости или недостаточной основательности лишь частично отвергаются в научном сообществе за неимением хорошей замены. Феномена научной революции в этих случаях не наблюдают, а сама наука постепенно догматизируется.
Устаревшая идея вытесняется на второй план и продолжает подспудно воздействовать на прикладную область. Она становится похожей больше на архетип, чем на парадигму. Такое положение типично для современного психиатрического сообщества. Было много призывов преодолеть классификационный принцип психических болезней, но радикальных решений этой проблемы за последние десятилетия не выдвигается. «Крепелиновская систематика, конечно, поколеблена – считают немецкие клиницисты, – но заменить ее пока нечем, да и нет еще даже признаков того, что готовится вместо нее нечто лучшее» (Клиническая психиатрия, с.27). В этом отношении чрезвычайно интересна структура одного из лучших отечественных руководств под редакцией А. В. Снежневского (Руководство по психиатрии, 1983). Подвергнутое в исторической части формальной критике линейное восприятие душевных заболеваний произвольно возрождается и пронизывает все главы общей и частной психопатологии, будучи опорой описания нозологических единиц.
Представление о душевном мире как о направленном, линейном, «неодновременном», процессуальном неизбежно возникает, как только исследователи пытаются создать строгую науку о душе. «Они раздробляют опыт на единицы, достаточно элементарные для того, чтобы воспринимать их по очереди, одну за другой» (Уотс, 1993, с.30). Закономерность подобного подхода впервые дала о себе знать в середине прошлого века, когда несколько выдающихся физиологов, добившись существенных успехов в своих лабораториях, бросились наперегонки создавать основы новой науки психологии – по образу и подобию естественных наук[17].
Грандиозные проекты неминуемо привели к разным версиям линейной интерпретации душевных явлений. Вот что пишет один из радикальных представителей этой группы И. М. Сеченов: «Мысль о психическом акте, как процессе, имеющем определенное начало, течение и конец, должна быть удержана как основная, должна быть принята за исходную аксиому…» (Сеченов, 1995, с. 205). Вслед за великими нейрофизиологами стали осваивать просторы науки исследователи-врачи, проделавшие колоссальную работу по созданию новой области клинической медицины – науки о психических болезнях. Они руководствовались все тем же линейным видением психической патологии. Но если психологов линейный подход приводил к обычному в истории научной мысли тупику (как, например, в попытках решения проблемы творчества), то в области психиатрии, медицинской науки результатом был прямой и осязаемый ущерб.
Тем не менее процессуальное видение психических заболеваний и есть та скрытая парадигма, которая объединяет многие школы и подходы как при диагностике, так и при лечении психозов. Эта идея позволила не только соединить разрозненные факты и наблюдения, но и разрешить противоречивость опытных данных. Возникновение процессуальной парадигмы имело черты научной революции. В этом отношении показателен известный диспут И. М. Сеченова с К. Д. Кавелиным, имевший заметный общественный резонанс на протяжении десятилетий (Назлоян, 1977, 1978). Не меньшие трудности испытали Э. Кальбаум, а за ним Э. Крепелин при внедрении этого понятия в области клинической психиатрии. «Можно сказать, – замечает Ю. Каннабих, – что „процессы“ (Verblodungsprocesse) – было тем словом, которое сосредоточило на себе внимание во всех отделениях Гейдельбергской психиатрической клиники» (Каннабих, с. 420–421). Профессором и главным специалистом этой клиники был Крепелин – ученик В. Вундта, автора «Физиологической психологии».
Картина психических заболеваний, не имеющих соматической основы (инфекционной, интоксикационной, эндокринной и др.), строилась на симптомах с отрицательным знаком. Эти негативные признаки расшифровываются в конечном счете как отсутствие нормальных психических функций (нет правильного восприятия, нет адекватной интерпретации, нет нормального настроения). Важно, что эти признаки не имеют и своего соматического позитива, скажем опухоли или атрофии головного мозга, атеросклероза сосудов, интоксикации и других органических причин нарушения психических функций.
Процессуальная интерпретация психопатологических явлений была «делом» недостаточно обоснованным и даже вредным ввиду ее неспособности охватить мир душевных переживаний. Dementia praecox, расширенная и облагороженная О. Блейлером благодаря введению термина «шизофрения», и другие так называемые эндогенные заболевания интерпретировались на языке соматической медицины (здесь-то процессуальность как нечто позитивное, развивающееся во времени как раз вполне уместна).
Истинно процессуальное развитие сифилитической инфекции в организме во многом способствовало вхождению психиатрии в ряд медицинских дисциплин – за счет описания и лечения прогрессивного паралича, распространенного в те годы. Вместе с тем характер протекания прогрессивного паралича послужил основой для неоправданного обобщения представлений о процессуальности, которое отныне стало распространяться на психические заболевания в целом. «Примером течения и исхода болезни является прогрессивный паралич», – писал Крепелин, следуя Кальбауму (Каннабих, с.421).
Эти авторы энергично содействовали укреплению в психиатрии указанной тенденции. В разное время они встречали упорное сопротивление: достаточно отметить двадцатипятилетний бойкот Кальбаума психиатрами (там же, с. 416). Тем не менее этот подход стал господствующим. Это была настоящая интервенция естественнонаучного (монологического) мышления в гуманитарные науки, когда человек изучается как подопытное животное, как «безгласная вещь» (Бахтин, 1979, с. 363). Но если Кальбаум еще допускал возможность излечения от психического заболевания, то Крепелин категорически ее отрицал. Принцип неизлечимости лег в основу крепелиновской классификации. Он даже игнорировал собственные 8-12 % выздоровления при dementia praecox. «Получается слабоумие без слабоумия», – недоумевает по этому поводу его современник В. П. Сербский (Каннабих, с. 435). Даже сообщение Паппенгейма, что большая часть больных, которым Крепелин в Гейдельбергской больнице поставил диагноз раннего слабоумия, т. е. шизофрении, выздоровела, не поколебало его твердости. Чтобы не терять из виду процессуальность психических расстройств, он искал патологические признаки у здоровых людей и утверждал, что они существуют, жертвуя фактами ради идеи. Потом этот прием будут повторять многие современные психиатры.
Однако было бы несправедливо отвергать систематику Крепелина, как это делают представители антипсихиатрического направления. Нельзя забывать, что до него господствовали идеи призрения душевнобольных, а не лечения, то есть психиатрия не была медицинской наукой. Сделав шаг в определении предмета психиатрии (особенно после удачного различения шизофрении и маниакально-депрессивного психоза), он использовал достижения современной ему науки. Став в один ряд с другими медицинскими дисциплинами, новая область диагностики и лечения человеческих недугов впитала достижения смежных областей, выработала свой язык, свои методы клинического и параклинического исследований. Ее слабой стороной была необъясненность так называемых эндогенных психозов, подрывающая единство предмета.
Следующий шаг мог бы сделать Ойген Блейлер при описании феномена аутизма. Расширив сферу приложения этого понятия, он мог бы прийти к единой теории психических расстройств. Несколько поколений психиатров не видели перспективности понятия аутизма, ограничивая его рамками учения о шизофрении как процессуального, эндогенного, не имеющего соматической основы (по формуле К. Шнайдера) заболевания.
Понятие процессуальности с годами расширялось за счет гипердиагностики и стало за пределами учения о прогрессивном параличе некоей отмычкой для современного психопатолога. Представление об эндогенных заболеваниях бурно развивалось в науке, объединяющей психоневрологию, психосоматику, наркологию, психоэндокринологию и другие дисциплины, а «эпоха психофармакологии» поставила экзогенные расстройства в один ряд с эндогенными.
Итак, выслушав жалобы, собрав анамнез, описав текущее состояние пациента с учетом данных параклинического обследования и консультаций (этого вполне достаточно для соматической медицины), психиатр в отличие от своих коллег должен еще понять, что именно он будет лечить. На первое место выходит текущее состояние – психический статус начинает преобладать над анамнезом. В картине текущего состояния врач должен по собственному усмотрению, выбрать главный признак или группу признаков, которые он назовет «мишенью». Значение анамнеза сохраняется в части прогнозов, экспертных оценок, переписки, учета. Поэтому многие врачи недовольны отсутствием четко обозначенной «мишени», по которой, как выразился один психиатр, можно «бить» (Сборник статей по прикладной психологии, с.124). Между тем нозологическим единицам, которые мыслятся в качестве «мишеней» (наподобие панкреатита, сыпного тифа или псориаза), около ста лет. Нельзя ли считать их в чем-то устаревшими? Если можно, то в этом необходимо признаться, чтобы не получилось так, что на деле практикующий врач лечит одно, а в историях болезни фиксирует другое.
Врач ждет от теоретиков определения некоей универсальной «мишени», которую можно обсуждать, избавившись от груза историко-научной информации. И здесь он совершенно прав, ведь количество патологических расстройств гораздо больше ограниченного круга лекарств, а также возможностей их целесообразного сочетания. Он невольно хочет вырваться из книжной части своей науки и войти в контакт с живым человеком.
Мы тоже шли этим путем, остановив свой выбор на хорошо известном в психиатрии признаке патологического отчуждения. О. Блейлер ограничил его строгими рамками аутизма, и никто после него не пользовался возможностью пересмотреть и расширить этот симптом. Каким-то загадочным образом он оказался привязанным к шизофрении, хотя наблюдается при многих других психических и даже соматических заболеваниях. Например, известный исследователь феномена одиночества Р. С. Вейс, ссылаясь на статистические данные о лечебницах соматического профиля, писал, что «больницы – юдоль одиночества, несмотря на полное отсутствие возможности побыть там одному» (Вейс, c. 121).
Разработка этого понятия, вовлечение в него все новых групп расстройств, интерпретация феномена одиночества с опорой на представления человека о его зеркальном двойнике позволили нам преодолеть описательный уровень. Благодаря нацеленности на преодоление аутизма нам удалось обеспечить широкий доступ психотерапевтических техник к лечению психозов. В своей практической деятельности мы старались не попадать под влияние идей и представлений, способных нанести малейший вред нашим пациентам. Оказалось, мы лишь упорно сопротивлялись представлению о линейном характере психической активности и постепенно перешли в другую систему координат, где можно было более продуктивно работать с душевнобольными. Наш опыт показывает, что практическая психиатрия способна преодолеть монологическую (манипулятивную) парадигму и развиваться в русле более перспективной диалогической парадигмы. Об этом мы будем говорить в следующей главе.
В заключение попытаемся суммировать вопросы, которые остались открытыми в изложенном материале, а именно: как на деле преодолеть существующие правила общения с больными, оставаясь при этом в рамках клинической традиции? Мы выбрали следующий путь. По нашим наблюдениям, творческое время типичного психиатра уходит на диагностику, а лечение в виде накатанных схем нейролептиков, транквилизаторов и антидепрессантов приплюсовывается почти автоматически. В некоторых загородных стационарах такие схемы в виде списка висят на стене ординаторской, ими может воспользоваться даже дежурная медсестра. Коррекция этих схем симптоматическая, в виде дополнения или изменения схемы, здесь также нет нужды в творческом осмыслении переживаний пациентов.
Понимая, что диагноз психического заболевания строится на минус-симптомах и в этом главная причина их безуспешного лечения, мы стали воспринимать наших коллег как диагностов, и никак иначе. Это означало, что врачи-клиницисты пребывают в пространстве выяснения диагноза и его соответствия международным стандартам. Мы же стали думать о том, как соразмерно расширить пространство врача как целителя. Сам факт нахождения в этой системе координат привел бы к методологически верному приему – отрицанию данного диагноза у конкретного больного, отрицанию отрицания. Таким образом, врач отрицал диагноз психического заболевания не вообще, а только у данного пациента, что очень принято в медицине. Такое опровержение должно было быть поступательным и доказательным, врач не решает проблему глобально, а двигается в сторону определения диагноза с позитивным знаком, например к выявлению соматического расстройства у ипохондричного пациента. На этом пути возможны также варианты спонтанного излечения. Этот способ верен и при сугубо лекарственном лечении душевнобольных.
Приведем один из самых ранних случаев в нашей практике, когда лечащим врачом пациента был выдающийся диагност А. В. Снежневский. Досье пациента было похоже на небольшой учебник соматической и психиатрической практики. До обращения к психиатрам он прошел десятки обследований у кардиологов, гастроэнтерологов, эндокринологов, невропатологов. Психиатрические же назначения были похожи на трудный пасьянс, который исчерпывал всю нашу фантазию. Мы отказались от лечения, так как вердикт авторитетов о юношеской злокачественной шизофрении и прогноз о близком слабоумии больного не вызывал у нас сомнений. Но через год под влиянием обстоятельств мы были вынуждены приступить к работе.
Это был А. П., 1960 года рождения, математик. Высокий, худой, молчаливый, с иронической улыбкой и жалящими собеседника замечаниями; его довольно изысканные манеры, скупые жесты, неподвижное лицо создавали в общении с ним атмосферу напряжения и холода. Тихий, послушный подросток, он уже в школьные годы стыдился своей худобы, много ел, но не поправлялся; страдал от частых запоров; мучился тем, что не может быть лидером. В будущем он воображал себя «солидным человеком с брюшком». С той школьной поры А. относился с повышенным вниманием к своему телесному здоровью. Целыми днями он мог размышлять о деятельности своего желудка. Чувствовал некий дискомфорт в подложечной области – горение, сжатие, стягивание. Женитьба и учеба в аспирантуре совпали. Вскоре один из крупнейших математиков высказал мнение, что теоретическая задача, над решением которой бился А. П., неразрешима. Он тяжело переживал это: у него пропал аппетит, появилось отвращение к еде, ежедневно мучила тошнота. Ему казалось, что в желудке некие краны «заржавели», что стенки желудка и кишечника «склеены дегтем». Он просыпался очень рано, и чаще всего утро начиналось безрадостно (боли, газы и другие нарушения функций кишечника); обращался к специалистам, лечился, но состояние ухудшалось. После нескольких госпитализаций в психиатрические стационары (с диагнозом шизофрения) он однажды закрылся в своей комнате, прервав общение со всеми на два года. Только его матери – врачу-кардиологу по профессии удавалось покормить сына (жидкую пищу из чайной ложечки). Когда это не удавалось, больного кормили принудительно в условиях стационара. К этому времени его семья фактически распалась. Последние четыре месяца он подвергался в одной из ведущих клиник страны массированному лекарственному лечению и психотерапии. На телефонный вопрос о больном его лечащий врач ответил: «Стена молчания». После выписки без ремиссии было принято решение о применении скульптурного портрета.
Мы были вынуждены отказаться от всех лекарств, – за годы больной принял (в нашей стране и в Венгрии) несколько сот отдельных лекарств и их сочетаний, десятки физиопроцедур, прошел подробнейшие параклинические обследования. Массированное лекарственное лечение не дало положительных результатов, даже можно было говорить об отрицательной суммарной динамике. Уступая многочисленным родительским просьбам о помощи, мы начали работу над портретом. Цели были весьма конкретные – достичь полноценного диалога и, чтобы облегчить страдания матери пациента, попытаться подкормить его. Мы даже не допускали мысли о возможности полного излечения больного.
Курс лечения уложился в четыре сеанса – по двадцать четыре часа с интервалами в одну неделю. Для доработки деталей мы встречались каждый день на час-полтора. Уже в конце первого сеанса больной стал общительнее, проявил интерес к пище, в последующем уменьшилась фиксированность на своих переживаниях, возникла редукция бредовых и сверхценных идей. Однако сказался инфантилизм больного, выявились также скудные представления о собственном лице… Первый катарсис наступил к концу третьего сеанса – после многочасового конфликта с врачом в присутствии тестя и жены. К концу четвертого сеанса он снова был напряжен, агрессивен – главной его «мишенью» на этот раз стали родители жены. Все это привело к тяжелому скандалу между двумя семьями, собравшимися выяснять отношения («здоров» – «нездоров»). Больной был сильно возбужден, оскорблял родственников, ударил тещу (она не верила в возможность его выздоровления), получил ответную пощечину от жены. Но поздно вечером А. внезапно очнулся, он просил прощения, обнимал жену и плакал. В последующие три года рецидивов у него не было. Семья воссоединилась, появился второй ребенок. В настоящее время А. П. работает в научном учреждении (Техасский университет), написал ряд серьезных статей по прикладной математике, защитил диссертацию. Родственники жены только через год после завершения портрета признали свою ошибку, а точнее – ошибку нескольких маститых психиатров.
В заключение отметим, что типичные клиницисты относятся к психотерапии душевнобольных как к чему-то второстепенному, околоклиническому и по времени назначения и по результату. По-своему они правы, потому что нет и не может быть психотерапии, направленной на лечение бреда, галлюцинаций, тем более эндогенного процесса, без учета личности больного. Сомнительно, чтобы практикующий врач мог одновременно проводить психотерапию и давать лекарства, оставаясь на ортодоксальных клинических позициях. Такое сочетание чаще всего порождает среди психотерапевтов эклектизм в худшем смысле этого слова, а среди клиницистов – дилетантизм. Применение в рамках стационара техник психотерапии исключено уже потому, что они возникли в русле некоих психотерапевтических концепций, а здесь традиционно, по заранее продуманной схеме назначаются препараты (нейролептики, транквилизаторы, антидепрессанты), которые также являются продуктом определенной концепции, но другой. Концептуальную психотерапию откладывают «на потом», на период ремиссии, как способ доработки разных «мелочей» при реабилитации пациентов.
Нечто подобное нам довелось наблюдать во время работы в психиатрических больницах Шони и Премонтре в 1990 г., где врачи, психологи, психотерапевты принадлежат к школе Ж. Лакана, одному из сложнейших направлений психоанализа. В ходе лечения душевнобольных психиатры рано или поздно начинали действовать как обычные ортодоксальные врачи, назначая большие нейролептики, вызывающие порой грубый лекарственный дефект. То же самое можно сказать о клинике профессора Шина в Сеуле, одной из лучших частных клиник, где большое значение придают музыкотерапии.
Глава 2. Патологическое одиночество
Многообразие форм, уровней, степеней социальной дезадаптации психически больных превосходит объем и значение внедренного в 1911 г. О. Блейлером и фрагментированного в последующие годы понятия «аутизма» (греч. autos – сам)[18]. «Аутизм – крайняя форма психологического отчуждения, выражающегося в уходе индивида от контактов с окружающей действительностью и погружении в мир собственных переживаний» (Психология. Словарь, с.32).
Это патологическое явление хорошо известно психиатрам и достаточно часто фиксируется в клинической практике. Можно также отметить тенденцию к подмене слова «аутизм» близкими по содержанию, но не идентичными обозначениями. Очевидный терминологический казус возник в результате снижения темпов разработок «блейлеровской» проблемы и усилению позиций исследователей раннего детского аутизма Каннера. Известны различные толкования рассматриваемого понятия – «пустой и полный, бедный и богатый аутизм» (Минковски), «аутизм и отгороженность», «аутизм наизнанку»[19], «аутистическое мышление», «аутистический бред» и др. Однако принципиальных изменений оно с тех пор не претерпело и продолжает оставаться в пределах учения о шизофрении.
2.1. Аутизм. Границы понятия
Хотя Блейлер рассмотрел понятие аутизма в рамках личностных содержаний, он сделал, на наш взгляд, важное научное открытие. Мы стали видеть то, что до него никто не замечал: ушедшего в свои грезы и мечты душевнобольного, а не жестокого, экспрессивного, опасного для общества безумца[20]. Так с внедрением в психиатрию нравственной категории возник и собственно профессиональный подход к лечению душевнобольных. Заслуга Блейлера состоит также в том, что он сумел корректно переформулировать сугубо метафизическое понятие, увидеть в феномене одиночества квинтэссенцию психической патологии.
Однако сам Блейлер не воспринял еще аутизм как собственно патологическое явление. В своем изложении он делит переживания душевнобольных на аутистические и реалистические, что, на наш взгляд, не выдерживает критики. Более того, по мнению автора, в аутистическом мышлении нет ничего такого, чего бы не было в переживаниях нормального человека. Разница между нормой и патологией в рамках этой концепции чисто количественная: «Существуют степени аутистического мышления и переходы к реалистическому мышлению, однако в том лишь смысле, что в ходе мыслей аутистические и реалистические понятия и ассоциации могут встречаться в количественно-различных соотношениях» (Блейлер, 1981, с.116). И уже неясно, как подобное определение может обозначать специфический признак, «осевой симптом» (наряду с диссоциацией)[21] одной из самых загадочных болезней – шизофрении. Не стоит также забывать, что эти понятия, – аутизм и шизофрения – при жизни автора были синонимами (Каннабих; Dein).
Сопоставляя эти две разновидности мышления, Блейлер замечает: «Аутистическое мышление и в будущем будет развиваться параллельно с реалистическим и будет в такой же мере содействовать созданию культурных ценностей, как и порождать суеверие, бредовые идеи и психоневротические синдромы» (Блейлер, 1981, с. 124). Последнее утверждение, констатирующее, что аутизм способен порождать другие расстройства, осталось на бумаге, и не было использовано даже самим автором. И произошло это благодаря склонности автора считать, что аутистическое мышление продуцирует «культурные ценности», что предполагает восприятие одиночества одновременно и как добровольной и как вынужденной изоляции («полезный и вредный» аутизм). Подобная романтическая «добавка» к представлению о психических заболеваниях, свойственная современникам Блейлера в целом (тема гениальности и патологии от Ч. Ломброзо и Т. Манна до издателей журнала «Эвропатология»)[22], нанесла непоправимый ущерб разработке столь продуктивной идеи. На этом стоит остановиться подробнее.
Начало XX века – время зарождения глобальных психологических, антропоцентристских теорий. Заглавие философского труда французского биолога и гуманиста П. Тейяра де Шардена «Феномен человека» свидетельствует о тенденции к концептуализации природы чувств и мысли. Потребность в исчерпывающем научном описании и интерпретации психофизиологических функций была столь велика, что на роль первооткрывателей наряду с известными исследователями претендовали весьма заурядные, даже дилетанты[23]. На всемирных научных форумах свои идеи излагали крупные неврологи, математики и простые инженеры, любители словесности, доморощенные философы. Замечателен и тот факт, что группа маститых ученых подвигла одного из своих коллег к созданию полной картины душевного мира в том ракурсе, в котором он был наиболее компетентен. Достаточно вспомнить, какие мыслители (Ф. Ниссль, З. Фрейд, Х. Груле, В. Майер-Гросс и др.) направили творчество К. Ясперса к созданию самой объемной и насыщенной дефинициями «Общей психопатологии» (Ясперс, 1997, с. 19, 21). Характерно, что даже такой конкретный и точный исследователь, как Э. Кречмер, свою «Медицинскую психологию» начинает с энциклопедического вопроса: «Что такое душа?» (Кречмер, 1998, с. 13). А его физиогномический труд «Строение тела и характер» предваряется подробнейшим протоколированием всех деталей «оболочки» души – лица и тела (Кречмер, 2000, с. 9–18). Эта работа, как и многие другие исследования того времени, выходит за пределы профессиональной деятельности автора, стремящегося охватить феномен не только человека, но и человечества в целом. На фоне нарастающей атеизации общества иллюзия близости подобной теории была настолько ощутима, что даже представители конкретных областей наук – математики, физики, биологии, химии, физиологии, медицины, филологии – создавали свои проекты. Причем многие исследователи опирались на категориальный аппарат собственной науки, где имели неоспоримые достижения и непререкаемый авторитет. Следующее поколение, находясь во власти очарования той или иной теории, увлеклось уже идеями репродукции, моделирования, копирования, клонирования, тестирования человека и продуктов его творчества[24].
Чаще всего новые теории создавались в спешке, без строгих правил, и отличались внутренней противоречивостью. Они заведомо были рассчитаны на доброжелательный прием со стороны научного сообщества: сама попытка разгадки феномена человека считалась достойным и нужным делом. В исходе читателю предлагалась некая система доказательств универсальной формулы души («бессознательное» З. Фрейда, «архетипы» К. Юнга, «структуры» М. Вертгаймера и В. Кёлера, «поле» К. Левина, «доминанта» А. А. Ухтомского, «сигнальная система» И. П. Павлова, «установка» Д. Н. Узнадзе и др.). В основу этих теорем, как правило, закладывались удачные наблюдения, самонаблюдения и даже многолетние экспериментальные разработки. Однако вытекающие из контекста глубокие идеи порой обрастали множеством шаблонных, недостаточно убедительных умозаключений. Сегодня многие из этих трудов принадлежат уже истории науки. Некоторые же были настолько тщательно продуманы и сбалансированы, что сохранили свое значение до наших дней.
Теория Блейлера, по нашему мнению, принадлежит, увы, к первой обширной группе и по внутренней противоречивости, спорности отдельных тезисов, неразберихе в образующих понятиях сравнима разве что с рефлексологией В. М. Бехтерева. Однако загадочным образом она все же сохранила свою актуальность. Удивительно и то, что эта теория была воспринята современниками без какой бы то ни было цензуры, как будто Блейлер выполнял некий социальный заказ. Точный в нюансах, аналитичный П. Жане принял лишь легкую поправку Л. Минковского. А в современном юнговском словаре понятию об аутизме не нашлось места, несмотря на тесное сотрудничество двух психопатологов (см.: Зеленский, 1996) Из ученых, которые были обязаны критически встретить взгляды Блейлера, достаточно назвать К. Ясперса, О. Бумке, А. Кронфельда, Дж. Вирша, а также многих отечественных авторов, всерьез занимавшихся данной проблемой в процессе разработки основ общей и частной психопатологии.
Эта теория не цензурируется до сих пор, так как имеет отношение к разработке и внедрению понятия о шизофрении – одного из полюсов психопатологического глобуса. И пока данная нозология существует, пока от нее зависят судьбы наших соотечественников душевнобольных, актуальность критического анализа понятия аутизма сохраняется.
Такой анализ необходим и по той причине, что может вывести на передний план завязшую в рутине идею, рациональное зерно, которое этот «проницательный» (по определению Л. Кемпински) практик нашел интуитивно. И хотя трактат об аутистическом мышлении уступает даже рядовым статьям Фрейда, идея, заложенная в нем, не менее глубока, чем исходные посылки психоаналитической теории[25]. Как известно, клинический подход, в котором значительную роль играет учение о шизофрении, имеет такое же влияние в психиатрии, как и психоанализ.
Будучи бессменным директором Цюрихской университетской психиатрической клиники (1998–1927)[26], Блейлер был склонен к детальному наблюдению и протоколированию поведения душевнобольных. Он не мог пропустить тенденцию своих пациентов к немотивированному уходу в себя, к твердому и длительному отказу от контактов с внешним миром. Наличием продуктивной или иной психопатологической симптоматики это уникальное явление невозможно исчерпывающе объяснить. Блейлер, следуя врачебной логике, которая не всегда совпадает с логикой обыденного здравого смысла, усмотрел в патологической замкнутости явление фундаментальное, не обусловленное другими психическими расстройствами. В этом проявились глубина и продуктивность его наблюдения.
Для начала он выделил тех больных dementia praecox, отчужденность которых сопровождалась насыщенной мыслительной активностью, грезоподобными переживаниями. Эту форму дистанцирования с внешним миром он назвал удачным словом аутизм, а чувственно-интеллектуальное наполнение данного явления – аутистическим мышлением.
Именно аутистическому мышлению, а не признаку отчужденности от внешней среды, Блейлер отвел главную роль в становлении новой нозологической единицы – шизофрении. В его научных трудах понятия «аутизм» и «аутистическое мышление» полностью совпадают, ввиду несомненной важности для автора второго из этих понятий, которое, кстати, в дальнейшем не получило подтверждения в клинических исследованиях.
Трактат «Аутистическое мышление» не отличается цельностью изложения и, по нашему мнению, был написан под большим впечатлением концепции Фрейда, а может быть – отзывов на психоанализ, как произошло с другими современниками великого ученого, которые поддались соблазну охватить одной идеей сумму проявлений и законов функционирования психики[27].
Блейлер отталкивается от понятия внутренней и внешней жизни человека, где внутренняя жизнь, как отмечалось выше, соответствует аутистическому мышлению, а внешняя – реалистическому. Далее, легко прослеживается образование гносеологически окрашенных субъектно-объектных дихотомий. Причем последовательность гносеологической линии, блистательно выдержанная, например, в концепции Ж. Пиаже (см.: Флейвел), в анализе аутистического и реалистического отсутствует. Дихотомия того и другого выступает то, как отзвуки картезианского параллелизма («параллельное» существование реалистического и аутистического мышлений), то как диалектика единства и борьбы противоположностей, отголоски сенсуализма при анализе сознательно-бессознательных соотношений или материи и духа в русле концептуализма А. Бергсона (см.: Хилл).
Многое в этой работе строится на метагносеологическом представлении о существовании гармонии, равновесия между субъектом и объектом. Там, где функции субъекта и объекта противопоставляются, основное внимание уделяется интерпретации субъективного. Нарушение паритета между субъектом и объектом, по Блейлеру, выражается в психическом расстройстве, а именно шизофрении. Одним словом, аутизм душевнобольных – это избыточный субъективизм.
К воззрениям Фрейда Блейлер подходит с двух сторон или с двух попыток. В первую очередь пытается проверить эти идеи на практике, т. е. провести так называемые клинические испытания. Затем пытается создать альтернативную систему идей, призывая читателя принять другую версию бессознательного. «У Фрейда аутистическое мышление стоит в таком близком отношении к бессознательному, что для неопытного человека оба этих понятия сливаются друг с другом. Однако, если понимать вместе со мной под бессознательным всю ту деятельность, которая во всех отношениях равнозначна обычной психической деятельности, за исключением того лишь, что она не осознается, тогда нужно строго подразделить оба эти понятия. Аутистическое мышление может быть в принципе столь же сознательным, как и бессознательным» (Блейлер, 1981, с. 117).
В результате тщательной ревизии психоаналитических идей, проведенной в клинике вместе с ассистентами, он приходит к выводу, что некоторые предположения Фрейда подтверждаются. При чтении текста становится очевидным, что речь идет о шопенгауэровском феномене вытеснения[28] и принципе удовольствия, которые, естественно, немыслимы вне общей концепции бессознательного. Здесь проблема заключается в том, что психодинамическая концепция не могла подтвердиться без ее полного или частичного усвоения, так сказать принятия на веру, ибо, по справедливому определению К. Поппера, собственно научной (принцип «фальсификации» научного знания) она не является (Философский энциклопедический словарь, с.514).
Однако Блейлер идет дальше Фрейда. Последний, как известно, не претендовал на открытие новых психических явлений, он опирался лишь на интерпретацию уже известных феноменов и в высшей степени конструктивно пересматривал установившиеся понятия и представления. Что же касается аутистического мышления, то оно выступает и как основополагающий принцип, и как новый, не известный раннее наблюдателям феномен. Автор пытается идентифицировать его с уже известными явлениями, как в китайской игре в ассоциации. Аутистическое мышление есть аффективное мышление, утверждает он, или сильный аффект, или просто аффект. Но если это – аффект, а в другом месте – эмоции, то ничего нового тут нет и даже нет необходимости во внедрении нового обозначения.
Читая текст, мы обнаруживаем, что Блейлер произвольно нивелирует или деформирует отдельные понятия ради продвижения основной идеи. Аутистическое мышление идентично грезам: «Более тяжелые случаи полностью сводятся к грезам…» Тем не менее, это «грезы наяву, как у истеричных, так и у здоровых людей» (Блейлер, 1981, с. 113). В другом месте, по мнению автора, симптоматика исследуемого феномена совпадает с тем, что Фрейд называл дневными снами, реже – фантазиями. Затем утверждается, что по своей природе аутистическое мышление похоже на «обычные сновидения». Эта мысль теряет под собой всякую почву, когда производится полная идентификация указанных явлений.
Часто аутистическое мышление совпадает у автора с общеизвестными представлениями об инфантильных переживаниях. Здесь Блейлер предпочитает приводить обобщенные примеры из клинической практики (Блейлер, 1981, с.115). Наконец, встречаются, как думается, просто неудачные сравнения аутистического мышления – с бредом, бессознательным, иррациональным, бессмыслицей. Оно, по мнению автора, похоже также на детскую фантазию, религию, любовь, мировоззрение. Оно – всюду, где «логика отступает». Здесь не может не возникнуть множество вопросов, от которых мы, однако, воздержимся.
Выделим из всего перечисленного главное: данное явление противоположно логическому мышлению, представляя собой некое «алогическое мышление». Но поскольку мышление не может быть полностью алогичным, то остается допустить, что речь идет о нарушении его формально-логического компонента. Блейлер, один из самых талантливых психопатологов, наделенный очевидными литературными способностями, исчерпывающе описал формы расстройства логических функций психики при разных нозологических единицах – от бессвязности, разорванности мышления до паралогичности. Видимо, в данном случае, он имел в виду нечто иное, новое, ранее не известное.
Однако сначала он пытается найти опору в типологии К. Юнга: «В довольно большой части аутизм покрывается понятием Юнга „интроверзия“; это понятие означает обращение внутрь либидо…» (Блейлер, 1981, с.113). И предпринимает, на наш взгляд, ряд безнадежных акций, которые вновь заводят его в лабиринт умозрительных конструктов.
Так, например, на всем протяжении своего трактата автор выстраивает большое число альтернативных понятий в восточном стиле: чем не является аутизм? Приведем основные: аутистическое – реалистическое, внутренняя – внешняя жизнь, ирреальный – реальный мир, интроверсия – экстраверсия, сон – явь, бессмыслица – логика, аффективность – логика, фантазия – логика, непротиворечивость аутизма – противоречивость окружающего мира, тенденциозность – отсутствие тенденциозности, игнорирование действительности – восприятие действительности, игнорирование временных соотношений – восприятие измеряемого времени, образование символов – отсутствие символов, ослабленная ассоциативная связь – ассоциативная связь, аутоэротизм – нормальное сексуальное удовлетворение, филогенетически юная – филогенетически древняя функции мозга.
Таким образом, «аутистическое» существует благодаря противостоянию реалистическому. При этом реалистическое и все приравненные к нему понятия не определяются, а считаются чем-то само собой разумеющимся и понятным читателю. Вопреки этому пробелу, один ряд понятий в данной системе заключает в себе отрицание другого ряда, и каждая пара понятий существует благодаря отрицанию одной группы другой. При отправлении жизненных потребностей – согласно Блейлеру – эти противоположные явления «тормозят друг друга» (Блейлер, 1981, с.117). И если вспомнить, что аутизм есть некая форма субъективизма, очевидно, какими необоснованно сложными путями автор приходит к «общему месту» в гносеологии.
Само содержание аутизма, как и аутистического мышления, также бесконечно двоится – «расщепляется», как сказал бы сам Блейлер, и естественным образом противопоставляются ненормальный и нормальный аутизм, бессознательный и сознательный, и так без конца. «Даже если мы перечислим всю совокупность признаков аутизма – писал Бинсвангер, – все же его самого мы перед собой еще не увидим» (Бинсвангер, 1992а, с. 131)
Наконец, автор пытается выдвинуть биологическую «платформу» аутизма с использованием представлений о фило– и онтогенезе. Свою «эволюционную теорию» Блейлер излагает произвольно, без ссылок и доказательств. Суть ее заключается в утверждении, что в начале было реалистическое мышление и только на каком-то четвертом этапе эволюции, известном лишь самому автору, появился аутистический способ мировосприятия. «Лишь здесь (на IV этапе), – считает Блейлер, – могут существовать представления, связанные с интенсивным чувством удовольствия. Они порождают желания, удовлетворяются их фантастическим осуществлением и преобразуют внешний мир в сознании человека благодаря тому, что отныне он не мыслит себе (отщепляет) неприятное, лежащее вовне, присоединяя к своему представлению о последнем приятное, изобретенное им самим» (Блейлер, 1981, с. 119). Указанный «четвертый этап» не имеет аналогов и альтернатив в мировой биологической мысли, и теоретизирование по его поводу лишено каких-либо оснований[29].
Упомянем другие столь же умозрительные схемы. Аутистическое мышление тенденциозно, ибо функционирует в пользу субъективных стремлений. Однако при встрече с внешними препятствиями аутизм порождает бред преследования. «В этих случаях цель аутизма заключается в том, чтобы создать болезнь» (Блейлер, 1981, с. 118). Иными словами, сначала при встрече с внешним миром человек проявляет себя в качестве некого самодостаточного мечтателя: «тем, кто удовлетворяется аутистическим путем, имея меньше оснований или вовсе не имея оснований к тому, чтобы действовать» (Блейлер, 1981, с. 116). Затем сформировавшийся аутист, при новой встрече с внешними препятствиями, мешающими грезить, спать и видеть сны, аутизируется вторично, что порождает бред и другие продуктивные расстройства. Выходит, что шизофрения – это как бы «аутизм в квадрате», по крайней мере, она появляется на втором витке аутизации человека. Тогда же обнаруживается и феномен внутренней противоречивости, амбивалентности аутиста – расщепление вместо внутреннего согласия, страдание вместо аутистического удовольствия.
Далее, без ссылок, «переворачивая» известную пару понятий из «Творческой эволюции» А. Бергсона (интуиция – интеллект) (Бергсон), Блейлер утверждает, что свойством реалистического (рационального) мышления является всего лишь один правильный результат, тогда как аутистическое мышление «располагает неограниченными возможностями». Разумеется, данное описание также находится в свободном парении.
В заключение приходится признать, что если аутистическое мышление, со слов автора, на 70 % покрывается юнговской интроверсией, то остальные 30 % с лихвой «покрываются» другими феноменами, описанными в научной литературе. Определение новой формы мышления, по нашему глубокому убеждению, не состоялось.
Другая череда методологических ошибок имела уже более серьезные последствия. Это связь и идентификация понятия аутизма с новой нозологической единицей, шизофренией. В самом деле, что есть аутизм – симптом, синдром или болезнь? Внятного ответа на этот вопрос до нашего времени нет. В изложении Блейлера – это и то, и другое, и третье. По определению же – некий полисиндром, или симптомокомплекс, вмещающий в себя всю гамму продуктивных и негативных расстройств, который плавно переходит в область нормального функционирования психики[30]. Противоречие заключается и в том, что читателю неясно, чем именно является аутизм – интеллектуальным, эмоциональным или личностным расстройством, страданием, болью или удовольствием, рутиной или творчеством? Есть подозрение, что автор имел в виду все это вместе взятое – некий набор свойств, функций, рефлексий.
Однако чаще аутизм обозначается как симптом. Но если это симптом, то он по определению должен встречаться и при других болезнях, а не только при одной из них – шизофрении. И хотя автор, как мы видели, распространяет данный признак на всю психическую патологию и даже на норму, он неким парадоксальным усилием воли утверждает, что аутизм является отличительной чертой шизофрении. Больной с помощью бредовых идей пытается преодолеть противоречия окружающей среды. «Шизофреники теряют контакт с действительностью», – справедливо замечает Блейлер. Однако заметим, что и другие больные не очень продуктивно «контактируют» с ней[31].
Само существование данной нозологии, даже этимология слова (греч. shizo – раскалывать, расщеплять, разделять и phren – ум, разум) ближайшим образом связано, как указывалось выше, с теорией аутизма. Отсюда, при полной неопределенности базисного понятия, отсутствии четкой идентификации в рамках общей психологии и психопатологии, а также убедительного отграничения понятий аутизма и аутистического мышления возникает первое сомнение в правомерности шизофрении как нозологической единицы.
Итак, при внедрении понятия «аутизм» Блейлер, по нашему глубокому убеждению, допустил ряд методологических ошибок. Во-первых, достойно выдвинув на первый план феномен патологического одиночества, он далее создал деструктивное учение об аутистическом мышлении, характеризующееся столь же шаблонным, сколь и противоречивым содержанием, и объединил эти два понятия (в дальнейшем специалисты преодолели допущенную их предшественником ошибку, однако, как станет ясно по ходу изложения, с водой выплеснули и ребенка). Человек неверно мыслит, поэтому одинок, а не одинок, поэтому неверно мыслит, бредит, галлюцинирует, – так Блейлер совершил незаметный отход от клиники в сторону обыденной, а не специальной психологии и потерял важное для всей психиатрии слово. В этом методологическом упущении необходимо искать, на наш взгляд, корень всех остальных заблуждений в учении о психозах. Во-вторых, пересмотрев dementia praecox (сделав это понятие взамен моно – полипрогностическим, как и должно быть)[32] и определив весьма продуктивное для своего времени медицинское понятие шизофрении, он жестко связал аутизм с этой нозологией. В-третьих, Блейлер, пользуясь известными психоаналитическими представлениями о вытеснении и принципе удовольствия, создал некий гибрид психоанализа и клинической психиатрии, заслонив тем самым развитие другой проблемы – нарушения диалога пациента с внешним миром.
Положительным в работах Блейлера является тот несомненный факт, что он отвел феномену патологической замкнутости одно из центральных мест общей психопатологии, ясно заявив, что, возможно, аутизм является источником возникновения других психических нарушений. «Отсюда в этих случаях, – пишет Блейлер, – цель аутизма заключается в том, чтобы создать болезнь» (Блейлер, 1981, с.118).
К. Шнайдер стремился объективировать клиническую психиатрию, преодолеть расплывчатость представлений об эндогенных психозах и первым радикально прервал связь аутизма и шизофрении. Однако он сосредоточил все свое внимание именно на втором понятии. Определив симптомы первого и второго рангов по продуктивным расстройствам (в частности, по комплексу переживаний воздействия), коренным образом отличающиеся от первичных и вторичных симптомов Блейлера[33], и исключив какое-либо упоминание аутизма, он вернул понятие шизофрении в поле dementia praecox Т. Валлизия, Б. Мореля, Э. Крепелина. Помимо сохраненного еще Блейлером свойства процессуальности, добавилась и полипрогностичность – от спонтанного выздоровления больных шизофренией до раннего начала слабоумия. Освободив это понятие от противоречий и спекуляций, рассмотренных выше, К. Шнайдер, тем не менее, заложил в него еще более сомнительный смысл.
Как первоклассный диагност и истинный клиницист, К. Шнайдер знал, что симптомы первого ранга встречаются при экзогенно-органических, психосоматических, реактивных расстройствах и что в разное время у одного и того же больного они могут исчезать. На этом основании он сделал опасное допущение, которое приблизило значение дифференциальной диагностики указанных нарушений к абсурду. Симптомы первого ранга, согласно К. Шнайдеру, могут определять шизофрению только в том случае, когда не найдена патофизиологическая или патопсихологическая почва болезни (Кискер, Файберг и др., с.361). Это ограничение, введенное в психиатрический обиход К. Шнайдером, сохраняет свое значение в самых разных подходах к проблеме шизофрении и во многих ее определениях. Да и любая диагностическая процедура в практике психиатрии предполагает квалификацию органических или стрессовых факторов как несущественных в образовании шизофренических расстройств. В этих случаях используется формула – «повод, а не причина». Данная традиция доминирует и в наше время[34].
Ошибка шизофренологов, на наш взгляд, заключается в том, что критический пересмотр предложенного Блейлером понятия шизофрении всегда должен начинаться с аутизма: новый взгляд на dementia praecox не мог возникнуть за счет простого расширения психопатологического опыта. Невнимание к проблеме аутизма, свойственное и современной психопатологии, привело к тому, что в завуалированном виде она теперь присутствует всюду, где речь идет об эндогенных психозах – от глоссариев и руководств до историй болезни и амбулаторных карт.
Наивно полагать, что «живучесть» термина аутизм объясняется лишь тем, что, возникнув в творческой лаборатории ученого, понятие аутизма было «приплюсовано» к dementia praecox. На наш взгляд, Блейлер предпринял осознанный шаг, направленный на коррекцию не получившей подтверждения идеи об обязательном раннем слабоумии и в известном смысле спасший систематику Кальбаума-Крепелина, а также естественнонаучный подход в целом. Именно на эту поправку и был рассчитан социальный заказ психиатрического сообщества, о котором говорилось выше. Может быть, благодаря указанной заслуге автора трактат «Аутистическое мышление» прожил почти сто лет, переиздавался, переводился на другие языки, не испытав критического пересмотра.
Итак, если говорить об общей тенденции, то она была такова, что вслед за кратковременным увлечением феноменом аутизма, современники и ближайшие последователи Блейлера все меньше внимания стали уделять аутистическому мышлению и больше – фактору аутизации у больных шизофренией. А само это свойство, аутизация, постепенно уходило на периферию клинических разборов, приобретая разряд банального признака эндогенного психоза.
В наше время работ, посвященных данной проблеме, крайне мало. Среди прочих можно сослаться на докторскую диссертацию Г. Т. Красильникова (Красильников) – одну из немногих современных работ, где феномен аутизма рассматривается именно в блейлеровском значении. Автор представляет результаты своих многолетних разработок с использованием современных техник исследования психических особенностей душевнобольных. Особенность подхода заключается в том, что диссертант развивает понятия об аутистическом мышлении (быть может, впервые за много лет) и аутизма, принимая все, что описал Блейлер. Он также рассматривает оба этих понятия в рамках шизофрении, точнее – шизофренического дефекта.
Автор твердо стоит на классических клинических позициях в трактовке понятия шизофрении, включая форму и течение болезни, опираясь на ее процессуальное видение. Он пишет: исследовалось «…наличие в клинической картине симптомов, признанных в качестве диагностических критериев шизофрении E. Kraepelin (1913), E. Bleuler (1911, 1912), K. Schneider (1971), использовалась систематика по формам течения А. В. Снежневского (1969) в адаптированном по МКБ-9 виде» (Красильников, с. 9–10). Работа в целом, исключая применение современных патопсихологических и других параклинических методик, принадлежит довоенной эпохе.
Однако есть фраза, которая гораздо больше передает современное отношение к проблеме аутизма, чем то, что декларирует автор. «Рассмотрение аутизма, – пишет Г. Н. Красильников, – исключительно в качестве нарушения социальной коммуникации привело к сближению аутистических расстройств с неконтактностью при бредовой недоступности (H. Buerger-Prinz, E. Schorsch), при апато-абулических и ступорозных состояниях (З. П. Гуревич), а также у депрессивных (H. Kranz) и даже маниакальных (J. Glatzel) больных» (Красильников, с. 4). Здесь совершенно очевидно, что из производящего признака аутизм превратился в производный, из глобального в банальный.
Картина разработок проблемы аутизма может оказаться неполной, если не упомянуть один артефакт в истории психиатрии. Группа детских психиатров – сначала Л. Каннер (Kanner), затем Г. Аспергер (Asperger) – во всеуслышание заявила о своем отношении к этому понятию[35]. Именно представители детской психиатрии, описав аутизм как самостоятельную полиэтиологическую болезнь, не родственную эндогенным психозам патологию, сумели радикально отделить его от шизофрении и сделать приложимым к другим, в том числе и органическим расстройствам[36]. При этом исследователи раннего детского аутизма прагматически отказались от понятия аутистического мышления, оставив за рассматриваемым феноменом лишь функцию нарушения контактов пациента с внешним миром.
Это был самый выдающийся шаг после О. Блейлера. Во-первых, аутизм интерпретировался вне поля блейлеровских спекуляций и обозначал самое ценное в его подходе – нарушение контактов больного (в данном случае ребенка) с внешним миром. Во-вторых, отмечалось, что он может присутствовать на другой патофизиологической и патопсихологической почве, не связанной с шизофренией. Исследователи раннего аутизма не только методологически были корректны, но они описали и реальные расстройства, о которых не было известно психиатрическому миру. В этих блестящих описаниях и был скрыт последующий успех данного направления. Достаточно отметить, что все послевоенные исследования проблемы – доклады на форумах, печатная или иная информация – касались именно детского аутизма. Тем не менее аутизм Каннера остается одной из наиболее трудных проблем детской психопатологии. Показательны нашедшие отражение в литературе 1) категориальная неопределенность этого явления в системе общей и частной психопатологии (симптом? синдром? самостоятельное заболевание?); 2) терминологические трудности и разногласия; 3) обилие возникающих в ходе поиска разнообразнейших представлений о клинической сущности и этиопатогенезе болезни (см.: Каган, 1994).
Полиморфность понятия создавала трудности квалификации феномена отчуждения, и Л. Каннер, а за ним остальные, повторили методологическую ошибку своего предшественника, ища сумму этиологий в детстве, в детской психопатологии. Существуют признаки того, что это движение медленно заходит в тупик. Достаточно отметить следующий парадокс: если раньше аутизм интерпретировался как один из симптомов шизофрении, то в рамках детской психиатрии уже шизофрения или другие нозологические группы определяют данное явление как болезнь (Каган, 1976).
Несмотря на то, что в настоящее время под аутизмом подразумевают именно детскую самоизоляцию (особенно в англоязычной литературе), прагматический подход к проблеме, радикально очистив данное понятие от всего лишнего, утратил, быть может, главное в «романтической» интерпретации болезненного одиночества.
Блейлеру и его последователям достаточно было сделать один шаг – отказаться от жесткой привязанности аутизма к dementia praecox, учесть присутствие данного фактора при других психических и соматических расстройствах, чтобы создать новую теорию. Он впервые стоял на пути создания метанауки – вот почему его версия аутизма не совпадает с общеизвестными понятиями: симптом, синдром, болезнь. Его метатеория о патологической форме одиночества как пограничного явления могла стать долгожданным связующим звеном между соматической и психической медициной, внешнего и внутреннего мира больного. Ибо не только нарушения связи с внешним миром, но и собственным телесным «я» приводят человека к аутизации. Поэтому данное явление – исходное, базисное, а не вторичное, производное от других психических расстройств. Блейлер был близок к определению предмета психопатологии почти так же, как Фрейд – психологии.
Его теория могла бы обусловить новую деонтологию, направить поиск на разработку емких диагностических принципов, эффективных способов сомато– и психотерапии. Наконец, вопрос многовековой давности: что мы лечим – человека или болезнь? – также нашел бы свое развитие. Ибо только фактор аутизации может охватить всю патологию личности. Величайшая заслуга Блейлера, оставшаяся непревзойденной в классике психиатрии, заключена именно в том, что он сумел утвердить в психопатологии столь объемное гуманитарное понятие. В этом плане мы считаем себя последователями Блейлера, потому что стремимся лечить не психопатологические симптомы или синдромы, хотя и тщательно отслеживаем их, но аутизм, болезненное одиночество наших пациентов. Но для этого надо было использовать категорию диалогического мышления, которая во времена Блейлера еще отсутствовала. Работа М. Бубера «Я и ты» вышла в свет в 1922 г., а имя М. М. Бахтина стало известным на западе лишь в конце 1960-х годов прошлого века. «Психиатрия останется навсегда благодарной Блейлеру за тот огромный материал, который он для нее сделал доступным. Но он также поставил перед психиатрией и крайне сложную задачу – воздвигнуть из этого материала здание» (Бинсвангер, 1992а, с. 131).
Гуманитарное знание во времена Блейлера свернуло в сторону прагматизма и мистики, не позволив раннему прозрению ученого совершить поворот в медицинской науке. К нему были готовы и Ясперс, и Кронфельд, и Лакан, и Бинсвангер и многие другие. Такой поворот немыслим и в обозримом будущем. Однако мы говорим здесь о лейтмотиве практического врача, а не об уже реализованных знаниях. Развитие проблем аутизма могло бы открыть широкий доступ концептуальной психотерапии, комплексному лечению психозов.
2.2. Одиночество и концептуальная психотерапия
Мы часто употребляем слово «психотерапия», не вникая в смысл самого этого понятия. Оно предполагает воздействие на психическую и соматическую патологию, буквально, на душу человека вообще психическим же фактором. Этот термин стал общеупотребительным в связи с развитием гипнотерапии (Психотерапевтическая энциклопедия, с. 656). И в наше время, разрабатывая новые идеи, мы не всегда осознаем, что многим обязаны суггестивной технике лечения пациентов. Разновидностей психотерапии немало. Порой они основаны на диаметрально противоположных принципах, используют разные психологические концепции человека, специфические формы воздействия и приемы. Школы и направления представлены профессиональными объединениями, нередко напоминающими религиозные и политические движения, каждое со своим выраженным лидером, «как секты, группирующиеся вокруг обожествленных учителей» (Ясперс, с. 976)[37]. Практический врач-психиатр и представления не имеет о специфике этих школ и разделяющих их отличиях.
Попытки систематического изложения существующих методов психотерапии (В. Я. Гиндикин, Б. Д. Карвасарский, А. С. Сосланд, J. W. Aleksandrowicz, K. Grawe, L. R. Wolberg и др.) не менее спорны и сложны, чем их реальное содержание, они сами нуждаются в упрощении, так как обзор всего многообразия приемов и техник лечения (более 500) необходим каждому практическому врачу, как знание фармакологии современных ему психотропных препаратов – и тех, которыми он пользуется, и тех, которые он не рекомендует принимать. Поэтому целесообразно вернуться к существующему в практической психиатрии представлению о двух тенденциях в развитии психотерапевтической методологии – клинической и психоаналитической[38].
Клиническое направление избегает концептуализации терапевтического процесса, пытаясь воздействовать на патологическое начало самой техникой лечения больного (суггестивная психотерапия, концепции гуманистического направления, аутогенная тренировка, терапия творчеством и др.) или его носителем (рациональная, поведенческая, когнитивная, рационально-эмоциональная психотерапии и др.), психоаналитическая же, напротив, ориентирована на строго определенный концепт – ключ к разгадке жалоб и состояния пациента. В лечебном плане они соответствуют двум древним традициям в медицине – регенерации (вакцинации, иммунизации) и очищению (извлечению, удалению); т. е. терапии и хирургии[39]. По первой версии необходимо восстановить нарушенный баланс, гармонию, по второй – найти и ликвидировать болезнетворное начало. «Благотворная процедура – пишет Р. Жирар, – все время строится по образцу отраженного вторжения, изгнания пагубного пришельца» (Жирар, с. 352). Мы видим, что для антрополога, исследующего архаические корни медицинских представлений, эти две традиции соединены в одну общую, клиническую, и в этой истине заключается, на наш взгляд, будущее психотерапии.
Следуя вышеуказанному стандарту, формируются все новые и новые подходы, школы, системы идей, ритуалов в психотерапии. Гораздо меньше внимания уделяется методологической стороне вопроса, попыткам усовершенствовать оппонируемую концепцию, – она отвергается существенно или целиком, а психиатрическому сообществу предлагается новая. «Мечтой каждого честолюбивого психотерапевта, – замечает К. Шкода, – является создание нового, необычного приема, внесение своего оригинального вклада в историю психотерапии» (Психотерапевтическая энциклопедия, с. 249)[40]. Однако существуют и интегративные тенденции в психотерапии, начало которым положил создатель структурного психоанализа Ж. Лакан – он всегда ощущал, что говорит о том, о чем не успел сказать Фрейд.
Интегративные процессы могут быть успешными не только в направлении сближения идей или приемов, но и в понимании того, что мы лечим, в единстве предмета психотерапии. В противном случае неизвестно, как сопоставлять конкретные результаты психотерапии, которые означают не только достижение «нормы», но и преодоление болезни. К сожалению, МКД-10, где произошла лингвистическая подмена устоявшихся терминов (коды неврозов и шизофрении), по многим признакам не способствует такому единению (Психические расстройства и расстройства поведения, F13.2, F40, F41, F42, F43.2, F44, F45.2, F45.3, F48.0).
Создатели этой классификации не учли того факта, что многие психиатрические термины давно ассимилированы и автономно существуют в цивилизованных языках. Было бы большим благом, например, в условиях гипердиагностики отказаться от употребления термина шизофрения, но тогда мы потеряем известный всем клинический уровень познания. На этом фоне негативная характеристика невроза, данная Э. Беккером и поддержанная Американской ассоциацией психиатров как «неудачная попытка неуклюжей лжи о действительности», выглядит недостаточно убедительной (Ребер, с. 496). Авторы новой классификации должны, на наш взгляд, более корректно относиться к явлению «семантической инерции», чтобы избежать еще большего хаоса смыслов и содержаний в нашей области и не попасть в лоно обыденного языка с его многозначностью и вероятностной природой[41].
Создаваемые методы психотерапии возникают на базе старой феноменологии, они не строятся на новых наблюдениях, описаниях новых свойств нарушенной психики. Определение отдельных симптомов, собранных в глоссариях клинической психиатрии, не вызывает у авторов сомнения и разночтений. Общим свойством этих психотерапевтических систем является нацеленность на интерпретацию симптомов (сигналов) болезни, а не на их психическую же причину. Это заблуждение коренится в учении о психогениях. «Понятие психогенных заболеваний в более тесном крепелиновском смысле обнимает все психозы, где психические влияния представляют не только повод, но и причину и в которых содержание и течение зависят от рода психического воздействия, так что клиническая картина дает возможность делать выводы относительно характера психических причин» (Блейлер, 1920, с. 406).
Феноменология травмированной (или иной) психики не фиксируется и не определяется, а на первый план выводится уже ее опосредованная, преобразованная пациентом форма. Значит, мысль исследователя-врача ретроспективна, она подчинена основному мотиву заболевания пациента, его версии о происхождении болезни. «Ведь и ранее, – точно подмечает Бинсвангер, – одна из областей психопатологии была занята тем, что описывала болезненные душевные явления так, как нам изображают больные, или так, как мы могли бы изобразить их сами на основе указаний больных, по возможности не теоретизируя» (Бинсвангер, 1992а, с. 125).
Восприятие травмирующего впечатления и его трансформация в невротические симптомокомплексы само является патологическим и производящим. Оно имеет свою пластику, свое психофизическое содержание и не во всем совпадает с тезисом о конституциональной предрасположенности, органической почвы и т. п. «Но надо твердо помнить, – писал уже в другом, верном для нас, ключе Крепелин, – что особый характер душевной переработки переживаемых событий в этих случаях сам по себе уже является болезненным» (Крепелин, т. I, с. 91).
Мы утверждаем, что реакция на любое насильственное воздействие (внутреннее и внешнее) проявляется в форме отчуждения травмированной личности – эмоционального, интеллектуального, физического. И уже в отсутствие полноценной связи с внешним миром при мощном движении в сторону восстановления прерванного диалога пациент испытывает мучительные переживания невротического или психотического свойства. Происходит некая реакция компенсация (по Эвальду), «использование всей совокупности возможностей личности» (Ясперс, с. 482). Как субстанция и ее атрибуты патологическое отчуждение и симптомы болезни (перманентно меняющиеся свойства и состояния) существуют в одном временном срезе, «здесь и теперь», а не «там и теперь», как в психоанализе. Приведем фрагмент истории пациента А. Д. с диагнозом шизофрения параноидная в форме самоотчета, написанного им после излечения.
1987 год. Я слышал гул самолета, хотя двигатели не были включены. Я ожидал напряженно, беспокойно. Каждая секунда впивалась в мой мозг. В этом было нечто неестественное. Почему люди вокруг не беспокоятся? Почему некоторые пассажиры смотрели на меня с удивлением, другие с неприкрытой иронией? Один пассажир умудрился испытать ко мне омерзение. Неужели они видят меня, пустого, без чувств и мыслей? Отсутствие эмоций на моем лице не мешало им видеть мою сущность. Я изо всех сил старался сделать вид, что это неправда, что этого я не вижу. Но видеть это не значит не быть в этом мире. Кого я пытался обмануть? Тех, которые не только видят, но живут? А себя? Как можно обмануть себя, когда это очевидно? Оставалось ждать. Время мучило меня, оно как бы застыло. Казалось, ничто на свете не заставит его сдвинуть с места. Рев самолета становился невыносимым. Он напоминал мне, что это реальный мир, где время остановилось на самом деле. Что же будет? Ведь находиться в разных мирах невозможно. То, что происходило, было фатально и неизбежно. Времени не было, его просто не существовало, а самолет летел. Мне до боли не хватало реальности. Мне надо было иметь хоть кусок реальности, чтобы зацепиться, чтобы утихла боль. Но реальность улетучилась вместе со временем. Надеяться на чудо было глупо. Мир реальный и такой красивый уже не существует! Почему то, что мы ищем, оказывается таким тусклым и холодным. Таким же пустым, тусклым, холодным и страшным оказался город, где приземлился самолет. Оказалось, что мысли лишены языка, что ты можешь думать на каком угодно языке, а тебя поймут все равно. Это было еще страшнее, потому что рушились все бастионы надежды. Скрыться было некуда. Все люди планеты говорят на одном и том же языке, то есть никаком. Слова нужны для тех, кто ничего не знает, для тех, кто вне этого мира. Слепой прозрел, и что же дальше? Слова могут быть пустыми, легкими, бессмысленными, если их произносит призрак. Какой смысл говорить, если тебя нет? Какой смысл искать реальность, когда ты мертв? Надо было ждать. Чего ждать, я не знал. Можно было попытаться хотя бы сопротивляться, противопоставить «себя» этому миру. Но меня больше не существовало, а мой мир был уничтожен. Конечно, когда я понял, что я мертв духовно и морально, что человек по имени «я» больше не существует, я хотел покончить и с телом. Я был в холодном космосе, обреченный вечно барахтаться между безжизненными планетами и не знать, где это начинается и где это кончится. Но ведь я не в космосе. Я на земле. Вокруг люди, те же, что и раньше. Те же города, строения, те же реки, те же озера, улицы и деревья, птицы и дожди. Но это было не настоящее, это были декорации. Мир, к которому я так трепетно относился, был декорацией или просто игрой. Но игра эта показалась мне чересчур серьезной.
Хотя в самоописании дебюта психического заболевания у А. Д. можно заметить зачатки бредовых и галлюцинаторных переживаний, на первое место выходит аутизм в форме грубого нарушения внутреннего и внешнего диалога с деперсонализацией и дереализацией. Заметим, что творческая активность пациента, весь его интеллектуальный ресурс направлен только на одно – восстановление нарушенного диалога, поисков «кусочка реальности», чтобы «зацепиться» за него. Однако это ему не удалось и качество его жизни кардинально изменилось.
Уже на следующий день после прибытия в Петербург пациент решил найти виновника своей беды, «руководителя» и наказать его. Метался по улицам города, пока на помощь не пришел чей-то «голос» внутри головы и не указал ему на женщину-милиционера, стоявшей на одном из перекрестков. Он решительно подошел к ней, потребовал объяснений и ударил ее. Был осужден и направлен на принудительное лечение. Точно также Т. Н., которую обманом завел к себе и изнасиловал случайный прохожий, продолжала искать виновника своего отчуждения и решила «судить», вернулась в общежитие, где сама жила, ударила пожилую дежурную и была госпитализирована. К. А. долго искал своего мучителя, пока «голос» не дал ему точный адрес и имя. Когда он позвонил в дверь квартиры, и ему сказали, что человек с этим именем пятилетний ребенок, он потребовал предоставить его для «суда». Был жестоко избит отцом мальчика в подъезде, а затем госпитализирован в психиатрический стационар. Любопытно, что все эти пациенты после лечения в нашем институте однажды встретились, шутливо обсуждали начало своей болезни, легко понимали друг друга и нашли полное сходство состояний, испытанных ими в разное время.
Говорят, человек испытывает навязчивые идеи, фобии потому, что когда-то было нарушено равновесие (гомеостазис), способность к самоактуализации, творческой самореализации или он перенес травму в период формирования личности – общепризнанного резервуара болезненных симптомов – или в силу его темперамента, конституциональных особенностей психики. Расхождения, причем существенные, начинаются при интерпретации самих симптомов: имеет место феномен множественности причин при одних и тех же следствиях, хотя по определению невроза как нозологической единицы должно быть наоборот – одна причина, как, например, воспаление слизистой желудка при гастрите. Начало бесконечному ряду «теорий» неврозов положил А. Адлер (Адлер), заменив понятие либидо понятием инстинкта власти. Поиски патологического источника невротических симптомов в современной психотерапии не ведутся. Новые концепции основаны на так называемом этиопроцессе, анамнез тут подавляет статус.
Но как можно концептуализировать практически безграничное число неадекватных проявлений психики? Есть только один путь. Сначала они группируются в структуры (симптомокомплексы), затем размещаются в списки под рубрикой неврозов, психозов, психосоматических, реактивных и других расстройств. Концептуализация первого списка с опорой на психологические, философские или обыденные представления о человеке (теории личности) и есть наиболее частая форма возникновения школ, подходов, направлений в психотерапии. Здесь происходят неконтролируемые смысловые переходы из нозологического контекста в синдромологический и наоборот. Концептуализируя следствие, а не причину, наши коллеги отходят от принципов клинической каузальности. Попытка психиатров выделить локальную органическую причину ближе к клинике, однако делает психотерапию невозможной. Эту нишу заполняют энергетические (электрические, магнетические, механические) способы воздействия. Недаром лекари-экстрасенсы в отличие от психотерапевтов придерживаются, пусть даже на своем уровне, традиций соматической диагностики.
Психическая причина невротических симптомокомплексов (душевные причины душевных расстройств, «вырастание душевного из душевного», «вытекание из душевного» по Бинсвангеру, Фрейду, Юнгу, Ясперсу и старым клиницистам) не описана в литературе. Здесь предполагается выявление того или иного симптома болезни, а сомнение у представителей соседствующих и родственных школ вызывают фрагменты интерпретации симптомов. Эти теоремы (все то, что абстрактнее концепции либидо) откровенно спекулятивны, а построенные на их основе психотерапевтические техники обречены на ограниченное во времени существование, зависят от «перемены интеллектуальной моды» (Сосланд, с. 21). Они существуют благодаря харизме своего создателя или талантливых его учеников, добивающихся определенных результатов своим темпераментом, образованностью, нравственным качествам[42]. «Люди, питающие слишком большую веру в свои теории и в свои идеи, – писал Клод Бернар, – не только дурно настроены для того, чтобы делать открытия, но делают и очень плохие наблюдения. Они неизбежно наблюдают с предвзятой идеей; и когда учреждают опыт, то хотят видеть в его результатах только одно подтверждение своих теорий. Таким образом, они искажают наблюдение и часто пренебрегают весьма важными фактами, потому что эти факты не ведут их к цели» (Бернар, с. 346).
При всей разработанности психотерапевтических концепций, результат во многом обязан стихийному творчеству ведущего, его умению создавать драматургию целебного ритуала[43]. Успехи при лечении пациента обеспечиваются эксклюзивной способностью терапевта входить в глубокий диалог с пациентом, создающий «силой убеждения и пробивной способности» (Юнг, с. 276) брешь в его отчуждении от внешнего мира. Таких психотерапий достаточно много, они, как отмечалось, развиваются по единому трафарету – концептуализации списка симптомов на основе представлений о личности, о человеке, от философских, религиозных, мистических, эклектических, синтетических до суммы обыденных представлений. Таким образом, здесь присутствуют два уровня абстрагирования – психологический (концепции бессознательного, гештальта, стадии зеркала, категории поведенческой психологии) и метапсихологический (концепции личности). Но есть и другие не менее важные проблемы в нашей области, имеющие отношение к лечению психозов и неврозов.
Психотерапия психозов во все времена терпела неудачу, чем всегда вызывала недоверие клиницистов, скептически наблюдавших за неудачными попытками представителей психотерапевтических школ, имеющие со времен Шарко и Фрейда общие недостатки в этой области[44]. В первую очередь отметим слишком жесткое разграничение неврозов и психозов, которые на самом деле принадлежат группе однородных (невротических и психотических) состояний. Такое деление, как известно, не соответствует клиническим реалиям. Каждый врач в своей практике наблюдает смешанные формы и динамику текущего состояния пациента. Чтобы принять эту градацию, необходимо представить себе абсолютного и неизменного невротика и психотика, чего в природе не существует. Водоразделом служит, как правило, лишь один признак – наличие или отсутствие критического отношения к своей болезни (нозогнозия), его адекватности во внешнем мире. Однако этот «блуждающий» признак появляется или исчезает и в том и в другом случае.
Современные представления о неврозах и психозах, утвердившиеся в практике, полностью соответствуют определению, которое дал Ясперс в «Общей психопатологии»: «Психические отклонения, не затрагивающие всего человека „без остатка“, называются неврозами, тогда как отклонения, жертвой которых становится человек в целом, называются психозами» (Ясперс, с. 695). В этом сомнительном утверждении – истоки многих заблуждений, существующих в книжной и практической психиатрии. Именно в те годы образовались два полюса общей психопатологии, которые определились благодаря становлению психодинамического и клинического направлений.
Возвращаясь к формуле, предложенной Ясперсом, заметим, во-первых, что любое патологическое отклонение (психическое или физическое) непременно затрагивает всего «человека в целом», и это истина, не нуждающаяся в доказательствах[45]. Во-вторых, здесь, как в знаменитом «Лексиконе прописных истин» Флобера, присутствует некий абсурд – невроз это то, что не является психозом, см. психоз. «Неврозы (от греч. neuron – жила, нерв) – пограничные нервно-психические расстройства, которые не обусловлены психотическими состояниями» (Психологический словарь, с. 234); «под неврозами традиционно понимают непсихотические расстройства» (Жариков, Тюльпин, с 416); «нервно-психические расстройства… при отсутствии психотических явлений» (Блейхер, Крук, с. 13)[46]. В-третьих, неизвестно куда отнести соматические заболевания, лечение которых тоже нуждается в психотерапии. Проблема заключается в том, как они представлены в психической сфере: в форме невротических или каких-то других психических эквивалентов – боли, жжения, зуда или галлюцинаций.
Учение о неврозах исторически характеризуется двумя тенденциями. Одни исследователи исходят из признания детерминированности невротических феноменов определенными патологическими механизмами биологической природы, хотя и не отрицают роли психической травмы в качестве пускового механизма. Это клиническое направление, пытающееся сохранить первоначальное определение невроза. Оно отражает эволюцию этого понятия от учения об «эластических волокнах», «фибрах» Лорри и Куллена, где везании (психозы) занимают лишь четвертую строку (наряду с комой, адинамией и спазмами) до трудов Фейхтерслебена[47], где появляются признаки неравной дихотомии невроз-психоз и, наконец, систематики Крепелина, где эти понятия по объему и удельному весу меняются местами.
Вторая тенденция предполагает, что клиническая картина невроза может быть выведена из одних лишь психологических механизмов. Сторонники этого направления считают, что информация соматического характера является принципиально несущественной для понимания клиники, генезиса и терапии невротических комплексов[48]. Эта пара альтернативных понятий (невроз-психоз) существуют в режиме дифференциальной диагностики. Если понятие о психозе и может использоваться независимо, хотя бы по отношению к норме, то понятие о неврозе уже невозможно вне этой пары. Независимые же характеристики не способны дать полноценную картину невроза как нозологической единицы. «Ни отсутствие патологических изменений, – писал Е. А. Попов, – ни признак обратимости, ни критерий легкости нарушений, ни определение невроза как психогенного заболевания, ни социабельность этих больных, ни критическое отношение к своему состоянию, ни установка на получение лечения не могут быть достоверными признаками невроза» (Лакосина, с. 252)[49].
В нозологическом же плане рассматриваемые величины также несопоставимы: психозы обозначают обширный список психических болезней, а неврозы – список синдромов. Значит, сравнительный анализ должен проводиться с какой-либо одной нозологией. Но какой? По идее, дифференциация должна производиться с другими психогенно обусловленными болезнями, так как экзогенно-органические и эндогенно-функциональные расстройства дифференцируются по определению (Биндер, с. 155). Однако данное понятие парадоксальным образом попадает в известную диагностическую колею экзогенных и эндогенных заболеваний, сразу отпочковывается от экзогенно-органических и отныне символизирует функциональные экзогенные расстройства. Затем противопоставляется функциональным же эндогенным расстройствам, которые символизирует уже другая нозологическая единица – шизофрения. Недаром по первому определению это тоже была группа болезней – шизофрении. Так на пути резкого упрощения понятийного аппарата психиатрии восстанавливается старая дихотомия невроз-психоз, которая в теоретической ее части может быть расшифрована как невроз-шизофрения[50]. Эти теории создавали два великих психопатолога – Фрейд и Блейлер. О том, что их творчество выходило за рамки систематики Крепелина, свидетельствует существование влиятельной ортодоксальной тенденции, которая прямо или косвенно отрицает достижения психоанализа и шизофренологии[51].
Но есть еще один разделительный признак, который отсутствует при диагностике психических болезней. Речь идет о содержательной стороне невротических расстройств – навязчивости, фобии, ритуалы и др. Здесь дифференциация протекает спонтанно на основе наблюдений и простых выводов, – если в клинической картине нет бреда, галлюцинаций, припадков, то это скорее всего невроз. В этой плоскости можно рассмотреть неврозы и шире, сопоставляя их с психозами вообще. В данном случае в диагностике действует дифференциальный принцип регистров, а представление о клинической каузальности теряет смысл. Остается открытым вопрос, что такое невроз – синдром или нозология? Границы этих понятий местами совершенно прозрачны и улавливаются лишь интуитивно. Каждое определение неврозов смешивает эти несопоставимые понятия, оно везде эклектично. Доступные нам дефиниции совмещают нозологическое представление об экзогении и описание невротического симптомокомплекса.
Так как невротические расстройства близки по происхождению к экзогенным (но не органическим) психическим расстройствам, дифференциальный диагноз тут проводится так же, как и при определении эндогенных («заложенных в генотипе») и экзогенных психозах. То есть невроз дифференцируется с эндогенным психическим расстройством, чаще всего с шизофренией. С этой дифференциации и начинается структурно разделение обширной группы болезней. В реальной практике психотерапии, как отмечалось, образуется два, быть может, примитивно представленных, но крайне активных полюса – один, психотический, группируется вокруг учения о шизофрении, другой, невротический, – вокруг учения о неврозе.
Еще одно заблуждение – это понятие о тяжести болезни. Оно, на наш взгляд, привнесено из области соматической медицины. Предостережение Фрейда о применении психоанализа лишь в случаях неврозов на первый взгляд может быть воспринято как его неуверенность в эффективности самой техники лечения, как некий самообман, «самоорганизующаяся структура, поддерживающая свою целостность и определенность» (Дубровский, 1994, с. 82). Мы часто ищем «легкие» случаи, чтобы на них испробовать новые методы психотерапии. На самом деле выделение различных степеней глубины поражения не имеет под собой реальных оснований.
Сплошь и рядом в практической деятельности мы встречаемся с фактами трудной излечимости пациентов с преимущественно невротическими расстройствами по сравнению с пациентами, у которых обнаруживаются психические или иные нарушения. «Неврозы – область компетенции психотерапевтов, – с вопиющей откровенностью пишет Ясперс, – тогда как психозы область психиатров», т. е. соматотерапевтов (Ясперс, с. 696). Мы бы не вспомнили давнее высказывание выдающегося мыслителя, но оно остается наиболее популярным и в наше время. Не стоит забывать, что до Ясперса существовала многовековая традиция психотерапевтического и психопедагогического лечения психозов. Как клинические представления деградировали через полтораста лет, достаточно вспомнить хотя бы содержание титульного листа книги французского психиатра Дакена: «Философия помешательства, или опыт изучения людей, заболевших помешательством, где доказывается, что эта болезнь должна быть подвергнута психическому лечению» (В кн.: Каннабих, с. 127–128).
Однако парадоксально, что именно в этом месте Фрейд преодолел косность линейного подхода и «вырвал» часть психиатрической практики из сциентического контекста. Говоря о «легких» случаях, Фрейд имел в виду представление об обратимости психических расстройств, войдя в радикальное противоречие с вульгарно-материалистической традицией. Он использовал маленькую слабость в классификации Крепелина – учение о психогениях («неврозы деятельности», «обращенные психозы», «случайные психозы»), где первоначально и читались неврозы, и возвел признак регредиентности в основополагающий принцип[52].
Расширив спектр применения понятия о неврозе, Фрейд противопоставил качество обратимости, излечимости принципу неуклонного прогрессирования психического расстройства. Не стоит забывать и тот факт, что он лишь на время отложил лечение психозов, оставив проблему открытой до новых наблюдений и открытий в области психоанализа. Отныне психиатрическая теория должна была смириться с одновременным существованием двух антагонистических систем – клинической и психоаналитической. В стремлении к единству предмета каждый психотерапевт методологически должен продолжить, на наш взгляд, психоаналитическую традицию, при этом ему не обязательно «лежать на кушетке», т. е. быть практикующим психоаналитиком.
Учение Фрейда о неврозах, с самого начала преодолевшее естественнонаучную, процессуальную парадигму, развивалось в гуманитарном контексте. Оно имело тенденцию к распространению на теорию психозов, но терпело неудачу – единая концепция неврозов опиралась на интерпретацию симптомов, а не феномена, объединяющего однородные нервные и психические отклонения.
Такой точкой отсчета могло бы стать учение Блейлера об аутизме. Фрейд же увлекся и увлек других собственной метафизикой, конструированием сложной системы доказательств неких предчувствий о диалогической природе переживаний, о нарушении внутреннего диалога как первопричины психических расстройств. О том, насколько были близки позиции этих ученых, можно судить по многим высказываниям Фрейда. Он часто говорил, что невротик отрицает реальность, совершает «бегство из реальной жизни», отдаляется, отчуждается от внешнего мира[53]. Не заботясь о преодолении дихотомии «невроз-психоз», Фрейд остановился на полпути к построению концепции единого психоза.
В то же время Блейлер, пытаясь на словах сблизить свои позиции с психоанализом, ограничивает это фундаментальное явление рамками одной нозологии – dementia praecox. Нам остается непонятным, как он мог не заметить множество изысканных определений одиночества, данных Фрейдом, чтобы выйти на гораздо более продуктивный уровень диагностики и лечения психически больных[54]. «Невроз, – читал Фрейд в своих лекциях, – заменяет в наше время монастырь, в который обычно удалялись все те, которые разочаровались в жизни или которые чувствовали себя слишком слабыми для жизни» (Фрейд, 1911, с. 61)[55]. И эти слова были опубликованы в том же году, что и «Аутистическое мышление».
При сравнении трудов этих выдающихся психопатологов создается впечатление о существовании некоего пакта о ненарушении границ их научного интереса. Будучи хорошо знакомы, они даже не заимствовали друг у друга термины, ставшие впоследствии общепринятыми. Фрейд не отреагировал на многократно переизданную статью «Аутистическое мышление», а Блейлер в небольшом разделе, посвященном неврозам, не упомянул даже имени создателя нового учения. Если смоделировать диспут между ними, то мы бы услышали с каждой стороны по одному вопросу. Как воздействовать на невротические симптомы психотерапевтически, если они обусловлены биологическими, мозговыми механизмами? Клиницист же вправе задать психоаналитику вопрос следующего порядка: как субстанция и атрибут могут существовать в разных пространственно-временных координатах? Он также должен принять на веру концепцию бессознательного, либидо и других составляющих классического психоанализа. Для психоаналитика очевидна подмена психогенеза соматогенезом невротических расстройств, а для клинициста – подмена патогенеза этиогенезом.
Создав учение о неврозах, Фрейд восстановил клиническое представление об общей болезни с локальным проявлением, тогда как учение о психозах (шизофрении) опиралось на другое клиническое представление о дегенерации. Здесь, конечно же, речь должна была идти о скорости дегенерации и о последствиях, т. е. о течении болезни, о патологических процессах[56]. Если Фрейд избавил технику психотерапии от физического (медицинского) насилия, заменив его насилием психическим, то клиническая психиатрия сохранила принцип насилия посредством физического вмешательства.
Историческая заслуга Блейлера заключается в том, что он открыл, описал и внедрил в психиатрию единственный диалогический феномен – аутизм. Этот феномен наиболее ясно выступает при dementia praecox, и Блейлер, как исследователь философского склада, не мог упустить шанса наблюдать это явление и не попытаться вникнуть в его содержание. Это содержание не было принято психиатрическим сообществом, но само явление отгороженности вошло в систему представлений о патологии психики. Фрейд пошел дальше и вывел на авансцену другое диалогическое понятие о внутрипсихическом конфликте[57]. Он описал невротика, единственного из больных, кто мог бы исчерпывающе передать картину своих интимных переживаний[58]. Переведя события внешнего мира во внутренний мир – нарушение диалога с самим собой, конфликт человека с самим собой (противостояние мотивов), – Фрейд совершил прорыв из области гноселогии в область психологии.
Как видим, Блейлер и Фрейд попали под обаяние своих горячо любимых пациентов и не захотели расширяться в рамках психопатологии путем определения диалогических нарушений. В стремлении к единству предмета психопатологии они пытались распространять, тиражировать облюбованную ими нозологическую единицу. Причем оба остановились на тех группах заболеваний, которые были наиболее спорными в систематике Крепелина – dementia praecox и психогении. Этим концепциям не дано было объединиться и объединить предмет нашей науки еще и потому, что не было мировоззренческой почвы, – работы философов диалога принадлежат новому времени, которое для клинической психиатрии, возможно, еще не наступило. Об этом косвенно свидетельствует и дуальная структура психотерапевтического контакта (иерархия «врач-больной»), состоящая из психологически образованного и психологически неграмотного (поэтому страдающего) субъектов.
Таким образом, психотерапия, если она вправе существовать как профессиональная область, должна заниматься той патологией, которая представлена в психической сфере независимо от решений извечной проблемы «души и тела», «субъекта и объекта», идеального и материального, психического и физического. Эта патология является производящей и производной в системе пространственно-временных координат лечебного процесса.
Причина болезни должна выявляться при расшифровке каждого из разрозненных симптомов, знаков болезни, а не накладываться искусственно на эти свойства. Отличие заключается еще и в том, что производная патология, симптомы (боль, телесный дискомфорт, навязчивые страхи, мысли, представления, галлюцинации) находятся в поле сознания пациента и являются по большому счету продуктами творческой переработки собственных ощущений. Производящая же патология (воспаление, тканевые изменения, внутренний конфликт, отчуждение), не осознается пациентом, но доступна лечащему врачу, который профессионально к этому подготовлен. Перефразируя Бронислава Малиновского, можно сказать, что человек обращается к врачу потому, что его собственные врачебные качества уже недостаточны (Малиновский, с. 514). Именно эти недоступные для пациента продукты врачебных наблюдений, сопоставлений, обобщений и становятся терапевтической целью, они формируют диалогическую пару врач-больной. Единственной психотерапией, которая приблизилась к выделению этой феноменологии, был классический психоанализ. Остальные паразитировали на соматической клинике или скромно заимствовали фрагменты психодинамической теории и практики.
Внедрив единственную диалогическую категорию – понятие о внутреннем конфликте, – Фрейд первый заговорил о патологии, которая не осознается пациентом, «образуются торможения, препятствующие тому, чтобы конфликт вообще замечался и осознавался» (Биндер, с.156). Именно эту истину и нашел Фрейд, но потом не удержал в поле зрения; он обратил внимание на явление незнания, неосознания причин заболевания пациентом, что всегда присутствовало в лечебной практике, но не выделялось клиницистами. Открытие было столь серьезным, что толкнуло его на создание известной всем концепции происхождения невротических комплексов с раскрытием понятия бессознательного. Однако само слово конфликт в отличие от слова аутизм отягощено другими значениями, поэтому и было воспринято многими психопатологами поверхностно. Достаточно вспомнить, как В. Н. Мясищев и его многочисленные ученики и последователи вернули это понятие в лоно субъектно-объектных взаимоотношений («психологические отношения»), а всю психотерапию – в дофрейдову эпоху (Психотерапевтическая энциклопедия, с. 482–485, 322–331).
Концептуализацию психической причины патологических симптомов мы начали с того места, где идеи классиков являются наиболее бесспорными. Это понятие об аутизме в плане внешнего отчуждения и конфликта – в плане внутреннего, внутриличностного, внутрипсихического[59]. Чтобы объединить эти понятия, мы отказались от частого употребления самих терминов, так как первый прочно связан с детской психиатрией, а второй отягощен социологическим, социально-психологическим и другим содержанием.
Поиск в этом направлении убедил нас в важности разработки проблемы одиночества – проблемы, занимавшей умы мыслителей во все времена христианской эры и являющейся одним из ракурсов общей проблемы человека. Описания этого явления, разбросанные в философской, богословской, психологической и эпистолярной литературе, часто сопровождаются оценочными суждениями, которые подчинены двум полярным тенденциям. Одни авторы считают одиночество величайшим благом, условием творчества, другие – явлением нежелательным и даже мучительным для человека. Столь резкое расхождение мнений обусловлено, вероятно, тем, что речь идет не об одном и том же явлении или, во всяком случае, о разных его проявлениях.
Следует отметить, что одиночество представлено как крайняя степень отчуждения, часто в самой немыслимой форме (как в девятом круге Дантова ада «грудь о грудь окованные хладом», «самого одинокого одиночества» Ницше, «голого ужаса» Бинсвангера). Ф. Фром-Рейхман в своей программной статье «Одиночество», построенной на клиническом материале, говорила о неких формах полного уединения как своего рода «Антарктике души», «чистого» одиночества, которое якобы могут испытывать лишь артистические и, неуравновешенные натуры (Fromm-Reichmann, 1959, цит. по: Покровский, 1989, с. 114).
Надо заметить, что одиночество далеко не всегда равнозначно сокращению социальных связей. Иные виды частичного или полного уединения могут быть интерпретированы и как максимум общения, творческой свободы. А главное, изоляция человека может быть как добровольной, так и вынужденной. Принятие же тезиса о вынужденной изоляции формирует определенную точку отсчета, открывает возможность исследовать разные формы и степени одиночества. Поистине необъятный и размытый жизненный материал обретает, наконец, конкретные очертания, необходимое для анализа сужение.
Аналитических работ мало. Современные исследователи, Р. С. Вейс, Дж. Р. Оди и другие, сетуют на то, что при разработке проблемы одиночества не на что опираться, нет какой-либо традиции в понимании этого явления (Вейс 1989; Оди 1989). Лишь весьма отрывочные определения, о которых мы говорили, можно обнаружить на периферии мировоззренческих концепций. Пусть даже блестящие по форме, они только подчеркивают важность изучения проблемы одиночества, не давая какого-либо ее решения.
Ж. П. Сартр одним из первых сфокусировал внимание на этом понятии, определив одиночество как сущностное качество человека. В формировании этой точки зрения, продолжающей традицию С. Кьеркегора, известную роль сыграл специфический сартровский атеизм, позволивший сблизить философский и психологический аспекты проблемы. Но для построения психотерапии экзистенциальная характеристика одиночества как рокового и вечного начала в природе человека, обреченного существовать в замкнутом пространстве собственного «я», недостаточна.
Пафос экзистенциальной философии от С. Кьеркегора до М. Бубера и А. Камю порождает представление об одиночестве как об отсутствии диалога человека с внешним миром на уровне чувственного восприятия. Однако здравый смысл заставляет нас видеть в каждом состоянии индивида и даже в каждом временном срезе его жизнедеятельности одновременное присутствие и одиночества (в плане диалога с самим собой), и слияния с внешним миром. Такова, на наш взгляд, сама природа диалогического мышления. «Монологическое Я, – справедливо утверждал Ф. Эбнер, – это заблуждение, которое разрушило и должно было разрушить всю основывающуюся на Я философию. Я существует в диалоге» (Философские науки, 1995, № 1) Следуя сущностной характеристике феномена патологического одиночества, мы пришли к собственной точке зрения в области психической патологии.
Вот уже двадцать с лишним лет мы пытаемся рассматривать аутизм как явление, общераспространенное в клинике психических заболеваний, а не специфическое для одной лишь шизофрении. Было выдвинуто предположение, что признаки отчуждения присутствуют при каждом психическом и психосоматическом расстройстве. Это наиболее радикальная точка зрения. Она не встречается в психодинамическом и феноменологическом подходах, рассматривающих проблему одиночества под углом зрения патологии. Одиночество в нашем представлении является коренным, сущностным свойством любого психического нарушения, водоразделом между нормой и патологией в психиатрии.
Прежде чем сделать обобщения, подчеркнем основные направления в развитии проблемы аутизма. 1) Согласно классической точке зрения, аутизм есть нарушение коммуникативных функций личности и в то же время – особая форма инфантильных переживаний, характерных для узкого круга лиц, страдающих шизофренией. 2) Отрицание значимости этой проблемы в различных концепциях шизофрении. 3) Выделение фактора нарушения контактов пациента с окружающей действительностью в самостоятельную полиэтиологическую болезнь, ограниченную рубежами детской психиатрии.
Наша точка зрения возникла в результате клинических наблюдений и предполагает синтез существующих взглядов. Но прежде всего она включает в себя представление о диалогическом свойстве мышления. Аутизм как нарушение (а не отсутствие) диалога человека с внешним миром означает для нас и нарушение внутреннего диалога, диалога человека с самим собой. Эти два феномена мы воспринимаем как явления одного порядка. Любой дискомфорт человека, переживаемый относительно внешней среды или его телесного «я», получает отражение в психической сфере в форме нарушения внутреннего диалога, а феноменологически – аутизма. Именно в пограничной области следует, на наш взгляд, искать опору для определения предмета психопатологии.
Патологическое одиночество как социальный и психофизический феномен нуждается в более широком рассмотрении[60]. Мы не только стремились найти общую для всех симптомов патологическую основу, но хотели также примирить позицию психотерапевтов с позицией соматотерапевтов (психиатров). Каждый симптомокомплекс, описанный в глоссариях, – от судорожного припадка до реактивных изменений психики, – предполагает нарушение диалога с внешним миром. Мы попытались также сохранить классическое (ценностное) наполнение понятия одиночества, чтобы еще яснее выделить нравственный мотив в процессе психотерапии.
Нам представляется, что конкретизация понятия одиночества эвристически глубже, чем расширение значения «холодного» для нас термина аутизм. Думается, что при встрече с аутичным пациентом врач может воспринимать его переживания и в плане сострадания, как это сделал великий гуманист: «Я считаю это медленное, ежедневное давление на тайные пружины мозга неизмеримо более ужасными, чем любая пытка, которой можно подвергнуть тело; оставляемые им страшные следы и отметины нельзя нащупать, и они так не бросаются в глаза, как рубцы на теле; наносимые им раны не находятся на поверхности и исторгаемые им страшные крики не слышны человеческому уху…» (Диккенс, с. 125). Понятие о патологическом одиночестве способно восполнить утраченные связи научной психиатрии с этической и эстетической традициями старой клиники.
В заключение хотелось бы заметить, что основные трудности в нашей области коренятся не в том, что наши коллеги отходят от клинических позиций, а в том, что их концепции излишне метафизированы. Проблема происхождения психических расстройств (психическая или соматическая) не должна слишком увлекать практического врача, он, на наш взгляд, должен уметь видеть, как они представлены в психической сфере. К примеру, боль и сопутствующие этому явлению переживания оценены в общей психопатологии в меньшей степени, чем галлюцинации и сопутствующие им бредовые идеи.
Пациентка Н. П. перенесла средний отит в возрасте 12 лет. В результате серии неудачных вмешательств была травмирована барабанная перепонка, снизился слух. Имели место сильные боли: ночами не спала, не отпускала от себя родителей. На улицу не выходила, боялась простудить ухо. Перешла на домашнее обучение. Через четыре года была успешно вылечена в Париже. Восстановился слух, объективных признаков отита не обнаруживала. Однако поведение оставалось прежним, так как продолжала ощущать невыносимую боль. Стала говорить об этом ощущении во втором и в третьем лице, «поэтизировать» свои переживания, говорила о «нем» с пафосом, несколько театрализованно. Сформировался комплекс сверхценных и бредовых идей. Лечилась у психиатров и психотерапевтов, но результатов не было. В процессе приема значительных доз нейролептиков резко прибавила в весе (120 кг, при росте 175 см.). При работе над портретом разговоры о фантомных переживаниях вытеснялись с трудом. После первого этапа портретирования (май-июнь 1999 г.) боли беспокоили меньше, стала писать короткие рассказы, вела популярную молодежную передачу на радио в режиме прямого эфира. В августе сумела поступить на филологический факультет. Приехала на второй этап лечения в октябре того же года. За это время путем интенсивных тренировок сбросила около 40 кг. веса. Диалог с врачом, которым она дорожила, имел разнообразное содержание, чаще о проблемах творчества, взаимоотношений с окружающими людьми, о театре. В перерывах между сеансами призналась, что неприятные ощущения иногда появляются, но она легко их преодолевает. Однажды, по неосторожности врача и родителей, она узнала, что третий этап может быть заключительным. Теперь ухо стало «болеть» регулярно, поведение было демонстративным. После третьего этапа летом 2000 в результате бурного конфликта с врачом боль наконец-то исчезла, однако по просьбе пациентки мы запланировали еще один короткий этап. Скульптура в лечебном плане фактически завершена, остались нужные для отливки технические доработки.
Мы видим, что реальная боль благодаря успешному хирургическому вмешательству трансформировалась в фантомную, а последняя в процессе портретирования из внешнего плана перешла во внутренний план – в пространство портрета. Здесь фантомный ее характер был полностью исчерпан. Однако в дальнейшем, при формировании истериоформного состояния, она стала символизировать фиксацию переноса по отношению к врачу, превратившись в сугубо диалогическую категорию.
Вначале тяжелые физические ощущения у пациентки ограничили круг ее общения. То, что она даже ночью не отпускала родителей, можно представить и как попытку избавиться от мучительного состояния путем непрерывного диалога, отчаянную попытку вылечиться самой. Затем, с трансформацией реальной боли в фантомную, происходит наделение этих ощущений чертами реального образа, который подменил фактически ее собственный, зеркальный. Об этом свидетельствует и тот факт, что она перестала смотреть в зеркало, следить за своим внешним видом. Диалог пациентки протекал только с одушевленным, наделенным свойствами человеческого образа. Мышление стало монологичным, грубая аутизация не нуждалась уже во внешней стимуляции. Отношение к бывшим партнерам по диалогу – родителям отличалось равнодушием и даже жестокостью. Скульптурная реконструкция утраченного «я» постепенно разрушала фантомную основу боли, портрет (ее истинный образ) замещал созданное пациенткой патологическое визуально-вербальное образование. В структуре врач – пациент – портрет возникли предпосылки к полноценному диалогу.
2.3. Метод интервью «зеркальные переживания»
Если проследить проникновение, преломление и трансформацию созданных лучшими психопатологами понятий и содержаний в гуманитарной области, можно сказать, что они оказали значительное воздействие на мировоззренческий пласт человеческой культуры. Однако в каком из будущих веков практические психиатры воспримут шизофрению в духе Делеза и Гватари – как «основное освободительное и революционное начало личности в ее противостоянии „больной цивилизации“ капиталистического общества»? (Ильин, с. 336). В реальной практике, создавая техники исцеления больных, наши предшественники оставались философами – это был начальный этап становления психотерапии, и он, на наш взгляд, пройден. Актуальными, по нашему убеждению, являются конкретные результаты по конкретным больным. Мы имеем в виду философски образованного врача, который входит в контакт и сострадает душевнобольному, не углубляясь в метафизическую проблему души и тела. Пока же эффективность психотерапевтических теорий неизмеримо больше, чем построенная на их основе практика.
Размышления о том, как человек вживается в жизнь, как воспринимает ее, проходя свой век от начала и до конца, проецируются на то, каким он видит себя со стороны, в качестве своего Двойника. Имеется в виду не раздвоение личности, а принципиальная способность выходить за пределы собственного «я». Разрушение этой способности и есть аутизм, т. е. обращенность на себя самого с парадоксальной потерей способности видеть себя («потеря лица»). Эта потеря приводит человека к выпадению из процесса естественного общения, к замкнутой жизни внутри своей субъективной картины времени и пространства (Цивьян, с. 9). «Когда человек перестает любить, – признается Андрей Ш. (диагноз – шизофрения), обратившийся к нам с просьбой вернуть ему „потерянное“ лицо, – он окукливается, обрастает панцирем. Я был не тенью – тенью теней. Во мне будто все было обуглено, а рядом – жена, дети, нужно идти на работу».
Сотни других признаний наших пациентов не менее драматичны, но, отличаясь по форме, они близки по содержанию – там, где переживается отчуждение, налицо и обеднение, искажение, частичная или полная утрата зеркального образа «я». Эта найденная нами в результате кропотливых поисков закономерность обусловила и разработку методов психотерапии, построенных на реконструкции нарушенного восприятия самого себя, своего зеркального двойника. «Врач-психотерапевт, – пишет Л. А. Абрамян, – создает пациента своими руками. По мере того как больной узнает себя, а портрет приближается к завершению, болезнь постепенно исчезает. Это тот Двойник, которого больной каждый день видит в зеркале, но на которого мало обращает внимания, и лишь во время работы над портретом начинает пристально изучать свое отражение. Или это тот Двойник, которого не узнают в зеркале, как иногда с удивлением ловят в зеркальной витрине застающее врасплох собственное отражение, странное, чужое. Или же, наконец, это тот Двойник, к которому больной с тревогой и навязчивостью обращается, выискивая в нем разные асимметричности или какие-либо другие изъяны и, соответственно, пытаясь изменить свое лицо» (Абрамян 1994, с.79).
А. М., 1963 года рождения, не замужем; питает интерес к математике. Дед со стороны отца болел эпилепсией. Бабушка со стороны матери страдала шизофренией (скончалась в психиатрической больнице). У сестры матери – тоже шизофрения, слабоумие. Родители – психически здоровы. Отец – инвалид, не работает. Мать заведует детским садом. А. с детства стремилась переделывать платья, менять вкус пищи, используя непривычные вкусовые сочетания. Иногда перекраивала одежду столько раз, что оставались одни лоскутья. Любила мечтать, лежа на диване. Например, о том, что ее жизнь на земле будет вечной… Считает себя больной с 18 лет. Тогда, поступив на математический факультет университета, не смогла пойти на первое занятие: перед уходом из дома обнаружила неровности на коже лица; пыталась иголкой вскрыть воспаленную часть сальной железы, затем ждала, пока заживет ранка, и снова возобновляла манипуляции. И так каждый день – в течение трех лет («уже дошла до мяса, до кости»). Не выходя из своей комнаты, она проводила перед зеркалом по 10–15 часов (пищу ставили перед ее дверью). Ни с кем не общалась; если выезжала по необходимости, то только в автомобиле, поданному к дому (сидела на заднем сиденье, с наглухо, кроме глаз, закрытым лицом). Периоды «выравнивания» кожи лица чередовались с попыткой добиться строгой симметрии в волосяном покрове головы: выщипывала брови, ресницы, стригла волосы, точно соблюдая симметрию головы… Работа над ее портретом длилась около трех месяцев. После первых сеансов без какого-либо внушения, запретов больной удавалось по два-три дня не касаться своего лица; затем все возвращалось на круги своя. Во время наших долгих бесед обнаруживала крайнюю незрелость суждений и поступков, склонность к резонерству, амбивалентность каждого своего действия, высказывания. После последнего сеанса появилась сексуальная расторможенность, сопровождавшаяся долгим плачем; затем – сон и пробуждение с полным сознанием происходящего, с планами на будущее, с ощущением здоровья и счастья. Дома еще были единичные попытки вернуться к прежним манипуляциям у зеркала, но они легко преодолевались. А. М. работает, замужем; правда, к учебе не вернулась.
Процесс реконструкции утраченного образа равносилен попытке избавления пациентов от патологического одиночества. Последнее, как отмечалось, является причиной и смыслом всех остальных психических расстройств: бреда, галлюцинаций, неадекватных поступков, невротических комплексов.
Одним из первых это заметил и убедительно описал в своих «Американских записках» Ч. Диккенс. «Сначала человек оглушен. Его заключение – страшный сон, прежняя жизнь – действительность. Он бросается на койку и лежит, предавшись отчаянию… Постепенно ему начинает казаться, что белые стены камеры давят его, что их цвет ужасен, от вида их гладкой поверхности стынет кровь, и вон в том ненавистном углу притаилось что-то страшное.… Медленно, но верно ужасы этого ненавистного угла разрастаются и терзают его уже неотступно: они отравляют его досуг, от них его сны становятся кошмарными и ночи мучительными.… Теперь каждую ночь в этом углу стал появляться призрак – тень: нечто безмолвное, ужасное для взора.… В сумерках, всегда в один и тот же час, некий голос окликает его по имени… Но вот ужасные видения одно за другим покидают его. … Теперь он иногда думает о своих детях, о жене, но уверен, что они умерли или отреклись от него. Его легко довести до слез; он мягок, покорен, дух его сломлен. По временам прежние терзания начинаются снова, самая малость может вновь оживить их…» (Диккенс, с. 134–137).
Необходимо заметить, что в этом фрагменте о генезисе тюремного психоза, наряду с одиночеством, четко вырисовывается утрата образа самого себя: непосредственное зеркальное (тень в углу камеры) и опосредованное («социальные зеркала») – жена и дети узника из Филадельфии. Насколько глубока эта связь, свидетельствует и символическая для нас находка английских птицеводов: хаотическое бегство и нежелание есть у цыпленка, оставшегося без матери и стаи, они преодолевали единственным путем – прикрепляли к концу палки зеркало и подводили к цыпленку, который сразу успокаивался и начинал клевать пищу.
Таким образом, в результате многолетней интенсивной работы нами была выявлена область психических нарушений, связанная с отношением больного к своему зеркальному образу, которая большей частью пропускается клиницистами[61]. Мы не имеем в виду случаи дисморфофобии, когда сам пациент настаивает на «изменениях» своей внешности, предоставляя продукт творческой переработки. По статистике они составляют не более трех процентов случаев шизофрении (Руководство по психиатрии, 1988, с. 442). Речь идет о принципиально ином факте – зеркальные нарушения обнаруживаются при каждом психическом заболевании и являются ключевыми. Многие пациенты тщательно скрывают эти переживания – выявить их, пройдя через массу фальсификаций, удается порой лишь через месяцы специальных исследований. О зеркальных переживаниях Е. К. и врачи, и даже ее мать узнала через много лет лишь в процессе портретирования.
Е. К., 1972 года рождения. Младшая из двух дочерей бедной вдовы. С полутора лет оставалась в комнате наедине с прикованным к постели отцом (мать уходила на работу). Когда ей было 3 года, на ее глазах умер отец. Начала по вечерам часто моргать; долгое время не могла забыть отца, потом попросила у матери «другого папу». Из детских заболеваний перенесла корь, частые ангины. В школу пошла семи лет и первые три года училась на «отлично». В четвертом классе успеваемость снизилась, с пятого – учителя заметили, что девочка не общается со сверстниками и подолгу задумывается. С этого же времени перестала смотреться в зеркало, иногда вместо зеркала обходилась ощупыванием своего лица. Каждый год ее отправляли в пионерский лагерь – оттуда писала письма с просьбой забрать домой. Испытывала страхи, в том числе страх темных помещений, одиночества. Подруг не имела; много фантазировала, мечтала стать актрисой, певицей, композитором. Идентифицировала себя с любимыми певицами, считала себя их двойником. Рано начала писать стихи и сочинять музыку. Среди представленных ею стихотворений одно можно считать незаурядным: по лиризму оно напоминает мандельштамовский перевод одного из сонетов Петрарки. Во всех же остальных – сложное переплетение патологической символики, описание слуховых и зрительных галлюцинаций. Менструация началась в 14 лет. Со слов матери, после этого ее точно подменили. Возник страх, что мышцы всего тела работают сами по себе, помимо ее воли, и могут атрофироваться. Развивалась жесткая самокритика своей внешности, особенно лица: лоб слишком высокий, лицо непомерно удлинено, кожа не имеет золотистого оттенка, цвет глаз лишен какого-то особого зеленого тона, зубы должны быть другой формы, блестеть, как фарфор, и т. п. Чрезмерно применяла косметику; волосы мыла раствором, в состав которого входили 25 яиц, мед и другие питательные компоненты. Заставляла мать в любой момент изыскивать деньги для покупки нужных продуктов. В противном случае проявляла бурную агрессию с оскорблениями и побоями. Но все это лишь «прелюдия» к тому, что она намеревалась сделать, когда вырастет и заработает много денег: она проведет множество пластических операций, которые неузнаваемо изменят ее внешность. Она подробно поясняла технику предстоящих процедур. В восьмом классе успеваемость резко снизилась. Бросила музыкальную школу. Со слов матери, стала постоянно «куда-то рваться». Одноклассники относились к ней плохо: оскорбляли, не принимали в общественные организации, о чем, впрочем, она нисколько не сожалела. Словом, стала изгоем, «белой вороной». В десятом классе совсем перестала ходить в школу; замкнулась, никого не впускала в свою комнату, приходы гостей вызывали тяжелую истерику. Когда появились первые чувства к мальчикам, соглашалась встречаться только вечером, в темных переулках. С мальчиком, объяснившимся ей в любви, поссорилась потому, что пришел к ней днем. Не могла фотографироваться даже для документов. Не принимала многих общепринятых норм поведения, запретов; нередко эксплуатировала мать, заставляя ее влезать в долги, унижаться. Мать обратилась к участковому психиатру, который пытался установить контакт с больной в домашней обстановке. Не удалось. Приняли решение поместить ее в психиатрическую больницу. Диагноз: шизофрения. Лечилась полтора месяца (инсулино-шоковая терапия, нейролептики, антидепрессанты). В больнице подружилась с криминальными лицами – мать была вынуждена ускорить ее выписку. (С тех пор применение нейролептиков проводилось подмешиванием их в пищу.) Работа над портретом этой красивой девушки часто заходила в тупик, прерывалась ее неожиданными поступками и высказываниями. Непредсказуемость ее поведения заставала врасплох как мать, так и меня. Тем не менее, круг патологических расстройств непрестанно сужался, возникали «окна», так называемые «светлые промежутки». Течение болезни из непрерывного трансформировалось в приступообразное, а сами приступы становились менее напряженными, менее разнообразными по содержанию, исчезли псевдогаллюцинации, уменьшилось количество дисморфофобических идей. Наконец, однажды она увидела себя в зеркале – и с той поры жадно впитывала все детали своего зеркального образа. Косметика ее стала более скромной, более точной и осмысленной. По нашей рекомендации, в тот же период Е. К. окончила курсы массажа лица и начала оказывать помощь другим пациентам. Особенно упорным был ее последний синдром, по структуре напоминающий истерический. Наблюдались частые протестные реакции по отношению к матери, близким, лечащему врачу; стыдливость и наивность сочетались с цинизмом и грубой сексуальной расторможенностью. Не имея предварительного сексуального опыта, она совершала почти криминальные поступки, обнаруживая склонность к половым извращениям. После бурного катарсиса исчезла на всю ночь (когда и лишилась девственности). События этой ночи не удержались в ее памяти. В дальнейшем оставались редкие, но сильные головные боли; наблюдалась некоторая раздражительность. Однако с началом регулярных брачных отношений состояние стабилизировалось; в течение года жалоб не было. Портрет делался в рост – в виде полуметровой статуэтки. Эта техника применяется нами при дисморфофобических расстройствах.
На базе клинического опыта мы разработали весьма эффективный инструмент выявления аутизма, «зеркальные переживания», – интервью, которое проводим со всеми пациентами, поступившими на лечение в Институт маскотерапии. Метод интервью имеет определенные преимущества перед «безликим» анкетным опросом и особенно важен для целей углубленного психологического исследования личности. Применительно к стоящей перед нами диагностической задаче необходимо отметить, что метод интервью дает значительный материал для изучения индивидуального своеобразия восприятия пациентом самого себя. При этом анализ данных, полученных с помощью интервью «зеркальные переживания», позволяет не только выявить особенности восприятия внешнего облика, но и обуславливающие их причины, связанные с этим жизненные события и ряд других факторов, значимых для постановки клинического диагноза и прогнозирования процесса психотерапии.
Е. А., 1960 г. р. Миловидная женщина, с крашеными и завитыми волосами. На приеме непрестанно поправляет прическу, прерывает беседу и выходит в коридор, долго смотрится в зеркало, что-то бормочет, меняясь в лице. Движения замедленны, нарочито плавные. Одета тщательно, аккуратно, но странно и безвкусно. На лице избыток косметики. Голос тихий, монотонный. Мимика обеднена. Настроение снижено. Родилась в семье служащих. Бабушка со стороны матери страдала хроническим психическим заболеванием. Старшая сестра состоит на психиатрическом учете с диагнозом: шизофрения, вялотекущая параноидная, ипохондрический синдром. Отец – инженер-электрик, человек упрямый и жестокий. Мать – добрая, заботливая, строгая, требовательная. В детстве Е. была общительной, отличалась эмоциональностью, ранимостью, вспыльчивостью. Перенесла корь, краснуху, ангину. В школе имела друзей, подруг, пела в хоре. Сестры посещали танцы, увлекались мальчиками. Предпочитала мужчин, рано начала половую жизнь, часто меняла партнеров. Успеваемость в эти годы снизилась, окончила среднюю школу, затем бухгалтерские курсы. Работала кассиром. Через короткое время стала рассеянной, теряла документы – объясняла тем, что начальник перегружает ее, не оставляет времени на личную жизнь. Уставала, болела голова, наблюдались головокружения, нарушился сон (просыпалась «разбитой»), теряла в весе, наблюдалось расстройство менструального цикла. После обследования в терапевтическом кабинете выставили диагноз: «диэнцефалит». По словам Е., «летела домой на крыльях», чтобы показать родителям «оправдательную» бумагу с настоящим медицинским диагнозом. Мать стала водить к бабкам, знахарям, экстрасенсам – «на этом я и помешалась», считает пациентка. Перестала общаться даже с сестрой, подолгу стояла перед зеркалом, находила недостатки своей внешности. В начале не нравились темные волосы и глаза, считала, что раньше они были светлые, поэтому мужчины обращали на нее внимание. Свои переживания не скрывала, повторяла вслух: «Это не мои родители – я на них не похожа». Вскоре стала угадывать, даже слышать все, что про нее якобы думают прохожие, а дома – голоса якобы влюбленных в нее мужчин. «Голоса» звучали внутри головы и только для нее. Содержание было приятное – комплименты, ласковые слова, житейские советы, но чаще некто говорил: «Открой дверь, я сейчас приду». Е. погружалась в себя, хорошо понимала, что происходит вокруг, но не могла сопротивляться приказам, которые получала «изнутри». Порой она относилась к слуховым обманам как к «божьему дару», даже в общественных местах не скрывала их. Вскоре была госпитализирована. После выписки появились мысли о том, что когда-то в детстве ей сделали косметическую операцию и полностью изменили ее лицо. С 1984 года трижды с интервалами в два года была стационирована, после чего «располнела, стала одутловатой, обессиленной и отупевшей». Лечилась в стационаре нейролептиками, транквилизаторами, инсулиношоковой терапией. В перерывах устраивалась на подсобную работу. После первой госпитализации «увидела себя в зеркале», осознала, что внешне ей уже не измениться и совершила суицидальную попытку. После третьей выписки в 1987 г. нашла «выход» из положения – обесцветила волосы, сделала химическую завивку, выщипала брови – «понравилась себе», почувствовала значительное улучшение настроения, окончила курсы и работала по специальности в течение 6 лет. В 1993 году вновь наступило ухудшение общего и психического состояния – вялость, апатия, нарушение сна, резкое снижение веса, возобновились обманы слухового и зрительного восприятия – «кордебалет в комнате, и я участница этого кордебалета». Появились новые «голоса», которые Е. описывает как «голоса чертовщины, злые, угрожающие», наводящие страх – «это те голоса, после которых бежишь к врачу и просишь таблеток». Обратились к нам в ноябре 1994 года. При опросе выяснилось, что «зеркальные» нарушения развивались с 15 лет, «даже постыдилась отправить свою фотографию влюбленному в меня мальчику». Уже в 18 лет пыталась с помощью воздержания и голода изменить фигуру. В этом возрасте имело место отрицательное отношение к своему лицу – «прикрывалась» косметикой. С 18 лет и до первой госпитализации не любила (не могла) смотреть на свое отражение. После выписки чаще и дольше подходила к зеркалу, иногда простаивала перед зеркалом несколько часов. Меняла прическу, «хотела стать блондинкой», выщипывала брови, «чтобы светлее нежнее стать». Считает, что «глаза узкие, маленькие, выражение безразличное, взгляд пустой, без эмоций, нос не вздернут, лицо рыхлое, рот микроскопический, прикус неправильный, улыбка некрасивая; грудь была больше, теперь маленькая, изменилась, когда я заболела, талия широкая, живот большой». Призналась, что разделяет критические замечания сестры. Говорила также, что если какая-то женщина нравится ей внешне, сразу же пытается переделать свое лицо под новый стандарт. Жалуется, что не может найти нужную прическу, создать хорошее правильное лицо. С первых же сеансов отмечалось улучшение настроения. К врачу относилась с доверием. Поначалу могла говорить только о себе, о своих страстях и переживаниях. На попытки возразить ей неизменно отвечала: «Вы все врете, хотите успокоить меня». После первого этапа (ноябрь-декабрь 94 г.) портретное сходство интерпретировала так – «похожа на себя в 15 лет, т. е. когда я заболела». Сама Е. заметно изменилась внешне и внутренне в сторону большей адекватности. Дома сократились конфликты, содержание болезненных комплексов значительно обеднилось, упростилось, конкретизировалось. Возникла критика к своему психическому состоянию. Е. говорила: «Теперь бывают периоды, когда я сама себе нравлюсь, ощущение внутреннего равновесия, теперь я не выщипываю так сильно в ниточку брови, они мне стали нравиться такими, какие есть». Постепенно восстановилось адекватное восприятие цвета глаз и волос (светло-карие и темно-рыжие). «Временами к вечеру мне кажется, что глаза опять становятся темнее, тогда я чувствую себя хуже». По-другому стала воспринимать и форму глаз: «Сейчас глаза стали круглее, красивее, больше, появились эмоции. У меня лицо было маской. Раньше мне казалось, что рот, губы микроскопические, а теперь можно сказать – хорошенькие, губы полнее стали, но боюсь пока говорить об этом. Сейчас есть соответствие между лицом и внутренним миром – миловидность появилась, добрее стала, терпимее. На меня обращают внимание не так, как раньше, ведь раньше меня не было, вернее, не было внутреннего стержня, связи внутреннего с внешним». Всего с 1994 по 96 годы было пройдено четыре этапа лечения по 1,5–2 месяца. Перед последним этапом болезненные симптомы отмечались только в предменструальный период – падение настроения, вялость, недооценка собственной внешности. Странные мысли иногда лишь декларировала при внешне неблагоприятной обстановке, они стали признаком дискомфорта, галлюцинаторно-бредовые переживания полностью прекратились, появились манеры и суждения взрослой женщины. После завершения портрета успешно работает, лекарств не принимает, личная жизнь пока не устроена.
В истории Е. можно найти ряд иллюстраций к нашей концепции патологического одиночества. Здесь сокращения контактов и неадекватные зеркальные переживания просматриваются в одном временном срезе, они предшествуют развитию мощного бреда отношения, воздействия и иного происхождения. Содержание галлюцинаторных расстройств также соответствует интенсивности внешнего отчуждения пациентки, оно корнями уходит в неадекватный диалог с собой у зеркала. Именно продуктивные нарушения (а не аутизм и зеркальные переживания), согласно выписке, заметили и лечили врачи (официальный диагноз: шизофрения параноидная). Характерно, что удачная терапия в стационаре в 1987 г. (ремиссия в течение шести лет!), хотя и не полностью, но равномерно изменила весь комплекс проблем – общительность, положительное зеркальное восприятие, стабилизация настроения, инкапсуляция бредово-галлюцинаторных расстройств. Напомним, что после первой выписки у нее не было решений по поводу своего образа и это привело к суицидальной попытке. После последней же выписки идея пришла внезапно, Е. косметически «вылепила» себя и вышла на контакт с внешним миром. Попутно она избавилась от других продуктивных и негативных расстройств. Есть слова в ее отчетах, которые почти дублируют наши идеи – там, где она рассуждает о внешнем и внутреннем мире. Истинная же трансформация галлюцинаторно-бредового комплекса с критическим его пересмотром произошла у мольберта в атмосфере терапевтического диалога пациентки со своим лечащим врачом. Старшая сестра Е. обратилась к нам позже.
И. А. Родилась 2 апреля 1957 г. В детстве была впечатлительной, ранимой. После рождения сестры стала замкнутой. Ревновала к сестре, открыто соперничала с ней. Со слов матери, доводила дело до ссоры и потом выглядела удовлетворенной. Из перенесенных в детстве болезней – ветряная оспа, краснуха, частые ангины. В школу пошла в 7 лет. До 5 класса училась хорошо, любила язык и литературу. Общение давалось с трудом, медленно сходилась с одноклассниками, была угрюмой, замкнутой. К 14–15 годам эти качества усилились; переживала, что она некрасивая, всегда сравнивала себя с сестрой, завидовала ей, так как родители и окружающие говорили, что сестра красивее. В подростковом возрасте была худой, долговязой, слышала в свой адрес «цапля», а отец, человек грубый, обзывал ее «гермафродитом». Окружающие стали замечать, что она странная, не такая, как все. С 7 класса стала отставать в учебе. После окончания школы поступила в финансово-экономический техникум. На 3-м курсе чувствовала недомогание, слабость, головные боли. Лечилась в неврологическом стационаре с диагнозом: вегето-сосудистая дистония. Окончила техникум, работала в банке. Была добросовестной, аккуратной, исполнительной, имела хорошие отзывы. Но что-то, со слов матери, ее постоянно мучило, угнетало, считала себя неинтересной, поэтому была неразборчива в связях с мужчинами. В сексуальных отношениях с мужчинами присутствовали мазохистические мотивы. В 1984 г. появилось опасение, что она, наверное, заразилась СПИДом от партнера-иностранца. Несмотря на лабораторное обследование с отрицательным результатом, подозрение переросло в уверенность. Лечилась в неврологическом отделении, затем в психиатрической больнице, где был выставлен диагноз ипохондрической шизофрении. Принимала нейролептики, антидепрессанты, инсулино-шоковую терапию. Неоднократно поступала в психиатрическую больницу по собственной инициативе, настойчиво требуя вылечить ее от СПИДа. В 1986 г. присоединилась уверенность в том, что она сойдет с ума «как бабушка». Жаловалась, что у нее «болят все органы». Вместе с сестрой ходила к знахарям, целителям и экстрасенсам, лечилась уринотерапией. Состояние ухудшалось, И. стала «постоянной» посетительницей психиатрических больниц и кабинетов соматического профиля. Ее беспокоило также отсутствие друга, говорила об «идеальной любви, без которой нет смысла жить». И. обратилась к нам в июле 1995 г. При поступлении: в беседу вступает охотно, демонстративна, говорит тихим голосом, предъявляет жалобы ипохондрического характера: страх сойти с ума, заболеть какой-нибудь болезнью (называет список), а также на раздражительность, утомляемость, боли в различных частях тела, ломоту в суставах. Верит и одновременно не верит в эффективность лечения, фон настроения снижен. Считает свои идеи бредовыми, но сожалеет, что не справляется с ними. В первое время была необщительной, говорила только с лечащим врачом и только во время сеансов. Упорно повторяла содержание своих болезненных переживаний. Постепенно по мере продвижения маски к первым чертам сходства, стала уделять внимание портрету, сравнивать с собой, даже иногда критиковать скульптора. Все чаще можно было застать И. с зеркалом у портрета – она подолгу смотрела на него, «привязывалась» к нему. После I этапа настроение выровнялось, общалась без напряжения, налаживались отношения с матерью. Недосказанное в семье, непережитые обиды обсуждала в совместных (семейных) сеансах. Впервые призналась матери, что ревновала к младшей сестре и страдала от жестокости отца. Говорила, что в детстве недополучила от родителей душевного тепла и, возможно, поэтому заболела. Постепенно в разговоре с окружающими и лечащим врачом все меньше уделяла внимания болезни. К концу лечения сказала, что темы исчерпаны, «отданы портрету». Временами портилось настроение, становилась раздражительной. Анализируя свои болезненные ощущения, отмечала их насильственный характер. Сама заводила разговор на эту тему, будто ждала, чтобы ее переубедили. Такая манера стала способом привлечения внимания и выглядела почти как кокетство. «Ах, какая я страшная!» Однако демонстративные черты в поведении было также преодолены. Лечилась в июле 95 г. – I этап; II этап – в октябре 95 г.; III – в июле 96 г.
Истории болезни сестер обнаруживают и сходства и различия. Эти непохожие внешне, по характеру, темпераменту, вкусам женщины (одна теплая, общительная, другая угрюмая, сдержанная) заболели в одном и том подростковом возрасте, когда появились и долгие годы держались патологические знаки отчуждения и зеркальных переживаний негативного плана. Можно было бы говорить о доминировании старшей сестры в отношениях этой пары, но явлений индукции бредовых идей и других продуктивных и негативных расстройств мы не обнаружили. Психические нарушения у младшей сестры развивались в процессе разрушения экстравертивных мотивов, а у старшей – в усугублении интровертивной фиксированности.
Возвращаясь к зеркальным переживаниям И. А., отметим контрастность при описании одних и тех же черт собственной внешности. Цвет глаз – карий, зеленый, зрачки – расширились в связи с болезнью, зрачки сузились, уменьшились после заболевания; щеки – впалые, припухлые, отекшие. А большая часть фрагментов лица воспринимается негативно: зубы – страшные, подбородок – срезанный, уши – слишком большие, нос – длинный, форма головы – уродливая, кверху суживается. Противоречия и явные искажения наблюдались и при описании особенностей телосложения. Руки – длинные, руки изменились, были длинные, стали средние. Живот – круглый, висит как кисель, дряблый. Объект, вокруг которого концентрируются в основном негативные эмоции – глаза; они на протяжении трех лет «периодически уменьшались», «увеличивались» или «выпучивались», что одинаково негативно воспринималось пациенткой. Уменьшение связывала с поставленным самой себе диагнозом «шизофрения», а увеличение – с подозрением на заболевание эндокринного характера («зоб»). Пациентка никогда не избегала зеркала, напротив, была чрезвычайно привязана к нему.
Метод интервью «зеркальные переживания» представляет собой синтез открытого опросника и интервью. При необходимости опросник может быть предложен пациенту для самостоятельного заполнения, а также может быть использован диагностом в качестве основы для ведения клинического интервью. Это сближает данную методику с клиническим интервью – одной из разновидностей метода сбора данных в условиях личного речевого взаимодействия. В клиническом интервью пациент выступает не только в качестве объекта исследования, но и одновременно в качестве субъекта, сотрудничающего с психодиагностом. Возникающий в процессе общения эмоциональный контакт может обеспечить творческий характер участия пациента в поиске требуемой информации.
По критерию стандартизованности интервью «зеркальные переживания» относится к частично запрограммированному диалогу, предполагающему наличие заранее намеченных вопросов и свободную тактику ведения беседы, т. е. методика имеет полуструктурированный характер[62]. Наличие четкой схемы проведения опроса позволяет избежать отклонений от стоящей перед интервьюером диагностической задачи, а свободная тактика ведения беседы способствует снятию таких особенностей стандартизованного диагностического интервью, как подавление непосредственности ответов пациента, потеря эмоционального контакта с пациентом, активизация его защитных механизмов. Нами предпринята также попытка дать классификацию зафиксированных в практике зеркальных расстройств (см.: Таврический журнал психиатрии, 1998, № 2–3; Сборник по прикладной психологии).
Данная методика многомерна по своей структуре, т. е. направлена на оценку нескольких личностных характеристик и ориентирована на качественный анализ полученных данных. Диагностика при помощи интервью «зеркальные переживания» проводится перед началом лечения и сопровождает каждый его этап, фиксируя изменения, происходящие в восприятии пациентом своего зеркального образа. Часто опросник становится первым стимулом, побуждающим пациента к детальному рассмотрению своей внешности, к более реалистичной ее оценке. Обязательным условием проведения интервью является наличие зеркала, поэтому второе название методики – «интервью у зеркала». При первом проведении интервью, предваряющим начало лечения, психодиагностика проводится только в режиме диалога: психодиагност задает вопросы пациенту, расположившемуся перед зеркалом, и в письменной форме фиксирует его ответы и поведенческие реакции. При повторном интервьюировании, по окончании очередного этапа лечения пациент может самостоятельно ответить на вопросы интервью, используя для этих целей бланковую форму методики. Но такой прием менее информативен и применяется, как правило, в условиях дефицита времени.
При необходимости интервью предваряется сеансом боди-арт (см. раздел 4.2), также проводимым перед зеркалом, в процессе которого пациент выступает в роли модели, а иногда и в качестве соавтора в создании грима. Такая форма взаимодействия способствует возникновению у пациента ощущения безопасности и делает общение более свободным и непосредственным. При этом психодиагност выступает в качестве собеседника, а не как авторитетная фигура, анализирующая и оценивающая высказывания пациента. Доверительная беседа с пациентом во время проведения интервью у зеркала часто оказывает существенную помощь в сборе анамнестических данных. Особенности восприятия своего образа субъективно значимы и подробное рассмотрение различных аспектов внешности может послужить ключом к тонким переживаниям пациента, вызвать его на откровенный рассказ о жизненных событиях, психотравмирующих ситуациях. По эффективности интервью у зеркала не уступает психоаналитической беседе. Помимо сбора анамнестических данных, анализ поведения пациента во время проведения методики «зеркальные переживания» обеспечивает возможность установления степени коммуникабельности пациента, его реакций на мнение окружающих, особенностей развития его вербальной сферы и других факторов, важных для углубленного понимания личности пациента.
Интервью «зеркальные переживания» включает в себя 22 вопроса, которые можно условно разделить на следующие подгруппы:
• вопросы общего характера, настраивающие пациента на тему интервью;
• вопросы, направленные на выявление особенностей восприятия пациентом своего лица;
• вопросы, направленные на выявление особенностей восприятия пациентом своей фигуры;
• вопросы анамнестического характера, призванные выявить временные параметры и возможные причины возникновения зеркальных нарушений;
• вопросы уточняющего характера, направленные на выявление идеального представления пациента о своей внешности и его соответствия реальности.
При этом некоторые вопросы, направленные на описание лица и фигуры, содержат ряд подпунктов, ориентирующих пациента на детальное рассмотрение отдельных черт внешности.
Параллельно с подробным письменным описанием вербальных ответов пациента и его поведенческих реакций беседа фиксируется на диктофон, чтобы избежать потери лексических и интонационных нюансов, которые могут оказаться весьма важными при написании заключения о зеркальных переживаниях пациента.
Поскольку письменное заключение представляет собой конечный этап сбора, обобщения и интерпретации полученных диагностом данных, то его содержание строится не только на результатах интервью, но и на данных наблюдения за поведением пациента во время сеансов портретирования и бодиарттерапии, а также на информации, полученной из бесед с родственниками пациента. Единой стандартной формы для написания заключения не существует, его содержание и стиль могут меняться в зависимости от используемых данных, от того, первичным или повторным является обследование, а также от личностных особенностей пациента.
Первичный анализ зеркальных переживаний пациента проводится в пяти основных аспектах. Суть первого – коммуникативного – аспекта заключается в особенностях взаимоотношений пациента со своим зеркальным двойником; причем содержание этого аспекта определяется не столько характером вербальных ответов пациента, сколько его поведенческими проявлениями. Можно условно выделить три основные категории взаимоотношений с зеркальным двойником:
• категорический отказ смотреть на себя в зеркало;
Пациент И. Ф. отказывается смотреть в зеркало как во время работы над автопортретом, так и во время сеансов бодиарттерапии; даже согласившись отвечать на вопросы интервью, он отворачивается от зеркала, закрывает лицо руками, зажмуривает глаза.
• «функциональное» использование зеркала (по необходимости): при ответах на вопросы пациент смотрит в зеркало, затем снова оборачивается к интервьюеру; проходя мимо зеркала, бросает в него короткий взгляд, чтобы поправить одежду или прическу;
• фиксированность на «зеркале», постоянное рассматривание своего отражения;
Пациентка Н. Л., отвечая на вопросы интервью, почти неотрывно смотрится в зеркало, общается со своим зеркальным двойником и вербально, и визуально; при этом контакты с окружающими затруднены.
Второй аспект анализа зеркальных переживаний – аксиологический – заключается в выявлении характера оценочных суждений пациента относительного своего внешнего облика. Можно выделить два локуса оценки:
• экстернальный локус оценок: в высказываниях пациента преобладают ссылки на мнение окружающих;
Пациент В. К., описывая черты своего лица, часто ссылается на то, что говорили окружающие о его внешности: «Мне всегда вдалбливали, что я симпатичный, и я им доверял», «Я знаю, что у меня глаза карие, так как мне это сказали»
• интернальный локус: в оценке своих внешних данных пациент ориентируется на собственную точку зрения.
Степень адекватности описательно-оценочных характеристик составляет третий аспект анализа зеркальных переживаний:
• реалистичное описание и оценка;
• неадекватное описание в сочетании с завышенной оценкой внешности (игнорирование реальных недостатков; преувеличение достоинств);
• неадекватное описание в сочетании с заниженной оценкой внешности фиксация на воображаемых дефектах; общее отрицание.
В первом случае оценка внешности производится на реальном основании, а во втором и третьем случаях пациент оценивает свою внешность на основе своего представления о ней, независимо от реального положения.
Демонстрируемое пациентом отношение к своему зеркальному образу представляет собой четвертый аспект анализа зеркальных переживаний. Суть этого аспекта заключается в выявлении степени приятия (неприятия) пациентом своего облика в целом. Условно можно выделить следующие типы отношения:
• позитивное: пациент в целом принимает свою внешность такой, какая она есть; несмотря на недовольство отдельными чертами лица или фигуры, не считает необходимым производить какие-либо изменения в своей внешности;
Пациент С. Ц.: «Бывают моменты, когда что-то не нравится, но в целом не хотелось бы изменить ничего».
• негативное: пациент демонстрирует отрицательное отношение как к отдельным чертам, так и к внешности в целом; выражает желание изменить лицо и фигуру, в крайних проявлениях (при наличии дисморфофобического синдрома) с помощью операции.
Пациентка Н. С. в ответах на вопросы интервью использует в основном негативные оценочные характеристики типа «плохие», «ужасные», «уродские» и т. д., утверждая, что все окружающие более привлекательны, чем она: «Мне вообще ничего не нравится… шея не нравится… и тело не нравится… вообще все, и лицо, и фигуру надо полностью переменить, все вообще».
• амбивалентное: отношение пациента к своей внешности может меняться от принятия до категорического отрицания; при этом пациент часто не в состоянии определить, чем вызвано то или иное отношение, но, как правило, оно связано с внутренним состоянием человека в данный конкретный момент.
Пациентка О. Ч.: «Периодически становится тошно смотреть на себя, потом проходит, иногда само собой, а иногда меняю что-нибудь».
• индифферентное: пациент дает, как правило, краткое, часто формальное описание, не сопровождающееся оценочными характеристиками; в ответах преобладают определения типа «среднее», «нормальное», «обычное»; эмоциональные реакции во время проведения интервью выражены незначительно.
Данный аспект тесно связан с оценочными характеристиками. Так, например, позитивное в целом отношение к внешности может сочетаться с заниженной оценкой отдельных черт.
И, наконец, пятый аспект анализа зеркальных переживаний – описание пациентом особенностей своей внешности – включает в себя ряд полярных тенденций, характеризующих те или иные зеркальные нарушения. Так, описание внешности может быть:
• целостным или дискретным (сопровождающимся отсутствием целостного восприятия своей внешности);
• дифференцированным или недифференцированным (когда пациент не способен дать детального описания отдельных черт лица и фигуры);
• подробным, детализированным или кратким, формальным.
Описывая результаты, полученные в процессе проведения интервью «зеркальные переживания», мы ориентируемся на следующую схему:
Поведение пациента во время проведения опроса:
эмоциональная реакция на ситуацию обследования, мимика и пантомимика, специфика речи (лексические особенности, тембр, скорость речи, интонации).
Характер ответов:
подробное, детальное или краткое, формальное описание;
преобладание только описания отдельных черт внешности или описательно-оценочных характеристик.
Фиксация на деталях внешнего облика, выявление основного объекта позитивных или негативных переживаний (особо отмечается эмоциональная реакция при описании тех или иных черт внешности).
Позитивное или негативное отношение к зеркальному двойнику (отмечаются не только высказывания пациента, но и его реакция на свое зеркальное отражение, демонстрируемая во время проведения интервью).
Периоды и события, связанные с изменением в восприятии своего облика пациентом.
Адекватность, реалистичность описания (соответствие или несоответствие описания действительности).
Преобладание ответов пациента на основании собственного мнения или ссылка на мнение окружающих.
Стиль описания (сухая констатация фактов, юмористическая окраска и т. д.)
Соответствие описания пациентом своей внешности с его представлением об идеальном внешнем облике.
Данная схема носит условный характер и может (должна) варьировать в зависимости от каждого конкретного случая.
Метод интервью «зеркальные переживания» предваряет портретную психотерапию, как клиническая беседа является обязательным условием начала соматотерапии. Этот метод не призван конкурировать с патопсихологическими тестами, хотя и может вызвать интерес у патопсихологов. Не является существенным и обнаружение зеркальных нарушений у пациентов, для нас это непреложный факт или истина, не нуждающаяся в доказательствах. Здесь, как и всюду, нас интересует процесс диалогического контакта с душевнобольным. Рассмотренный метод – это попытка усовершенствования техники клинической беседы, перевода ее из дуального контекста (врач – пациент) в систему отношений трех (врач – пациент – его зеркальный образ). Поэтому метод интервью «зеркальные нарушения» – это не только начало лечения, но и начало разрушения существующей во всех психотерапевтических школах дуальной иерархической структуры. Как увидим в следующих главах, психотерапия портретным методом возможна лишь с преодолением авторитарного образа лечащего врача.
В заключение хотелось бы отметить, что смена парадигм, о которой пишут некоторые клиницисты, уже началась в психологии, педагогике, лингвистике. Было бы уместно, на наш взгляд, ученым-психиатрам разработать способы форсированного перехода клинической психиатрии в систему представлений о диалогической природе мышления. Из классиков, наряду с Лаканом[63], ближе всего к ней был Людвиг Бинсвангер (Бинсвангер, 1992б). «В 1934 г., в одном из первых писем С. Франку – свидетельствует один из его биографов О. В. Никифоров, – Бинсвангер писал, что сейчас он занят подготовкой второго издания своей книги… главным отличием которой… будет осуществление в ней шага от „Я“ (то есть школьного анализа замкнутого на себе „психического“ как предмета психологии) к „Мы“ (то есть способа бытия-в-мире, что является собственно человеческим, в коем коренится возможность человеческого „Я“)» (Никифоров). У нас есть уникальный опыт параллельного функционирования в двух рассмотренных системах координат, даже в практике лечения одного и того же больного была возможность оценить эффективность конечных результатов. Мы убеждены, что клиническая психиатрия рано или поздно совершит этот переход: парадигма процессуального мышления должна уступить место парадигме диалогического мышления. «Любой объект знания (в том числе человек, – писал Бахтин, – может быть воспринят и познан как вещь. Но субъект как таковой не может восприниматься и изучаться как вещь, ибо как субъект он не может, оставаясь субъектом, стать безгласным, следовательно, познание его может быть только диалогическим» (Бахтин, 1979, с.363).
Концепцию одиночества мы изложили выше. Теперь перейдем к описанию терапии, в которой нам удалось соединить научный метод и искусство, расширить возможности лечебного воздействия на психическую патологию. Наши методы психотерапии основаны на древнем способе познания человека – искусстве портрета. Портрет, как и используемые нами автопортрет и боди-арт, возникает в тесном взаимодействии терапевта с пациентом.
Глава 3. Терапевтический портрет. Методика и техника
Метод портретной психотерапии, который будет здесь обсуждаться, предопределил формирование целого комплекса способов и приемов лечения душевнобольных[64]. В структуре новой терапии соединились диагностические и этические принципы клинической психиатрии, а также механизмы реализации художественного творчества. Клинический анализ и клиническая беседа (так называемая медицинская психотерапия) были перемещены в атмосферу взаимоотношений художника и модели.
Идеи К. Ясперса о необходимости «вживания», «вчувствования» в суть переживаний больного, непосредственного созерцания его «души» приобретают для нас реальное содержание (Каннабих, с. 472). Придерживаясь клинических позиций, мы получили «инструмент» эмпатии и сострадания. Терапевтический контакт с больным в этом случае предметный; предметом служит становящееся во времени произведение искусства, цель которого состоит в материализации зеркального облика пациента. Работу над скульптурным портретом проводят дипломированные врачи, свободно пользующиеся навыками изобразительного искусства.
Такие явления двойного профессионализма изучает так называемая кентавристика – наука о сочетаемости традиционно не сочетаемых областей знания. Известный исследователь этой проблемы науковед Д. С. Данин в своих лекциях (Данин, 1997) выделяет «двойное подданство» в искусстве или в науке, называя людей этой категории квази-кентаврами. Далее он обсуждает группу творческих лиц, «чье двойное подданство проявлялось не одновременно», а в смене одного рода деятельности другим. Причисляя портретную терапию к творчеству «истинных кентавров», он считает, что нам удалось осуществить слияние науки и искусства и создать модус существования на границе этих областей знаний[65]. Другой особенностью наших техник является то, что они применяются в плоскости разработанной нами концепции патологического одиночества. Содержание этой концепции подробно излагалось в ряде публикаций (Назлоян, 1994, 2000). Таким образом, наш метод терапии, характер отношений с больным и его опекунами, реабилитационные мероприятия возникли на пути преодоления аутистических нарушений. Приемы маскотерапии взаимозаменяемы и могут сочетаться в психотерапевтической практике. Главным остается метод скульптурной психотерапии, который сначала проводился в поддержку лекарственной терапии, как некий альтернативный способ ведения клинической беседы. Однако уже на первых сеансах были зафиксированы во многом неожиданные психотерапевтические явления, которые стали бурно развиваться в нашей практической деятельности. Со временем были выработаны новые способы лечения душевнобольных и обучения стажеров этой достаточно сложной технике. Проведем некоторые параллели с общепринятыми принципами психотерапии[66]. По нашему глубокому убеждению, клиническая (медицинская) психотерапия должна искать инструменты эмпатического сближения личности врача и пациента до полного слияния мотивов их переживаний за счет изменения структуры и пространства психотерапии. На это неоднократно указывали психопатологи довоенной эпохи.
3.1. Пространство и время психотерапевтического сеанса. Стилистика лечебного портрета
Большинство психотерапевтических техник традиционно связано с лечением неврозов. Невротик, в отличие от психотика, способен рассматривать свои патологические переживания в одной плоскости с терапевтом, симптомы его болезни репрезентативны. Значительное место отводится сумме конкретных переживаний, или болезненных фрагментов. Невротик как личность является полноценным соучастником лечебного процесса, чего нельзя сказать о психотике. Однако клиницисты, как и психотерапевты, идут тем же путем – выискивают, шифруют, упорядочивают симптомы психического заболевания. Заслуга представителей психодинамического, аналитического, феноменологического и других направлений заключается в постановке проблемы личности в психиатрии. Эти фундаментальные направления имеют, на наш взгляд, лишь один недостаток: они не опираются на глобальный психопатологический феномен, в котором сконцентрировано множество разрозненных симптомов психического заболевания (cм.: Хьелл, 1997).
Психотические и невротические расстройства, как отмечалось, обычно заносятся в списки, имеющие определенную структуру (комплексы). В таком реестре есть разделы, связанные с биографией пациента, с его жалобами, с протоколом беседы, с результатами параклинических обследований. А это значит, что диагностическая мысль психиатров и психотерапевтов направлена от частного к общему. В одном случае она завершается в классификационной нише (международная классификация болезней), в другом сводится к той или иной системе интерпретации психопатологических явлений. Классический пример – принцип определения психозов по исходу патологического состояния и психоаналитическая концепция дифференцированного бессознательного.
Портретная же терапия направлена от общего к частному, оставляя в поле зрения врача только те клинические симптомы, которые позволяют следить за динамикой текущего состояния пациента. А лечение болезни одиночества, единственного из известных нам патологических признаков, касающихся психического и телесного «я», ставит новую психотерапию в особые условия. Пока отметим, что, по нашему глубокому убеждению, личностные подходы к диагностике и лечению психических расстройств могут существовать только на границе искусства и науки, арт– и психотерапии. Только благодаря такому слиянию удается фиксировать универсальные, конкретные и индивидуальные свойства человека.
Камнем преткновения для традиционных техник психотерапии оказывается сопротивление психотиков («недоступность», «сторожевой пункт»), которое в портретной психотерапии успешно преодолевается. Причем преодоление сопротивления в классических школах преследует цель выявить скрытую информацию, патологические знаки, нуждающиеся в расшифровке и оказании глубокого лекарственного или словесного воздействия. Для нас сам факт преодоления сопротивления гораздо важнее, возникновение диалога с больным является самоцелью и порой исчерпывает лечебный процесс. Вот конкретный пример.
Р. Д., 1973 г.р., сын сельского учителя. Высокий, нескладный, с длинными конечностями и небольшой головой молодой человек. В седьмом классе стал изредка замыкаться. Тогда же обнаружилось, что забывал самые обычные предметы, перестал воспринимать новое. Возникла «жалость к себе», однажды плакал над своей судьбой. В нем возникла и быстро укоренилась идея жесткой детерминации человеческого существования. «Если все подчинено законам природы, то и само существование не имеет смысла…». Обращался к учительнице химии с просьбой открыть ему формулу синильной кислоты, тщательно скрывая от окружающих доминирующую суицидальную тенденцию – мгновенно и безболезненно умереть. Однажды сказал матери: «пропали эмоции». Родители не обращались к врачам, пока не стали свидетелями серьезного возбуждения. Помимо криков и беспорядочного агрессивного поведения, матери запомнились учащенное дыхание, «вытаращенные» глаза, общий тремор. Затем он внезапно почувствовал полный упадок сил, странное явление «переливов в голове». Стал избегать общения, перестал посещать школу. Его уже не покидало ощущение того, что он сходит с ума, и перед лицом надвигающегося безумия он создавал для себя множество причудливых ритуалов, призванных защитить остатки здравомыслия. Вскоре Р. был госпитализирован в психиатрическую больницу г. Полтавы с диагнозом «шизофрения параноидная, неблагоприятный вариант». Получал нейролептики, инсулинокоматозную терапию (более 20 шоков). Временное улучшение наступило внезапно и длилось весь июль, но в августе к уже имеющимся расстройствам добавились слуховые и обонятельные галлюцинации, а также идеи электрического и магнитного воздействия. «Защищался» сложной системой металлических экранов и заземляющих устройств, запрещал включать телевизор, потребовал убрать холодильник и везде, где было возможно, выключал свет. Из своей комнаты унес зеркало, другие зеркала в доме завесил тряпками. Родные обратились в Институт маскотерапии. На первом приеме бросались в глаза зачесанные на лоб и виски длинные прямые волосы пациента; голова, втянутая в плечи, с наклоном вперед; руки в карманах; явное нежелание приблизиться на расстояние, удобное для беседы. За долгий год Р. Д. не сказал ни одного слова; он не здоровался и не прощался, садился неизменно на расстоянии, совершенно неудобном для позирования, иногда за моей спиной; выйдя на улицу, долго стоял с вытянутой к небу рукой, «разряжаясь». После каждого этапа лепки, длящегося месяц, мы расставались на два-три месяца: работа над портретом требовала от наших сотрудников больших усилий. Тем не менее, скрытые от постороннего взгляда перемены были: мать сообщала, что дома Р. стал меньше терроризировать родных, сократилось количество «экранов», перестал прицеплять свою ногу на ночь к паровому отоплению, не запрещал включать электрические приборы, отказался от суровой и несуразной диеты. Финал наступил на четвертом этапе лечения, когда при завершении портрета Р. Д. сделал активные попытки вступить в разговор с лечащим врачом. Сеанс был прерван и возобновлен на следующий день. Перед началом сеанса его пригласили вместе с матерью в кабинет врача, куда он прежде из-за «экранов» отказывался входить. Р. был сильно взволнован: взгляд напряжен, лицо и шея покрыты красными пятнами, на лбу и у рта выступил пот. Он сел на диван и подробно – голос поминутно срывался – рассказал свою историю, не упустив обстоятельства, которые скрывал даже от матери. После завершения курса лечения Р. Д. экстерном сдал на «отлично» выпускные экзамены, получил аттестат зрелости, однако продолжать учебу не стал, решил в течение года работать.
Другая отличительная черта традиционных подходов заключается в том, что они недостаточно радикальны. В этой терапии присутствует начало, продвижение, но часто нет окончания. Представители некоторых направлений психоанализа и медицинской психотерапии даже допускают возможность неограниченного количества встреч врача и пациента. Это происходит, как будет показано ниже, за счет жесткой привязанности лечебных планов к измеряемому, часовому времени.
Когда закончится лечение, когда оборвется зависимость от врача? Этот невысказанный вопрос родственников скрыто присутствует на каждом врачебном приеме, потому что временное облегчение состояния больного, снижение амплитуды патологического напряжения не решает проблем его социализации, как это происходит в соматической медицине. Получается, что реальным ограничением терапии психозов является жизнь пациента, жизнь врача, форс-мажорные обстоятельства или эксклюзивное избавление от недуга. Иными словами – лечение пущено на самотек и во многом зависит от случая. При этом множество субъективных впечатлений врача, играющих решающую роль в построении психотерапевтического процесса, невозможно ни передать, ни завещать коллегам.
Обычно на вопрос опекунов о сроках лечения мы отвечаем: когда закончится портрет. Они принимают наш критерий как условие начала работы и как условие договора с лечебным учреждением. Часть из них терпеливо ждет окончания портрета, другая деятельно помогает его продвижению. Мы же не расстаемся с мыслью, что портрет может состояться в любой момент, ничего не откладываем, и работаем «изо всех сил».
Таким образом, портретная терапия имеет четко обозначенные начало, этапы и завершение: «Начало работы над портретом и конец – это особым образом выделенные точки, которые означают вход в некое состояние (время, пространство) и выход из него в обновленном состоянии» (Цивьян, с. 9). Это диктуется особенностями работы над скульптурным портретом, который рано или поздно должен эстетически и этически завершиться. Идея окончания, заложенная в психотерапевтическом сеансе, присутствует во всем ходе лечения, создавая позитивные ожидания.
Выделение здорового и больного начал (давно уже забытое в клинической психиатрии и находящееся «по ту сторону» определения диагноза) – главный принцип лечения рассматриваемым методом. Портрет, как считает семиотик Т. В. Цивьян (устное сообщение), – место, куда уходит болезнь, что одинаково воспринимается и врачом и пациентом. При этом последний не знает, куда уйдет болезнь, а врачу это известно. Если портрет является местом «изгнания» недуга, то возникает необходимость осознать идею пути, которая воплощается в изготовлении трехмерной скульптуры (ср. архаические представления: болезнь уходит в море, камень, дерево, в неестественное существо и т. п.)[67].
Однако портрет – не только место, куда уходит болезнь. В человеческом плане место рядом с портретом есть социальная ниша, которую душевнобольной в реальной жизни уже утратил или еще не нашел. «Я был не тенью, – говорил А. Ш., – а тенью теней». Он обратился к нам с просьбой вернуть ему лицо, т. е. потерянный статус архитектора, свою роль в семье, в обществе. Другие пациенты, заболевшие рано, пытаются сформировать свою личность, исходя из умозрительных представлений: сначала «буду учиться», «займусь спортом», «брошу курить»[68].
Душевнобольной находит свое место хотя бы потому, что с него (с оригинала) снимают копию[69]. Нас не перестает удивлять, с каким достоинством пациент выходит из группы других больных, подходит и садится на предназначенное ему место у мольберта. Так может вести себя человек, имеющий достаточно прочные социальные связи. Врач как художник считает, что лицо больного в этот момент становится интересным и значительным, а встречу расценивает как важное событие в своей жизни. В то же время процесс создания портрета это единственная реальность в ирреальном для больного окружающем мире. Идеи немецкого романтизма в отношении искусства как хранилища бытия, которое дает человеку «защищенность» и «надежность», неожиданно получают здесь конкретный смысл. Больной вовлекается в прочную систему отношений, обеспечивающей его духовное существование во внешней среде. Попытаемся это показать, используя временные и пространственные характеристики психотерапевтического сеанса.
Время психотерапевтического сеанса. В психотерапии, как, впрочем, и в лекарственной терапии, происходит учет, а также подспудная символизация и ритуализация часового, измеряемого времени. Режим приема лекарств, сна и пробуждения, обходов, дежурств персонала, свиданий с родственниками и многие другие действия, привязанные к формальному времени, представляются нам недостаточно уместными по отношению к потерявшему внешние связи пациенту[70]. «Для меня время остановилось, – говорил А. Ш., – я, как сломанные часы». Но если при неврозе такое в худшем случае не излечивается, то при психозе ведет к прямым врачебным ошибкам.
Строгий регламент в стационаре приводит к излишней рационализации терапевтического процесса, к мысленному «препарированию» чужой души, создает атмосферу казармы или тюремной камеры. Мы полагаем, здесь можно усмотреть также элементы скрытого насилия над больными. Нас беспокоят разнообразные формы временного «террора» пациентов и их родственников. Определенный порядок, видимо, необходим, но даже прерывание беседы на приеме кажется во многом нелепым. А трехкратное назначение лекарств при разной длительности полураспада нейролептиков в организме граничит с бессмыслицей.
«Выскальзывание» из-под пресса измеряемого времени ярко проявляется в стационаре. Терроризируемые часовым временем больные отказываются от приема лекарств, пищи, часто обращаются с просьбой о выписке, замышляют побеги, у них отмечены суицидальные мотивы в поведении, кроме того, наблюдаются избыточность, манерность, чудачества. А в психотерапевтическом кабинете они сопротивляются попыткам врача внушить целесообразные формулы или анализировать их сокровенные переживания. Эти проблемы мы пытаемся решать за счет более мягкого, компромиссного временного контроля в практике ведения клинической беседы, назначений лекарств, проведения психотерапевтических сеансов[71].
Необоснованным и нецелесообразным представляется нам также временное ограничение психотерапевтических сеансов, проводимое в разных школах психоанализа. А жесткое по времени назначение начала сеанса выглядит надуманным, искусственным[72]. Учитывая это, мы уже много лет подыскиваем оптимальное для каждого больного время встречи. Мы говорим нашим пациентам, чтобы они приходили, к примеру, во второй половине дня или когда им удобно, избавляя их от пресса времени. У нас создается некий коридор времени и для врачей и для пациентов. Для истинного преодоления отрицательных последствий регламента мы регулярно проводим ночные или даже суточные сеансы, на которых, при отсутствии сна и без внешних раздражителей, реальная продолжительность контакта создает чувство безграничного общения, пройденной вместе с больным и опекунами жизни.
Портретное время. Портретный метод привносит в терапевтическую среду известное в художественных мастерских игнорирование измеряемого минутами и часами времени. У нас, как и в мастерской художника, время сеансов не ограничено, и появляется иллюзия бесконечности в общении, соприкосновения с вечностью. Больного не принуждают делать что-либо по расписанию, согласно распорядку[73]. Дискретность есть и здесь, она создается сменой одного сеанса другим. К этой важной для нас проблеме мы еще будем возвращаться. Если же смотреть на часы, то равноценные по лечебному эффекту сеансы могут длиться от нескольких минут до несколько часов. Здесь, как и в любой творческой мастерской, проявляется времеобразующая функция создаваемого портрета.
Портретное время, отличаясь от часового количественно (разметка интервалов), качеством протекания не отличается, т. е. не является архаичным. Оно имеет все известные свойства времени: направленность, необратимость, амбивалентность. Существуют интервалы – от сеанса к сеансу или от этапа к этапу, причем эти интервалы улавливаются интуитивно («интуиция времени» – Gygeritch). У врача-портретиста должна быть интуиция направленности времени. Портретное время, как отмечалось, вытекает из конвенционального (часового) времени – начало портрета и возвращается туда же – конец портрета. Промежуток между началом и завершением исчисляется днями, месяцами, годами, а собственно процесс лечения – количеством сеансов, этапов. Другими словами, развивающийся дискретно портрет – это «часы», по которым врач и пациент определяют, что сеанс закончен или лечение завершено.
Амбивалентность портретного времени в нашем случае обусловлена двойственной тенденцией портрета. Очевидно, что он обращен в будущее, к завершению работы, это не требует доказательств. Но в то же время он направлен и в прошлое. Образ пациента как бы скрыт в яйцеобразной форме, он там присутствует изначально. Характерно, что все без исключения пациенты идентифицируют себя с этой первоначальной формой. Они олицетворяют еще далекую от сходства пластическую массу, называя ее «я». Больной в поисках портрета говорит «Ну, где я?», или во время работы над портретом – «Не колите меня». В своем анализе Г. Ельшевская пишет: «Между тем портреты, насколько показывает опыт, дороги персонажам – и даже не как произведения искусства („вот как изобразил меня художник“), – но как таинственное воплощение сущности („это я“)» (Ельшевская 1994, с. 87).
Однажды после окончания работы над скульптурой портрет нашей пациентки С. М. написал талантливый художник-портретист. С. рисунок так понравился, что она стала просить художника подарить или продать его. Самолюбие врача было задето, и он спросил ее о своей работе. Пациентка удивилась, даже немного растерялась и ответила: «Какое здесь может быть сравнение с нашим портретом? То, что мы сделали из пластилина, – это же я».
Художник-портретист накладывает собственную идею на образ модели; движимый пафосом этой идеи, он создает портрет таким, каким представляет в творческом воображении. У него есть определенная эстетическая концепция, свой стиль. Он даже примыкает к единомышленникам – группе, цеху со своей философией и правилами, порой строгими. Конечный результат для него важнее всего. Поэтому он целиком устремлен в будущее. Вспомним, как важно было Леонардо или Дюреру найти хороший лак перед началом работы, даже когда эстетический замысел не был сформирован. Как художники говорят, портрет должен «пожить», прежде чем будет выглядеть во всей полноте. А когда у Пикассо спросили о причине портретного несходства одной из работ, он ответил, что модель станет такой через годы. Живописец или скульптор реализуют свое творчество, не теряя времени на душевные переживания модели, отторгая и материализуя данный им образ. Их беспокоят лишь эстетические и технические проблемы.
Напротив, безыскусность, полное отсутствие эстетического замысла – основа психотерапевтического портрета. Именно это позволяет врачу детально изучать переживания пациента; для него важнее процесс творчества, чем его итог. Некоторые портреты, выполнив терапевтическую функцию, раньше времени перестают интересовать врача как скульптора. А многие другие портреты так и не переводятся в твердый материал. Для врача-скульптора не менее важны терапевтическая концепция, прогнозы, описание, документирование лечебного процесса – вербальное (дневники) и визуальное (фотографии, видео). Потому он работает в мягком материале, это материал «для профессиональной скульптуры совершенно невозможный, – пластилин; кстати, невозможный не только в силу недолговечности, но и главным образом из-за того, что не обладает собственной выразительностью, лишен экспрессивных возможностей, – а здесь в них нет нужды» (Ельшевская 1994, с.87).
Реализация портретного времени. Врач-скульптор восстанавливает утраченного пациентом зеркального двойника путем снятия лишнего, как будто этот образ находится внутри пластилинового яйца; его работа часто похожа на реконструкцию. В каком-то смысле лечебный портрет историчен, – ведь врач не просто дает здоровье, но возвращает его. Следовательно, портретное время направлено и в будущее и в прошлое. Благодаря ритмичным движениям между прошлым и будущим, путем свертывания и развертывания пластического субстрата, соединения и разъединения прошлого и будущего в настоящем, снятия одного слоя за другим рождается портретное время, осуществляется портретная психотерапия, возникает течение времени. «Когда человек перестает любить, – говорил А. Ш., – он окукливается, а когда приходит любовь, осознается связь, он идет к красоте, ощущает вкус времени».
Благодаря строгой направленности портретного времени врачу приходится следовать за произвольно меняющимися выражениями лица пациента, повторять их в мягком материале, отражая истинные и иллюзорные изменения размеров и формы, пока будет достигнута стабилизация образа и состояния пациента в финале. Врач вначале двигается рядом с больным, затем подходит все ближе к нему, наконец, как бы сливается с ним, замещая его, опираясь на то здоровое начало, которое в нем живо. Прохождение этого пути и есть лечение.
Динамику текущего состояния модели скульптор как врач должен описать в клинических терминах. В этом отношении его результат суммарный, тогда как у художника результат один, пусть даже многократно конкретизированный. Более того, нередко снабженная вторичными признаками образа (шляпа, веер и т. п.), посаженная в определенной позе модель напрягается, чтобы не отклониться от заданной художником цели. Здесь присутствует фактор перевоплощения. А в терапевтическом портрете – фактор самоидентификации. Поэтому мы расцениваем работу художника как творческий акт, а врача – как творческий процесс, состоящий из множества отрезков, мгновений творчества. Больные часто говорят друг другу: «пойду лепиться», «ты уже лепилась?», «полепите меня, что-то голова болит» – так не выражаются в мастерской художника.
Благодаря собственной дискретности, возникающей в замкнутом пространстве (врач, больной, портрет), портретная психотерапия получает шанс на лечение психоза, точно так же как художник имеет шанс на создание произведения искусства. Это пространство открывается лишь один раз, когда законченный портрет переходит из персональной сферы в социальную – признается готовым, похожим на оригинал. Время портрета, вливаясь в часовое, приобретает свойство ретроспекции, а сам больной в силу своей адекватности и внутренней идентичности может претендовать на место в обществе. О том, насколько труден и знаменателен этот прорыв «затаенного дыхания» для наших пациентов и врачей, мы опишем в главе о катарсисе[74].
Пространство психотерапии, интимных откровений должно, как известно, обеспечивать сохранение тайны между врачом и пациентом. Это условие легко, почти автоматически, соблюдается при лечении неврозов: пациентам с сохранной критикой достаточно знать, что дверь в кабинет с кушеткой или в гипнотарий закрыта, а врач дипломирован, т. е. дал слово о неразглашении интимной информации. Однако в работе с психотиками возникает непреодолимая проблема. Даже «за семью замками» пациенту нетрудно предположить встроенный микрофон или видеокамеру, телепатическую связь подозрительного на вид доктора с инопланетянами. А больные, которым якобы «имплантировали» датчик прямо в мозг, ни при каких обстоятельствах не будут вести откровенный диалог с врачом.
Нашим сотрудникам в кабинетной обстановке не удавалось вызвать истинное доверие, нужную концентрацию взаимных откровений с пациентом. Больные общаются либо предельно формально, либо заготовленными и обкатанными фразами. Но это неизменно удается сделать, даже стажерам, во время работы над портретом. Причин много, здесь охарактеризуем лишь одну, внешнюю.
Творческая мастерская. Работа над портретом проводится в зале-мастерской. Две стены во всю длину увешаны зеркалами без рам, поэтому в каждой из зеркальных стен отражаются остальные стены зала. Многочисленными отражениями мы пытались создать в помещении иллюзию открытого пространства. Одна из зеркальных стен отражает расположенные на полках противоположной стены портреты пациентов, находящиеся в работе; другая – два окна с видом на улицу. Таким образом, глядя на одну стену, пациент видит себя в окружении скульптурных масок и лиц; глядя на другую – снова себя на фоне уличного пейзажа. Непременный атрибут мастерской – мольберт с установленным на нем скульптурным портретом.
Мировое яйцо. После детального обследования пациента и проведения интервью «зеркальные переживания» начинается работа над скульптурным портретом. Для этих целей из художественного пластилина на доске заранее изготавливается полукруглая масса и устанавливается на мольберт[75]. Такая форма архетипична, она символизирует акт рождения, возрождения, «мировое яйцо». Вот что пишет один из очевидцев психотерапевтического сеанса о своих впечатлениях.
У стены стоял пациент, обращенный к скульптору-врачу в профиль. В течение часа Назлоян, почти не глядя на него и почти с ним не разговаривая, делал пластическую заготовку для его портрета: это состояло в том, что он доводил до идеальной гладкости овальную заготовку, прикрепленную к стене. Как ни странно, эти неторопливые и нейтральные действия нагнетали какое-то напряжение, как будто аккумулировалась некая энергия, скрытая в этом объеме, притом, что непонятна была роль пациента, непонятны медлительные движения врача, как бы лакировавшего и без того безупречно ровную поверхностность. И в момент кульминации этого неосязаемого напряжения доктор Назлоян, неожиданно резко прервав сеанс, сказав: «Вот из этого и начнет выходить все». И вдруг стало ясно, что представляет это и почему оно вызывает такое внутреннее волнение. Это представляло собой идеальное по форме яйцо, то мировое яйцо, которое плавало в волнах мирового океана и которое дало жизнь миру. Это – скульптурное воплощение того начала, тех истоков, которое сохраняет человеку его пренатальная память. Это начало, из которого доктор Назлоян извлекает лик и личность человека, чтобы возвратить его в истинную и предназначенную ему жизнь (Цивьян, с. 11).
Однако для нас не менее важно то обстоятельство, что яйцо, быть может, самая обособленная (аутичная) форма жизни. Иными словами, врач-скульптор пластически определяет проблему одиночества, он может много часов работать над этой формой, кумулируя ожидание пациента, его надежды и готовя себя к преодолению этого недуга, к прорыву в будущее. Происходит фиксация задержанной истины – образа человека в глине и наяву (Gygeritch).
Обычно пациент садится рядом с мольбертом – то справа, то слева от врача. Формируется триада: пациент – его двойник – врач. В этой троичной структуре, возникшей некогда случайно, коренится принципиальное отличие нашей психотерапии. Именно она позволяет сразу преодолеть тоталитарный образ лечащего врача, о чем мы будем говорить подробно в другом месте.
Структура портретного пространства. Пространство вокруг этой изменяющейся во времени триады, как отмечалось, «открытое» – открыты двери, присутствуют свои, чужие и случайные люди, действия которых ничем не ограничены. Это своеобразная (с множеством обращенных друг на друга зеркал) модель мира, которая коренным образом отличает наше помещение от мастерской художника и от кабинета психотерапевта. Однако в этом пространстве есть еще одно, меняющее размеры, плотно отгороженное от окружающих непроницаемой стеной. Об этом косвенно свидетельствует и описанное выше качество протекания времени. По всем признакам портретное пространство, как и портретное время, персональное, ввиду взаимной идентификации больного и врача посредством портрета.
Образование структуры этого пространства можно изложить в следующей последовательности. Представим себе мастерскую художника, где он работает один на один со своей моделью. Тогда вся мастерская является интимным полем их совместного творчества. Пришел посетитель – пространство сжалось, работа продолжается. «Незваный» гость подходит ближе к мольберту, пространство сжимается до критического уровня, но работу не прекращают. Затем гость пытается переступить некую гипотетическую, интуитивно зримую моделью и художником черту, художник прекращает работу, натурщик перестает позировать, невидимая стена творческого уединения разрушается, возникает атмосфера светской беседы. Это как в метро, когда любознательный сосед заглядывает в вашу газету.
Один из признаков прозрачной, пластичной и, главное, непроницаемой стены, отгораживающей творчество от внешнего мира, является защита границ этого мира и художником и моделью[76]. Наши больные порой проявляют тяжелую реакцию, когда их опекуны подходят слишком близко к портрету во время сеанса. Но так ведет себя и портретирующий врач, если кто-то из сотрудников, например, приносит ему телефон. Обычно возникает феномен двойного диалога – светского с окружающими и тайного духовного с врачом-психотерапевтом. Вот почему на сеансах психотерапии могут присутствовать другие люди, даже посторонние.
Пространство и время. Есть много свидетельств о сохранении конфиденциальности в этих условиях. Во-первых, больные при фактическом присутствии посторонних говорят о том, что скрывали многие годы, другие сообщают компрометирующие себя и своих близких сведения. При других обстоятельствах подобные признания могли бы привести к тяжелым последствиям, вплоть до самоубийства. Во-вторых, сообщая столь рискованные вещи, они не меняются в лице, не меняют тона обычной беседы. В-третьих, за многие годы, выслушав сотни признаний, мы не замечали реакции на них окружающих. Например, больная Маргарита К. подробно рассказывала о своей страсти к женщинам, о том, как она намечала убийство и съедение мужчин, как для получения опыта совершила такое с котом и собакой. Отношение к ней среди присутствующих никак не изменилось, они, может быть, слышали, но очевидно не распознали сказанное. А больной Александр С., не приглушая голоса, спрашивал: «когда вылечите мою импотенцию?» и далее описывал характер сексуальных отношений с женой. За нашей спиной делал съемку оператор, а жена пациента сидела в кресле на расстоянии протянутой руки, вязала и общалась с другими опекунами. Мы не заметили и тени смущения на ее лице и в тоне. Таким образом, есть основания утверждать, что больной с врачом находятся в другой системе пространственно-временных координат.
Лечебная работа полностью совпадает по времени с портретным творчеством. Вне работы над портретом концептуальная психотерапия не проводится, а динамика текущего состояния прослеживается врачом в непосредственном контакте с пациентом. В лечебном портретировании авторитарность врача как скульптора, мастера тоже преодолена. Пациент специально не позирует, может на время покинуть помещение, или же подходить к присутствующим, вступать с ними в контакт. Он также может трогать и исправлять свою скульптуру иногда в совместном порыве, работа проводится «в четыре руки»; бывает и когда два врача лепят одновременно, сопоставляя свои версии портрета.
Время работы над портретом, как отмечалось, имеет собственную протяженность и дискретность, не соответствующие измеряемому, часовому. Больная С. М., например, встретившись с нами через тринадцать лет, сказала, что это были бурные годы, хотя мы работали всего 24 часа и больше не встречались. Больной В. С. был совершенно уверен, что за полтора года лечебной работы он «вырос» с десятилетнего мальчика до тридцатилетнего мужчины (паспортный возраст пациента). Подобных примеров неадекватного восприятия измеряемого времени много как у больных и родственников, так и у врачей.
Сеансы и маски. Дискретность создают сеансы, итогом которых служит интуитивно улавливаемая завершенность промежуточных масок. Такой интуицией часто наделены традиционные и нетрадиционные скульпторы. К примеру, в бенинской деревянной скульптуре ритуально выделяются четыре завершенные формы, причем каждая из них часто выполняется разными скульпторами. Это относится и к традиционной деревянной скульптуре индонезийцев, когда один мастер лишь «открывает» глаза изваянию. Много подобных случаев в истории скульптуры; достаточно вспомнить, какое значение придают незавершенным скульптурным образам Микеланджело, эскизам других великих художников, или вспомним технологию изготовления выплавляемых моделей Б. Челлини. Сказанное, вместе с консультациями у профессиональных скульпторов, позволили нашим врачам преодолевать фиксацию переноса, сменяя друг друга у портрета[77]. В последние годы мы практикуем даже мастер классы, когда опытный врач лишь завершает работу.
Время одного сеанса, как уже отмечалось, может длиться от нескольких секунд (если учесть моменты особого эмоционального напряжения между врачом и пациентом) до многих часов. Смена масок происходит то слишком медленно, то с калейдоскопической быстротой. Эти маски, как при работе над твердым материалом, проходят путь от общего к частному, от яйца до конкретного и индивидуального человеческого образа. Причем переходы эти имеют вид снятия слоев. Врач-скульптор доходит до определенного предела, стилистически законченной маски, т. е. до закрытия формы.
О завершенности образов косвенно свидетельствует и тот факт, что, сфотографированные после каждого сеанса, они создают гармонический ряд (от яйцевидной до итоговой формы). Последовательность сделанных профессиональным фотографом снимков выстраивается с трудом, так как они отображают процесс работы, «середину» сеанса.
Затем происходит мучительное «изнашивание» образа, и врач готовится к «распаковке» нового значения. Он, повинуясь деструктивному импульсу, вначале «разрывает» форму (дизъюнкция), создает новое качество на одной из деталей лица (пликация). Часто это область правого глаза, или лба, а к концу лечения – область уха. Возникшее качество требует выравнивания под него всего портрета. Врач-скульптор как бы снимает еще одно «покрывало» не только с пластилиновой маски, но и с больной души. Так он объясняет это себе и так интерпретирует свою работу больному и окружающим.
Формируется концепция послойного снятия лишнего материала. Эта концепция получает неожиданный отзвук в постмодернистской концепции языка: у Ж. Деррида, Ж. Делёза и др. Многие наши пациенты тоже представляют себе лечение в виде послойного избавления от недуга. С. М. писала в своих дневниках: «Когда чехол был снят с головы, я увидела живые глаза. Больше ничего не помню. Но глаза поразили меня, запомнились. И стало жутко от мысли, что человек сделал это чудо своими руками».
Эти слои, некогда живые оболочки скульптурного образа пациента, превращаются в «прах» в виде комочков пластилина, которые прилепляются врачом внизу портрета[78]. Данная процедура совершенно спонтанна и с точки зрения профессиональной скульптуры не экономична и никак не осмыслена врачом. «Я чувствовала, – пишет больная в другом месте, – с меня, как чехол, спадает мое прошлое», – имея в виду период длительной психотравмирующей ситуации.
Манера лепки. Не целесообразна и манера лепки в виде похлопываний, поглаживаний, неких пассов. Работа протекает вне академических приемов, она с этой точки зрения алогична. Вот что пишет другой очевидец наших сеансов, Ю. Акопян.
Представление о безумии как смерти позволяет по-иному взглянуть на амбивалентное поведение Назлояна во время сеансов, на его абсурдные с точки зрения технологии лепки движения: шлепки по лицу портрета, энергичное массирование щек, когда он словно пытается, «разгоняя кровь», оживить, пробудить от сна пластилиновую голову. Особенно интригующим это становится, когда происходит параллельное массирование лица пациента и массажист повторяет движения скульптора. Парадоксальным образом преследуются и достигаются противоположные по смыслу цели; с одной стороны, благодаря параллелизму движений скульптора и массажиста ускоряется процесс физической идентификации, процесс узнавания больным своих черт в лице двойника, но с другой – скованное судорожным оцепенением, ригидное, лишенное мимики, это же лицо действительно оживает и обновляется под воздействием массажа. Назлоян свою любовь к пациенту, свою заботу и тревогу переносит на портрет – он обхватывает ладонями скульптуру и, приблизив свое лицо, дарит ей тепло своего дыхания, то, словно в отчаянии, согласованными движениями обеих рук, как некий экзальтированный шаман-реаниматор, резко бьет по щекам двойника особым ударом, сводя пощечину к медленному, но сильному массирующему движению. Повторяющиеся удары столь сильны, что мольберт грохочет и шатается. Нередко в самый разгар действия Назлоян резко и неожиданно прекращает сеанс и уходит, оставляя пациента наедине с самим собой, а зрителей со стойким ощущением абсурдности происходящего. Если бы не догадка, что истинный объект «реанимации» – больной, сидящий рядом с врачом. Но эта «реанимация», этот многоактный, исполненный нешуточного драматизма ритуал неосуществим без эмоциональной вовлеченности пациента в сердцевину действия. Поэтому Назлоян в процессе лепки настойчиво и целенаправленно ведет пациента к отождествлению им самого себя со своим пластилиновым двойником (Акопян, с.20).
Добавим, что дистанция между врачом, больным и портретом с точки зрения классических норм недопустимо маленькая, не более 40 см. К тому же врач лепит неудобную сторону лица модели. Если пациент сидит справа от мольберта, то врач работает над правой же стороной. Заворачивая свою голову в правую сторону изображаемого лица, врач ощущает волнение пациента и, видимо, передает ему свое. Такие ритмичные движения и близкий контакт не менее насыщен, чем вербальный диалог. Это делается не случайно, а чтобы находиться в одной атмосфере с портретом и портретируемым, т. е. врач как художник не «срисовывает» в установленном свете натуру. Свет в мастерской, кстати, компромиссный – он недостаточен по меркам портретного искусства и чрезмерен по меркам психотерапевтического комфорта. Здесь же надо отметить, что, в отличие от профессиональных скульпторов, поза врача стационарная – он сидит на неподвижном стуле, амплитуда движений во время лепки небольшая.
Материал и инструменты. Нетрадиционны и инструменты. Это, как правило, металлические колющие и режущие зубоврачебные инструменты, неудобные для изготовления портрета, особенно в полный рост. Врач в одних случаях пальцами проводит складки, в других инструментами делает разрывы, расчерчивает поверхность скульптуры, придавая пластической массе новое, более конкретное значение. Многим стажерам мы дарили профессиональные стеки, но они, как и больные в работе над автопортретом, теряли интерес к ним и пользовались нашим инструментарием.
Лечебный процесс завершается на мягком материале в форме реалистического портрета, в натуральную величину. Время портрета заворачивается вовнутрь, скульптурный образ заливается тонким слоем гипса, вновь отливается в гипсе или металле и хранится как единица медицинского архива. Быстро твердеющим слоем окончательно отмечается завершение портрета. Художественный образ «перестает быть самостоятельным участником события жизни, идущим рядом дальше, он сказал уже свое последнее слово, в нем не оставлено внутреннего открытого ядра, внутренней бесконечности» (Бахтин, 1996, с.65). В зависимости от поставленной задачи скульптура имеет вид головы, бюста или статуи. Как правило, одной маски достаточно для решения самой сложной проблемы. Здесь уместно напомнить легенду о миссионере и туземцах, у которых везде лицо[79]. Иногда мы выполняем статуэтку размером около 50 см, это очень действенный способ лечения. Еще несколько слов о свойствах лечебного портрета.
Проблему определила искусствовед Г. Ельшевская и продолжает развивать журналист Ю. Акопян. У них есть некоторое совпадение эстетических впечатлений. Относя лечебные портреты к большому искусству, оба видят в них стилистическое сходство с египетскими погребальными скульптурами, ту же особую вневременную отрешенность пластического изображения. Это обусловлено тем несомненным фактом, что на наших портретах, особенно до отливки, неизменно присутствует отпечаток болезни, аутизма; «это как бы „плохой“ член пары, тогда как исцелившийся – „хороший“» (Абрамян, 1989). По единодушному мнению врачей, «настроение» на портрете соответствует самому первому впечатлению, оставленному больным. Мы же сами всегда ощущали родство с римским скульптурным портретом, а в живописи – с портретами Ван-Эйка.
Обычай перевода скульптуры в твердый материал возник с самого начала, когда у нас было ошибочное мнение, что она будет востребована пациентом или его опекунами. Но этого ни разу не произошло, так как огромный интерес к скульптурному портрету на исходе лечения прекращается и группа распадается. «Если заглянуть в самый конец процесса – пишет Ю. Акопян, – то сталкиваешься, может быть, с самой загадочной трансформацией – практически полным отчуждением, как автора, так и модели от готового портрета. С момента завершения портрета и тем самым окончания лечения участники процесса необратимо теряют интерес к тому, к чему так страстно стремились» (Акопян, с. 156). За двадцать два года было всего несколько случаев из сотен, когда опекуны пациентов имели твердое намерение приобрести скульптурный портрет. На одном таком случае хотелось бы остановиться.
А. С., девять лет, диагноз эпилепсия, поверила в возможность своего излечения, день и ночь думала о портрете, а перед сном клала под подушку книгу с фотографиями лечащего врача. Мать, женщина суеверная, была также фиксирована на портрете, на его «чудодейственной» силе. По завершении лечения она привела специалистов, которые дали положительную оценку художественной стороне портрета. Тогда она попросила отлить его из бронзы и установить на мраморной подставке. Купила специальную тумбу, на которую в своей квартире поставила портрет. Однако уже через полгода вернула его нам. Больная внешне резко изменялась, и мать заметила несоответствие облика этой веселой, общительной девочки, превращающейся из «гадкого утенка» в красивую молодую женщину, с выражением болезни на портрете. Противоречие росло, а присутствие портрета вне контекста лечения не давало возможности отделить от себя этот тяжелый период их жизни. Портрет вернули в институт, где он занял место в архиве. Это связано и с зависимостью от врача, символизированной в скульптуре.
Жанровая принадлежность лечебного портрета. Думается, мы привели достаточно аргументов в пользу принадлежности лечебного портрета жанру концептуального искусства. Такова и точка зрения другого нашего эксперта, психолога и художника П. Г. Белкина, а также французского художника М. Рогинского. Отсутствие эстетической концепции лишь подтверждает сказанное. «Выступая в роли художника, доктор Назлоян не забывает о том, что он врач; поэтому он как бы не имеет права ставить перед собой концептуальных задач, которые отвлекали бы от основной, лечебной. А эта задача может быть сформулирована сугубо прозаически: создать подобие. Оттого скульптура, а не живопись – для полноты иллюзии, включающей тактильные моменты» (Ельшевская, 1994, с. 87). Суть творческой деятельности врача как скульптора заключается не в выражении эстетической идеи, как в обычном искусстве, а в самой «идее», представленной словесным текстом, а также в сопровождающих его документах: фото-, кино-, видео-, фономатериалах. Сам портрет становится приложением к документальному описанию болезни. Акцент переносится из чисто визуальной в концептуально-визуальную сферу, от перцепции к концепции. Контекст имеет здесь большее значение, чем результат. Главной становится человеческая коммуникация – диалог врача с пациентом. Наши портреты при всей тщательности исполнения рассчитаны только на одноразовую презентацию к концу работы; это происходит чаще всего в атмосфере хеппенинга (Абрамян, 1989; Абрамян, Назлоян). Они не претендуют на вечность, на непреходящую значимость, поэтому делаются из недолговечного материала.
Портрет не может возникнуть без врачебных планов и прогнозов, сочетающихся с документируемыми медицинскими процедурами. Даже заказчик, опекун душевнобольного, обращается за лечением, хотя часто его помыслы связаны с добротно сделанным портретом, за качеством которого он следит. Вся ткань портрета пропитана клиническими ожиданиями врача. Это и делает наше искусство концептуальным. Поэтому выставки наших работ проводятся в обстановке научных конференций, гипсовая или бронзовая скульптура на стене, как правило, окружена фотографиями процесса лепки с обязательным наличием краткой истории болезни пациента. Особенно наглядной была выставка на международном конгрессе психотерапевтов в Париже в апреле 1997 года, когда наряду с фотографиями на большом экране без остановки показывались видеоматериалы.
Портретный метод возник так же спонтанно, как концептуальное искусство, потому что в основе этого метода лежал психотерапевтический концепт. Мы не были знакомы с программной статьей одного из основателей концептуализма Дж. Кошута «Искусство после философии», где он пишет о синтезе наук (эстетики, искусствознания, лингвистики, математики), философии и собственно искусства. (Kosuth). Эта работа помогла бы нам опознать собственные идеи, сформулированные на десять лет позже в недрах клинической практики. Сопоставление с манифестом основателей концептуализма помогло бы нам сформировать собственное направление в рамках авангардного искусства, рациональнее построить психотерапевтический процесс, меньше эксплуатировать интуицию врача-портретиста и не выглядеть слишком похожим на белого мага в представлении опекунов и наших коллег.
Ввиду явного несходства результатов мы не проводили параллели и с произведениями московских концептуалистов (И. Кабаков, Р. и В. Герловины, А. Монастырский, группы «Коллективные действия», «Медицинская герменевтика»), основанными на абсурде (Бобринская; Розин). У нас есть принципиальное идейное отличие от всех направлений концептуального искусства; оно в том, что маскотерапия не порывает связи с традиционным искусством (реалистическая завершенность скульптурного портрета), а этическая цель в высшей степени конкретна – избавление пациента-модели от психической болезни.
3.2. Диалог с пациентом: пути трансформации основного синдрома заболевания
Общение с душевнобольным требует значительных усилий, специальной подготовки. Кроме клинической беседы известно множество рациональных и иррациональных способов проникновения во внутренний мир больного, вплоть до предварительного приема врачом наркотиков и ЛСД. Применение различных форм лекарственного расторможения (амитал-кофеиновое, эфирный наркоз, транквилизаторы) нередко служит той же цели (Телешевская, 1985). Сохранились воспоминания современников о видных психиатрах прошлого – Э. Крепелине, В. Маньяне, Э. Кречмере, С. С. Корсакове, П. Б. Ганнушкине, – обладавших редкой способностью создавать доверительную обстановку при контакте с душевнобольными. Нужны «особая склонность», «склад характера», «особые душевные качества», «определенные психические данные» – вот неполный перечень классических рекомендаций (Руководство по психиатрии, 1988, т.1, с.213). Руководства по психиатрии, излагая разнообразные способы и средства общения, особенно подчеркивают неприемлемость притворства в отношениях врача с больным. «Лицемерия, слащавости, а тем более прямой неправды, – писал П. Б. Ганнушкин, – душевнобольной не забудет и не простит…» (Ганнушкин, 1964, с. 32).
Клинический метод и психоанализ. Современный психиатр, лидер клинического разбора, утверждая свой авторитет, делает ставку на умении вести беседу с больными. Клинические беседы некоторых наших ведущих врачей отработаны до совершенства. Создается впечатление, что присутствуешь на хорошо поставленном спектакле (эмоции участников, их немое восхищение, возникновение легенд о ведущем – яркое тому подтверждение). Благодаря отточенному мастерству симптомы болезни устанавливаются порой за считанные минуты; «хаос» переживаний больного складывается в предельно лаконичную картину их синдромальной и нозологической принадлежности. Нескольких советов в учебниках психиатрии вовсе не достаточно для овладения искусством беседы с душевнобольными, мастерство приходит постепенно после многих лет совместной работы с представителем той или иной школы. Итак, «первым и важнейшим методом обследования была и остается клиническая беседа с больным» (Ясперс, c. 983)[80].
Клиническая беседа является кабинетной формой общения. Врач-клиницист должен собрать анамнестические сведения о больном, описать свое впечатление о текущем его состоянии, поставить диагноз и дать рекомендации. В дальнейшем он периодически приглашает в ординаторскую пациента, чтобы выявить динамику психического статуса и, возможно, изменить назначения. Кроме того, во время обхода палат он вступает в блиц-контакт с больными в присутствии медперсонала.
Интерьер помещения офисный, работа проводится при закрытых дверях. Беседа носит характер расспроса, интервью. Искусство традиционного врача заключается в том, чтобы «выжать» из больного максимальное количество признаний специфического свойства, имеющих отношение только к патологии. При этом он нередко пользуется рекомендацией классиков – «не следует быть слишком доверчивым» (Блейлер, 1920, с. 140).
Это предельно лаконичная форма общения. Любые самые теплые слова и чувства к больному имеют подчиненное значение, они уходят, когда беседа достигает цели – сведения собраны, а выводы сделаны. Право начинать и прекращать разговор, менять тему, манипулировать собеседником принадлежит врачу. «Иногда – пишут авторы американского учебника по психиатрии Г. И. Каплан и Б. Дж. Седок, – после того как больной расскажет о своем заболевании, бывает полезно резко сменить тему» (Каплан, Сэдок, с.14). Далее без комментариев перечислим некоторые пункты из этого раздела руководства: использование слов, сказанных самим больным[81]; вопросы, требующие и не требующие категорического ответа; воздействие на больного с помощью стресса (Каплан, Сэдок, с.14). Если собрать и систематизировать все рекомендации по ведению клинической беседы, они, по нашему убеждению, пригодятся и в следственной практике или бизнесе. Странно, что несколько веков лучшие медицинские умы вырабатывали приемы общения под знаком недоверия к самому незащищенному и неблагополучному представителю общества – душевнобольному.
В трудных случаях лечащий врач приглашает более опытного специалиста (клиническая консультация) или группу компетентных людей (клинический разбор); в научных целях проводится клиническая конференция или демонстрация пациента на лекциях и на семинарах. Существуют также различные экспертизы – военная, судебная, трудовая, лечебно-консультативная, опьянения, имеющие ту же структуру. Они также проводятся в иерархически построенной группе. Результаты консилиумов тщательно документируются и, как правило, имеют юридическую силу.
Во всех названных случаях тот или иной специалист выделяет себя из коллектива и вступает в частную беседу с больным, точно как он делает это с глазу на глаз в своем кабинете. Эти формы коммуникации при всем их своеобразии носят характер расспроса, это сугубо диагностическая процедура. Повторные встречи с пациентом тоже проходят под знаком диагностики – подтверждения или уточнения диагноза, констатации смены синдрома. Кроме того, они субъективны, поэтому нуждаются в объективации: осмотр, наблюдение, сбор биографических сведений и документов, патопсихологическое и лабораторное обследования.
Клиническое интервью входит во все основные направления психотерапии, и его значение трудно переоценить. Достаточно вспомнить, какое внимание уделял ему Фрейд, развивая собственный подход. Понятие о первом интервью лежит в основе всех психотерапевтических техник, оно создает медицинский контекст в отношениях с пациентом, без него трудно представить начало лекарственной или психотерапевтической помощи.
Итак, традиционная клиническая беседа проходит между врачом и больным, независимо от симпатий и антипатий этих двух участников друг к другу и с явными или скрытыми элементами подавления поведенческих мотивов больного. Все суждения о патологии, выводы и заключения делаются в тайне от больного и родственников. Эту тайну соблюдают на всем протяжении лечения, она может передаваться в официальной переписке только коллегам или правоохранительным органам. «Необходимо держаться с вежливым безразличием, слушать внимательно и, независимо от собственных воззрений, слегка „подыгрывать“ пациенту в его представлениях и суждениях. Мы не должны отказывать в значимости ничему из того, что сам пациент считает существенным. Наши оценки мы должны хранить при себе» (Ясперс, с. 984)[82].
Психоаналитический метод в корне изменил атмосферу и направление диалога врача и пациента. Интерьер стал напоминать гипнотарий (кушетка, комфортная неформальная обстановка), а невидимый аналитик – католического священника на исповеди. Психоаналитическая атмосфера возникла на полпути между этими социальными институтами. Беседа здесь ведется в режиме интерпретации вербального материала, мимики, жестов. Опираясь на концепцию о бессознательном, аналитики ищут откровения за пределами общепринятых правил.
Цель аналитических сеансов заключается в том, чтобы выявить не осознаваемые пациентом, не прошедшие цензуру мысли и переживания, оглашение которых возможно только в стенах врачебного кабинета. Это психотерапия конфликта, мотивы которого тщательно скрываются пациентом. Поиск глубоко скрытых комплексов вины заставляет врача тщательно анализировать их малейшие признаки. Коренное отличие психоаналитического разговора – учет факторов переноса и контрпереноса[83]. Это был прорыв от диагностической к лечебно-диагностической технике беседы, гуманный мотив, пронизывающий современные психотерапевтические методы. Достижением авторов психодинамического интервью является разработка точных критериев техники беседы, что можно считать настоящей революцией в психиатрии, так как благодаря психоанализу стало ясно, что в своем отношении к пациенту психиатр должен быть не только наблюдателем, но и участником общения. Психотерапевт, игнорирующий общение, попадает в колею клинического подхода, возвращается в зону расспроса, осмотра и диагностики.
Об интеллектуальной работе врача-аналитика, как и врача-клинициста, пациент может ничего не знать. Коренное отличие аналитика в том, что у него диагностический поиск совпадает по времени с терапевтическим воздействием – каждый выявленный признак подвергается интерпретации, текущая информация подлежит переработке. Но психоаналитик, вслед за терапевтом, присваивает себе право не быть откровенным с пациентом до конца, он даже скрывает свое лицо (по классической версии), поэтому его подход тоже тоталитарен. Вспомним хотя бы, в какой незащищенной позе (на знаменитой кушетке) находится пациент во время сеансов. Что переживает душевнобольной (и даже невротик) в этом положении, можно себе представить. Психоаналитик остается в определенной степени манипулятором вроде гипнотизера (Гринсон, с. 61–62)[84].
Представители психоаналитического подхода, по нашему убеждению, не смогли преодолеть главные недостатки клинической беседы – неравенство в диалоге и двойной стандарт в мышлении терапевта. Можно ли считать такой диалог (тематический) истинным? На этот вопрос мы отвечаем отрицательно, потому что возникновение беседы жесткой или мягкой, насильственной или гуманной имеет подчиненное значение; комфорт, в том числе учет состояния наблюдателя, создается с единственной целью – собрать, систематизировать и рационализовать патологический материал.
В 50-х годах вместе с «психиатрическим интервью» Салливана (1953) и «первым интервью при психиатрическом лечении» Джилла, Ньюмена и Редлиха (1954) начинают основательную разработку методики, техники и тренинга первой беседы с психиатром. Фактически это было глубокое осознание значения переноса и контрпереноса. Дальнейшие модификации – «диагностическое интервью» М. и Э. Балинтов (1962), «биографический анамнез с точки зрения глубинной психологии» Дюрссена (1980), «структурное интервью» О. Кернберга (1981), RAP-интервью (Relationship-Anecdotes-Paradigm, парадигмы отношений в сценках, 1984) и десятки других разработок – преследуют одну цель: помимо выяснения индивидуальных, семейных и социальных отношений, они должны были подвести пациента к мысли о том, что он болен, о необходимости лечения.
Союз с пациентом. Таким образом, психотерапевтические техники основаны на базовом договоре с пациентом. Дальнейший сценарий разворачивается благодаря этому союзу. «Необходимо сделать пациента, – писал Фрейд еще в 1895 г., – своим союзником». Фрейд специально не развивал это понятие, известное в общемедицинской практике, но возвращался к нему на протяжении своей долгой творческой жизни. «Мы образуем этот дружественный пакт, – пишет Фрейд через 45 лет, – для того, чтобы вернуть эго пациента, утраченную им способность повелевать различными сферами его ментальной жизни. Этот пакт и составляет аналитическую ситуацию» (Сандлер и др., с.25). Существует значительная психоаналитическая литература по этому вопросу, которая приближает понятие альянса к проблемам переноса: «рациональный перенос» (Феничел), «имманентное базовое доверие» (Эриксон), «рабочий альянс» (Гринсон), «терапевтический альянс», «присутствие аналитика» (Зетцель), «продуманный или зрелый перенос» (Стоун), «базовый перенос» (Гринейкр), «реалистическая связь» (Когут), даже «негативный терапевтический альянс» (Новик) (Гринсон; Сандлер и др.).
Договор – важнейшая составляющая любой существующей и мыслимой психотерапии. Он может быть различным в разных школах – рациональным, открытым по форме или завуалированным благодаря игровому моменту. Формирование такого договора имеет отношение к степени восприятия человеком себя как больного, с одной стороны, а с другой – к сложной, меняющейся структуре мотивации больного на лечение. Поэтому труднее всего заключить договор с психотиком, отличающимся низкой критикой своей болезни.
Двойной договор – с пациентом и опекуном. Отчаявшись прийти к договору с душевнобольным, испытав на себе крайние формы недоверия, а также неожиданного нарушения условий работы, мы в свое время стояли перед выбором – продолжать терапевтическую работу насильственно (от косвенных и прямых посягательств на свободу пациента до деонтологически обоснованного физического вмешательства) или же искать принципиально другую точку отсчета. Методологически мы следовали Фрейду, который исходил из практической необходимости помочь тем пациентам, которые, например, не воспринимали гипнотического воздействия. Как и он, мы искали «нейтрализованные взаимоотношения» (Гринсон, с.67) с пациентом, опираясь на личный опыт. В то же время мы попытались сохранить клиническую традицию – договор о лечении обсуждаем с опекунами душевнобольного, признавая тем самым недееспособность пациента. С ними же проводим детальное клиническое интервью, воспроизводим динамику психического статуса, составляем этапные эпикризы. Это достаточно формализованная работа, которая использует различные анкеты. Типовой анамнез, по нашим наблюдениям, создают не хуже врачей близкие родственники пациента, соблюдая стандартные разметки его биографии. С опекунами же мы делимся своими надеждами и сомнениями, подробно излагаем нашу точку зрения.
Запомнился случай Ж. К., мать которой заявила, что она больна с рождения, т. е. неизлечима, а отец, известный адвокат, сказал, что не он сам, а Ж. нам верит. По рекомендации нашего научного руководителя А. И. Белкина мы отказались от лечения, ответив, что для нас важно доверие опекунов, а не только пациентки. Это отложило начало психотерапии ровно на год, когда обессиленную нервной анорексией Ж. доставили в наш центр. Отец общался с нами, не скрывая чувства вины, и в дальнейшем стал достаточно удобным партнером, хотя и телефонным. Работа коренным образом изменилась, когда Ж. вышла замуж за весьма альтруистичного молодого человека.
В контакте с больным мы полностью исключаем тему лечения и составляем договор об изготовлении скульптурного портрета. И это не розыгрыш – в дальнейшем (до конца лечения) мы твердо соблюдаем условия договора. Нет необходимости говорить больному, что он страдает психическим заболеванием, уговаривать его, растрачивая авторитет врача. Дело не только в том, что у пациентов снижена критика своего психического состояния, они, постоянно пытаясь доказать свою дееспособность окружающим, насторожены и необыкновенно ранимы в этом вопросе. Полностью снимая разговоры на тему болезни, мы радикально решаем проблему переноса, а когда пациент становится моделью художника – и проблему контрпереноса. Таким образом, в день составления базового договора мы встречаемся с двумя диаметрально противоположными тенденциями. Позиция опекуна – просьба об оказании медицинской помощи больному, отказывающемуся от такой помощи. Мы принимаем версию опекуна и действуем с обычных клинических позиций, но мы принимаем и версию пациента (без элементов фальши и насилия).
Таким образом, составляется два базовых договора. Предложение изготовить скульптурный портрет идет навстречу обостренному чувству собственного достоинства наших пациентов. Ведь ощущение своей избранности, уникальности, несходства с другими людьми сопутствует многим психическим болезням, и создание портрета больного естественно согласуется с его основными переживаниями. Вспомним также, что в обыденном сознании скульптурный портрет (в отличие от живописного) ассоциируется с представлением о высоком гражданском статусе. Позируя врачу-портретисту, больной может поддерживать этот статус откровениями патологического плана, но не станет «унижать» себя просьбой об избавлении от психического недуга. Эстетический порыв врача как скульптора во многом вызван пластической неординарностью пациента, который так же выделяется среди других людей, как «героические» или гражданские модели обычных скульпторов. Ни один наш врач не вылепил портрет здорового человека, своего близкого – здесь имеют значение не только врачебные мотивы, но и эстетическая незаурядность самого душевнобольного.
Естественно выглядит и наше первое интервью «зеркальные переживания», которое имеет для нас и психотерапевтическое значение, – это способ постижения и преодоления аутистических расстройств. По форме оно может быть ассоциировано пациентом с будущей работой над его портретом. Интервью ведется в пространстве трех лиц – больного, его двойника в зеркале (который может «подсказывать» тему) и интервьюера. Для большего выравнивания отношений в ходе интервью психотерапевт может нанести на лицо пациента грим, чтобы сделать более выпуклыми, отчетливыми детали и целое. Иногда сразу после первого интервью, не снимая грима, пациент подходит к мольберту и плавно вовлекается в атмосферу психотерапевтического процесса. Нам удавалось начать первый сеанс даже с агрессивными и крайне негативными пациентами.
Когда готовилась эта рукопись, к нам поступил пациент А. Р. из Казани, 25 лет. Он недавно выписался из психиатрической больницы и, несмотря на прием галоперидола (15 мг), был крайне напряжен, испытывал обманы слухового восприятия. Массаж лица и боди-арт у зеркала проводила одна из наших бывших пациенток. Затем провели интервью «зеркальные переживания» и он поделился своими впечатлениями. «Как будто артиста какого-то раскрашивают, что-то необычное, непривычное; потом другое видение появляется, что после снятия грима уйдет что-то дурное, часть болезни, что я смогу сделать то, что раньше не мог. Стал представлять себя в целом – одежда, машина, деньги. Другая позиция, более высокая, рождается». После проведения сеанса портретной терапии и снятия грима: выражение лица стало спокойным, радостным, лицо утратило сероватый оттенок; стал раскованным, непринужденным, выражение глаз осмысленное, охотно идет на контакт. Признается, что появилось стремление к новому, «например машину водить, найти хорошую работу где-нибудь в тепле. Почувствовал себя более приспособленным к жизни. Хочется купить новую вещь какую-то, подпрыгнуть даже; захотелось спортом заняться, чтобы похудеть и избавиться от чувства слабости».
Диалог. Мы обнаружили принципиальное расхождение в интерпретации этого понятия между двумя выдающимися мыслителями, К. Юнгом и М. М. Бахтиным: первый говорил о «диалоге между двумя людьми», о «психическом воздействии», «взаимодействии двух психических систем» (Юнг, с. 269–271), а второй – о равноправных отношениях партнеров по диалогу в присутствии «отстраненного третьего». Этой триаде структурно близок шаманизм, которому, на наш взгляд, следует отдать предпочтение. Но сравнение двух названных мыслителей, ставивших часто одни и те же проблемы, это сравнение двух эпох в развитии гуманитарных идей – оно может стать предметом отдельного исследования. Оно проявилось и в реальной дискуссии между Юнгом и другим философом диалога Бубером. Подводя итог этого диспута, Ф. Р. Филатов пишет: «Юнг полагал, что человек может обрести единство лишь в собственной душе, интегрируя интрапсихические противоположности. Бубер утверждал, что оно обретается только в исполненном взаимности диалоге с Другим, высшим проявлением которого является обращение к Богу» (Филатов, с. 36).
Характеризуя дуальную организацию психотерапевтического контакта как тоталитарную, мы имеем в виду структуру, а не отношение к больному. Последнее испытывает многочисленные метаморфозы в сторону либерализации, но, как верно заметил А. Сосланд, «„равенство“ терапевта и клиента носит скорее внешний, условный характер». «Первые „авторитарные“ школы, – продолжает автор, – очень явно обнаруживали манипулятивные желания психотерапевтов, и всю дальнейшую историю психотерапии можно рассматривать с точки зрения стремления терапевтов как-то скрыть эти свои желания» (Сосланд, 39). Но даже замена аллопатического стиля на гомеопатический сохраняет тоталитарные черты. Тем не менее либерализация, равное партнерство между врачом и пациентом заявлены, остается искать структуру (терапевтическую атмосферу), в которой они могут быть достигнуты. Гуманное отношение к пациенту нуждается в гуманитарном же контексте интерпретаций его переживаний, в котором врач не только хочет, но и вынужден осуществлять равноправный диалог.
Пафос антиманипулятивности в классическом психоанализе, экзистенциально-гуманистическом направлении, у современных психотерапевтов-диалогистов («контакт», «встреча», «молитва») не достаточно убедителен, хотя бы потому, что у врача есть свобода выбора техник терапевтического воздействия, а у больного нет (см. Соколова, Чечельницкая; Копьев). Создается впечатление, что в концепциях современных психотерапевтов классический психоанализ под влиянием идей философов диалога лишь мутировал и превратился в еще более сложное образование («позиция вопрошания», «эхо-позиция», «угу-позиция», «позиция ответствования» и многие другие новшества). Это происходит потому, что мы часто приписываем своим кумирам идеи, к которым они лишь приблизились. Нам непонятно, каким образом Фрейд мог сознательно принять идеи религиозных философов (первых диалогистов) и твердо стоять на гуманитарных позициях, если он даже не воспринимал художественную прозу из-за недостаточной верифицируемости изложенных автором произведения фактов? Напомним, что упомянутая дискуссия Юнга и Бубера в конце концов перешла в теологическую плоскость, так плохо были готовы оппоненты к дискуссии о диалогической природе чувств и мысли. Что мог сказать Юнг о диалоге, если «Бога он рассматривал как „психологическую функцию человека“?» (Филатов, с. 36). Но даже далеко продвинутые идеи Бахтина и Выготского нуждаются в значительном преобразовании прежде, чем они будут внедрены в практическую психотерапию. Таким образом, дуальная структура психотерапевтического контакта ни в одной из известных нам техник психотерапии не преодолена, а терапевты вполне соответствуют эталону Шульца, который считал, что среди прочих дарований они непременно должны обладать качеством «энергичного начальника» (Руководство по психотерапии, с. 13).
Существуют две формы психотерапевтического диалога: воздействие и рационализация. Это два естественных механизма преодоления человеком своих проблем, «базальной тревоги» по К. Хорни, возникающей в процессе его жизнедеятельности (Horney).
Воздействие предполагает своего рода вытеснение болезнетворного комплекса. Приемы воздействия символизирует суггестивная психотерапия, рационализации – психоанализ. Вытеснение корнями уходит в практику эксортизма и других форм подавления патологических симптомов. Рационализация имеет отношение к убеждению, основанному на доводах обыденного здравого смысла, выявлению формально-логических изъянов, подчинению мировоззрения пациента собственному мировоззрению. Последнее со времен Фрейда является наиболее распространенным. Здесь может быть представлена сумма различных этико-эстетических, философских идей психотерапевта, а также его способ концептуализации симптомов заболевания.
О ценности диалога как такового впервые в довоенную эпоху заговорили Фердинанд Эбнер («Я существует в диалоге»), Ойген Розеншток-Хюсси («крест действительности»), Михаил Бахтин («Быть значит общаться»), Мартин Бубер и другие мыслители «на переломе». «Одно основное слово – это сочетание Я – Ты. Другое основное слово – это сочетание Я – Оно» (Бубер). Это принципиальное разделение психологического и гносеологического аспектов было оценено немногими из современников философа.
Его не восприняли и психотерапевты[85]. Во-первых, в связи с тем, что Бубер не проводит достаточно последовательную психологическую линию в этом вопросе. Он отходит от диалогической природы мышления в привычном понимании, подразумевая под равноправным «Ты» и природу, и человека, и «духовные сущности». Во-вторых, важная концепция «между» рассматривается, как и у других философов диалога, только в теологическом плане. В-третьих, психопатологи не оценили в должной степени и идеи другого проницательного мыслителя того времени О. Блейлера – о патологическом одиночестве. Отдельные, удивительно точные определения «Я – Ты»-феномена не может использовать и современный практик ввиду их принадлежности к метафизике. Подобных дефиниций, взятых из обыденного психологического опыта и переведенных в метафизический план их авторами, достаточно много в философии. Блестящие по форме, они вызывают недоумение – от изречения «Познай самого себя» (ведь неизвестно, как познать себя!) до сомнительных советов Вольтера и Шопенгауэра, способных вызвать смятение в умах тех, кто собирается их осуществить. Но об этом мы будем говорить в разделе о лечебных функциях автопортрета.
Наши врачи нацелены на преодоление аутистического монолога, скорее всего источника психических расстройств, а не «мыльного пузыря спекулятивного рассудка» (Ф. Эбнер). Поэтому любая форма общения (вербального и невербального) с пациентом, независимо от его содержания, направленности, длительности, логической связности, является для нас главным лечебным фактором. Для достижения этой трудной цели мы ищем равного партнерства в обмене переживаниями, а не специальных, достаточно хитроумных, но малопродуктивных приемов, описанных в литературе начиная с Фрейда и кончая Карнеги. Ради этой цели психотерапевт способен поделиться даже собственными переживаниями.
Первая реакция больных на общение посредством портретирования отличается большим эмоциональным многообразием – от восхищения (даже экзальтации) у демонстративных до негативизма у бредовых больных и полного равнодушия у дефектных и слабоумных. Реакция больного зависит от текущего его состояния, характера болезни, семейного и социального положения. Все препятствия удается преодолеть, если у него сохранился хоть малейший интерес к своей внешности. Иногда оптимистический прогноз возможен уже на первом сеансе, если портретируемый делится каким-нибудь наблюдением по поводу особенностей своего лица – это начало продуктивного контакта, нить, которая никогда не обрывается в процессе создания портрета. Врач-скульптор максимально использует возникший диалог, развивает его.
Некоторое чувство смущения, проявляющееся на первых порах, проходит, поскольку больной осознает, что, занимаясь скульптурой, врач даже больше ожидаемого сосредоточен на нем; что вместо повторения надоевших формулировок симптомов изучается и материализуется знакомый ему с детства, но во многом уже потерянный реальный его образ; что врачу незачем прибегать к различным «коварным» приемам для проникновения в мир его интимных переживаний. А с появлением первых черт портретного сходства так называемое сопротивление сразу и необратимо спадает.
Беседа не направляется врачом, она имеет спонтанный характер. В ходе лепки общение с больным протекает в атмосфере предельной раскованности, – оно не имеет скрытого плана, подтекста, не нуждается в определенных приемах, в изощренном «притворстве» врача, известном всем, кто работает в психиатрических учреждениях. Напряженность больного снимается уже тем, что ему ясна причина его нахождения в кабинете врача, здесь не нужны ни специальные познания в области изобразительного искусства, ни особый уровень интеллектуального развития. Воспроизведение лица пациента с самого начала образует временную «интригу» – от явного или скрытого интереса до продуктивного конфликта между моделью и скульптором.
Выявляя клинические симптомы в процессе портретирования, врач может наблюдать их индивидуальное преломление, многообразные личностные нюансы, динамику и смену синдрома. И если О. Блейлер говорил о важности наблюдения исподволь за мимикой, за реакцией зрачка и т. п.[86], то здесь мимические движения «впитываются» врачом для их воспроизведения, а реакции зрачков он наблюдает не между прочим, а в упор, – и это не прерывает диалога. Восприятие врачом цвета, линии, объема, как у любого художника, концентрическими кругами уменьшается до бесконечности, до почти физического ощущения микроскопической величины, за пределами возможностей аккомодации[87].
Начавшийся раз диалог не прерывается и может быть возобновлен даже через несколько лет. Он возникает спонтанно и захватывает как врача, так и позирующего больного. Лепка каждой детали лица или обращение к целому изображению рождает новые ассоциации, продуцирует дополнительные стимулы для общения. Некоторые сеансы длятся без всяких «допингов» до 24 часов. Думается, что если в чертах лица запечатлен весь жизненный опыт человека, то портрет, исполненный врачом, ключ к нему (Ярошевский, Липкина, с. 11). Особенно результативен лечебный портрет в тех случаях, когда интеллект больного не уступает интеллекту врача или его знания глубже в какой-либо области, не говоря уже о творчески одаренных людях[88]. Тогда клиническая беседа, рассчитанная на создание неоспоримого авторитета врача, встречается с большими трудностями.
Вспоминается работа над портретом Р. Х. (морфийная наркомания), известного в своем городе кардиохирурга и художника. Он был скептически настроен к нам – и как врачу, и как портретисту. На первом же сеансе мы убедились в медицинской эрудиции нашего пациента, а также в значительности его произведений по репродукциям в каталоге его недавней выставки. Однако к концу работы его критичность привела нас лишь к более завершенному в эстетическом смысле портрету, а «сопротивление» прекратилось уже в начале лечения. Намерение Р. Х. написать несколько живописных портретов лечащего врача (попытка «выключить» себя из лечебного процесса) со временем утратило остроту и перестало его занимать. Катарсис наступил у него при завершении скульптурного портрета и сопровождался конфликтом с женой в нашем присутствии.
Равное партнерство. Процесс идентификации между врачом и пациентом в сеансах портретной терапии имеет непрерывный характер, хотя вне работы над портретом, как отмечалось, между ними никаких отношений нет. Это приводит к дезактуализации авторитарного образа врача, иерархической структуры отношений. Мы утверждаем, что равное партнерство невозможно внутри пары врач – больной, здесь врач может лишь более или менее успешно вуалировать свое превосходство в общении. Благодаря нашей структуре из трех составляющих, врач – пациент – портрет, появилась возможность вести психотерапию на одном уровне с пациентом. Показательно, что, когда больные и даже опекуны довольны лечением, они говорят в кулуарах: «хороший человек», но никогда – «хороший врач», «хороший специалист». А когда приходят на сеанс после дантиста или окулиста, говорят: «Были у врача».
Одна из отличительных особенностей портретного метода психотерапии в том, что по ходу лечения, портретирования разрушается авторитарный образ врача – всезнающего, владеющего готовой истиной, способного внушить свою волю пациенту. Попытки больного восстановить авторитет своего целителя и связанную с ним структуру отношений парадоксально отметаются врачом. Казалось, он должен радоваться и доверительным словам и возникшей критике и ценности патологического материала, который больной ему передал. Однако психотерапевт непредумышленно сдвигает эту информацию из центра в периферию, пропускает ее «мимо ушей». Это диктуется законами портретного искусства[89].
Художник-портретист создает образ путем вытеснения отрицательных впечатлений, сохраняя в своей творческой памяти эстетический позитив. Так поступает и врач-художник, но он не вытесняет, а как бы оттесняет патологические знаки на второй план. Здесь они задерживаются, потому что профессионально скульптор не перестает чувствовать себя врачом. Причем периферическое восприятие не умаляет значения его содержания. Это единственное условие, при котором возможно «впитать» переживания пациента, пропустить их в область бессознательной сферы творческого акта. Отсюда и структура этого не описанного в литературе диалога. Она имеет центр и периферию, потому что зависит от визуальной активности врача (ср. центральное и периферическое зрение). Врач проводит жесткую «сортировку» вербального и визуального материала, где центральная часть представляет собой здравый обмен мыслями и позволяет работать над скульптурным образом, а периферическая часть, не вытесненная полностью, активирует мотивационную сферу творчества. В медицинском плане это фактически разделение на здоровое и больное начало с наращиванием позитивных признаков.
Такая «сортировка» отдаленно напоминает технику изгнания болезни. В эту структуру вовлекается пациент; представляя свой образ в положительном свете, он вынужден и беседу вести в положительном ключе, не больше и не меньше как быть здравомыслящим. Если пациенту это не удается, врач-скульптор упреждает его и тоном и акцентами беседы, не «смакует», как принято, патологические откровения пациента, не выясняет детали, не «вгоняет» его в болезнь, концептуальная расшифровка патологического материала производится в эстетических категориях.
Но если структура диалога из-за наличия патологической активности у модели нарушается, т. е. к психотерапевту обращаются как к врачу, он ссылается на некие авторитеты. Тогда в вербальной части общения (врача и пациента) выстраивается образ «идеального третьего». Именно от него исходят общие принципы лечения, нравственные установки[90]. Ему безоглядно верит врач – к нему он обращается за помощью в трудную минуту. Причем тут нет наигранности. Этого «идеального третьего» врач цитирует, с ним он иногда общается по телефону, но его физическое присутствие на сеансе необязательно. Нередко функцию слова «идеального третьего» выполняют ссылки на мнение известных деятелей культуры, цитаты из канонических книг для религиозных пациентов. Вот что пишет один из тех, кто долгие годы был образом идеального третьего, Л. А. Абрамян.
«Назлоян опытным путем пришел еще к одному замечательному, на мой взгляд, открытию. В процессе разрушения своего авторитета перед больным – этого требуют, в частности, особенности избранного им метода терапии – он пришел к созданию образа некоего третьего, всезнающего и мудрого, стоящего за его действиями и следящего за обоими. Этот третий может быть конкретным лицом. Именно к нему обращается врач в трудные минуты за советом, причем не столь важно, верные это советы или нет, – как правило, они не играют существенной роли в терапии. Однажды, когда мне довелось быть таким третьим, я из другого города по телефону дал не самый верный совет, но терапия, к счастью, от этого не пострадала. Врач знал верное решение, но мнение „великого“ третьего обсуждению не подлежит» (Абрамян, 1994, с.82).
Как-то один из наших пациентов, склонный к философскому осмыслению своих бредовых переживаний, сразу после окончания курса лечения сказал: «Все-таки Абрамян не прав!» Так он обнаружил признаки ущемленного самолюбия, как будто речь шла не о спасении его жизни (десять лет почти непрерывного лечения в стационарах), а о споре, который он в этот день проиграл. Заметим, что стандартный вариант этой структуры сформировался в последние годы, когда опытный врач-наставник входит в образ идеального третьего для своих учеников. Он даже проводит мастер классы с периодическим участием в портретном творчестве. «Слово – это драма, в которой участвуют три персонажа (это не дуэт, а трио). Она разыгрывается вне автора, и ее недопустимо интроицировать (интроэкция) внутрь автора» (Бахтин, 1996, с. 332).
Определение третьего в диалоге можно найти в послевоенных трудах Бахтина. По всем признакам – это формально не идеальный третий (Абсолют, «нададресат»), как у философов-диалогистов, с его замещающей ролью в диалоге, «на встречу „я“ и „другого“ в последней диалогической инстанции» (Бахтин, 1996, комментарий на с. 658). И все же спорный момент и в ранних, и в поздних работах Бахтина о природе диалога можно отнести к макроуровню – именно к идеальному (или отстраненному) третьему, а не к троичному и неделимому, равному по качеству составляющих образованию. Видимо, структурные особенности диалогических отношений на элементарном уровне не интересовали ни Бахтина, ни других философов диалогистов, потому что их цели были глобальными – они изменили наш менталитет. Это хорошо видно на примере «нулевых диалогических отношений», где «раскрывается точка зрения третьего в диалоге (не участвующего в диалоге, но его понимающего)» (Бахтин, 1996, с. 336). Ближе всех к структурному определению был О. Розеншток-Хюсси («крест действительности»), но об этом мы будем говорить в следующей главе.
Идентификации. Равное партнерство возможно, на наш взгляд, только при полной взаимной идентификации собеседников. «Только при условии, – утверждал В. фон Вайцзеккер, – что врач до глубины души задет болезнью, заражен, напуган, возбужден, потрясен ею, только при условии, что она перешла в него и продолжает в нем развиваться, обретая благодаря его сознанию свойство рефлексии, и только в той степени, в какой это оказалось достигнуто, врач может рассчитывать на успех в борьбе с нею» (Ясперс, с. 960). Однако идентификация врача с больным на основе эмпатии, до полного «слияния душ» – процесс невероятно сложный в обычных отношениях между людьми и невозможный в паре здоровый – больной. Мы утверждаем, что истинный диалог может состояться лишь эксклюзивно – например, при выборе художником своей модели, поскольку структура всякого художественного произведения представляет собой процесс, в котором элементы целого не просто выстраиваются один подле другого, а взаимопроникают друг в друга. Момент истинности в диалоге – явление почти случайное и в высшей степени продуктивное, оно равноценно вдохновению.
Идентификация с больным. В работе над портретом художник естественным образом идентифицирует себя с моделью. Общее мнение лучше всего выразил М. М. Бахтин. «Первый момент эстетической деятельности – вживание: я должен пережить – увидеть и узнать – то, что он переживает, стать на его место, как бы совпасть с ним…, я проникаю внутрь его и почти сливаюсь с ним изнутри» (Бахтин, 1979, с. 24–25). По признанию наших врачей, когда они вылепливают детали, на них находит чувство близкое к déjà vu, калейдоскопически мелькают отражения собственного лица, воспоминания разных годов, иллюзия того, что лицо модели своим выражением похоже на близкого врачу человека, которому он в раннем возрасте подражал, с которым отождествлял себя. Иногда врач-портретист ловит себя на том, что он как во сне лепит именно этот образ. Есть много данных о том, что портрет в известном смысле есть автопортрет[91]. Подобная идентификация не имеет затаенного смысла, и каждая деталь в диалоге, каждый совместный вздох отпечатывается на портрете. Происходит истинное перевоплощение врача-художника в образ своего пациента, «присвоение характеристики другого лица» (Хьелл, Зиглер, с. 154).
Эмпатические способности художника здесь в значительной степени усиливаются особым свойством сострадания, которое знакомо врачу со студенческой скамьи, когда (ввиду неполной доказуемости) он «находил» у себя симптомы почти всех болезней. С годами это чувство, частично сохраняясь, частично переходит в способность «пугаться» (по О. Вайцзеккеру), «ощущать» отдельные симптомы, особым образом сострадать пациенту. К. Ясперс в описании «субъективно понятных» явлений, таких как символика, бред, галлюцинации, решил проблему наполовину, потому что мы не знаем, что делать с тем, что мы впитали, запечатлели, куда эти явления отнести в сложном комплексе психотерапевтического вмешательства; и не знаем наконец, какую роль эти необъективируемые признаки болезни играют во врачебной эмпатии[92].
Мы утверждаем, что психика врача имеет тенденцию отбрасывать их, поэтому соматотерапевт старается ликвидировать «субъективно понятные сочетания» путем создания объективного досье на больного. Не требует доказательства и тот факт, что названные расстройства порождены монологическим мышлением пациента в условиях патологического одиночества. И здесь врач-скульптор получает преимущество перед своими коллегами, поскольку мишенью его терапевтической активности, его осознанной целью является аутизм. Воспринимая указанные необъективируемые явления в свете проблемы одиночества, он стремится не уничтожить их по одиночке или сразу, а видоизменить, трансформировать через диалог с пациентом. В диалогическом контексте существования «Я» патологические симптомы сами собой дезактуализируются.
Идентификация с врачом. Но и больной идентифицирует себя с врачом, который лепит его портрет, и пока скульптурный двойник не сформировался окончательно, врач воплощает это завершение и фактически предстает двойником пациента. Внутренняя речь пациента, как у ребенка, начинает громко звучать (ср. механизм интериоризации речи по Л. С. Выготскому)[93], она обращена к своему двойнику-врачу. Здесь уже не может быть «секретов». У некоторых пациентов наблюдается даже бредообразование с полной идентификацией себя с врачом и вне работы над портретом: то это идеи двойничества, то требующая сложных доказательств идея близнечества, то идентификация по профессиональному признаку.
Больной А. Д., который считал себя некоей сложной антенной, в отсутствие своего врача проводил интервью с пациентами в кабинете, давал им советы. При этом он подражал манерам и речи своего врача до полного вхождения в образ. Больной Е. Б. считал себя двойником и врача-портретиста, и его консультанта, тем не менее проявлял агрессивные чувства по отношению ко второму. Иногда он весь рабочий день разъезжал между нашим институтом и центром нейроэндокринологии, пытаясь внести ясность в наши отношения.
В процессе лепки врач как бы расшифровывает (через воспроизведение целого и деталей) переживания пациента, опережая его в том, что он собирался выразить словами. Кстати, такое опережение высоко ценилось создателями клинической психиатрии. Продвижение портрета немыслимо без полной взаимной открытости художника и модели. В этой открытости у больного еще нет слов и фраз, как у младенца, – это суть и начало формирования личности. Об этом свидетельствует работа с молчаливыми, иноязычными, умственно отсталыми, глухонемыми пациентами.
В июле 2000 года к нам обратились по поводу глухонемой Н. Л., 30 лет. Она узнавала по губам самые простые слова и произносила по слогам несколько слов, чаще других «постарайся». Это слово стало главным в нашем вербальном контакте. После развода с глухонемым же мужем она осталась в своей квартире в полном одиночестве. Родители, занятые собственными проблемами (пьянство отца), успевали лишь «подбрасывать» ей деньги на еду. Увлеклась гаданием, мистикой, советами из желтой прессы. Нарушился сон, упорядоченный быт разрушался, она потеряла чувство времени. Возник и быстро развивался бредовый комплекс с мотивом иного происхождения: она дочь графа, ее родителей убили и выкрали из замка. Стала агрессивной по отношению к «главному преступнику» – ее настоящему отцу, которого с ненавистью называла Колей и часто била. Работа над портретом (первый этап) проходила бурно – смех, слезы, пантомима, записки, рисунки, видеодемонстрация. Это был яркий, полноценный диалог, который запомнился многим. Бредовый комплекс был преодолен, события в семье выровнялись, осталась трудная проблема ее социализации. Мы возобновили второй этап работы с пациенткой.
Идентификация больного с портретом. Отождествление пациента с портретом – главное условие выздоровления. Оно цементирует всю процедуру лечения и может проявиться уже с первых минут работы. В профессиональном искусстве, где имеют право на жизнь самые разные интерпретации модели – вплоть до полного несходства, разговоры на тему «похож, непохож» – признак дурного вкуса. Другое дело лечебный портрет. Постепенное возникновение реалистической (аналитической) оценки своего лица порождает сильные переживания, разрушающие привычный ход мысли больного, «привязывающие» его к собственному зарождающемуся образу, заставляющие часто (иногда украдкой) подходить к зеркалу для изучения отдельных деталей лица, искать сходство с портретом. Эти переживания не могут не отразиться на выборе слов, выражений в диалоге. Например, А. П., чья грубая пока еще маска едва напоминала человеческое лицо, спросил: «Неужели у меня такой угол рта?» Затем подошел к зеркалу проверить, и вернулся с недоуменным выражением лица.
Иногда больных удивляет форма собственного уха, носа, рисунок глаз, губ, подбородка. Это и есть первый выход из аутистического плена, первый взгляд на себя со стороны, первая попытка сравнить себя с другими людьми без порочной мифологизации и дисморфофобических установок, искажающих видение мира вообще и мира человеческих отношений в частности. А. Ш., для которого лоб был «полигоном», поверхность носа – «стартовой площадкой», а рот – «пещерой», под конец вспоминал об этом с иронической улыбкой, как и о своей бредовой идее, что он – пришелец из будущего, и неадекватных поступках.
Параллельно с работой над портретом происходит бурное обсуждение деталей лица больного, который уже настолько включился в этот процесс, что нередко бессознательно повторяет движения рук скульптора – разглаживает, похлопывает свое лицо. Это создает значительное эмоциональное напряжение, а в моменты кульминации – «отреагирование» (по Юнгу), интенсивную разрядку накопленных переживаний. Интерес больного к своему образу так велик, что временами приходится прерывать работу: это нужно пациенту, чтобы уединиться перед зеркалом, или врачу, чтобы оставить того у мольберта и, возможно, предложить ему что-то самостоятельно доработать.
Неадекватность в восприятии своего лица сочетается с незрелостью понятий и принципов, необходимых для творчества и социализации. Жена упомянутого А. П. с досадой сказала нам перед началом лечения: «Кого вы лечите, если личность не состоялась?» Он, кстати, узнавал себя в групповой фотографии лишь по очкам и прическе, т. е. по вторичным признакам. Примечательно, что отличительным признаком психоза Фрейд считал расстройство механизмов образования «я». Незнание деталей своего лица сопровождается незнанием лиц своих близких – жены, ребенка, матери, отца, братьев и сестер. Таким образом, одновременно с реалистическим взглядом на свою внешность к пациенту в диалоге с врачом возвращаются фундаментальные категории общения, устанавливается гармония между аутистической и реалистической функциями мышления (по О. Блейлеру).
Довольно типичная картина: новый пациент – и перед врачом возникает стена, нередко кажущаяся непреодолимой, стена молчания или резонерства, сверхценных или бредовых переживаний больного, его мнительности, негативизма. Однако после того как наступит момент отождествления с портретом (рано или поздно это происходит), от сеанса к сеансу повышается результативность психотерапии. Возникает и развивается ситуация соучастия, творческого сотрудничества. Возможно, еще далеко до выздоровления, но на пути к нему процесс отождествления очень важен. В него включаются и все присутствующие (даже случайные).
Так прокладывается «тропа здоровья» (Фрейд), осознание своей болезни. То медленно, то быстро развиваются интеграция и реинтеграция личности, ее формирование или восстановление, умение управлять моторикой, речью, ориентация в себе самом и в окружающем мире, адекватное мышление. Собственно эстетические мотивы при обсуждении портрета сводятся к минимуму, внимание концентрируется на состоянии, которое в данный момент отражает глина или пластилин. С каждым сеансом больные все серьезнее относятся к своему скульптурному образу, часто они стремятся оградить портрет от неуместной или преждевременной критики; по этому поводу даже может возникнуть размолвка с родственниками.
Отождествление себя с изображением начинается задолго до появления истинного портретного сходства. «Идентификация не всегда относится к лицам, – считал К. Юнг, – но и к предметам» (Зеленский, с. 81). Можно привести немало подтверждений этой глубокой связи: при резких движениях работающего портретиста лицо больного иногда дергается; пациенты часто потирают ту часть лица, которую лепит врач, кривят рот, а при работе над глазами ведут себя так, будто соринка попала в глаз; они жалеют свой портрет, относятся к нему предельно осторожно. Тот же А. П. серьезно рассердился на четырехлетнего сына, показавшего на портрет со словами «это не папа», и на жену, которая высказалась по поводу «недоработанного» глаза. В. Р. создала целый ритуал общения со своим портретом: перед началом каждого сеанса она просила всех выйти из комнаты, потом звала их и сообщала: «Да – это я». Некоторые больные невольно пытались изменить выражение лица на портрете в области губ, бровей, чтобы передать врачу свое состояние. Были случаи, когда пациенты приезжали из другого города с единственной целью – посмотреть на скульптуру. «Нарисованное или скульптурное изображение, – сказал Леви-Брюль, – более или менее похожее на свой оригинал, является alter (вторым „я“) живой реальности, обиталищем души оригинала, более того, это – сама реальность» (Леви-Брюль, с. 135).
Трансформация основного синдрома заболевания. В процессе работы над портретом раскрываются патологические переживания больных – не только актуальные, но и давние. Приведу отрывок из воспоминаний С. М. «Мы делали бесконечно важное дело. Мы вместе делали его. Я уже начала болеть этой скульптурой. Я видела, как его руки – то нервно, то нежно – „колдуют“ над портретом. Он был взволнован моим рассказом. А говорить хотелось много и все до самого донышка! Он слушал, и это вызывало доверие. Сейчас, во время работы, он мог спрашивать о чем угодно. Да ничего этого не могло быть в кабинете врача. Сейчас я ему верила. Верила!»
Именно потому, что на первых сеансах структура патологических явлений вырисовывается со всей полнотой, в дальнейших беседах нет необходимости к ним возвращаться; так возникает цепочка продуктивного «контакта» с больным. Уже на первом сеансе психотерапии преодолевается удивление и скрытое недовольство больного тем, что врач занят лепкой, пока он пытается обратить внимание на свою личность, высказывая заготовленные дома жалобы и применяя хорошо отрепетированные приемы сопротивления лечению. К примеру, Н. И. после первого сеанса жаловался матери, что доктор невнимательно слушает подготовленные им отчеты и поэтому может неточно изобразить его лицо. В ответ пациент может услышать сходные в эмоциональном отношении признания самого врача.
Будущий «зеркальный двойник» пациента, пока еще в виде куска глины или пластилина, – перед взглядом врача. Начинается воссоздание образа больного. Врачу предстоит найти, вернуть черты лица больного, вытесненные или искаженные расстройством. Психотерапевт, как настоящий художник, полностью погружается в свое творение, идентифицируя себя с моделью, забывая об осторожности, теряя собственные «защитные механизмы». Он «заболевает» тем, от чего должен вылечить другого. Трудно описать силу эмоционального заряда, возникающего в начале лечения и не ослабевающего на всех этапах. Происходит трансформация внутреннего диалога в диалог «врач – пациент» – так называемый «перенос», когда процедура лечения проходит все ступени, описанные в классическом психоанализе. Но сходство это формальное, оно относится к лечебному процессу вообще. Ни принцип либидо (с последующими модификациями) ни представление о комплексах неполноценности (и тем более сложная, вызвавшая споры концепция дифференцированного бессознательного) в рассматриваемом контексте не значимы. Отмечу лишь, что известные методы психотерапии, разработанные для преодоления «сопротивления», для проникновения в интимные или вытесненные переживания больного, оказываются ненужными, когда начнешь работу над портретом.
Отсутствие временных ограничений в лечебном процессе, о котором говорилось выше, имеет существенный нравственный смысл: никто никуда не спешит, делается глубже и шире диалог между врачом и пациентом. Возникает иллюзия непрерывного общения, и можно позволить себе разговоры на «второстепенные» темы, как бывает в дружеской беседе. Эта нерегламентированность диалога способствует притоку положительных эмоций и в конце концов – вытеснению многократно повторяющихся (при привычном общении) негативных, собственно патологических переживаний. Так происходит редукция симптомов заболевания – ослабевает фиксация на своей персоне, совершается «коперниканский» переворот в оценочных категориях (Клиническая психиатрия, с.47).
Точное воспроизведение лица заставляет больного уточнять свои высказывания, по этому поводу и возникает основной конфликт между врачом и пациентом, который продуктивно преодолевается при портретировании. Конфликтная ситуация обязательна на сеансах портретной терапии, она имеет одну и ту же структуру при различном содержании – фактически это модель конфликта, возникающего в контактах больного человека с обществом. Поэтому наши врачи не потакают болезни, не соглашаются с тем, что чуждо общественному сознанию. Преодоление этого конфликта чрезвычайно важно и для продвижения портрета.
Выход из состояния аутизма обычно начинается с первых минут лепки. Пусть врачу недоступен внутренний мир больного, пусть слова врача оставляют его равнодушным, закрытым, но лицо пациента совершенно открыто. Существует целая культура понимания внутреннего состояния человека через внешние его проявления – от уровня здравого смысла до изощренных психологических приемов. В этом отношении портретное искусство не знает себе равных. Нет такого больного, который игнорировал бы направленный прямо на него изучающий взгляд художника – взгляд, сосредоточенный на воспроизведении его лица и его состояния. Первые признаки смущения, неловкости (так хорошо знакомые портретистам) вызывают у врача надежду, оптимистические прогнозы – его внимание уже не поглощают отдельные признаки душевной болезни. Терапевтический азарт невозможно остановить, пока врач не пробьет брешь в аутизме, пока не начнется свободное, действительно духовное общение. Начальный период скованности, самоуглубленности больного, которую можно было бы интерпретировать как еще больший уход в себя, на самом деле часто оказывается мучительным поиском контакта с врачом. Нелепые высказывания иногда – своеобразные «пробы и ошибки» на пути к серьезному общению с оппонентом. Нередко сеансы проходят в полном молчании, но это лишь затишье перед важными событиями.
Со временем между врачом-скульптором и больным возникает особая внутренняя связь. Ее характер лучше всего показывают многочисленные примеры «двойного» общения, приведенные выше. Оставаясь недоступным в контакте с посторонними, даже с родственниками, больной неожиданно сильно привязывается к врачу-портретисту, ищет встречи с ним, хотя идет на конфликты. Со временем наши пациенты становятся крайне пунктуальными, тщательно готовятся к началу очередного сеанса, торопят своего «опекуна», помогающего общению с врачом, волнуются перед приходом к нему. Некоторые готовят подробный план беседы, что свидетельствует о продолжающемся в них диалоге и вне реального контакта. Нередко этот внутренний диалог продолжается по инерции и после курса лечения – месяцы и годы, как бы оберегая больного. Такой диалог может проходить и вне портретной терапии (пациент Г. С., художник по профессии, приходил к подъезду психотерапевта, спорил с ним, делал признания, чтобы избавиться от галлюцинаций).
Связь между врачом и больным становится особенно отчетливой, когда из-за каких-то чрезвычайных обстоятельств курс лечения прерывается, – вот тут и выясняется мера надежды нашего пациента, степень мобилизации его жизненных сил, направленных на преодоление болезни. Состояние может настолько ухудшиться, что помочь больному удается лишь в условиях стационара. Но и успокоившись, он испытывает глубокие переживания, связанные с врачом и своим скульптурным портретом. Таким образом, обострение (при «отказе другому в последнем слове» – Бахтин, 1996, с. 362) протекает не в русле прежних болезненных переживаний, а представляет собой состояние с новым содержанием. В. Б., лечение которого было прервано по не зависящим от нас причинам, приходил в наше отсутствие, чтобы посидеть рядом с портретом, не отрываясь смотрел на него и уходил лишь по просьбе персонала. В. Р. в подобных обстоятельствах (уже из больницы) писала своему другу, что у нее есть шанс на спасение, – у доктора в Москве она оставила «часть своей души» и он сохранит ее до выхода из больницы. В. М. ушла из дома, попала в среду богемных художников и много рисовала, чтобы, как она потом выразилась, «преодолеть тоску совместной работы по портрету».
Надо отметить, что такого рода привязанность не является постоянной – ее особенности неразрывно связаны с этапами создания портрета. По мере его продвижения возникает и растет, с одной стороны, критически-реалистическое отношение к врачу, а с другой – стремление вовлечь в сферу своих переживаний все новых и новых людей; при этом идет активное формирование целей и планов новой жизни. Этому невольно способствует и сам врач, который по мере приближения к окончанию лечения как бы стряхивает с себя это «наваждение» и возвращается к своим профессиональным обязанностям – его ждут новые больные. Некоторое взаимное разочарование не мешает, однако, сохранить теплые чувства друг к другу, воспоминания о совместно пройденном пути.
Что же происходит с тем содержанием переживаний пациента, которое находится на периферии общения создателя портрета с его моделью? Собеседники как будто игнорируют такие «мелочи» как бред, галлюцинации, навязчивые идеи. А ведь именно на этих переживаниях фиксируется внимание больного на первых этапах, именно на их преодоление уходит больше всего сил. Во-первых, иллюзия вечности общения создает у больного уверенность, что к своим основным вопросам он может вернуться, когда только пожелает. Во-вторых, каждая болезнь несет с собой очень ограниченный набор переживаний, к которым приковано сознание пациента. За время лечения портретируемый больной успевает многократно повториться в своих проявлениях, – это вызывает недовольство присутствующих, а у врача откровенную иронию и даже «агрессию», так как подобные «надоедливые» повторы мешают сосредоточенности скульптора, необходимой особенно в работе над деталями лица.
Со временем больной научится терпеть «пренебрежительное» отношение к его «неординарным» мыслям и чувствам и, чтобы вернуть свой прежний статус, пойдет на компромиссы, пытаясь приспособиться к вкусам авторитетного для него круга – придется вести беседы на темы, которые с момента заболевания стали трудно ему даваться. Возникающие из-за этого конфликты психотерапевт улаживает простыми формулами: «Я ненавижу вашу болезнь и люблю вас, у меня ничего не получится, если вы и дальше будете повторять эти непонятные мысли – постарайтесь хотя бы яснее выразить их». Нередко активность больного относительно собственных патологических переживаний так велика, что он направляет все усилия на расшифровку этих переживаний и порой добивается успеха. Так символическое и мифологическое мышление становится конвенциональным и рациональным – это один из главных путей упрощения и редукции основного синдрома заболевания, который в конце становится истериеформным.
Пути трансформации. Одной из самых глубоких идей клинической психиатрии является, на наш взгляд, проблема протекания психозов. Временной обзор проявлений болезни, ее характера – важнейшая составляющая клинической культуры. Этому уделено много внимания в истории психиатрической мысли. Идея автономного развития психической болезни себя не оправдала, и это, видимо, способствовало тому, что соответствующая качественная характеристика выбыла уже в IX пересмотре международной классификации психических заболеваний. На самом деле типы течения болезни – реальный факт, они описаны весьма убедительно. Эту типологию можно использовать и без идеи об автономном развитии болезни, признаков тяжести заболевания и т. п. Два типа проявления болезни – непрерывный и приступообразный – крайне важны для нас при слежении за положительной динамикой основного синдрома заболевания.
Здесь уместно вспомнить, какое содержание вкладывал О. Блейлер в понятие аутизма. Он не считал явление одиночества некоим застывшим признаком, который может присутствовать либо отсутствовать. Поскольку это источник остальных расстройств, существуют различные степени отчуждения. По нашим данным, всякие психические расстройства начинаются с постепенного уединения, ухода в себя пациента. Даже после исчезновения некоторых продуктивных расстройств проблема аутизма сохраняется. Затем одиночество дифференцируется, обрастает патологическим содержанием, причем внешний круг этого обособления нередко составляют ритуалы, псевдогаллюцинации, некоторые формы агрессии, манерность, вычурность, другие поведенческие расстройства.
Вытеснение болезни. Мы проследили два главных пути исцеления душевнобольных, приходящих к нам с диагнозом психического заболевания. В одних случаях аутистический симптомокомплекс вытесняется на второй план, локализуется, появляются светлые промежутки, называемые в наркологии «окнами». Вместе с дезактуализацией падает амплитуда проявлений в этих локальных участках, обедняется патологическое содержание. Со временем протяженность приступов сокращается, а потом и вовсе исчезает. Остановимся на случаях, которые достаточно убедительно иллюстрируют существование этих тенденций.
В. С., 1964 года рождения. Первые навязчивые страхи появились в десятилетнем возрасте – во время мочеиспускания над ним могут посмеяться или ударить и т. п. В семнадцать лет развивал идеи социального переустройства общества на основе чувства жалости к проституткам. Мечтал поехать в США и создать там Всемирный центр по спасению падших женщин. К двадцати годам навязчивые страхи, связанные с событиями прошлого (иногда раннего детства), усилились, сформировались ритуалы. Родители были вынуждены поместить его в психиатрическую больницу. После выхода из больницы одна идея стала доминирующей. Как-то он прочитал, что мужчина может изменить свой пол, и с этого момента начал бояться превращения в женщину. Внимательно наблюдал за состоянием своих половых органов (опасался, не попали ли в мочеиспускательный канал осколки стекла, пыль, инфекция, не началось ли искривление члена), боялся их перерождения в женские. Почти ежедневно заставлял мать надевать очки и всматриваться: нет ли у него в промежности женского полового органа. Иногда эта процедура длилась несколько часов, но успокоения не приносила, заканчивалась вспышками возбуждения, грубыми выходками по отношению к матери. Случалось, перед сном он воображал себя женщиной и при этом испытывал сексуальное возбуждение. Затем от стыда неделями избегал людей, полагая, что им все известно. В 1986 году – повторная госпитализация с диагнозом «шизофрения параноидная»; получал инсулино-шоковую терапию, значительные дозы нейролептиков. После выписки из больницы сформировалось твердое убеждение – женщину внутри него зовут «Оля», ее половой орган уже сформировался. «Оля» заставляла (императивные слуховые псевдогаллюцинации) сожительствовать с ней. Неосуществимость полового акта вызывала мучительные переживания и странные поступки. На первом приеме мы увидели пухлого, женоподобного молодого человека, мучимого множеством навязчивых страхов и сомнений, высказывавшего бредовые идеи – от реформаторских до идей воздействия. Налицо были грубые расстройства мышления. Нейролептики сразу же были отменены. Скульптурный портрет В. С. выполнялся в полный рост на многочасовых сеансах, при активном постоянном общении. Этот диалог был чрезвычайно эмоциональным и во многом конфликтным. Галлюцинаторно-бредовый комплекс не развивался, пациент монотонно повторял одно и то же, вызывая на себя терапевтическую «агрессию». Патологические знаки то вытеснялись (появлялся продуктивный контакт с пациентом), то вновь всплывали, заполняя плоскость контакта. Положительные изменения обозначились уже на первых сеансах: многочисленные симптомы постепенно локализовались, спало напряжение; в течении болезни появились светлые промежутки. Со временем непрерывная форма болезни перешла в приступообразную. В ходе лечения приступы болезни укорачивались, содержание их обеднялось и уходило на второй план. Работа была разделена на четыре этапа, каждый длился два месяца. В конце каждого этапа наблюдалось временное исчезновение всех признаков болезни. Через два месяца после окончания третьего этапа, приступая к четвертому, мы не могли не заметить, что наряду с улучшением психического состояния больного менялась его внешность: исчезла припухлость, округлость форм, тело обретало мужские очертания; заблестели глаза, стала богаче мимика. Из навязчивых идей остался лишь внутренний диалог с лечащим врачом.
По нашим наблюдениям, это состояние часто проявляется в конце курса лечения и предшествует выздоровлению. Диалог с воображаемым партнером, к сожалению, недостаточно изучен в современной психологии. Он имеет не только отношение к проблеме идентификации человека с самим собой, но и может пролить свет на психологические механизмы творчества, особенно при анализе его результата. В этой связи интерес представляет также главное упражнение в единоборствах – «бой с тенью». Несколько лет мы осуществляли программу под названием «Бой с тенью как поиск утраченного двойника», пытаясь создать двигательный диалог с больными, отказывающимися от вербального контакта. Эту же цель преследует практикуемая нами техника пластической ритмики, когда пациент «зеркально» повторяет пластику терапевта (Сборник статей по прикладной психологии, с. 106–112).
В ночь, когда завершался портрет (а тем самым и лечение), В. будто опьянел. Симптомы заболевания вернулись, речь стала монологичной – говорил без остановки, бессвязно, вновь появились нелепые вычурные движения, которые совсем недавно он уже называл «кривлянием». Это «кривляние» продолжалось наутро, со слов матери; оно прошло через два дня, оставив после себя кратковременную головную боль и некоторую раздражительность.
Особенность лечения В. С. заключается в том, что после проведенного курса патологические признаки исчезали после очередного этапа за разное время, от недель до месяцев. Но есть случаи, когда приступ наблюдается каждый день, иногда в один и тот же час.
Р. Х., 1978 года рождения. Лечился в психиатрическом диспансере с диагнозом «шизофрения параноидная, неблагоприятный вариант», у частных психиатров, экстрасенсов, народных целителей. В октябре 1993 года стал говорить, что он может перевоплощаться в отца или старшего брата, «буду жить и говорить как они». Утверждал, что понимает язык животных, может общаться с ними, а животные понимают его. Испытывал чувство «горения в пальцах и падения искр с них». В декабре того же года, после передачи по телевидению, посвященной экстрасенсам, почувствовал себя плохо, считал, что из него «вышла часть» и он «стал не таким, изменился». «Эта часть – говорил он – вышла из-под контроля». Родители обратились к экстрасенсу, который заявил, что у мальчика есть способности проникать в параллельные миры, способность к ясновидению. После сеансов стал на расстоянии видеть родственников в ауле, отгадывать мысли одноклассников, предвидеть действия окружающих, «ощущал музыку каждой клеткой своего тела». Постепенно окружающий мир, даже близкие и родственники, становился враждебным. Утверждал, что у него вытягивают энергию, пожирают мышцы, размножают его половой член и с помощью шлангов присоединяют к себе, часто повторял «не лезьте ко мне», отмахивался от невидимых флюидов, бил их кулаками. Говорил, что «устал от черных, лезут и рвут по кускам». Защищался тем, что перестал умываться, стричься, общаться с людьми. Запирал двери, но «голос» запрещал открывать даже мысленную дверь «черным», существующим «в форме слизи». Иногда под «черными» подразумевал родителей, в то же время утверждал, что эти сущности настраивали его против отца и матери; пытался им сопротивляться, «но сил на это не было». В конце концов пришел к выводу, что он сам Аллах и способен воздействовать на других. Работа над портретом, в отличие от предыдущего случая, проходила относительно спокойно, пациент хорошо позировал, хотя на первых сеансах врачу приходилось давать себя вовлечь в его систему ценностей. Поэтому работа над овальной формой продолжалась дольше обычного, но когда стали выбирать черты лица, разговор перешел на обыденные темы. С того времени мы наблюдали только эпизодические проявления патологического творчества, почему и прекращали работу.
Здесь диалог с врачом сначала остановил бредообразование, а потом постепенно вытеснил патологическую продукцию; светлые промежутки наблюдались в течение всего дня, а психотические реакции чаще в полдень. Отец пациента даже отслеживал продолжительность приступа (20 минут, 10, 5). На последнем этапе приступ утратил содержание и проявлялся в виде агрессии, спровоцированной неосторожным обращением с больным. Такой переход от беспричинной агрессии к реакциям также означал для нас смену монологического мышления диалогическим и был связан с переходом синдрома на другой, более легкий (невротический) регистр расстройств.
Наконец, наступило время, когда перед началом сеансов, опережая больного, лечащий врач шутливо спрашивал: «пожирают?», наступала пауза, потом смех и совместная работа над портретом возобновлялась. Портрет не был завершен, так как состояние пациента в течение двух лет не внушало опасений.
Рационализация. Второй путь имеет отношение к постепенной рационализации бредового симптомокомплекса. Бредовые идеи переходят в сверхценные, а затем и в категории обыденного здравого смысла. Термин «рационализация» мы используем не в психоаналитическом смысле защиты, а в клиническом – рациональной психотерапии. Однако в отличие от такой терапии врач не является активным участником рационализации, она протекает у самого больного в ходе истинного и воображаемого диалога с врачом. Причем пациент приходит к врачу, чтобы обсудить очередную порцию своих умозаключений, домашних заготовок.
Ж. К., родилась в 1959 году в семье известного адвоката. Беспокойный характер у нее проявился очень рано. В трехлетнем возрасте, когда ее укладывали спать, много раз спрашивала, на месте ли ее игрушки. Уроки делала только на кухне; спала в одной комнате с родителями, боялась темноты. Из-за боязни получить плохую отметку занималась много, до глубокой ночи, даже в выходные отказывалась от развлечений. В университете после зимней сессии сразу начинала тщательно готовиться к летней, лишая себя отдыха… После родов появился страх: в квартиру может проникнуть вор, когда кто-то из домашних открывает дверь. Она стала часто дежурить у входной двери, поджидая мнимого грабителя. К дочери относилась с неприязнью, даже с ненавистью. Однажды больная нашла, что бриллиант на ее перстне с дефектом; решила, что на него попал солнечный луч и «испортил» камень. Состояние стало ухудшаться: снизилось настроение, появилась бессонница, головные боли, пропал аппетит. Родители обратились к психиатру, поставившему диагноз «шизофрения вялотекущая, неврозоподобная». Теперь всю свою бижутерию и драгоценности стала бдительно охранять: заперла шкафы, загородила их, никого не подпуская. Отказывалась от еды, часто лежала лицом к стене, к ребенку не подходила. До обращения в институт маскотерапии больная уже трижды находилась на длительном стационарном лечении. Тогда она принимала более ста наименований лекарств и их сочетаний в виде таблеток или инъекций, а также атропино-, инсулино-, электрошоковую терапию, лечение хемиошоком (одновременная отмена всех лекарств). В итоге появилась непереносимость большинства психотропных средств. Относительные ремиссии наступали лишь при использовании трициклических антидепрессантов. Но и в периоды улучшения больная продолжала копить и зорко охранять свои драгоценности. В конце концов, она заняла одну из комнат в квартире отца, завела специальные шкафы, установила там сигнализацию. «Ювелирная комната» была заперта несколько лет; мимо ее дверей нужно было проходить по сложному пути, с особой осторожностью, в противном случае у Ж. К. наступали тяжелые приступы агрессии, напряженность иногда длилась неделями. Даже разговоры об этой комнате были под строжайшим запретом – «информация» могла просочиться к возможным грабителям. Первый ночной сеанс принес ощутимые плоды: у больной восстановился сон, а за месяц портретирования она стала нормально питаться, вернулась на работу. Но полного выздоровления пришлось ждать долго – почти полтора года. Трудность заключалась в том, что наша пациентка раздробила комплекс своих переживаний на множество самостоятельных частей и каждый раз как бы приглашала врача преодолевать новый барьер. Работа с больными этого типа чрезвычайно изнурительна, отнимает много времени и сил. Через год Ж. стала приходить на сеансы одна. Вскоре у нее появилась вера в исцеление; впервые в жизни она стала писать стихи, описывала лечение портретом. Быстро совершенствовалась: вскоре она обсуждала свои произведения с известными поэтами и даже начала публиковаться.
Таким образом, лечебный процесс Ж. К. можно разделить на два этапа. На первом больная формулировала множество проблем, нуждающихся в решении, а на втором она констатировала факт их успешного разрешения. Весть о преодолении Ж. К. каждого из ее «барьеров» преподносилась нам неожиданно, как сюрприз, как подарок, праздник! Вначале это радовало, затем утомляло, и когда однажды во время работы с ней ее отец стал благодарить врача по телефону в связи с тем, что наконец открылась «ювелирная комната», у нас едва хватило сил принять это к сведению.
После двух упомянутых этапов мы заметили, что больная уже демонстративно фиксирует внимание на улучшении своего состояния, а портрет фактически завершился. Когда мы поделились с нею своим мнением, она широко открыла глаза, покрылась красными пятнами, стала хватать воздух протянутой рукой и упала на ковер, но сознание не потеряла; около пяти минут наблюдалось подергивание мышц, затем все прошло, она сказала, что ей гораздо лучше. Во время приступа она блаженно улыбалась, как бы успокаивая взглядом: не бойтесь, мне хорошо, очень хорошо… Привычка фантазировать, придумывать «чудеса» портретной терапии сохранялась у Ж. еще некоторое время после окончания лечения: то она делилась своими фантазиями с журналистами, то перед телекамерой, то с родственниками, то с больными или случайными посетителями нашего института. К скульптуре у нее было свое особое отношение: ей казалось, что после появления сходства портрет ожил; по временам якобы менялись его объемы, он представлялся ей то злым, то добрым. Портрет был закончен. И основные проблемы Ж. К. были решены.
Этот случай выделяется еще и тем, что лечение с самого начала проходило в интенсивном сотрудничестве и диалоге с лечащим врачом. Чувство уважения и благодарности к лечащему врачу присутствовало на всем протяжении лечения. Другая особенность заключается в том, что пациентка, преодолев болезнь в прямом и воображаемом диалоге с врачом, преодолела и так называемую «норму», реализовав себя как незаурядный литератор. Раньше она любила радовать лечащего врача, сообщая об избавлении от очередного патологического комплекса, а через много лет может сообщать из другой страны о своих творческих достижениях. В отличие от Ж. К., больной А. Г. долгое время испытывал к врачам и персоналу ненависть и страх.
Этот благородный на вид молодой человек с тяжелым взглядом, неподвижным лицом, скрытым в неряшливой бороде, с раннего возраста любил всевозможных насекомых, «у него всегда в ладошке можно было найти какого-нибудь жучка или паучка, к которым он относился очень бережно». 17 мая 1993 года он пошел прогуляться, вернулся домой с двумя конфетами. Разделил с отцом конфеты. К вечеру почувствовал себя плохо – говорил о неприятных ощущениях в голове и во всём теле (покалывание, жжение, ощущение повышенной температуры), долго сидел, опершись локтями о стол и охватив голову руками. Отец решил, что конфета была отравлена. Состояние А. ухудшалось, постепенно нарастало беспокойство, он стал вести себя странно и «выглядеть безумным» – отчужденный взгляд, непонятные действия, которые он объяснял тем, что так ему становится легче. Эти изменения произошли в течение часа. Затем он надел куртку и шапку, разулся («всю правую обувь положил внутрь куртки, застегнул молнию, одел шапку, всю левую обувь положил в портфель») и босиком вышел на улицу. Вскоре вернулся, стал суетиться, беспрерывно открывать и закрывать ящики своего стола. Спал около 20 минут, проснувшись, подошел к матери и предложил прогуляться с ней. Мать говорит: «Гуляя с ним, я поняла, что потеряла сына, это был уже не мой А.». На другой день поведение А. Г. стало вычурным, он совершал нелепые ритуалы – постоянно переставлял обувь, манипулируя со шнурками, ненадолго застывал в странных позах, стал делать непонятные движения, странно шевелить пальцами, переставлял вещи, к чему-то прислушивался, потом заставлял родных совершать то же самое. После того как друг сказал, что на нем лица нет, подумал, что он «как сломанное зеркало». Стал жечь в своей комнате бумагу, чтобы огнем уничтожить опасный для людей «круговорот информации». Одновременно думал, что этот огонь – «движущая сила существования», вроде двигателя внутреннего сгорания для автомобиля. Иногда ощущал себя пауком, мухой, чувствовал отрицательное воздействие электромагнитных колебаний. Свои действия уже не объяснял, на вопросы не отвечал. Был стационирован с диагнозом шизофрении параноидной. В больнице сначала сопротивлялся действию лекарств, пробуя силу своей воли, затем научился прятать лекарства под язык, чтобы «происки врачей не оправдались». При выполнении самых важных ритуалов ощущал «смещение» пространства внутри себя, сопровождающееся внутренней вибрацией тела. Больного стали готовить к инсулиношоковой терапии, мать отказалась от этого вида лечения. А. в тот же день выписали. Когда мать приехала к лечащему врачу узнать, почему ее сын пришел один домой, ей ответили, что в этой больнице он больше лечиться не будет. Обратились в наше учреждение. Был крайне негативен, однако молча сел к мольберту. В это время, как выяснилось потом, считал мать ведьмой, а сотрудников института – страшными людьми, собиравшимися «отнять его душу». Согласился позировать, поскольку еще до болезни предположил, что через много лет окажется в каком-то месте, похожем и не похожем на больницу. Но решил оказать сильное сопротивление. До начала сеанса стал показывать различные фигуры из пальцев и потребовал, чтобы лечащий врач их повторил, потом чтобы он щелкнул зубами. Молчал на протяжении первых сеансов, сидел отвернувшись от мольберта. Можно было только наблюдать сгорбившуюся, одетую в пальто и шапку фигуру человека с трясущимися руками. Потом, ничего не говоря и не поворачиваясь к врачу, выходил из зала. Позднее признавался, что часто ощущал, «как будто ток по телу проходит, позировать было тяжело, так как очень сильное влияние». Контакты обрывал одной странной фразой. Например, спрашивал: «Где вы родились?… У вас в голове бездна». Стал приходить раньше назначенного времени, ставил доску с портретом на стол перед зеркалом. Долго смотрел («молился») на маску и как будто вел переговоры с нею. Завел блокнот, рисовал врача, но никому не показывал. Отсутствие вербального контакта длилось два года с перерывами. Потом «голос» ему сказал, что лечение портретом верное, «нашел свои ошибки и скрытую правду института». Признался матери, что он внешне здоров, а внутренне болен, уже торопил с поездкой в Москву. После очередного этапа лечения галлюцинации и большинство ритуалов исчезли, А. стал общительным, даже скучал без бесед с людьми. Сбрил бороду, правильно и опрятно одевался. Чаще смотрел телевизор; впервые за время болезни смеялся, причем весело, от души. Настроение постепенно улучшалось. Он даже решился прослушать повторно курс лекций в университете. Признался матери, что после лечения хотел бы жениться. Теперь уже не отступал от врача, каждый день хотел поделиться с итогами своего текущего анализа болезни. Полтора года рациональная интерпретация большого количества патологических признаков велась в режиме заочного диалога с врачом. А после бурных реакций в течение суток психическое здоровье по всем признакам восстановилось. Стал работать на стройке, возобновил учебу.
Момент завершения портрета (катарсис) А. Г. не менее интересен, насыщен не менее сложным содержанием, чем сам процесс лечения. Но здесь от проблем идентификации мы должны перейти к проблеме самоидентификации. А триада врач – пациент – портрет будет рассмотрена на элементарном (неразложимом) уровне психотерапевтического диалога.
3.3. Критерии завершения психотерапевтического процесса. Катарсис по Аристотелю и псевдокатарсис по Брейеру и Фрейду
Фактор завершения терапии психического заболевания – одна из центральных проблем практической психотерапии. Это вопрос этический. Он возникает в атмосфере оказания текущей медицинской помощи пациентам на пути к так называемой норме. Здесь есть два аспекта: возможно ли радикальное завершение лечения и каковы его критерии. В контексте клинической психотерапии, как и медицины в целом, этот вопрос не так актуален. Концепция отрицательного прогрессирования болезни, о которой мы говорили выше, исключает возможность радикального решения проблемы. Здесь уместно говорить о так называемых ремиссиях.
В других психотерапевтических школах общая тенденция приближается к клинической точке зрения. Мы же, следуя Фрейду, считаем, что лечение должно непременно завершаться, а это в свою очередь означает для нас достижение больным полного психического благополучия. Фрейд, имевший дело в начале своей карьеры с недееспособными пациентами, «совершенно неспособными к нормальной жизни» (Томе, Кэхеле, с.448), хорошо понимал, что если в соматической медицине временное или частичное избавление от боли или телесного дискомфорта возвращает пациенту утраченный общественный статус, то в области психиатрии даже малозначительные нарушения могут воспрепятствовать его социальному благополучию.
Постаналитическая фаза. Психоаналитики после Фрейда поставили ряд важнейших вопросов, связанных с завершением лечебного процесса, но ни на один из них не дали исчерпывающего ответа. Формулу Фрейда «там, где было Оно, должно стать Я» не прояснили ни Ш. Ференци и О. Ранк (Ferenzi, Rank), ни М. Балинт (Balint), ни другие активно занимавшиеся этой проблемой аналитики. Из множества интересных зарисовок окончания анализа, «периода отнятия от груди», можно выделить четыре наиболее часто встречающиеся тенденции.
Это, во-первых, временное ограничение лечения. «Я решил… – предельно откровенно пишет Фрейд, – что лечение следует прекратить в определенно назначенный день, независимо от того, насколько оно продвинулось» (Томе, Кэхеле, с. 449). Такое волевое прекращение лечения подспудно присутствует в каждой терапии. В явной форме оно сохранилось при завершении психоаналитического сеанса. Фактор произвольного ограничения лечебного процесса всерьез обсуждался на всем протяжении развития психоанализа. Доминировали количественные характеристики. «Когда принимается решение по поводу продолжительности, хорошо бы помнить, что прежние аналитики привыкли проводить анализ в период от шести до двенадцати месяцев, и его конечные результаты, насколько я мог выяснить, не сильно отличаются от тех, о которых заявляют в настоящее время аналитики, растягивающие свои анализы на четыре-пять лет» (Glover, с. 382–383). Это типичный ход рассуждений психоаналитика 50-х годов, во многом еще манипулятора. «Когда закончится лечение?»[94] – на этот вопрос, часто задаваемый родственниками пациента, мы отвечаем в духе художника: «Возможно, сегодня», и проблема решается позитивно. Так мы говорим еще и потому, что имеем основания – случаи из нашей практики.
Другой, быть может, самый ранний критерий – времен «наивной» психотерапии – восходит к совместным опытам Фрейда с доктором Дж. Брейером. Этот критерий еще стоял в зависимости от «хирургического» представления об исцелении. Вначале «селективно» выделялось конкретное расстройство, некий моносимптом, затем, по методу снятия боли (посредством концептуализации причины) у сохранной во всех от ношениях личности производилось изъятие, избавление пациента от вытесненного в бессознательную сферу патологического конгломерата. Критерий в дальнейшем сохранился и был представлен Фрейдом в расширенном виде. «Первое – пишет он в своей поздней работе, – пациент не должен больше страдать от своих симптомов и должен преодолеть свои тревоги и торможения» (Томе, Кэхеле, с. 449). Но здесь уже присутствуют черты третьего, клинического признака окончания курса лечения – суммарное состояние пациента, существующего без «тревог и торможений».
Еще одну форму завершения, самую специфическую и самую укоренившуюся, представил Ш. Ференци под названием «супертерапии». Это так называемый обучающий анализ, когда пациент осваивает необходимый набор аналитических приемов терапии и сам может оказать сопротивление патологическому началу, имеющему свойство откуда-то появляться и утверждаться в поле сознания. Используемые приемы завершения анализа должны, по определению авторов, приводить к финалу: «Стороны расстаются. Контракт выполнен» (Menninger, Holzman, с. 179)[95].
Как видим, рассмотренные критерии завершения лечения (клинические и психоаналитические) выделяются в плоскости пациента, а врач, выполнив функции диагноста, затем целителя, становится и высшим судьей, определяющим судьбу пациента (здоров, нездоров). Не вдаваясь в подробности постаналитической фазы, отметим, что общая тенденция высказанных в последние десятилетия мнений сводится к поиску компромисса между радикальным прекращением анализа и возможностью неограниченного посещения пациентом своего врача – «гибкий подход» (Томе, Кэхеле, с. 457). Очевидная субъективность и неточность определений нормы в психоанализе, как и в клинической психотерапии, не требует доказательств. Для нас важно то обстоятельство, что ряд серьезных представителей этого направления используют, как и Фрейд, понятие финальной стадии лечебного процесса. Однако, принимая это понятие, мы встречаемся с другой, более сложной проблемой – определением критериев психического здоровья.
Здесь также возможны два аспекта. Первый имеет отношение к общепринятой точке зрения – это попытка стандартизации психической нормы, которая определяется количественно и альтернативно, как все то, что не является патологией. И второй – моделирование психического здоровья, составленного из разных более или менее смутных примет (отсутствие первоначальных жалоб, суммы продуктивных и негативных расстройств; представления и вкусы врача о «правильном», сбалансированном, здравомыслящем человеке; наличие позитивных результатов в общественной деятельности пациента вплоть до творчества). Здесь заметную роль играет также положительный или отрицательный вердикт опекунов больного, а также консультантов. К существующим признакам мы добавляем еще один, для нас важнейший, и выводим на авансцену фактор доказательности, последовательности и полноты оказания медицинской помощи.
Эстетический критерий завершения лечения. Контроль над лечебной деятельностью существует и в психотерапии, и в клинической психиатрии. Здесь предметом анализа становится медицинский документ – протокол беседы, дневники, эпикриз, акт экспертизы, заключение. Однако эти свидетельства не отражают в достаточной степени объективно деятельность врача, к тому же они фрагментарны и не могут показать качество лечения. Мы же закладываем психическую норму в саму технику психотерапии, поскольку имеем помимо вышеуказанных свидетельств еще одно, объективное – лечебный портрет как произведение искусства. Эстетическое качество, достигнутое врачом как художником – самое верное свидетельство его искренности в диалоге, использования им всех творческих ресурсов, его квалификации. Каждый художник-портретист знает, что в противном случае «искусство накажет», т. е. портрет эстетически не состоится. Хотя завершение портрета означает для нас окончание курса лечения и ничего больше, немалую помощь в спорных случаях могут оказать показы в профессиональной среде. Оценку художников и искусствоведов мы воспринимаем в том же ключе – все ли сделано для достижения лечебного эффекта?[96] Мы привлекаем к лечению консультантов по искусству. В нашей практике был даже случай, когда многолетний процесс был завершен в отсутствие лечащего врача стажером (об этом драматическом событии мы расскажем позже) и консультантом-искусствоведом, который, заметим, никогда не видел нашу пациентку.
С. В., 29 лет, небольшого роста, полная, курносая, с торчащими и разными по форме ушами, в темных очках. Вела себя с напускной вульгарностью, была неопрятна, волосы причесывала только спереди: «Чего бы мне особо наряжаться, я больна». После перенесенного в летнем студенческом лагере шока при попытке ее изнасиловать обнаружила странности в поведении. Была помещена в психиатрическую больницу Ульяновской области, где говорила, что у нее изменены глаза и нос, требовала вернуть ей внешность. С готовностью соглашалась на любое лечение, в том числе инсулино-шоковую терапию, в результате располнела примерно на 15 кг. После выписки несколько лет не выходила из дома, била мать и сестру, так как «голоса» подсказывали, что они осуждают ее внешность. Была уверена, что весь поселок обсуждает ее внешность и случай в лагере студентов-медиков. В наше учреждение приезжала с удовольствием, так как надеялась исправить изъяны свое внешности. Просила вывести глаза из орбит, куда они «прячутся как в гараж», исправить веки и нос. Лечение продолжалось около трех лет с переменным успехом. После каждого этапа отмечались кратковременные приступы агрессии, вызывавшей у нас чувство разочарования. Тем не менее пациентка с отцом приезжали в назначенное время. А на одном из заключительных сеансов неожиданно выразила желание постричься, перекраситься, сделать химическую завивку, макияж. На последнем сеансе решила, что глаза на портрете слишком большие, а должны быть маленькими. После сеанса, оставив отца, убежала, несколько часов отсутствовала. Ее, усталую и полусонную, на ступенях ближайшей станции метро случайно узнала мать нашего пациента. На следующий день мы встретились с отцом пациентки и запланировали встречу через два месяца. В перерыве наш консультант по искусству П. Белкин высказал мнение, что работа закончена. После долгой дискуссии мы приняли это суждение и, следовательно, должны были перевести портрет в твердый материал. Мы с тревогой ожидали приезда пациентки и были готовы признать свою неудачу. Но она не приехала, и только от ее родителей мы узнали о благополучном исходе лечения. Таким образом, состояние пациентки у метро завершил катарсис, обстоятельств которого мы не знаем.
Поскольку у скульптурного портрета, как у целостного явления, есть начало, этапы создания и завершение, то итогом лечения должно быть не частичное улучшение состояния, а полное выздоровление больного. «Нет необходимости бояться повторения связанных с ними (симптомами – Г. Н.) патологических процессов», – писал Фрейд в 1937 году (Томе, Кэхеле, с.449). И это его высказывание при должной оценке может коренным образом изменить наши клинические представления. Внутри «портретного времени», а не вне его делается все возможное, чтобы избавить пациента от болезненных переживаний. Все, что может беспокоить его после окончания портрета, рассматривается как нечто новое, не родственное предыдущему состоянию. Такое явление подлежит самостоятельному анализу и если оказывается аномальным, то нуждается в соответствующей коррекции. Итогом же лечения считается выход пациента из аутистического состояния, восстановление или развитие его творческих способностей.
Достигая уровня истинного осознания своих переживаний как болезненных, человек приобретает мощные защитные механизмы, своеобразную мудрость в болезни. По мнению многих бывших пациентов, они более стойко переносят трудности на своем пути, нежели люди никогда не болевшие. Именно творчество, а не роботоподобная деятельность, нуждающаяся в нейролептической «подпитке» и протекающая под бдительным надзором, является истинным критерием выздоровления. Но творчество не в смысле изолированного творца эстетических ценностей, а в смысле сотворчества со своим партнером-мастером, роль которого в нашем случае исполняет психотерапевт. Поэтому собеседник врача, пациент во время лепки – и активный соавтор врача.
Пробуждение конкретных творческих функций, как и достижение среднестатистической нормы, нами не планируется, но часто возникает неожиданно не только для пациента, но и для его окружения. Причем наибольший интерес представляют не столько случаи, когда сложившийся мастер (художник, музыкант, поэт, кинорежиссер, артист, ученый, журналист) успешно возвращается к своему творчеству, сколько те, когда никаких предвестников творчества в жизни пациента не замечалось. Умение лепить, рисовать, ткать гобелены, заниматься боди-артом, причем с чрезвычайно интересными результатами, мы наблюдаем почти у каждого из наших пациентов и пациенток. Но выход в профессиональную сферу, особенно при полном несоответствии с возрастом (хроническое психическое заболевание) и природными способностями, – явление экстраординарное. О выдающихся литературных успехах Ж. К., биолога по профессии, мы говорили в предыдущем разделе. Напомним, что первые рифмы она находила у мольберта в 34 года, затем работала визажистом, наконец, окончила за три года (вместо пяти) на «отлично» московский Литературный институт (рекордный срок для этого трудного вуза), удостоилась признания и лестных отзывов со стороны известнейших мастеров, в том числе Анастасии Цветаевой. Сегодня ей не отказывают в публикации солидные издания на русском языке, а в одном из крупных городов Европы она возглавляет русское литературное общество. Еще один случай – больная Е. К. (диагноз шизофрении параноидной), с резистентными к нейролептикам галлюцинаторно-бредовыми переживаниями. В 39 лет, преодолевая мучительные слуховые обманы императивного содержания, пришла к изобразительному творчеству (ее первые работы мы храним в нашем архиве), стала интересным скульптором, членом профессионального союза художников России. А больная Ас. М. в 28 лет, после завершения курса лечения, стала иногда петь на кухне. Через месяц, вернувшись на должность концертмейстера в консерватории, продемонстрировала красивый голос, преподаватели высоко его оценили и рекомендовали продолжить учебу по классу вокала. Окончив музыкальное училище им. Гнесиных в 1995 году, переехала в Европу и, по нашим сведениям, выступает на профессиональной сцене. Больной А. П. еще в аспирантуре был признан несостоявшимся математиком, тяжело и долго болел с диагнозом шизофрения параноидная. По завершении курса лечения занялся прикладной математикой, добился незаурядных результатов, защитил диссертацию и был приглашен в качестве профессора Техасского университета, выиграв конкурс среди 60 претендентов.
Идентификация пациента с самим собой. Синхронное (с лепкой) лечение, привязанное к эстетическому окончанию портрета, имеет свое развитие и детализацию. Мы отмечали феномен дискретности после каждого сеанса. Но дискретность присутствует и внутри одного сеанса. Именно здесь – ключ к пониманию природы лечебного диалога.
«В начале, – сказал М. Бубер, – есть отношение» (Бубер, с. 21). Художник-портретист, изображая свою модель, отводит взгляд с модели на изображение, удерживая в кратковременной памяти целое и воспроизводимую деталь. После реализации текущего переживания он переводит взгляд на модель, чтобы вобрать очередную порцию визуальных впечатлений. Таким образом, существует контакт с реальным человеком, контакт с его воображаемым образом и остановка контакта[97]. Диалог с реальным пациентом-моделью протекает в следующей последовательности: фиксация образа, его отчуждение и воплощение в пластическом материале, творческое освобождение от текущего впечатления. В то же самое время, когда врач находится в состоянии творческой переработки образа, пациент создает новый, или новую маску[98]. В таком прерывистом режиме протекает всякий диалог, даже телефонный. На наш взгляд, кульминация наступает в тот момент, когда врач, реализуя свое визуальное впечатление, исчерпывает тему и вновь обращается к лицу портретируемого пациента за новыми впечатлениями. Именно в этой точке общения происходит самоидентификация и врача и больного. Фактор самоидентификации является началом и концом всякого диалога, более того, это его смысл и ценность.
Приведение себя в соответствие с «текущим настоящим» (Дубровский, 1974) – жизненная потребность человека, свойство его ментальности. И как в портрете философски присутствует автопортрет, так и диалог в сущности есть диалог человека с самим собой. Самоидентификация – главное событие духовной жизни пациента (как и любого человека), когда прошлое и будущее сливаются в настоящем[99]. Будучи началом и концом диалогического мышления, она – его хрупкая основа, нуждающаяся в постоянном воспроизведении. Стойкое нарушение именно этого механизма неотвратимо приводит к психическим болезням.
Предпосылки завершения лечебного портрета. Дискретность диалогического мышления определяет неделимое образование, представляющее триаду, которую можно описать только после принятия следующего условия. Оно заключается в том, что диалог не является простым, вневременным событием, он направлен в будущее и коренное его свойство – фактор развития, интрига. В одной из версий диалога указанные выше компоненты (фиксация образа, его отчуждение и реализация) последовательно сменяются один другим. Против часовой стрелки, если больной сидит справа от художника, по часовой клетке, если слева. Возможны и другие плоскости «вращения» вышеуказанной триады, но тогда наблюдатель должен сменить точку обзора.
Мы не совсем согласны с представлением философов диалога (М. Бубер, Ф. Розенцвейг, О. Розеншток-Хюсси, С. Л. Франк, М. Шелер, Ф. Эбнер) о том, что каждый человек находится в своеобразном силовом поле, выступая попеременно субъектом или объектом общения. Розеншток-Хюсси предполагал строго определенный процесс попеременного существования человека в качестве объекта (подчиняющегося) и в качестве субъекта (господствующего), неразрывно связанного с языком (см.: Пигалев). Это принципиально формальная схема, которая не приживается в психотерапевтическом опыте. В нашем понимании человек является одновременно и субъектом и объектом контакта. Эта позиция резко отличается от концепции представителей диалогической философии, глубокие идеи которых ввиду их общего характера не всегда воспроизводимы в психотерапевтической практике, поскольку диалог между двумя людьми невозможен без третьего, реального, воображаемого, или же его присутствия в другой ипостаси. В противном случае партнеры будут обречены на смену «господства», а диалог выродится в спор. Достаточно представить себе абсолютную изоляцию пары «я – ты», чтобы возникло твердое убеждение о невозможности внутри нее какого-либо диалога.
Четкого определения третьего компонента мы не нашли и у М. М. Бахтина. Его «третий» – это по всем признакам «четвертый», которому уступает место один из партнеров (Бахтин, 1996, комментарий на с. 658). Крик о пожаре из примера О. Розенштока-Хюсси, обращенный в пространство «ты», производится, на наш взгляд, в ощутимом присутствии отстраненного зеркального двойника потерпевшего. Однако неопределенность «ты» – предмет другого исследования (Розеншток-Хюсси, с. 18). В работах фотографов и кинооператоров, запечатлевших портретную психотерапию, совершенно явно присутствует третий – то портрет, когда врач в контакте с больным, то врач, когда больной в контакте со своим образом, то пациент (когда врач лепит скульптуру). Благодаря особому присутствию третьего диалог из простого обмена «да» или «нет» приобретает развитие и все те свойства, которые были успешно охарактеризованы нашими предшественниками.
Итак, врач-скульптор смотрит на пациента, фиксирует и отчуждает его текущий образ. Затем, удерживая этот образ в своей памяти, портретист поворачивает взгляд на пластическую массу, а диалог продолжается с воображаемым партнером. Текущий образ модели эстетически исчерпывает себя; происходит гипотетически определяемая точка остановки творческого процесса, «пауза» в контексте настоящего, когда врач и пациент предоставлены самим себе. Врач-портретист в ожидании новых впечатлений, а модель с бездейственным еще, но уже образованным, зеркальным «я». Дальше все начинается сначала, но на новой ступени визуально-вербального познания.
Идентификация человека с самим собой не всегда учитывается представителями диалогического направления. Ошибка коренится в том, что они задаются не вопросом, какова роль «я» и «ты» в диалоге, а вопросом, какова роль диалога для «я» и «ты». Тут не помогает даже формальное отрицание «я» или «ты» вне диалога. «Дело в том, – пишет С. Л. Франк, – что никакого готового сущего-в-себе „я“ вообще не существует до встречи с „ты“. В откровении „ты“ и в соотносительном ему трансцендировании непосредственного самобытия – хотя бы в случайной и беглой встрече двух пар глаз – как бы впервые совместно рождается и „я“, и „ты“; они рождаются, так сказать, из взаимного, совместного кровообращения, которое с самого начала как бы обтекает и пронизывает это совместное царство двух взаимосвязанных, приуроченных друг к другу непосредственных бытия. „Я“ возникает для меня впервые лишь озаренное и согретое лучами „ты“» (Франк, с. 50). Это, на наш взгляд, – совершенно неверное описание человека и межчеловеческих отношений. Оно приводит автора к таким же сомнительным выводам о взаимных «проникновениях», «уничтоженьях», «откровениях» и т. п. Вопреки им «Я есмь» существует в сложной структуре общеизвестной паузы в беседе или когда собеседники переводят дыхание, глотают слюну в двигательном, вербальном или визуальном общении.
Если же мы вслед за Бахтиным будем рассматривать каждое высказывание как отклик на предыдущие (последовательное пересечение границ двух «я» – см.: Шоттер, с.107), то это будет противоречить нашему опыту. Работая с душевнобольными, мы часто говорим однотипными фразами с многократным повтором тем и реплик, однако диалог (иногда похожий на монолог) бурно развивается благодаря последовательной смене структурных образований, сеансов, масок. Язык в нашей практике является носителем чувств больше, чем содержания. Имели место даже случаи длительного (до двух лет) невербального контакта, или контакта в виде «монолога» врача и «монолога» больного, и это время было потрачено не зря – этапные и итоговые диалогические достижения свободно документировались нами.
Врач совершает «захват» и «присвоение» образа пациента (моя модель, мой пациент – мой ребенок, но лишь отчасти). Затем он переходит к его воспроизведению. Вектор его творческой активности направлен в будущее. Момент окончательной реализации визуальных впечатлений совпадает с настоящим, здесь нет ни прошлого ни будущего. Итак, по нашим наблюдениям, феномен диалога «я» и «ты» не исчерпывается тем, что партнеры смотрят друг другу «в глаза» (по Буберу и Франку), а продолжается и тогда, когда они «отводят глаза друг от друга» в процессе ассимиляции воображаемого образа партнера по диалогу. Происходит соотнесение этого визуально-вербального комплекса с самим собой, с собственным зеркальным «я», со всей онтогенетической глубиной этого «я», до полного их соотнесения и совпадения. Здесь «атомарный» творческий акт завершается и возникает острая необходимость в новых визуальных впечатлениях. В этом настоящем есть начало будущего в виде интенционального прорыва, который формирует мотив следующего творческого события.
Из всех философов-диалогистов один Розеншток-Хюсси пытался описать некое развивающееся во времени неделимое образование, структуру. Он поместил человека в гипотетический центр, из которого тот может смотреть назад, вперед, внутрь и наружу; этот «крест действительности» создается осями пространства и времени. На наш взгляд, в этой схеме крылья креста не равнозначны, так как на оси пространства назад, вперед или, добавим, в стороны, вниз, вверх – все это означает наружу, а на оси времени сторон внутрь и наружу вообще не существует. Следовательно, «прорыв» из единого пространства-времени не может состояться при всей убедительности самой идеи структурного перехода из настоящего в будущее (см.: Пигалев). Концепция диалога у Розенштока-Хюсси, как и у других авторов, плоскостная (лишена объема), а диалогическое событие в этом «эфире» или «пневме» (по Ф. Эбнеру) представлено в виде пунктирных линий, упорядоченных в двоичной последовательности.
Дискретная природа диалога, незримая и гипотетическая на элементарном уровне, находит свое объективное воплощение, ощутимую форму в конце сеанса, этапа, всего лечебного процесса. Эти концовки качественно одинаковы, они существуют в том сечении времени, когда, исчерпав текущее впечатление, врач-скульптор обращается к пациенту-модели уже не за очередными визуальными впечатлениями, а чтобы словом, знаком, просто уходом дать понять, что сеанс, этап лечения или же вся работа закончена. Получается резкое несовпадение с ожиданиями пациента, надеждами на будущее – истинная утрата иллюзий, когда его оставляют в настоящем лицом к лицу с самим собой.
Последствия шока проявляются в форме «отреагирований» разного масштаба. Происходит калейдоскопическая смена выражений на лице пациента, сопровождаемая эмоциональными выплесками, затем неизбежная встреча с самим собой и самоотождествление в процессе оценки завершенности скульптурного портрета (отчуждение от портрета). Значит, развязка может наступить только при потере партнера, и это сугубо диалогическое явление. Вот как описывает свои переживания больная М. Х., которая на несколько лет закрылась от внешнего мира, считая, что окружающие критически обсуждают ее волосы, нос горбинкой, другие «дефекты» ее внешности, а также поведение и мысли в целом.
Сеанс портрета 03.10.98 г. «Свет в конце туннеля появился, уже другое восприятие жизни, но есть еще одна проблема, о которой я не могу говорить, я надеюсь, что портрет решит эту проблему. Из-за этой проблемы можно вообще повеситься. Я знаю, что каждый момент все меняется, и я взгляну в лицо этому состоянию, и выйду из него». После последнего сеанса 07.11. 98 г. М. говорит очень сбивчиво: «Я раньше жила как в полусне, я могла закрыться в ванной и купаться 4 часа, и время тянулось, и я его не замечала. Это время другой реальности. Теперь я могу с собой разговаривать, как будто две меня. Тут много факторов. Но я чувствую влияние портрета, он вернул меня в реальность, как будто Бог по голове погладил. Сейчас мои чувства – это все не бред. Я просто все выплеснула в эфир, в какой-то момент хотелось плакать. Я четко определила, что есть, и по полочкам все раскладываю». Перед уходом домой, после бурных излияний, плача, упреков в адрес отца: «Я почувствовала себя взрослым человеком. Пришло восприятие спокойствия, уверенности. Полная река, без всплесков, без водопадов. Я почувствовала себя взрослой женщиной».
Здесь мы близко подходим к проблеме катарсиса, которую должны изложить уже в категориях диалогического мышления[100]. Помимо наших многолетних наблюдений, опору мы находим не только у современных авторов, но и в известном фрагменте «Поэтики» Аристотеля. И не потому, что она считается первоисточником этого понятия, а потому, что Аристотель выводит содержание катарсиса из природы античного театра – искусства диалога.
Катарсис у Аристотеля. Из сохранившихся свидетельств, можно сделать вывод, что в античную эпоху явление катарсиса (т. е. очищения) было в центре внимания философов древности. Видимо, не случайно греческие мудрецы привязывали его к основным категориям своих учений (Гераклит – к «огню», Пифагор – к музыке и числам, Платон – к душе и телу). Существовали и другие точки зрения, от религиозных до поэтико-эстетических. Но все это стороны хорошо известного явления, связанного с жертвоприношением (заклание «козла отпущения»), а затем с театром. Общим для них является то, что катарсис – это интенсивно окрашенное, ни с чем не сопоставимое психофизическое состояние, обусловленное строго определенным стечением обстоятельств. Оно возникает при восприятии искусства и приводит к «просветлению», «избавлению», «исцелению» души. «Понятно поэтому, – свидетельствует О. Фрейденберг, – что обряды очищения сопровождали мистерии и драматическую обрядность как дубликат; такое очищение называлось „катарсис“ или „катармос“ и заключалось в убиении жертвенного животного. В то же время „жизнь“ представляется в анимистический период как „душа“, и самое „очищение-жизнь“, дальше – „очищение жизни“ обращается в „очищение души“» (Фрейденберг, с. 154).
Концепции пифагорейцев и Аристотеля имеют точки соприкосновения в контексте диалогической парадигмы. Однако катарсис пифагорейцев сегодня труднее отделить от представления об эстетическом удовольствии. Взгляды Аристотеля сохранили актуальность в результате выбора им театра как места возникновения катарсиса (в отличие от изобразительного искусства как места подражания, мимесиса), который посредством «сострадания и страха совершает очищение» (Аристотель). Однако если отвлечься от мысли, что зритель непременно должен испытать страх, особенно когда героя на сцене «убивает» родственник, что показывают именно трагедию, а не комедию[101], то можно сказать, что эта концепция до настоящего времени не превзойдена другими авторами и актуальна. Она актуальна потому, что в трагедии создается (особенно у Еврипида) структура диалога с партнером, в которую зритель легко вовлекается посредством идентификации себя с героем (Морено, с.3).
Аристотель, начав с изобразительного искусства, перешел на анализ трагедии и нашел в ней самую убедительную, самую диалогическую атмосферу, где и наблюдается катарсис. Театр античности в этом плане коренным образом отличался от современного театра, там в диалоге присутствовал третий – хор, а зритель не играл роль третьего и был (как в кинотеатре) более свободен для полной идентификации себя с героем. В финале это приводит к более отчетливому отождествлению зрителя с самим собой. Катарсис по Аристотелю, «безвредная радость», имеет отношение к такой остановке диалога с воображаемым партнером и приведением зрителя трагедии в состояние самотождества. Такая интерпретация диалога наиболее обоснованна и ее не превзошли даже философы-диалогисты, которые, на наш взгляд, слишком отдаляли иудейскую и христианскую ментальность от античных мировоззренческих традиций. Достаточно вспомнить драматургию Евангелий или мистерий. Что касается диалога, здесь, мы полагаем, не было исторических прозрений и открытий. Пройдя долгий путь интерпретации в этическом и эстетическом планах (кроме одного глубокого замечания Лессинга)[102], понятие катарсиса окончательно «деморализуется» в ницшеанской философии и отныне выглядит сугубо эстетической категорией. Вот с какой последовательностью это представлено в «Рождении трагедии». «Еще никогда, начиная со времен Аристотеля, – писал Ницше, – не было дано такого объяснения трагического действия, исходя из которого можно было бы заключить о художественных состояниях и эстетической деятельности слушателя. Порой предполагается, что сострадание и страх приводятся к облегчающему душу разряжению строгой значительностью изображаемых событий; иногда же имеются в виду чувства подъема и воодушевления, в смысле некоторого нравственного миропонимания, вызываемые в нас победою добрых и благородных принципов и принесением в жертву героя; и насколько я убежден, что для весьма многих людей именно в этом, и только в этом, заключается все действие, производимое на них трагедией, настолько же ясно следует из сказанного, что все подобные люди, вкупе с их эстетиками-истолкователями, ровно ничего не поняли в трагедии как высшем искусстве» (Ницше, с. 22). Отныне катарсис будет рассматриваться как форма эстетических реакций[103]. И наиболее последовательным исследователем этого ракурса проблемы является крупнейший отечественный психолог Л. С. Выготский.
Концепция Л. С. Выготского. «В результате эстетическая реакция, – читаем в „Психологии искусства“, – сводится к катарсису, мы испытываем сложный разряд чувств, их взаимное превращение…» (Выготский, с.293). Об эстетизации катарсиса свидетельствует тот факт, что он усматривается в восприятии любого произведения искусства, независимо от его жанровой принадлежности).
Причем такая реакция, согласно автору, почему-то должна существовать без внешних проявлений «при сохранении ее необычайной силы» (Выготский, с.287). Подобная интерпретация эстетического чувства вызывает недоумение, ведь одни люди умеют сдерживать его при восприятии художественного произведения, а другие нет. Возглас «Какая красота!», слезы, смех, аплодисменты, крик, свист, моторные проявления, другие формы эстетического реагирования не требуют специальных поисков и подтверждений. Мы уже не говорим о бурном восприятии искусства в древности, о шествиях зрителей с венками по улицам, о жертвоприношениях, о диспутах авторов перед началом представления, о проводившихся параллелях театра с олимпийскими играми и чествованиях актеров как олимпийских чемпионов. «Упомянутое патологическое разряжение, – пишет знаток античной словесности Ницше, – катарсис Аристотеля, о котором филологи еще не знают толком, следует ли его причислить к медицинским или к моральным феноменам, напоминает мне одну замечательную догадку Гёте. „Без живого патологического интереса, – говорит он, – и мне никогда не удавалось обработать какое-либо трагическое положение, почему я охотнее избегал, чем отыскивал его. Не было ли, пожалуй, одним из преимуществ древних, что и высший пафос был у них лишь эстетической игрой…?“» (Ницше, с. 146).
Отправным пунктом Л. С. Выготскому служит известное определение Шиллера: «Итак, настоящая тайна искусства мастера заключается в том, чтобы формою уничтожить содержание» (Выготский, с. 293). Выготский, мы считаем, уделяет слишком много внимания структуре произведения искусства и значительно меньше, как это не парадоксально, – феноменологии. Он много говорит о взаимоотношениях формы и содержания произведения искусства, и почти не обращается к форме и содержанию феномена катарсиса. В своей психологии искусства он скорее гносеологичен, чем психологичен, и отводит объекту (произведению) значительно больше места, чем это нужно в данном контексте. Клише противопоставления формы и содержания творения накладывается на эмоциональную сферу («умные эмоции») почитателя искусства. Выготский считает, что при восприятии произведения участвуют прямо противоположные эмоции, которые при определенных обстоятельствах способны к взаимной нейтрализации, «к короткому замыканию». Он приходит к субъекту от объекта: «В этом превращении аффектов, в их самосгорании, во взрывной реакции, приводящей к разряду тех эмоций, которые тут же были вызваны, и заключается катарсис эстетической реакции».
Здесь мы видим симбиоз идей Шиллера и Фрейда (наиболее слабой, энергетической части его теории). Прямолинейность этой схемы очевидна, и для нас остается загадкой, почему Выготский заинтересовался этой проблемой, если он не видел «наружных проявлений», т. е. феноменологии. Видимо, он обратился к проблеме катарсиса под книжным впечатлением и построил, на наш взгляд, недостаточно продуманную концепцию[104]. Между прочим, Ч. Дарвин, на идеи которого («закон прямо противоположных ощущений или чувствований») Выготский опирается в разделе «Искусство как катарсис» (Выготский, с. 290), писал в дневнике о своей потере в возрасте 30 лет эстетического чувства после какой-то загадочной болезни. Дарвин жаловался на то, что уже не способен эстетически созерцать закаты, где, заметим, форма не разрушает содержание и никаких реакций нейтрализации по типу короткого замыкания не происходит.
Современное представление о катарсисе в обобщенном виде можно встретить у С. Аверинцева: «Глаза плачут, и сердце уязвлено, однако и согрето, на душу сходит умиротворение, а мысль яснеет и твердеет» (Аверинцев, с. 15). В этом емком определении известного филолога отражены и сильные и слабые стороны этико-эстетической традиции. Сила в точности самоотчета. Слабых сторон больше, они обусловлены фрагментарностью и тем обстоятельством, что скептическое отношение крупных ученых-гуманитариев к «психологизму» (описаниям психологических механизмов) часто распространяется на феномены, хорошо известные классической психологии. Ведь приведенная цитата описывает состояние, могущее возникнуть по любому поводу и даже при отсутствии такового. Больше того, это состояние может быть свойственно лично автору, другим выдающимся людям, но не всем, и об этом свидетельствуют случаи из нашей клинической практики. Во-вторых, явление катарсиса здесь безразлично к структуре диалогического мышления, оно выведено из исследовательского контекста в область обыденных представлений. Поэтому его можно назвать и эстетическим удовольствием, и моральным удовлетворением, и благодатью, и откровением, и раскаянием, и вдохновением, и встречей, и прощанием. В-третьих, под катарсисом, как это принято в наше время, подразумевается некое текущее, а не итоговое состояние. Это даже не «развязка», фрагментарность которой убедительно показана в критической работе Е. Рабинович, а фрагмент фрагмента, определенный тип эмоциональных проявлений, теперь уже бессмысленный (Рабинович, с.223). Создается впечатление, что ни один из авторов после Аристотеля не наблюдал рассматриваемый феномен – нет описаний внешних проявлений, нет сводного содержания (отчетов людей, испытавших это состояние), наконец, его не отличают от похожих явлений.
Псевдокатарсис по Брейеру и Фрейду. Первыми наблюдали и описали феномен катарсиса врачи, а именно Брейер и Фрейд. И в этом было их преимущество. За короткое время им удалось вполне корректно представить катарсис феноменологически, назвать его причину и определить один из механизмов его возникновения, учесть фактор избавления, очищения от патологического комплекса. Так они самым простым образом восстановили аристотелевское содержание понятия катарсиса, и Фрейд активно пользовался им в начале своей психотерапевтической практики. Важен и тот не замеченный еще факт, что Фрейд вступал в психотерапевтический (гипнотический) диалог с пациентом, чтобы вывести на свет психотравмирующее обстоятельство личной жизни больного. Позже он отказался от катартического метода из-за того, что именно этих «вспышек» не всегда удавалось достичь. Таким образом, Фрейд восстановил диалогическую среду возникновения этого феномена, он точнее Аристотеля показал исцеляющую сторону этого явления, основываясь на наблюдении. Наконец, его концепция позволяет задуматься о факторе аутоидентификации после избавления от патологического комплекса.
Однако по сравнению с катарсисом по Аристотелю это была узко врачебная концепция, не отражавшая полноты человеческих переживаний. Авторы фрагментировали сложное содержание, которое присутствует в определении Аристотеля – весь комплекс «очищения», а не только эмоциональное сопровождение исцеления. Яркие эмоции, похожие на электрические разряды, были некоторое время главным терапевтическим ожиданием при лечении неврозов. Слово «катарсис» лишалось исконного содержания, внутренней структуры и перемещалось в плоскость эмоций (после катарсиса), а само явление становилось похожим на некую электрическую искру, неживую и бездушную. Полного охвата страдающей личности не произошло, так как лечебная манипуляция производилась вне творческой атмосферы, окружающей создание произведения искусства. А названные Фрейдом причины болезни с годами становились все более проблематичными.
Были продолжатели катартического лечения – «дикий» психоанализ, «терапия первородного крика», но они ничего не внесли в понимание этого явления и, по нашему убеждению, пришли к ложным формам катарсиса, которые есть в практике любого психотерапевта[105]. Они имеют отношение к действию, близкому к католическому изгнанию (экзорцизм), устранению, удалению того, о чем манипулятор знает. Катарсис же приводит к множеству часто неожиданных и непредвиденных избавлений – душевных и физических.
Психодрама. Самым ярким представителем катартического направления был создатель психодрамы Я. Л. Морено. Чувствуя указанные выше недостатки раннего психоанализа, Морено сделал рискованную, почти авантюрную попытку соединить идеи Аристотеля и Фрейда. Он перевел психотерапию на театральные подмостки, где пациенты исполняли роли самих себя. «Архитектурный проект сцены, – пишет он, – соответствует терапевтическим требованиям. Ее округлые формы и различные уровни вдохновения, подчеркивающие вертикальный размер, стимулируют освобождение от напряжения и допускают мобильность и гибкость действия» (Морено, с. 149). Этот опыт оказался весьма продуктивным. Так появилась психодрама. Второе крупное новшество Морено состояло в том, что он сценически овеществлял само расстройство, а не его гипотетическую причину. Каждый современный психотерапевт знает, что достаточно «материализовать» (с помощью живописи, поэзии, пластики или музыки) и «тиражировать» некоторые патологические явления, и наступит облегчение текущего состояния пациента. Морено, более верному последователю Фрейда, чем он сам считал, не удалось воссоздать катарсис по Аристотелю, именно потому, что сами больные играли себя[106]. Это тоже было не искусство, а врачебная манипуляция. Но как алхимики в поисках золота, Морено нашел много интереснейших феноменов, например, «частичный катарсис», описал исключительно выгодную для терапии атмосферу. «Именно в этот поток катартического действия текут все ручейки катарсиса» (Морено, с. 153). Его заслуга и в том, что он четко выделил момент самоидентификации больных после катарсиса: «Психодрама как в зеркале отражает их личность» (Морено, с. 155).
Таким образом, психоаналитическое направление не имело отношения к большому искусству, охватывающему все личностные планы как больных, так и здоровых людей, но показало широкому читателю феноменологию, которую часто видит терапевт, избавляя пациента от боли или другого страдания. Эмоциональное выражение этого состояния нельзя приравнять к описанному древними явлению и может быть названо катарсисом только условно. Восприятие искусства, его возвышенной «искусственности» остается важной составляющей понятия катарсиса.
Катарсис и завершение психотерапии. Слово «катарсис» настолько утратило аристотелевский смысл, что уже не поддается реконструкции. Оно прочно ассоциируется с некоим чувством удовлетворения при избавлении от душевной боли, будь то эстетический или медицинский аспект избавления, и обычно означает яркое эмоциональное состояние, без содержания и структуры. Это эмоциональный выплеск, приводящий к позитивным результатам: «ясности и твердости мысли» у Аверинцева, ощущению исцеления и душевной свободы у Фрейда и Морено. Для нас же представляются наиболее ценными те концепции, которые учитывают некоторые особенности первоначального смысла. Это, во-первых, диалогический контекст возникновения катарсиса, во-вторых, его «итоговость» (недаром античное представление заканчивалось на заре), а в-третьих, фактор самоидентификации в атмосфере искусства, присутствующий почти во всех описаниях данного явления, не считая вырожденных случаев.
Приметы наступления катарсиса. Так как в лечении методом скульптурного портрета исключается какое-либо влияние, внушение, навязывание своих представлений о «норме», основная ставка здесь делается на возможности больного, на его способность перестроить собственную личность. Уже с самых первых сеансов наблюдаются выходы из тягостного взаимного непонимания, неприятия окружающего мира. В ходе дальнейшего общения эти «озарения» повторяются все чаще, становятся интенсивнее и значимее, однако всякий раз больной возвращается в броню своего отчуждения. Этот возврат выглядит как упрямство, каприз пациента и вызывает у него раздражение, ощущение неловкости перед присутствующими. К содержанию упомянутых «проблесков» приходится возвращаться, напоминать о них как о творческих достижениях, систематизировать их. Иногда больной проявляет большую изобретательность и изощренность, пытаясь вернуться к своему прежнему состоянию, потому что вначале ему бывает довольно неуютно в полноценном, здравом общении. Но с каждым разом его способность поддаваться патологическим изменениям уменьшается, он должен по памяти достраивать свою болезнь.
На пути к излечению возвраты неизбежны, и чем меньше остается патологических симптомов, тем больше пациент цепляется за болезнь (или болезнь цепляется за него). Но то, что раньше пугало окружающих в контакте с ним, сейчас раздражает; что казалось частью его самого и даже его сущностью, начинает выглядеть декларативным, демонстративным, наносным. Хотя синдром значительно упрощается, напоминая истерический, напряжение растет с каждым днем. Оказывается, симулировать душевную болезнь не так-то просто: возникает драматическая ситуация конфликта с самим собой, которая иногда разряжается настолько бурно, что походит на обострение прежнего состояния. В результате совместных усилий пациент примиряется с мыслью о том, что он такой же, как все, вполне здоровый человек с обязанностями нормального члена семьи и общества. Возникает чувство морального удовлетворения достигнутым, но с оттенком потери себя прежнего – оттенком, который исчезнет по мере включения недавнего больного в жизнь.
Следует отметить, что иногда черты психического здоровья оказываются не такими, как представлял себе больной, когда обращался за врачебной помощью; это еще одна причина нежелания «оторваться» от своих привычных болезненных переживаний. Но даже врачу неизвестно, каким будет пациент после избавления от патологических явлений, поскольку психическое здоровье не моделируется в процессе лечения. Сами больные предлагают два типа объяснений своего отчуждения. А. Ш., например, считает, что человек выбывает из пространства и времени, перестает существовать для других людей, не может быть полезным для общества и семьи, творчески продуктивным, не способен любить и страдать. В результате «засухаривания» мозга происходит «окукливание» личности с утратой образа самого себя, своего лица. Эти несколько вычурные определения отражают желание пациента (довольно типичное в период портретирования) вернуть себе прежнее состояние, прежнюю «форму». Такого рода отчужденность более свойственна людям, осознающим начало своей болезни, критически относящимся к своему состоянию. Иногда эта жажда вернуть утраченное относится не к самочувствию до болезни, а к конкретному яркому отрезку жизни, на основе которого формировалось обобщенное представление о себе. У других больных более скромные требования к жизни, но все они ищут утраченное «я».
А. Ш., 1955 года рождения, архитектор, склонный к философскому формулированию своих переживаний. Из-за творческих неудач и домашних распрей стал уединяться, уходил в лес, чтобы там наблюдать за распределением света в пространстве. После очередного скандала с тещей пошел на кухню, стал у окна, ощутил выход из пространства и времени – сперва блаженство, потом чувство утраты своего лица. «Мне было страшно. Жена сказала: побудь со мной. А утром понял, что потерял себя. Внутреннее сцепление как бы расцепилось. Стал как пустая бочка». Пытаясь почувствовать себя, вернуться к себе прежнему, он пошел в котельную, открыл заслонку печи и обжег кисть левой руки. Из хирургического отделения больной был переведен в психиатрическую больницу. Выйдя оттуда, в поисках выхода дважды бросался в самую широкую часть залива, плыл, чтобы между жизнью и смертью вернуть потерянное лицо. Десять лет лечился в психиатрических больницах, принимал нейролептики, электрошоковую и инсулиношоковую терапию. Ремиссии не было. Инвалид второй группы. Считал себя пришельцем из будущего, выполняющим важную миссию в интересах человечества. После первого катарсиса утром он вдруг выбежал на улицу, а вернулся с необыкновенно счастливым, сияющим лицом, прижимая к груди котенка. Как потом стало известно, он на Птичьем рынке загляделся на пятнадцатилетнюю девочку, долго стоял рядом и купил у нее котенка. В тот же день стал работать над оставленными до болезни проектами, которые завершил к концу лечения (позже все проекты были приняты к исполнению). Окончание курса лечения наступило мягко: к утру под конец суточного сеанса незаметно сел на место врача перед мольбертом и, не обращая внимания на присутствующих (фотожурналист, психолог, мать пациента, лечащий врач), дотронулся до подбородка скульптуры, более двух часов повторял движения врача (поглаживания большим пальцем правой руки подбородка), интенсивно бормотал что-то невнятное, глубоко интимное, говорил с портретом как с живым. Записи на диктофоне не удалось разобрать, а сам пациент ничего не запомнил из этого эпизода, сохранилась лишь серия фотографий.
Другая категория пациентов, как мы уже говорили, отличается инфантильностью, незрелостью представлений о своем «я» и своей внешности. Татьяна В. во время работы над портретом говорила врачу: «Помогите мне родиться. Я еще не родилась. Вы поможете мне?» Это очень точное определение целого ряда явлений, которые указывают на расстройство механизмов образования «я». Для таких больных все в будущем: «Вот вылечусь, а потом… займусь спортом, буду закалять свою волю, буду работать…».
Двадцатичетырехлетняя А. М. на вопрос, сколько ей лет, ответила: «Три года». А после нескольких сеансов, не без юмора: «Теперь двенадцать». О. К. была твердо убеждена, что ей стало шесть лет, когда она заболела. Причем не уступала в шутливых торгах ни на один день, подходила к зеркалу и сердито возвращалась: «Как вы это не замечаете?» Она имела в виду выражение глаз. Даже через год работы она не соглашалась, что ей по крайней мере семь лет. Постепенно пациентка «вырастала» и достигла своего паспортного возраста. Другой случай: В. С. не замечал своего высокого роста и считал, что ему по этому признаку примерно десять лет. «С тех пор, как меня стали лепить, – признавался он, – я сдвинулся с роста лилипута». У больного В. П. был якобы детский голос, затем голос «окреп». В конце лечения он долго плакал, жалея себя, – так много времени было упущено, ведь «женщины отворачивались от меня».
Не всем больным свойственно осознание своей незрелости, но все они, без исключения, так или иначе такую незрелость обнаруживают – в понятиях, в представлениях, в поступках. Это подробно описано в психиатрической литературе. Надо только добавить, что больные этой категории обнаруживают и значительный дефицит переживаний по поводу собственного лица, крайнюю бедность и примитивизм знания своей внешности. У таких людей первые патологические знаки возникают при встрече с серьезными, «взрослыми» проблемами. Во время работы над портретом они как бы наверстывают упущенное за многие годы; они скорее узнают себя, нежели возвращают утраченное. Работа над портретом – фактически первое яркое событие в их жизни, начало творческой биографии. При столкновении с житейскими трудностями они мысленно возвращаются к началу своего диалога у мольберта.
Катарсис наступает, как отмечалось, по мере упрощения основного синдрома заболевания и конкретизации деталей скульптуры. Такая зависимость от упрощения синдрома косвенно подтверждается неудачами в случаях, когда мы были вынуждены ускорить работу над портретом. Тогда обострение («катартоидное» состояние) наступает раньше времени и не приводит к ожидаемому результату.
Таков был случай В. Р.: киногруппа невольно вынудила нас ускорить работу над скульптурой в ущерб диалогу с больной. Она не успела «выговориться», а портрет уже приобрел некую стилизованную завершенность. Больная почувствовала преждевременную концовку и быстро отреагировала: «Я смотрела на портрет и плакала». Потом она решила, что образ в пластилине лучше, добрее, красивее ее самой[107]; дальше наступило бредовое одушевление своего образа. Все это сопровождалось возбуждением, неадекватной интерпретацией техники лечения и личности врача. Хотя после снятия обострения обнаружилась определенная редукция основного синдрома, работа над портретом зашла в тупик. Пришлось временно остановить лечение. То же самое произошло с А. М., когда участвовавший в работе профессиональный художник ускорил выполнение скульптуры. Лечащий врач почувствовал неладное; казалось, он что-то упустил, оборвал нить общения, потерял врачебную интуицию. И эту работу пришлось остановить и вернуться к ней только через два месяца.
Катарсис не всегда наступает во время портретирования, в присутствии врача. Нередко общую картину приходится восстанавливать со слов присутствовавших при этом людей. Катарсис бывает ступенчатым, как например у А. П. и А. Ш., А. Г. и других с определенными и весьма существенными достижениями на каждом этапе. О катарсисе известно многое, но глубинный интимный смысл этого состояния остается мало доступным.
Проявления катарсиса. Наиболее часто рассматриваемый феномен проявляется в нашей практике следующим образом. После завершения работы над портретом врач покидает свое место, а больной без предварительных условий занимает его. Это для пациента привычно, так как после успешных сеансов он, как правило, садится на место врача, чтобы лучше увидеть новые элементы. Формальное основание – убедиться в портретном сходстве. Больной еще несколько напряжен. Внезапно начинаются подергивания определенной группы мышц лица, спины, учащается глоточный рефлекс. Выражение лица характерно искажается и пациент беззвучно плачет, почти не моргая, не утирая слезы. Этот плач не обращен к зрителю, пациенты, по их признанию, «жалеют себя».
Присутствующие либо сами плачут, либо испытывают смущение и выходят из помещения. Даже операторы стесняются снимать это состояние. Такой плач может длиться до полутора-двух часов, после чего выражение лица пациента проясняется, просветляется, вид у него не то чтобы веселый, а какой-то счастливый. С особой трогательностью, вниманием, нежностью он начинает относиться к своему лечащему врачу, к близким и ко всем тем, кто помогал ему, кто прошел с ним весь этот трудный путь. Портрет, который незадолго до того имел высшую ценность, перестает его интересовать, в лучшем случае пациент помогает нам сделать гипсовую отливку, чтобы закрепить свое состояние. Примерно 30 % пациентов проявляют крайние формы катарсиса – это больные, которые до последнего сеанса недостаточно критично относились к своему психическому состоянию. Опишем один из самых драматичных случаев.
Ал. Г., который на военной службе испытал на себе тяжелые формы «дедовщины» и сексуального надругательства, был освобожден от службы после обнаружения галлюцинаторно-параноидного синдрома и переведен в психиатрическую больницу по месту жительства. Этот интеллигентный молодой человек из благополучной семьи в периоды обострений был крайне агрессивным и жестоким, особенно по отношению к матери. Однажды он ее зверски избил, подвел к умывальнику и продолжал избиение. Со слов чудом спасшейся матери, он собирался изнасиловать ее и выбросить из окна. На последний этап портретирования он приехал с «коварными» мыслями – отомстить всем врачам, т. е. забрать законченный, но еще не отлитый в металле портрет, а дома уничтожить его. На протяжении всего этапа он старался вести себя сдержанно, даже улыбался, однако ощущалось сильное напряжение. Полтора месяцев ему удавалось поддерживать обычный разговор, он рассказывал о своих коммерческих и личных планах. Но в конце каждого сеанса говорил, что портрет заберет с собой. Лечащий врач почувствовал интригу и по разным поводам отказывал ему в этом. Нам был выгоден благодушный тон беседы (пусть даже напускной). Сложился целый спектакль вокруг этой темы, который разыгрывался каждый раз в новом свете. Последние двое суток прошли без перерыва (по требованию пациента), в присутствии родителей и двух бывших пациентов работа интенсивно завершалась. Посреди второй ночи спор о портрете перешел на крик, а в критический момент врач был вынужден запереться в ординаторской. Пришедшие на помощь родители до самого утра громко спорили с пациентом, поддерживая сторону врача. Содержание этих споров было совершенно абсурдным. К утру состоялся последний, короткий сеанс, портрет был закончен, и неожиданно для всех врач вместе с помощниками сел в машину и уехал домой, оставив пациента один на один с портретом. Пока машина отъезжала, больной с криком и руганью бежал за ней, потом с решительным видом вернулся в студию. На следующий день мы обнаружили, что портрет был снят с мольберта и поставлен на стол. По свидетельству отца, пациент долго сидел перед своим портретом, рыдал, а потом покинул помещение, забыв о своем намерении реквизировать это произведение врачебного искусства.
Содержание катарсиса имеет отношение к более или менее трудному освобождению от воображаемого образа своего партнера по диалогу, т. е. лечащего врача. Пациенты-душевнобольные, как правило, полностью или частично амнезируют описанное состояние, во всяком случае, не желают давать отчета о переживаниях, которые были дверью между болезнью и здоровьем, между внутренним и внешним миром. Редкие самоотчеты возможны, если расспрос ведет не сам лечащий врач. Вот два образца, один из них записан сразу после катарсиса, а второй совершенно уникален, так как был написан во время катарсиса способом автоматического письма.
С. И. с диагнозом шизофрении параноидной много лет лечился в нашем учреждении, был инвалидом второй группы ввиду психического заболевания. Будучи человеком умелым, научился лепить, пытаясь создать автопортрет. Когда он сделал сколько мог, работу стал доканчивать лечащий врач. Портрет близился к завершению, и стажер, которому была поручена техническая работа, сообщил пациенту и родственникам, что лечение закончено. Те позвонили лечащему врачу домой и услышали подтверждение итога не очень лестной, устроенной стажером. Несколько дней пациент с сестрой приходил, чтобы удостовериться в портретном сходстве, потом больной решил подкараулить врача и «поругаться». Однажды он пришел в учреждение и стоял без движения около двух часов на морозе у закрытых дверей. Все-таки дождался своего лечащего врача, встреча была очень теплой, и пациент после долгого пребывания вблизи своего портрета согласился дать интервью ассистентке. Мы решили не редактировать это интервью, хотя оно беспорядочно, потому что дано сразу после катарсиса, который начался на ночном сеансе 23 декабря 1997 г. Со слов пациента: «На ночном сеансе было желание быстро закончить лепку. Увидел вдруг, что у врача огненные глаза, он как будто проводник от меня к пластилину. У меня самого в глазах будто угли. Появились сексуальные мысли к врачу. Вечером подобные мысли появились к брату. Были образы дьявола с половыми органами. В меня вошел двойник с целью раздеть перед всеми, перед всем миром. Возникла тяга к самоудовлетворению, тут же появилось желание молиться. Через день появились видения священников, монахов. Был страх впасть в грех (наркотики, разврат). У меня свои мысли, свой разум, свои желания, не создан я для монастыря, хотя меня туда тянет. Захотелось вернуться к друзьям, к работе, к жизни. Когда ехал на сеанс, все черти земли меня держали. Эти злые силы летели со всех сторон, у них были большие презервативы на головах, а когда во время сеанса отключился свет, все отлитые портреты летали вокруг меня, влетали в меня. Дома они тоже появились. Думал, что врач меня заколдовал. Хотел порезать гобелены и свою картину. Сейчас смотрю – просто картина. Помазал голову соборовальным маслом, а в электричке мои мозги заработали на все сто. Когда подошел к дверям, как будто лицо потерял. Здесь перед дверью стоял, стал плакать, как будто что-то изнутри раздирает. Потом сидел у портрета, и все время плакал – как бы слышал других, как будто из души у них что-то вылетает, как будто ухо внутри кто-то сделал. Ночью во время лепки все время плакал о маме и бабушке. Их лица появлялись на моем лице. Я вспомнил, как бабушка гадала по Библии. Так, конечно, нельзя, но она нагадала, что стану здоровым. Наверно, поэтому я вижу ее». А вот фрагмент собственноручной записи во время катарсиса А. Г., который лечился у нас с диагнозом шизофрении параноидной: «Самолет Чкалов. Воздушные слои атмосферы. Ты давление в ушах. Плохо А. к Алле (ассистентка – Г. Н.). В Петербурге 12 часов. Алла будь моей, а то я погибаю. Точка. Выхода нет, ключ не крути и оставайся на небе. А. связан с двойником, но, кажется, замок двойного выхода…»
Обобщая сказанное, попытаемся ответить на вопрос, является ли наш метод лечения катартическим. Нет, метод не является катартическим в современном значении этого понятия. Мы стремимся не к тому, чтобы вызвать некое яркое эмоциональное состояние, но к тому, чтобы основательно завершить лечебный портрет, исчерпать психопатологическую проблему. Эмоциональное сопровождение хотя и постоянно возникает перед нами или сразу после того как лечебная работа закончена или, как мы видели, иногда значительно позже реального окончания портрета («отложенный» катарсис), не является для нас патогномическим фактором. По всем признакам оно является не кульминацией диалога, а кульминацией самоотождествления, тем самым «последним словом» (по Бахтину), которого его лишила завершающая фаза произведения искусства. Поэтому значение этого слова так недоступно посторонним[108].
Однако наш метод вполне соответствует катартическому в аристотелевском плане, если иметь в виду весь процесс лечения-лепки от пластилинового яйца до зрелого портрета и все события самоидентификации, возникшие на этом пути. Первоначальное диалогическое поле с годами (благодаря бодиарттерапии, ритмопластике, присутствию посторонних, группы пациентов и опекунов, исполнителей автопортретов) трансформировалось в атмосферу хеппенинга с одномоментной презентацией скульптурного портрета в финале (см.: Абрамян, Назлоян). Последняя точка (не для подражания древним) ставится нами, как правило, после ночного сеанса, с первыми лучами света в окне.
Глава 4. Маскотерапия. Комплексные методы лечения душевнобольных
Портретный метод психотерапии обусловил появление новых способов, приемов, техник воздействия на патологическое начало – все они функционируют в едином концептуальном ключе. Эти методы используются самостоятельно и в комплексе с другими психо– и соматотерапевтическими техниками. Они возникли в гуще клинической практики и были обусловлены проблемами фиксации переноса с одной стороны, с другой – по причине того, что многие врачи-психотерапевты не обладают мастерством в области портретного искусства. В этой главе мы рассмотрим наиболее эффективные и устоявшиеся техники маскотерапии, оставляя за текстом многие нюансы. Метод параллельного лечения опекунов душевнобольных и принципы назначения медикаментозной терапии, организации психиатрической помощи, несмотря на свою значимость в нашей практике, не вошли в контекст настоящего исследования и нуждаются в отдельном рассмотрении. О них мы сообщали в ряде статей и научных докладов.
4. 1. Автопортрет как метод лечения и реабилитации душевнобольных
Генезис автопортрета. Автопортрет – одно из основных представлений иудейской и христианской ментальности. Мы имеем в виду миф о сотворении человека «по образу и подобию своему» и предание о «Спасе нерукотворном», где идея самовоспроизведения выражается в создании произведения искусства. Из разных источников об этом замечательном явлении можно заключить, что «Спас» был создан в лечебных целях. Здесь познание себя, протекая на визуальном уровне, расценивается и как форма самосовершенствования, и как способ избавления от страданий.
По биографическим и эпистолярным свидетельствам о великих художниках автопортрет создается в критические для автора периоды жизни. Может быть, самым ярким примером служит «Автопортрет с отрезанным ухом» Ван-Гога. А знаменитый автопортрет Леонардо да Винчи по всем признакам был «лекарством» многоразового пользования. Показательный пример преодоления «кризиса» на элементарном уровне – автопортреты на полях рукописей Пушкина: эти пиктограммы отмечают начало каждого всплеска творческой активности поэта. Исключение может составлять лишь «большой» автопортрет; для нас важнее всего несомненный факт, тонко подмеченный еще Фердинандом Эбнером, что акт создания как процесс – явление диалогическое. «Сотворение Богом человека Эбнер понимает как диалогический акт обращения, инициирующий ответ – „высказывающееся становление“ самого творения: „Бог создал человека – это значит не что иное, как: он обратился к нему со словом, создавая его, он сказал ему: Я есмь и через меня – ты еси“» (Махлин, с. 369). А если так, то речь идет о поэтапном создании произведения искусства в том же направлении, что и рождение, становление человека.
Это высказывание проницательного философа подводит нас к анализу диалога художника с самим собой в ходе создания автопортрета. Именно в автопортрете душевнобольного, когда он является активным участником действия, можно проследить то, что в портрете завуалировано деятельностью врача-скульптора. Здесь, как у Платона, «душа ничего не делает кроме как разговаривает, спрашивая сама себя, отвечая, утверждая и отрицая» (Платон). По структуре этот диалог с собой не отличается от диалога художника с моделью, здесь та же триада: а) контакт художника и модели перед становящимся портретом, б) с «высказывающимся становлением» (портретом) в присутствии воображаемой модели и в) паузы в диалоге в виде обращения к самому себе. При создании автопортрета скульптор, сделав «промежуточную» маску, снова обращается к своему образу в зеркале. Потом, удерживая это новое впечатление в памяти, он обращается к глиняной заготовке, манипулирует ею, чувствует «сопротивление» пластического материала, приводит его в соответствие со своим воображаемым зеркальным двойником. Меняя маску, меняется и сам (по М. М. Бахтину)[109].
Автопортрет врача. Своим появлением метод автопортрета обязан сеансам скульптурного портретирования душевнобольных, на которых было замечено, что пациенты любят вносить свой вклад в портрет; была значимой и идея реконструкции зеркального двойника пациента. «Но тогда это было скорее снисходительное отношение мастера к ученику: мастер в любой момент мог ликвидировать „забавы“ моделей и восстановить свою версию портрета» (Назлоян, Абрамян, с. 106). Генезис этой эффективной и удобной для применения техники арттерапии представляет, на наш взгляд, определенный интерес.
До внедрения метода автопортрета в Институте маскотерапии в 1990 г. было замечено следующее явление. Когда интенсивная работа над портретом больного прерывалась по внешним (досадным) обстоятельствам, это вызывало у врача некоторую подавленность, тревогу, мысленное выяснение отношений с опекунами, навязчивое представление деталей лица модели, особенно перед сном. Чтобы избавиться от мучительного состояния, врач-скульптор, чрезмерно вовлеченный в атмосферу портретирования, пытался по памяти докончить работу. Хотя попытка удавалась, законченный так и даже отлитый портрет не позволял преодолеть творческий кризис. Тогда мы опытным путем пришли в 1982 г. к автопортрету как способу реабилитации психотерапевта. В том же году появилась редкая возможность тесно общаться с крупным художником-портретистом, проанализировать биографические обстоятельства создания серии автопортретов, а также присутствовать при завершении очередной вещи. Начало работы над автопортретом у этого художника совпало с периодом душевного неблагополучия, дискомфорта, ощущения неразрешимости душевных и семейных конфликтов, наконец, возникновения паранойяльных идей. Автопортрет позволил преодолеть этот кризис, вернул художнику психическое и творческое равновесие.
Этот опыт подвел нас к мысли, что автопортреты художников могут быть средством самоизлечения. Наше предположение подтверждалось фактами, описанными у искусствоведов в их анализах портретного жанра. Наши пациенты из числа художников по профессии тоже подтверждали, что к работе над автопортретом они обращались для преодоления стрессовых ситуаций. Другие мотивы, по данным наших интервью, не имеют для них значения.
Автопортрет пациента. Однако реальным поводом для внедрения техники автопортрета послужила встреча с пациентом Дмитрием И. В 1989 г. на прием в Московский центр нейроэндокринологии пришел пациент, который, прочитав в газете о методе портретной терапии, принес автопортрет, выполненный им из эглина в натуральную величину. Дмитрий И. утверждал, что его состояние после работы над автопортретом заметно улучшилось; это подтвердил его отец. Помимо назначения лекарств, пациенту было рекомендовано сделать еще один автопортрет, чтобы устранить недостатки работы, которые были обсуждены на приеме. Так началось сотрудничество с творчески одаренным самодеятельным скульптором[110]. Год применения этой техники дал убедительные результаты «заочного» лечения, прояснился также сложный ритуал работы над автопортретом. Приведем один из самых результативных в нашей практике примеров терапии автопортретом в амбулаторных условиях.
Е. К., 1956 года рождения, – невысокая, круглолицая, с рыжеватыми волосами; взгляд застенчивый, немного испуганный, временами холодный и равнодушный. Отец злоупотреблял алкоголем. Мать – властная, напористая, часто говорила дочери, что она очень красивая, лучше всех, что внешность у нее необычная. В школе стремилась к лидерству, «легче находила общий язык с мальчиками». Успешно окончила 10 классов, работала в архитектурной мастерской копировальщицей. В 1976 году вышла замуж. Чувствовала слабость, утомляемость, стала раздражительной, неуступчивой в мелочах. Появились мысли о своей исключительности – «необычный человек, выделяющийся». Особенно часто ссорилась с женщинами, которые, как ей казалось, завидуют ее «успеху у мужчин», стремятся всячески досадить ей. В 1978 г. стала полнеть, уверяла, что беременна. Беременность не подтвердилась, это расстроило нашу больную. Днем были частые истерики, заканчивающиеся судорогами мышц конечностей. К тому времени работать уже не могла, уволилась. Поступила в музыкальную школу по классу гитары. На уроках сольфеджио некий «голос» стал подсказывать ей правильные ответы. В 1982 году скончался отец, и она «стала замечать, что страшная, старая, увядшая. Взгляд ненормальный, сутулиться стала. Казалось, будто я общаюсь с другим миром и не такая как все. Не понимала, в этом мире я или в другом. Сначала слышала голос отца во сне, потом наяву». Впервые обратились к психиатру в ПНД в январе 1983 года. Галлюцинации и сопутствующие расстройства не прекращались. Состояние резко изменилось в 1987 году, когда «лишилась сна, предсказывала конец света, чувствовала мощный поток космической энергии», который проходил через нее. Она «ходила и всех подключала к этому потоку». Если опаздывала на свидание, «останавливала» время. Была госпитализирована в ПБ № 13 г. Москвы. Там стала слышать голоса Бога в разных ипостасях и незнакомые «мягкие» мужские голоса. Дважды под воздействием императивных слуховых обманов бежала из больницы. Получала нейролептики, ЭСТ. После выписки была подавлена, наблюдалась слабость, апатия, она вернулась к мыслям о беременности и о том, что окружающие ее женщины завидуют, злословят и клевещут на нее. Приступы возбуждения повторялись каждую неделю. В 1990 г. была повторно госпитализирована по собственной инициативе, когда «голоса» стали крайне недоброжелательными, настаивали на самоубийстве. В феврале 1992 года обратилась в Институт маскотерапии. Ей было предложено отказаться от приема нейролептиков и работать над скульптурным автопортретом в домашних условиях. Периодически в оговоренные сроки приезжала в наш центр с очередной маской, получала медицинские и технические рекомендации. Иногда неделями не могла притронуться к портрету, просиживала у зеркала. Всего за 3 года выполнила семь удачно завершенных и отлитых портретов. И каждый портрет (этап лечения) приводил к заметным улучшениям. «Когда я садилась за работу, меня волновало, что я могу увидеть в своем лице. Можно устать, свалиться, но, посмотрев на себя, воссоздавая свой образ, почерпнуть силы из своего взгляда. Теперь больше беспокоят утомляемость, раздражительность, неустойчивость настроения, страх перед будущим». Галлюцинаторные переживания вместе с другой патологией становились фрагментарными, лишенными императивного модуса, постепенно перемещались на периферию сознания. Изменились стиль одежды, поведение, пластика, манеры, мимика. Теперь уже не считала себя «необычной», старалась одеваться просто, со вкусом; «на людей по-другому смотреть стала, как-то ближе стала к этому миру». Психотическая симптоматика трансформировалась в невротическую – доминировали навязчивые мысли о своей непохожести на всех. «Когда я не делаю автопортрет, меня пугает мысль, кто я такая, что должна делать, – то ли я обыкновенная, то ли нет, а когда занята работой, эти мысли уходят и я вижу смысл своей жизни». Последний автопортрет (август 1995 г.) и в медицинском и в творческом плане был наиболее убедительным. Радикальные изменения психики наступили сразу после окончания работы и эмоционально бурного состояния, когда в приступе активности совершала неадекватные действия – поливала спящего мужа молоком, кефиром, водой, разорвала его одежду, что-то выкрикивала, нападала на него. Обстоятельства приступа, длившегося несколько часов, помнит плохо. Сразу после приступа «голоса» исчезли окончательно, изменилась и сама Елена К. «Взгляд стал спокойный, уверенный. В портрете удалось передать цвет глаз, я обнаружила, что это возможно. Еще мне удалось передать глубину взгляда». Сейчас Елена К. – член скульптурной секции Московского союза художников.
Техника лечебного автопортрета. В результате интенсивного применения на сотнях пациентов этот способ лечения к настоящему времени выглядит следующим образом. Автопортретная терапия проводится в зале-мастерской Института маскотерапии, где в одном помещении проводится лечение несколькими видами искусства: портретрирование пациента врачом-скульптором, живопись (классическая и боди-арт), музыка, ритмопластика.
Автопортрет лепится из серого скульптурного пластилина, имеющего необходимую для работы вязкость и пластичность. Используются скульптурные стеки различных размеров; для лепки деталей удобны некоторые зубоврачебные инструменты. Пациенты усаживаются за столики перед зеркалами, берут пластическую массу и готовят по просьбе врача овальную форму, близкую по размеру и виду к куриному яйцу. Если больной отказывается это делать или не понимает задания, ему помогает опекун (например, мать или отец), который тоже присутствует и может сидеть рядом, а в некоторых случаях – другой пациент или врач. Определенные сдвиги в состоянии пациента иногда происходят в самом начале, в подтверждение приведем слова нашего пациента: «Когда я создавал яйцо, почувствовал небывалую нежность и родство к себе, ведь там, внутри, должно быть мое лицо, я сам. И странное чувство радости охватило меня, как перед встречей с близким и родным человеком» (случай Г. Б. Аракеловой).
Маски создаются путем выемки лишнего (принцип работы с твердым материалом). При лепке первых масок больным рекомендуется работать пальцами, как можно реже использовать инструменты. Показателем завершения работы над образом служит достижение некоторого уровня, когда скульптура перестает развиваться. Момент стилистического завершения портрета (маска) фотографируется, и врач-скульптор, не вмешиваясь творчески, рекомендует закрыть портрет пластилиновыми лепешками. Формируется новое, по размеру несколько большее яйцо. «Выясняется, – пишет Бахтин, – что всякий действительно существенный шаг вперед сопровождается возвратом к началу… точнее, к обновлению начала» (Бахтин, 1996, с. 398). На каждом новом этапе пластический образ должен становиться ближе к прототипу. Получается набор масок, которые, как в матрешке, вставлены одна в другую. Они, по выражению пациентов, «изнутри помогают лепить». Ритуал закрытия осуществляется пациентом по возможности бережно, чтобы не повредить созданный образ.
Автопортрет и принцип матрешки. Технология изготовления собственного портрета в виде серии стилизованных масок одна на другой напоминает матрешку. Каждая маска при реальном несходстве подобна предыдущей, полностью идентифицируется больным с самим собой. Хотя маски подобны по смыслу, но, как и в матрешке, оптически неравноценны. Есть также складка и внутренняя пустота, куда помещается предыдущая форма. А новое значение возникает путем нарушения гладкой поверхности пластилинового яйца. В отличие от матрешки здесь существуют некоторые технические ограничения: а) произвольные – размер с куриное яйцо в начале и натуральная величина в конце; б) необходимые – по меньшей мере символическое сходство в начале и реалистическое в конце. Это позволяет преодолеть неопределенность матрешки. Идентичность достигается тут не по образу самой маленькой фигурки, а достижением все большего соответствия каждого захороненного образа – «храм в храме» у инков и у христиан. То есть образ не «переселяется» в другой слой, а воплощается, становясь основой (как материальной, так и идеальной) следующего образа. Сам мастер непременно должен меняться в творческом процессе и задавать новый образ. Это создает феномен диалога с самим собой, чего нет в игре с матрешкой, где происходит простое дублирование образа. Движение автопортрета касается самого человека, который держит в руках «матрешку», на ней изображен он сам. Если бы на игрушечной матрешке был изображен сам зритель, он увидел бы одно и то же статичное изображение, а раскрытие смысла (в силу одинаковости) было бы бесконечной процедурой, – цикличной сменой надежд и разочарований. Смысл не меняется в этой игре, поэтому диалог отсутствует. Здесь речь идет не о народной матрешке (совершенно безупречной по своей сути), где воспроизводится рост, взросление, причем можно идти назад к детству, а о постмодернистской интерпретации этого явления (см.: Орлицкий, 1996, Орлов, 2001). В развитии же автопортрета происходит некий онтогенез похожих (по своей отнесенности к автору) и одновременно непохожих в деталях эстетических форм, которые продвигаются в сторону материализации универсальной идеи, окончательного сходства с оригиналом. Автопортрет больше напоминает акт рождения человека, если иметь в виду оболочки души, его организм, и совпадает с принципом матрешки в непосредственном, а не опосредованном ее восприятии. В последнем случае матрешка – это философия рутины, а автопортрет – философия диалога, творчества, рождения произведения искусства, возрождения пациента. Это две разные модели мира.
Роль психотерапевта в работе пациента над автопортретом не исчезает хотя бы потому, что технически врач превосходит пациента, имеет больший опыт в лепке. При достижении скульптурного автопортрета натуральной величины курс лечения должен быть завершен. Но если больному не хватает профессионального мастерства, ему поможет докончить работу врач-портретист. Это довольно сложная процедура и в лечебном и в изобразительном плане, ведь левая и правая стороны в портрете меняются местами, а в автопортрете нет. Опыт завершения другим мастером автопортрета неизвестен в истории портретного искусства. Если работу завершает врач, основная эстетическая идея, вложенная в портрет пациентом, его версия непременно сохраняется. Она сохраняется, поскольку врач должен лепить технически, творчески это невозможно из-за смены правого и левого. Врач лишь завершает последнюю маску и не создает нового образа, так что автопортретная заготовка, если ее сохранить, остается работой больного, а врач остается на положении обучающего мастера, соблюдает дистанцию между собой и подмастерьем. Именно потому, что это последняя и единственная маска, врач при всем желании не сможет изменить конструкцию портрета, как бы долго он ни работал над ним. Пациент как бы лепит сам, только руками мастера. Отсюда множество «подсказок» врачу, обсуждение деталей, что редко бывает при работе над портретом. С начала лечения перед больным и врачом возникает цель – изготовить полноценный в художественном смысле портрет. Окончание автопортрета, как и портретной терапии, совпадает с окончанием лечения. Таким образом, лечебное время и здесь совпадает с творческим временем.
Первые автопортреты у больных получаются, как правило, в стиле наивного искусства, но следующие маски все менее стилизованны, все ближе к оригиналу. Некоторые пациенты сразу же добиваются портретного сходства. Техника автопортрета максимально приобщает больного к искусству, ставит пациента на место не только модели, но и художника, а именно художника, познающего себя через воспроизведение собственного лица. В окружении знакомых и незнакомых людей (социальные зеркала) пациент познает своего зеркального двойника, воспроизводя его в пластилине. Именно с этой триадой – пациент, его зеркальный двойник, автопортрет – работает врач-психотерапевт, имеющий опыт ведения индивидуальной и групповой психотерапии, а также навыки ваяния.
В некоторых исключительных случаях автопортрет может лепиться в домашних условиях, перед зеркалом, как в случае Елены К. Обязательные условия при этом: во-первых, дверь в комнату, где работает больной, должна быть открыта для актуального или потенциального присутствия других людей, поскольку психотерапевтический автопортрет не должен создаваться в условиях изоляции больного скульптора; во-вторых, на разных этапах лепки необходимо обращение к психотерапевту с очередной готовой маской.
Процедура изготовления скульптурного автопортрета предполагает новую форму общения с пациентом, существенно отличную от традиционной. Врач может садиться рядом, беседовать, вмешиваться в работу, отходить, наблюдать пациента со стороны, слушать его беседы с «коллегами», фиксировать изменение выражения лица больного в зеркале, производить видео– или фотосъемку, разговаривать с пациентом на различном расстоянии и с разных сторон, задавать ему любые вопросы. К пациенту может подойти специалист по бодиарттерапии, сделать массаж лица (лепка по живому лицу) или наложить грим. В эти моменты больные абсолютно доступны и врач может «режиссировать» любые, даже постановочные сцены. Пауза наступает, когда больной обращается к лечащему врачу с вопросом, что делать дальше.
Процесс скульптурного автопортретирования предполагает совместное творчество пациента и врача, причем пациент занимает в нем активную позицию. Возникает возможность сколь угодно длительного общения врача и больного. В атмосфере сотворчества пациент раскован, открыт общению, откровенен. Нередки признания вроде такого: «я много лет ношу это в себе и теперь решила признаться».
Так началась исповедь П. К., 1967 г. р. Это была высокая, крупная брюнетка с короткой стрижкой, с резкими, мужскими манерами. Взгляд мягкий, нежный, беззащитный, но временами делается жестоким. Говорит медленно, мелодично. Родилась в семье артиста цирка и стюардессы. Мать энергичная, волевая, педантичная, была связана с криминальным бизнесом (краденые вещи, наркотики, драгоценные камни), попадала в тюрьму. Ее беременность дочерью протекала с токсикозом, роды затяжные, сухие. В детстве П. К. была беспокойным, болезненным ребенком. В возрасте двух лет отмечались на фоне повышенной температуры приступы с потерей сознания, спазмом мышц гортани, нарушением дыхания, генерализованными тоническими судорогами. С 5 лет стала испытывать страхи. Общение давалось с трудом. Питала «отвращение» к мужчинам, так как друзья матери были несдержанны с нею. Один случай не вызывает сомнения, когда ее насильно поцеловал в губы любовник матери. Хотела быть мальчиком – не могла примириться со своей «женской оболочкой». В школу пошла шести лет, училась легко, но были трудности с адаптацией в коллективе: П. чувствовала свое несходство с другими девочками, она одевалась и вела себя подчеркнуто по-мужски, думала о возможности изменения пола. Физиологическое развитие не отклонялось от нормы, месячные с двенадцати лет, регулярные. С раннего детства увлекалась музыкой, обнаруживая незаурядные способности – абсолютный слух, музыкальную память, склонность к композиция. После окончания музыкального училища поступила в консерваторию. Окончила три факультета, затем работала на кафедре струнных инструментов, преподавала по классу скрипки, одновременно работала дирижером симфонического оркестра. Первое серьезное проявление болезни случилось в 17 лет. Формальная причина – ссора матери и отчима. Она вдруг стала кричать, пыталась бежать куда-то, строила кому-то «рожи». Это событие помнит частично: сперва стало распирать в горле, ощутила некое давление, которое поднималось к голове, а в ногах невесомость, было тесно в комнате: «Я задыхалась и если бы там осталась, я бы, наверное, кого-нибудь убила». Обратились к психиатру. Лечилась у частного врача (в стационар поступила один раз, диагноз шизофрения). Описанный приступ повторялся по 2–3 раза в год. С 24 лет имели место судорожные припадки с потерей сознания и частые эквиваленты с агрессией, наплывами мыслей, ощущением нереальности окружающих предметов, а также déjà vu, jamais vu. В 1992 г. диагноз шизофрении был нами пересмотрен, получала противосудорожную терапию. Через год, в январе 93-го, проходила курс лечения техникой автопортрета. Матери помогала в опеке женщина средних лет, которая находилась с нашей пациенткой в сексуальной связи. «Любовница» П. К. описывала приступы во время полового акта, когда та душила ее. При поступлении поведение несколько демонстративное, с вызовом, иронией. Признавать себя больной отказывалась, но ради матери готова была выполнять врачебные инструкции. Первое время работала медленно, нехотя, желая показать, что все это ей не нужно. О своей внешности говорила, что не нравится себе, «я не могу описать себя, я себя не вижу!» Например, не могла определить цвет своих волос, но особенно резко критиковала свое тело по вторичным половым признакам. От мечты изменить пол не отказывалась. Постепенно стала больше времени уделять лечению, работала с усердием, делала успехи, особенно в изображении деталей. С осознанием своей болезни появилось особое рвение к работе и исполнительность в приеме лекарств. Наиболее яркий эпизод был зарегистрирован во время работы над автопортретом при наложении грима лечащим врачом. Эта была исповедь, продиктованная в эмоционально насыщенной манере. На одном дыхании сообщила о своих злых намерениях и действиях, имевших место в возрасте 10 лет. Вот отрывок этого признания. «Когда я была маленькой, у нас пропала собака, и мама не могла понять, куда она исчезла. А это я отвела ее в подъезд, разрезала на куски, попробовала на вкус, засунула в мешок и выбросила. С тех пор я очень часто мою руки, потому что мне кажется, что кровь моей собаки на моих руках. В другой раз я встала на кошку и стояла, пока из нее не вылезли кишки. У меня все время есть это желание убить человека, однажды стояла на мосту и вдруг увидела незнакомого мне человека, мне страшно захотелось убить его, я точно представила себе как я это сделаю и как из него потечет кровь, даже чувствую вкус его крови на губах. Я кинулась к знакомой, чтобы не сделать этого, потому что если это сделаю один раз, то меня уже не остановить». Однажды П. К. предложила нашей сотруднице выйти за нее замуж. После отказа внезапно возбудилась, стала душить ее, бить об стену. Даже несколько мужчин не могли справиться с нею, приступ прекратился через 5 минут. Сразу после приступа – мышечная дрожь, в течение часа была дезориентирована, растеряна, взгляд тревожный, испуганный. Больная полностью амнезировала это состояние, а при его упоминании краснела, чувствовала себя неловко: «Помню только злобу и желание крушить, ломать, уничтожать от чувства безысходности». В начале приступа, по ее словам, чувствовала вспышки яркого света, гул в ушах, тошноту и сердцебиение. После этого случая работа над автопортретом развивалась успешно, состояние заметно улучшилось. И чем больше делалось сходство с оригиналом, тем мягче и доступнее становилась наша пациентка. С тех пор лечение проходило как по программе, приступы слабели, их амплитуда уменьшалась, со временем они полностью прекратились. К своему лечащему врачу-мужчине относилась с нежностью и доверием, не скрывая появления первых гетеросексуальных переживаний. К концу лечения мысли о смене пола не высказывала и даже к своей партнерше относилась как к доброму другу. На второй этап приехала в июне 1993 г., чтобы подготовить себя для переезда на постоянное место жительства в Париж. Учится в аспирантуре Парижского университета, подрабатывает в качестве няни трех малолетних детей, припадков и эквивалентов последние семь лет не наблюдалось.
Одно из главных преимуществ контакта врача с пациентом при автопортретировании – обращение к больному с обсуждением его развивающегося во времени образа (предметное общение). Такая щадящая форма психотерапевтического контакта позволяет преодолеть сопротивление пациента и быть для него естественным и равноправным. В отличие от других способов психотерапии здесь врач надежнее защищен от фиксации переноса. Доверительная беседа открывает возможность наиболее полного наблюдения и изучения больного, врач освобождается от необходимости выстраивать беседу по заранее разработанному плану. Если в портретной терапии психотерапевтическое поле совпадает с полем художника и модели, то здесь используется структура общения мастера и подмастерья, в психотерапевтическом аспекте врач принимает образ идеального третьего, разрешающего конфликт между человеком и его зеркальным образом, между здоровьем и болезнью.
Длительное непосредственное общение с пациентами в творческом процессе позволяет выявить нарушения координации движений, концентрации внимания, волевой активности; определить степень заторможенности, утомляемости, способности к мелким точным движениям. Результат работы, маска, безотносительно к уровню профессионализма показывает грубые пространственные нарушения у больного, асимметричность этих расстройств, стереотипность и символизм в мышлении, его бессвязность и многое другое. Расширяются возможности дифференциальной диагностики органических и функциональных расстройств. Уже первые маски больных с диагнозом шизофрении, выполненные в реалистической или символической манере, позволяют усомниться в правильной постановке этого диагноза.
Психотерапия. Важнейшим фактором автопортретной терапии является то, что работа больного над собственным образом стимулирует рефлексию, «обращенность сознания к внутреннему миру» (Сэмюэлз, Шортер, Плот, 1994); в отличие от аутистического погружения в себя это творческий процесс самосознания, результатом которого легко становится повышенная критика своего состояния. Самопознание и самосознание имеют место в условиях множественной идентификации: сравнение себя с автопортретом, себя со своим зеркальным образом, своего отражения с отражениями других пациентов, своего автопортрета с другими автопортретами и т. д. Такая атмосфера стимулирует восстановление внешнего и внутреннего диалога. Здесь уместно вспомнить эксперимент Л. Выготского, в котором дети не общались друг с другом, а говорили каждый с собой, но непременно в присутствии других таких же детей, и это помогало превратить внутреннюю речь во внешнюю. Происходит часто бурный прорыв из патологического одиночества, проявляющийся как эмоциональная разрядка. Конкретными «виновниками» этих интенсивных состояний врач и его ассистенты не являются, они лишь свидетели, поэтому техника автопортрета наиболее щадящая, наиболее гуманная из всех наших методов лечения.
Описывая свое «почти жуткое впечатление» от автопортретов Рембрандта (с Саскией на коленях) и Врубеля (углем и сангиной), затем фактически отрицая этот жанр искусства, Бахтин, на наш взгляд, выводит культуру из привычного контекста. «Мне кажется, впрочем, что автопортрет всегда можно отличить от портрета по какому-то несколько призрачному характеру лица, оно как бы не обымает собою полного человека, всего до конца…» (Бахтин, 1979, с. 32). Если иметь в виду известную разницу, о которой мы писали выше, между восприятием портрета и автопортрета, то здесь у нас нет никаких расхождений с автором. Сомнения возникают в оценочной части суждений философа. В течение многих лет, наблюдая за процессом становления портретов и автопортретов у художников, больных и стажеров, создавая смешанные формы (совместное творчество) портретного искусства, мы не замечали отличия этих произведений в качественном плане. Более того, глубокое восприятие автопортрета на различных стадиях его создания приводило к избавлению пациентов от тяжелого психического недуга. Недостаточно справедливо и отношение к фотографии как всего лишь «материалу для сличения», ведь многое зависит от того, кто и как сделал фотопортрет. Наши фотографии, сделанные А. Морковкиным и А. Поляковым (тогда еще недостаточно «авторитетными», по Бахтину, мастерами), способствовали повышению скульптурного и врачебного мастерства психотерапевтов не меньше, чем специальное обучение. Об этих фотографиях Т. В. Цивьян пишет: «На фотографиях удивительным образом передана живость, естественность облика врача, та творческая наполненность и обаяние, которые вовлекают в его орбиту, в его власть и людей вокруг него, и равнодушную глину» (Цивьян, с.9). Автор считает даже, что фотографам удалось показать не только глубину образов, но и особое время лечебного портрета, и мы не можем не согласиться с нею.
Техника автопортрета, как и другие методы маскотерапии, направлена на выведение пациента из состояния патологического одиночества, на восстановление им утраченного образа самого себя. Отличительная черта этой техники в том, что здесь используется майевтический принцип. Врач, как повивальная бабка, помогает пациенту родить свой образ, возродиться, стать нормальным, адекватным, психически здоровым. Здесь, как и в портретной терапии, лечебная цель совпадает с процессом самоидентификации.
Сочетание с соматотерапией. Применение метода скульптурного автопортрета может сочетаться с психофармакотерапией.
Автопортрет позволил нам пересмотреть стандартизованные лекарственные схемы. В качестве сопроводительных к психотерапии мы различаем концептуальные и фоновые средства. К концептуальным мы относим нейролептики, шоки, стандартные методы применения антидепрессантов. Они концептуальны потому, что не требуют непосредственного присутствия врача и даже идут вразрез с психотерапевтическим контекстом. В качестве фоновых препаратов служат малые нейролептики, транквилизаторы, стабилизаторы, ноотропы, некоторые противосудорожные средства, оказывающие при наличии определенной (например, диэнцефальной) симптоматики стабилизирующее воздействие. Все строится на прагматической основе. Здесь нет ни предположений, ни допущений, а также проб и ошибок, лекарства варьируют иногда в коротком временном интервале, в сочетаниях, в дозировках. Они даются не с целью добиться улучшения состояния пациента, психической нормы, а лишь для того чтобы больной продуктивнее трудился. При противопоказаниях мы легко отказываемся от соматотерапии, так как с 1986 г. имеем опыт безлекарственного лечения душевнобольных. В связи с этим мы мягче относимся к нарушениям лекарственного режима или назначаем ничтожно малые дозы. В лекарственной схеме некоторые наименования оставляются на усмотрение больного или опекуна. Длительная и кропотливая работа над автопортретом нередко дает возможность полностью исключить лекарственную терапию.
Н. Б., 1961 года рождения, среднего роста, худощавый, с грустными глазами. Голос тихий, запинается. Родился в деревне. Отец был склонен к перепадам настроения. Мать уравновешенная, добрая. Рос спокойным, жизнерадостным, общительным. В детстве – корь, ветряная оспа, частые ангины. Среднюю и музыкальную школу окончил в 1977 г. После демобилизации работал на заводе. В мае 1986 г. вступил в брак. В молодой семье часто случались конфликты, Н. чувствовал физический дискомфорт, усталость, неудовлетворенность жизнью. В сентябре 1987 г. после очередного скандала у него наступила резкая слабость, «в глазах все поплыло, пульс участился». Было ощущение пустоты в голове, пропала радость жизни, не было желания общаться, быстро уставал. В январе 1988 г. перешел на легкую работу – учителем труда в школе. Напряжение в семье росло. Был глубоко потрясен, когда обнаружил измену жены. Стационарно лечился с 1988 по 93 г. с диагнозом: шизофрения вялотекущая ипохондрическая, получил II группу инвалидности. Семья распалась, с ребенком не встречался. Женился повторно. Установились теплые отношения, «впервые почувствовал моральную опору и поддержку». В январе 1993 г. по настоянию жены обратился в Институт маскотерапии. При поступлении настроение снижено, высказывает сомнения в своей полноценности, голос срывается, считает себя неизлечимо больным, но просит помочь «по самому большому счету». Говорит, что продаст свой любимый мотоцикл и останется в Москве сколько нужно, жалуется на местных врачей и милицию. Говорит, что где-то в груди затаилась сильная боль. А незадолго до начала болезни перестал нравиться себе – худой, выступал кадык; не нравился цвет волос (в детстве была кличка «рыжий», «белобрысый»). Не нравился и нос, считал его длинным, щеки впалыми, скулы и подбородок слишком выступающими, губы казались некрасивой формы. Но самое главное – глаза: говорил, что нет уверенности во взгляде, пропала выразительность, а раньше «мог говорить глазами». Считает, что до болезни у него было совсем другое лицо, а сейчас не может смотреть на себя в зеркало, «даже неприятное чувство возникает, страх в глазах какой-то». Было назначено лечение автопортретом. В ходе работы стал внимательно изучать себя в зеркале. Поначалу обращался к врачу за советом, так как не был уверен в собственных силах. После первого курса лечения отмечалось лишь незначительное улучшение – нормализовался сон, уменьшилась раздражительность, настроение устойчивое, чувство страха и тяжесть в груди стали меньше. Однако продолжал считать себя неизлечимо больным. В июне 1993 г. работал уже над большой, в натуральную величину, скульптурой. Поначалу испытывал трудности, но постепенно с помощью сотрудников работа стала получаться. Удалось выдержать правильные пропорции лица, старался мелкими штрихами передать настроение, свой характер. Помогли также сеансы бодиарттерапии, по признанию пациента, они улучшали восприятие лица: «Увидел свой нос, глаза, морщинки у ноздрей и веки, что было очень важно, и это удалось перенести на автопортрет». Состояние пациента улучшалось, повысилась работоспособность, уверенность в своих силах, исчезли страх и тревога, лицо стало спокойным, мышцы расслабились. Когда портрет был близок к завершению (24 июня 1993 г.), возникло состояние, которое длилось 5–7 минут. «Пришел лепить, настроение плохое, раздражительный, с чувством страха начал открывать глаза и почувствовал, как приходит спокойствие и уверенность, а когда открыл глаз, сразу узнал себя здорового, вспомнил, что был когда-то веселый задорный, уверенный в себе. В это время ком подкатил к горлу и чувство радости захлестнуло меня. В душе радость, а слезы текут сами по себе. Смотрел на портрет и думал: „Неужели я такой на самом деле?“ Дома рассказал все жене, и состояние повторилось. Почувствовал себя совсем другим человеком: здоровым, свободным в душе и уверенным в себе. Все, что раньше делал со страхом, теперь делал осознанно, уверенно». Через 25 дней (19 июля в 17 ч. 25 м.), когда исправлял какие-то детали, стал узнавать себя, ком подступил к горлу, появилось ощущение, что осталось изменить «одну-две вещи», и портрет будет готов. В тот же день, в 18 ч.10 м., сказал, что отчетливо увидел свои ошибки и недоработки и появилось чувство, что, «устранив их, узнаю себя здорового». После второго курса лечения, отмечает, что стал больше обращать внимания на свое лицо, следить за ним. Радовался, что взгляд стал выразительным, лицо подтянулось, приняло здоровый вид, возникла тяга к работе, к другим занятиям, которыми раньше увлекался. «Сейчас появилась уверенность, что смогу выполнить самую трудную работу, легче и спокойнее стал, появились планы на будущее, окрепла вера и надежда на полное выздоровление». Третий курс проходил под знаком реабилитации, жалоб не было, говорил, что хочет просто укрепить достигнутое в портрете состояние. Чтобы заработать на жизнь в Москве, занимался ремонтом автомобилей, работал много и с большой физической нагрузкой. С лета 1994 г. в Институт не обращался, по имеющимся у нас сведениям работает на заводе, семья прежняя, снята группа инвалидности, снят с учета в ПНД.
Лечение судорожного синдрома ставит перед врачом сложный комплекс проблем, связанных с диагностикой, определением стратегии и тактики назначения противосудорожных и других препаратов, диетой, физиотерапией, проведением индивидуальной и семейной психотерапии, реабилитации. В отличие от так называемых функциональных или эндогенных психозов, это проблема психоневрологическая, а врач должен действовать и как невропатолог, и как психотерапевт. Подключение индивидуальной психотерапии возможно при форсировании дифференциальной диагностики этой группы нозологических единиц и переходе к представлению о едином синдроме, когда психические расстройства последовательно интерпретируются в плане судорожной готовности мозга. На первое место в комплексном лечении пациентов выходят противосудорожные препараты. Хотя психотерапевт может прервать даже большой судорожный припадок, мы не станем утверждать, что во всех случаях способны достичь исчерпывающего решения проблемы без использования антиконвульсантов. Нельзя игнорировать и устойчивое мнение о том, что в «плавильном котле» творчества пророков, поэтов, художников, людей выдающейся воли исчезали многие болезни кроме эпилепсии.
Остановимся на общих принципах лечения судорожного синдрома, так как частные вопросы хорошо представлены в литературе. Для нас самой ценной идеей в эпилептологии является то, что мишенью терапевтической активности должен быть не только припадок, но и психические, личностные расстройства у больного с органическим заболеванием головного мозга. «И в дальнейшем здесь, – пишет Р. Дрейер, – решающее значение будет иметь личность самого врача, руководствующегося старой истиной, что терапия эпилепсии заключается не в необдуманном устранении припадка с помощью медикаментов, а в индивидуальном лечении больного» (Клиническая психиатрия, с. 525). Индивидуальный подход предполагает строгое планирование лечебного процесса на длительный срок. Но тут есть неопределенность в плане выбора лекарств, завершения терапии. Метод автопортрета вносит существенную конкретность в эту проблему.
Практикующий врач, принимая диагностические принципы, выраженные как в неврологии, так и в психиатрии, встречается с трудностями лечения этой категории пациентов. Самая большая проблема состоит в нейрофизиологической интерпретации психотических симптомов, возникших на органически неполноценной почве. Психоневролог в ходе лечения раздваивается: если преобладают судорожные пароксизмы, он ведет себя как невропатолог, а если продуктивные и иные психические расстройства, он ведет себя как психиатр, назначая психотропные препараты. Сочетание противосудорожных и психотропных препаратов в основе своей противоречиво, даже когда они даются пациенту в разное время. Роль психотерапии в этой противоречивой структуре тоже неясна, во всяком случае второстепенна. Можно добавить, что в этой группе заболеваний не решена проблема интеллектуальных и личностных расстройств. Она и не может быть разрешена в рамках монологической, естественнонаучной парадигмы, потому что продуктивные и иные расстройства психики на современном уровне развития науки не расшифровываются в категориях мозговых расстройств. Эти расстройства сугубо психические и не способны представлять психофизиологическую проблему в целом. Но достаточно принять нашу концепцию патологического одиночества (расширенную версию аутизма в контексте диалогического подхода), как все заметно упрощается (Назлоян, 2000). Если обратить внимание на тот факт, что одиночество, отгороженность от внешнего мира – основа возникновения психопатологических симптомов, то оказывается, что на клиническом уровне можно фиксировать прямую и обратную связь между пароксизмальной активностью мозга и различными «барьерами» в диалогическом отношении пациента к внешнему миру, между патологическим одиночеством и симптомами психического заболевания. Таким образом, патологическое одиночество существует не только на границе между «я» и «ты», но и на границе между психическими и физическими функциями мозга. Это единственный психопатологический феномен, который охватывает и психическое, и физическое «я». Взять хотя бы случай, когда боль делает человека одиноким душевно, а физически – прикованным к простели.
В группе органических расстройств пароксизмальная активность мозга представлена не бредом или галлюцинациями, а в первую очередь отгороженностью, неадекватностью поведения пациента во внешнем мире. Значит, терапия должна быть направлена на избавление пациента от многочисленных барьеров, отделяющих его от пространства «ты». Она не может состоять в ликвидации продуктивных или других расстройств путем их подавления нейролептиками. Исключая применение психотропных препаратов, мы создаем этим возможность сочетать лекарственную помощь с психотерапией и ограничиваемся лишь выбором всего комплекса противосудорожных средств, в том числе транквилизаторов и препаратов, обладающих (прямо или косвенно) антипароксизмальной активностью.
Границы применения противосудорожных препаратов с каждым годом все больше расплываются из-за разницы в отношении врачей к нейрофизиологическим концепциям, касающимся как природы приступа, так и его локализации. Выбор лекарственной терапии все больше зависит от случая, а перспективы лечения теряют определенность. И пока нет более строгой системы взглядов на происхождение судорожного синдрома, необходимо создание психотерапевтической колеи лекарственного воздействия. Индивидуальная психотерапия и длительное стационарное наблюдение пациента способствуют успешному подбору противосудорожных препаратов и их комбинаций, образованию транспорта лекарств, преодолению резистентности к ним, ограничению терапии малыми дозами во избежание опасности слабоумия. Она позволяет повысить эффективность лечения за счет пробуждения компенсаторных функций мозга, находить форму завершения (отмены препаратов). Наконец, необходимо лечить собственно психические нарушения, они преодолеваются в рамках нашей концепции патологического одиночества. Эти нарушения интерпретируются нами как пограничное между неврологией и психопатологией явление, как психический эквивалент судорожной активности мозга.
Транспорт лекарств. Пациент предельно сосредоточен на воспроизведении своего образа и испытывает разные трудности, связанные с внутренними барьерами, а также с отсутствием технического навыка для лепки. Получая техническую помощь врача как скульптора, он невольно обнажает и актуализирует болезненные симптомы, препятствующие реализации его замыслов. Эти психические признаки судорожной готовности мозга становятся подконтрольными пациенту и управляемыми задолго до их суммарного и во многом неожиданного проявления в припадке или дисфории. Они эквивалентны текущим биохимическим и нейрофизиологическим процессам. А постоянно вводимые в организм больного противосудорожные препараты более точно и эффективно действуют при его концентрации на воспроизведении своего образа. Мы замечали, что прежде недостаточно успешные препараты хорошо действовали в процессе лепки автопортрета. Поэтому мы, сохраняя преемственность, редко меняем предыдущие схемы препаратов и идем по пути их активизации в организме пациента.
Компенсация. Перспектива автопортрета уходит в бесконечную зеркальную галерею рефлексивных образов. Автопортрет, чтобы соответствовать своей жанровой задаче, должен бесконечно делиться и в мельчайших фрагментах воспроизводить себя. В атмосфере портретирования собственного лица пациент получает гораздо больше новых интеллектуальных и эмоциональных впечатлений за единицу времени, чем при любой другой форме активности. Больной совершает также огромное количество мелких, не повторяющихся осмысленных движений пальцами рук в разных плоскостях. Эти и другие факторы способствуют активизации возможностей мозга, а тем самым – повышению эффективности противосудорожных препаратов. Таким образом, техника автопортрета имеет особое значение при лечении эпилепсии и других органических заболеваний, это способ задействовать компенсаторные возможности мозга.
Большое значение в терапии судорожного симптома имеет для врача его предвидение. Поэтому практикующий врач обращает особое внимание на различные формы нарушения сна, поведения пациента, испытанные им стрессы накануне приступа, динамику ЭЭГ. Пространственные и временные нарушения, легко обнаруживаемые в процессе работы пациента над собственным портретом, – верный признак будущего приступа. Причем фиксируемые врачом наблюдения позволяют ему задолго до критического накопления патологического заряда предупредить развитие нейрофизиологических артефактов, лишь помогая пациенту (лекарственно или психотерапевтически) преодолевать трудности в реализации пластического образа.
Наконец, при воспроизведении собственного лица больной движется в сторону восстановления способностей к абстрагированию, что очень важно в клинике органических болезней головного мозга. И здесь при активизации противосудорожных средств и всего комплекса традиционной терапии пациент преодолевает известные по литературе эмоциональные, интеллектуальные и личностные расстройства. Благодаря рефлексии он выходит из замкнутого пространства болезни и получает реальный шанс на социальное взаимодействие. Общие принципы лечения судорожного синдрома применимы также к психосоматическим заболеваниям.
Ан. М., 1967 г. р. Первый ребенок в семье служащих. Мать энергичная, эмоциональная, добрая, отец ревнив, вспыльчив. Перенесенные в детстве болезни – корь, скарлатина, эпидемический паротит, ветряная оспа, частые простудные заболевания; в 1,5 года заболела дизентерией, после этого часто поступала в больницу с обострениями. В детстве боялась темноты, не могла находиться в комнате одна. С 6 месяцев эпизодически теряла сознание, происходил прикус языка и судороги на фоне высокой температуры. В 7 лет приступы самопроизвольно прекратились. По характеру была общительной, пунктуальной, исполнительной, находилась в центре внимания сверстников. Отмечает внезапные приступы «злобы», когда не могла себя сдержать, «выходила из себя». С трех лет играла на фортепьяно, в шесть была принята в специальную музыкальную школу. Училась отлично, много читала, любила кинофильмы, давала сольные концерты. В старших классах характер «испортился» – стала нетерпимой, мелочной, ссорилась с одноклассниками и родителями, считала, что к ней относятся не так, как она того заслуживает. Начало психического заболевания связывает с ироническим замечанием о ее внешности преподавателя физкультуры. Стала замыкаться. В зеркале она казалась себе безобразной, толстой. За несколько месяцев сбросила 20 кг. Тогда ее беспокоили мысли, что она не может смотреть людям в глаза, «любое поручение не сможет выполнить». Успешно окончив специальную музыкальную школу, поступила в консерваторию. Училась хорошо, участвовала в конкурсах, но оставалась замкнутой, вспыльчивой, беспричинно агрессивной. Обращалась к невропатологу, получала седативные препараты, но улучшения не было. Окончила консерваторию и осталась там работать концертмейстером. С 18 лет отмечались частые интенсивные головные боли, боли в ушах, а в 1991 г. наблюдались приступы с потерей сознания без судорог. Получала противосудорожные препараты. В 1992 г. Ан. М. решила сменить обстановку и поехать на отдых в Чехословакию. На обратном пути она стала утверждать, что у нее украли чемоданы, была возбуждена, требовала прекратить все разговоры о себе, события воспринимала как развивающуюся вокруг нее интригу. Однажды, вернувшись от знакомых, вдруг возбудилась, кричала, испытывала страх. В таком состоянии была доставлена в ПБ по месту жительства с предварительным диагнозом шизофрении. Получала нейролептики, транквилизаторы, ИШТ. Лечилась около двух месяцев. После выписки возобновились припадки с потерей сознания, тонико-клоническими судорогами и эквивалентами. В наш центр обратилась вскоре после выписки, в декабре 1992 г. Отмечено при поступлении: подозрительно оглядывается, замкнута, в беседу вступает неохотно, настроение снижено, держится демонстративно, пытается подчеркнуть свою исключительность. Жалуется на интенсивные головные боли, боли в ушах, навязчивые мысли, нарушения сна и пробуждение с ощущением страха, ужаса. Критика своего состояния снижена. Досадует, что щеки у нее круглые, нос кривой, глаза темные (хотелось бы иметь светлые), профиль «ужасный», подбородок некрасивый. Вспомнила, что когда была очень полной в детстве, к ней плохо относились, и все переживания по поводу внешности были «внушены мне моим преподавателем физкультуры, из-за нее я перессорилась с одноклассниками, переживала, стала замкнутой. Не нравится улыбка, взгляд не направленный, злой». Начато лечение: автопортрет, бодиарттерапия, ритмопластика, комбинация антиконвульсантов, которые пациентка принимала до поступления в стационар. Первое время уставала, не знала, с чего начать работу, часто обращалась к врачу за помощью. Отношения с пациентами были напряженные, резкие, но по мере продвижения автопортрета смягчились. Ощущала какое-то новое состояние, грим также улучшал настроение, а после его снятия возникала сонливость. Постепенно настроение выравнивалось, припадков не наблюдалось. Имели место краткие приступы дисфории, сопровождающиеся головной болью, ощущением дурноты. Навязчивые мысли стали появляться реже, не были такими интенсивными, не причиняли больших страданий. По завершении первого этапа: «Я увидела свое лицо новыми глазами, оно менялось с каждым днем. Можно сказать, что я увидела совершенно новое лицо». В перерыве между курсами состояние стабильное, изредка отмечалось дурное настроение, раздражительность, придирчивость к родным. Приступы сопровождались головной болью, темнотой в глазах. После приступа извинялась, проявляла заботу о матери. Стала общительнее, пользовалась косметикой, старалась красиво одеваться. Второй курс – летом 1993 года. На втором этапе автопортрет стал приближаться к оригиналу. Наконец работа была завершена, прием лекарств постепенно был прекращен. В дальнейшем приступы не наблюдались, Ан. М. эмоционально стабилизировалась, расширился круг ее интересов, общение не вызывало напряжения. Возобновила работу в консерватории. Вскоре у нее открылся красивый вокальный голос, преподаватели были поражены и посоветовали продолжить учебу в училище им. Гнесиных. То, что этот дар проявился в 26 лет, можно объяснить лишь прекращением в результате лечения спазмов мускулатуры гортани.
Реабилитация душевнобольных. Совмещая в себе предельную простоту и наивысшую сложность, техника автопортрета прокладывает пути восстановления интеллектуальных функций у дефектных, умственно отсталых и слабоумных больных. Надо отметить, что к работе над автопортретом больные независимо от их диагноза и уровня интеллекта относятся одинаково серьезно и ответственно. Так же серьезно относятся к этой работе родственники пациентов, не воспринимая ее как некую психотерапевтическую «игру». Некоторые родители сами лепят себя, пытаясь «негласно» решить собственные проблемы.
Психотерапевтическая работа в атмосфере автопортретирования позволяет полностью реализовать реабилитационный принцип опоры на сохранные звенья. В лексиконе Института маскотерапии это звучит как «наращивание» здорового начала. Известно, что трудотерапия является основной формой реабилитации больных шизофренией. Она позволяет сохранить элементарные трудовые навыки больного и приобрести новые. В организации трудового процесса соблюдается одно правило – от простого к сложному (грубо говоря, от склеивания коробок до сборки простых электрических приборов). Здесь примитивные действия преследуют примитивную цель.
Между тем работа над автопортретом – сложнейшая человеческая деятельность, пациенту с самого начала ставится трудная цель, но для ее достижения нужно выполнить ряд простых действий. Например, вылепить заготовку в виде яйца нетрудно, этот начальный этап требует активизации обычных навыков. Просьба врача вылепить первую маску усложняет задачу. Начальные маски схематичны, не требуют детализации в отличие от завершающих процесс лечения автопортретов. Переходы от маски к маске, от более простых и стилизованных образов к более сложным, реалистичным перемежаются возвратом к простейшему – к овальной заготовке. Итак, чтобы продвинуться в творческом процессе вперед, нужно вернуться к началу, но на новом уровне. При наличии сложной цели простые действия становятся гораздо эффективнее в плане реабилитации.
Рассматривая технику автопортрета как вариант трудотерапии, мы считаем главной задачей возвращение больному утраченных навыков. Но бездумная, автоматическая работа малоэффективна. Автопортрет, возрождая умение или навык, делает это в атмосфере истинного познания себя, всей онтогенетической глубины собственного «я». Создав скульптуру, совершив высокодифференцированную работу, пациент восстанавливает или приобретает впервые умение точной работы пальцами. Предлагаемая техника решает и проблему социальной реабилитации душевнобольных пациентов. Больные с многолетним опытом госпитализаций в психиатрических клиниках утрачивают свой прежний социальный статус, что ведет к дальнейшей дезактивации. Психотерапевтическая техника автопортрета позволяет разорвать этот замкнутый круг.
С. Р., 1951 г.р., в Институт маскотерапии обратился в апреле 1996 г. Известный музыковед, женат, двое взрослых детей. В начале 90-х годов обнаружил снижение половой потенции, был подавлен этим. После перенесенного в том же году инсульта этот общительный, энергичный человек стал часто уединяться в своем деревенском доме; коллеги и близкие знали, что он работает над монографией. Испытывал настоящие «муки творчества», но работа не продвигалась. Жена с детьми привозили еду и в тот же день по его требованию возвращались домой. Стал прислушиваться к своему организму, чаще чем нужно измерять артериальное давление, ожидал скорой смерти от инсульта или инфаркта. Было трудно сосредоточить внимание на теме работы, имели место трудности в концентрации внимания, замедленность творческих процессов. Снижалось настроение, появились суицидальные мысли. С большим трудом согласился обратиться в наш институт. На приеме растерян, немногословен. Выглядит старше своих лет. Цвет лица часто меняется. Всем своим поведением выражает скепсис, недоверие к тому, чем занимаются в институте. Отмечает, что всегда был к зеркалу абсолютно равнодушен и смотрит в него только по необходимости. Считает, что лицо у него асимметричное, поэтому он отпустил длинную бороду. Равнодушен к модной одежде, говорит, что может ходить в чем угодно и чувствовать себя нормально. Самое сильное желание – похудеть. Работу над автопортретом начал, как и все пациенты, с малых форм, потом неожиданно перешел на большую форму, больше натуральной величины – единственный случай в нашей практике. Быстро достиг сносного портретного сходства, но в «шаржированном» стиле, так как асимметричность лица была сильно преувеличена. Конец этапа лечения совпал с исправлением этого недостатка. Позднее пациент приехал к нам со своей новой книгой, написанной в популярном жанре, о существовании других работ мы узнали от жены.
В Институте маскотерапии пациент получает рабочее место, конкретное задание. Это место заменяет ему ту социальную нишу, которую он когда-то потерял. Здесь он выполняет сложную творческую, престижную работу и проходит путь от ученика до мастера, чему способствует созданная в институте атмосфера ремесленного цеха, творческой мастерской.
В. Ш., 1958 г.р. Невысокого роста, с одутловатым лицом и золотистыми кудряшками. Эта бывшая водительница троллейбуса многие годы находилась в психиатрических стационарах почти без выписки. Старшая из двух детей в семье колхозника и доярки. Отец строгий, сдержанный, молчаливый, мать властная, спокойная. Родилась в срок после неосложненной беременности. Росла спокойной, тихой, немного скрытной. Из перенесенных в детстве болезней отмечает ОРВИ, корь, эпидемический паротит. В школе училась «как все», увлекалась плаванием. У классной доски отвечала тихим голосом, если делали замечание – плакала. В возрасте 13 лет, когда начались менструации, мать сказала ей, что теперь она уже не будет расти. Тяжело восприняла эту новость, так как считала себя низкорослой. Стала измерять свой рост, много времени проводила у зеркала в надежде увидеть перемены, но своими переживаниями ни с кем не делилась. Через год преодолела эти страхи. Окончив среднюю школу, поступила в железнодорожный техникум, который закончила в 1978 г. Жила в общежитии, после неудачного романа стала апатичной, вялой, часто и много плакала. В 1981 г. переехала в Москву. Работала в троллейбусном парке слесарем-электриком до 1985 г., получила постоянную прописку и квартиру. Весной познакомилась с молодым человеком и забеременела от него. Но через три месяца они разошлись. Была вынуждена сделать аборт, после чего уединилась, перестала нормально питаться, часто плакала. Однако работу не оставила. Внезапно предположила, что если она узнает о женитьбе друга, возникнет напряжение в затылочной части головы, которое сделает ее способной взлететь в воздух и за один миг пройти все бесконечное пространство; одновременно сомневалась в такой возможности. В течение одиннадцати месяцев эти мысли «парализовали» больную, ни о чем другом думать не могла. Решила обратиться в ПНД по месту жительства, но на полпути подумала, что доктор захочет проверить, может ли она взлететь на самом деле. Через некоторое время, возвращаясь из поликлиники (удаление аденоидов), «поняла, что должна идти только в ПНД, как будто какая-то сила влекла, а может быть, страх взлететь». После беседы с врачом была госпитализирована в психиатрическую больницу. Через два месяца накануне плановой выписки 26 ноября 1986 г. вдруг ощутила, что «шевелятся мозги и мозговые извилины перестраиваются»; выписку отложили на один месяц, провели инсулино-шоковую терапию. Тем не менее состояние не улучшалось, выписали лишь в августе 1987 года. Была определена вторая группа инвалидности по психическому заболеванию. Через месяц после выписки состояние вновь ухудшилось: возобновились прежние страхи, добавились новые. В частности, боялась быть изнасилованной. Под действием страхов была возбуждена, кричала «шепотом». Родители старались заткнуть ей рот тряпкой. Больная отбивалась, и вдруг ей в голову пришла идея, что именно отец намерен изнасиловать ее. Была помещена в загородную больницу. На свиданиях с матерью В. была агрессивна, кричала, била ее по лицу, говорила, что мать – сверхчеловек, умеет видеть и слышать на расстоянии, читать ее мысли, руководить ее мозгами, заставлять ее что-то делать. «Все, что я ни делаю, – это делает моя мать». Но даже в относительно хорошем состоянии с 1990 г. отказывалась от выписки. Мы начали давать заочные рекомендации лечащему врачу по детальным отчетам матери. Больную мы увидели лишь в августе 1992 года. Жаловалась на нарушение сна, аппетита, раздражительность, повышенную утомляемость, неумение обслуживать себя, трудности в общении с людьми. Гипомимична, монотонна, фон настроения умеренно снижен, фиксирована на своем самочувствии, круг интересов ограничен. Обнаруживает крайне негативное отношение к своей внешности. Особенно не нравились нашей пациентке форма и выражение глаз, досадовала, что у нее короткие бесцветные ресницы, не нравился подбородок, форма носа, овал лица. Также жаловалась на свою фигуру – толстые и некрасивые шея и плечи, талия, живот, руки и ноги. Было назначено лечение автопортретом. Первое время была неспокойна, лепка давалась с трудом, не знала, как начать. Была крайне необщительна, стремилась поскорее уйти, часто раздражалась, напрягалась и даже была небезопасна. Постепенно стала обращать внимание на свое отражение в зеркале, стала узнавать и изучать себя со всех сторон в деталях. Первые маски не были похожи на нее даже отдаленно. Но со временем проявились способности к изобразительному творчеству и первые положительные сдвиги в ее состоянии. После первого этапа (около двух месяцев) стала самостоятельно выходить из дома, делать элементарные покупки, научилась пользоваться общественным транспортом. Восстановился сон, улучшилось настроение, больная смягчилась, стала заботиться и о своем физическом здоровье, обращала внимание врачей на мельчайшие изменения своего состояния, последовательно выполняла инструкции. Второй этап терапии был начат в январе 93 г. В процессе лепки, по словам больной, «лучше разглядела черты своего лица, поняла и увидела по-новому пропорции, линии переходов от глаз к вискам, глаза мои мне стали нравиться – просто грустные. До этого я была злая, с мамой ссорилась, а сейчас этого нет». На третьем этапе (май-июнь) перестала стесняться своего тела, сбросила лишний вес, «все юбки надо перешивать». Стала одеваться со вкусом, различать стили одежды, отдавать предпочтение тем или иным цветам, их сочетаниям. На четвертом этапе (октябрь-декабрь), который тоже проходил под знаком реабилитации, большое место уделялось бодиарттерапии. После каждой маски дорабатывала автопортрет. Изменилось и лицо В. – она похудела, лицо вытянулось, а «портрет стал добрым», впервые появились хорошие манеры. Вернулась на работу, живет одна, добилась снятия группы инвалидности и снятия с учета.
Резюме. Своеобразие описанной психотерапевтической техники заключается в том, что лечение и реабилитация пациентов начинаются одновременно. Будучи разновидностью арттерапии, метод автопортрета отличается от других техник строгой концептуализацией психотерапевтического процесса. Он применим к пациентам с различной нозологией и тяжестью состояния как в комплексе с другими методами, так и самостоятельно. Эта наименее спекулятивная форма самопознания может широко использоваться в психопедагогических целях (Жулев, 1997). Одним из неоспоримых достоинств автопортретирования является его воспроизводимость за пределами Института маскотерапии – в стационарах, диспансерах, домах для инвалидов, а также в художественных мастерских средних школ.
4. 2. Бодиарттерапия
В этом разделе описывается бодиарттерапия[111] – оригинальный метод психотерапии, разработанный нами в 1988 году, – и устанавливается ее связь с другими известными способами лечения душевнобольных. Бодиарттерапия возникла на основе синтеза портретного метода и лепки по живому лицу. В начале, чтобы продлить жизнь пластилиновой маске, мы к тому же раскрашивали портреты театральным гримом, обжигали (энкаустика), чтобы создать твердую и живописную поверхность.
Лепка по лицу. Эта техника возникла спонтанно в ходе работы над скульптурным портретом пациента, когда врач, исчерпав текущее визуально-вербальное впечатление, не видел перемен в состоянии и выражении лица модели. Так часто бывает у глубоко аутичных, дефектных, принимавших лечение нейролептиками пациентов. Подчиняясь внутреннему импульсу, врач (с молчаливого согласия больного) оставлял портрет и начинал лепить по живому лицу пациента; это приводило к временному, но сильному эффекту. Врач-скульптор лепил по живому лицу, как по пластилину, пока не добивался обновления реального образа. Со временем эту процедуру стал выполнять квалифицированный специалист у зеркала – а) самостоятельно, б) для подготовки к работе над портретом и автопортретом, в) в процессе создания скульптуры. Метод был призван разрушить устоявшееся визуальное и тактильное представление душевнобольного о себе, а тем самым и стереотипность мышления в диалоге.
Бодиарттерапия, как и лепка по живому лицу, проводится у зеркала, но представляет собой живопись по лицу или телу (голова, бюст, статуя) в зависимости от особенностей психического расстройства (нозология, тяжесть состояния пациента). Реальным поводом внедрить эту технику стали женщины-стажеры, для которых требующая известных физических усилий скульптура была недоступна. Со временем женщины-психотерапевты чрезвычайно интересно развили технику бодиарта в трех направлениях, первое из которых было задано нами.
Портрет. Предполагает повторение реальных черт внешности (архетип человека и его зеркального двойника). Это была попытка форсированно достичь феномена самоидентификации, который в скульптурном портретировании и автопортретировании требует сложного комплекса идентификации, описанной выше. Бодиарт-портрет может исполняться в любом жанре живописи, а визуально воспринимается от слабого макияжного грима до ярких театральных фонов. Но здесь мы встретились с трудностями, которые несвойственны техникам портрета и автопортрета. Главная проблема состояла в том, чтобы определить завершенность бодиарт-портрета. Ведь этот жанр, не уступая ни одному другому в профессиональном искусстве, тоже требует мастерства и вдохновения. Чтобы определить степень завершения, мы фотографируем предположительно законченную работу, устраиваем показы, консультации. Завершенность портрета в стиле бодиарта гораздо важнее, чем при других техниках маскотерапии. Образ человека в зеркале (мы имеем в виду и социальные зеркала) нуждается в бесчисленных подтверждениях идентичности. Это сложная проблема: человек, увидевший себя в зеркале, еще не готов к диалогу. Во-первых, он должен зафиксировать некое суммарное состояние; во-вторых, образ самого себя должен быть завершенным, т. е. на дискретном участке диалога с партнером диалог с собой должен прерваться. Этот образ, по справедливому замечанию исследователей зеркала, негативен (Л. А. Абрамян, М. М. Бахтин). Однако нормальный человек перестраивает свой негативный образ в позитивный путем ограничения бесконечного ряда зеркальных восприятий, фиксирует сумму визуальных впечатлений и только потом отрывается от созерцания себя и переходит к созерцанию своего партнера (как реального, так и воображаемого, как живого, так и одушевляемого). У душевнобольных взаимодействие этих элементов в высшей степени нарушено. Это можно представить себе, если вспомнить, как порой трудно оторваться от зеркала (возможно из-за прически, цвета кожи, выражения, которое упорно не маскирует одну из нелюбимых деталей), мы говорим в таких случаях: «лицо не собирается». Но если для обычных людей это короткий эпизод, то у душевнобольных такое состояние длится годы. Им трудно перевоплотить негативное впечатление в позитивное, отсюда бредовая установка об отрицательном к ним отношении внешнего мира, т. е. социальных зеркал, отсюда обеднение, искажение, извращение представления о себе самом. Таким образом, из негативных впечатлений никакой суммы впечатлений и их завершенности не может быть уже по определению. «Наивность слияния себя и другого в зеркальном образе.… У меня нет точки зрения на себя извне, – пишет Бахтин, – у меня нет подхода к своему собственному внутреннему образу. Из моих глаз глядят чужие глаза» (Бахтин, 1996, с.71). Выделяя лишь негативный фрагмент зеркального образа, Бахтин и некоторые его последователи создают принципиально формальную схему зеркальных переживаний.
Описание человека, смотрящегося в зеркало, – одно из немногих спорных мест важной для нас работы Бахтина «Автор и герой в эстетической деятельности». Последовательное развитие этой точки зрения по меньшей мере однажды привело к ошибочной интерпретации маскотерапии (см.: Розин, 1996, с. 106–120; Назлоян, 2000, с. 121–130). Характеристики зеркального образа у Бахтина, на наш взгляд, субъективны и недоказуемы – «оптический подлог», «душа раба», «фиктивная душа», «неестественное выражение». Бахтин передает лишь один элемент постоянно наблюдаемого нами процесса самоидентификации пациента со своим зеркальным образом. «Досада и некоторое озлобление», как и «избыточность» и «рыхлость», не единственные формы реагирования и существования образа в зеркале. А «твердая позиция вне себя» лишь один из множества способов создания зеркального позитива. Больше того, «позиция» третьего в обобщенном виде явление редкое, даже патологическое. Что же касается «одержимости чужой душой» (зеркальным двойником), которая «может уплотниться до некоторого состояния», то именно это состояние, называемое психозом, мы и лечим.
Бодиарттерапия (лепка и живопись по живому лицу) облегчает и ускоряет переход из негатива в позитив, без которого невозможно прервать контакт с самим собой и перевести взгляд на собеседника. Фактор завершения становится единственно возможным способом выхода образа пациента из зеркала. Теперь «человек из зеркала» (душа в чистом виде) способен и к психотерапевтическому диалогу в любой из известных техник, и к общению с другим. Постоянство образа, обладающего собственным измерением, создает непрерывную готовность к диалогу, а в окружении людей родом из зеркала, себе подобных, создает атмосферу праздника. Человек в маске перестает быть душевнобольным и визуально и по существу, а бодиарттерапевт, по крайней мере в этот короткий промежуток времени, может ощутить нравственное удовлетворение. В бодиарт-портретировании, как и при создании скульптурного портрета важен сам процесс, а одномоментная презентация полифункциональна – портрет в стиле бодиарта может быть показан как обычный портрет или включен в атмосферу всякой индивидуальной и групповой психотерапии. Об этом мы еще будем говорить подробнее.
Но есть и другая, оборотная сторона проблемы, которая связана с чувствительностью человека к своему лицу. На любом уровне бодиарттерапии может наступить развязка – катарсисоподобное, ложно-праздничное состояние у пациента. И здесь врач, очарованный неопределенными энергетическими всплесками, может ограничить свое творчество, счесть его завершенным. Так в разные годы поступали наши врачи Г. Б. Аракелова и А. В. Александрович. Больше того их выступления на конференциях оказали влияние на преподавателей Института психотерапии, которые (в частности, Т. Ю. Калошина) обучают врачей похожей технике. Но она сводится к бессмысленному размазыванию театральной краски по лицу пациента или созданию фальшивых образов. В лучшем случае эта техника лечения, осуществляемая в рамках реконструкции утраченного образа «я», приближается к обычному боди-арту, не обладая при этом эстетикой последнего, т. е. не будучи искусством.
Собственно бодиарт (архетип смерти-рождения) эффективен при психосоматических, реактивных состояниях. Здесь профессиональный художник рисует под контролем врача по лицу пациента, как по холсту. «Грим смерти и возрождения» – очень яркий, асимметричный грим, с самым неожиданным сочетанием цветов и переносом линий[112]. Он оставляет много места для фантазии. Можно придать двум половинам лица разное выражение, глазам – разную форму. Этот грим, как бы разрушающий полностью внешний облик (точнее, «лик») пациента, полностью скрывает под собой, «умерщвляет» его реальные черты и имеет совершенно неожиданный эффект. Пациент, относившийся инертно или негативно к своему лицу или не умевший «собрать» черты лица в гармоническое целое, неожиданно видит его очень хорошо, в деталях и собранным, настроение резко улучшается, появляется уверенность в себе. Пациенты в таком гриме начинают либо вспоминать свое здоровое состояние, либо, забыв о болезни, строить оптимистические планы на будущее.
Это сугубо арттерапевтический жанр, поэтому передадим слово мастеру этого жанра, художнику нашего института О. Б. Мочаловой. Терминология, используемая здесь, не имеет научного характера – это форма самовыражения художника, который создает произведение искусства. Поэтому мы хоть и не пользуемся проводимой ниже классификацией, но относимся к ней с уважением, считая подобные представления правом каждого художника.
При лечении гримом в зависимости от состояния больного используются три варианта: гримирование лица, кистей рук или полностью фигуры. Возможна комбинация двух вариантов: маска на лице пациента и художественное оформление рук. Общий рисунок и тональность грима зависят от поставленной на сеансе задачи. Вследствие этого гримирование также подразделяется на три вида: пейзажное, лечебное кратковременного воздействия и лечебное долгосрочного воздействия. Причем при исполнении лечебных масок инициатива в выборе художественных форм исходит от художника, тогда как пейзажная маска подразумевает подсознательное давление психологического состояния модели на исполнителя (через тактильный контакт) и, по сути дела, определяет характер живописного изображения. Слово «модель» использовано умышленно, т. к. пейзажные маски наносятся и абсолютно здоровым моделям – как своеобразное произведение искусства, определение психологического типа личности и т. п. Для усиления эффекта грима следует учитывать значение цветов и областей лица. Области лица: 1) лоб – мыслительная деятельность; 2) нос – область физиологических потребностей (еда, питье, азартные игры и т. п.); 3) щеки – здоровье; 4) глаза – естественное состояние (веки, брови – для выделения глаз: гасить, подчеркивать эмоции); 5) подбородок – волевое начало (характер); 6) уши – чувственное начало. Цвета: 1) красный – крайнее возбуждение; 2) черный – нейтрализующий цвет (гасит все эмоции); 3) синий – пессимистично-рассудочный (чересчур трезвый и суровый); 4) голубой – холодный, успокаивающий, но не подавляющий; 5) розовый – романтичный (цвет приятных мечтаний); 6) желтый – хорошее, теплое настроение; 7) оранжевый – радость; 8) оттенки коричневого (бежевый) – нейтральные тона, характерные для спокойного состояния; 9) белый – фоновый цвет (подчеркивает и выделяет нужные тона. Сам по себе нейтрализует личность (делает никакой); 10) зеленый – успокаивающий, придает устойчивое, ровное настроение. Краски, используемые в работе, зависят от варианта гримирования: лицо и кисти рук – театральный грим, фигура («скульптура») – гуашь.
Функции бодиарттерапии. В целом можно выделить 8 основных функций бодиарттерапии. Это: 1) Грим пациенту, наносимый в помощь скульптору, чаще всего похож на обычный макияж (косметический грим), он лишь слегка выделяет характерные черты модели. 2) Грим в помощь пациенту, работающему над скульптурным автопортретом, учитывает недостатки автопортрета и подчеркивает те части лица, которые либо неправильно восприняты и вылеплены пациентом на автопортрете, либо игнорируются. 3) Использование цикла сеансов бодиарттерапии отдельно или в рамках традиционных техник от гипноза до рациональной психотерапии. 4) Грим при параллельном лечении опекунов. 5) Грим в помощь ритмопластическому сеансу. 6) Грим как метод групповой психотерапии. 7) Грим как способ повышения эффективности медикаментозной терапии. 8) Грим для интервьюирования в клинических целях и для проведения интервью «зеркальные переживания».
Техника бодиарттерапии при своей кажущейся простоте – довольно трудоемкий процесс. Достаточно сказать, что прежде чем использовать эту технику в амбулаторной практике с 1988 г., мы долго проводили ее апробацию в психиатрическом стационаре. Даже после стольких лет применения она чаще всего используется для подкрепления других способов психотерапии – гипноз, портрет, автопортрет, техника параллельного лечения родственников больных, лекарственная терапия судорожных и депрессивных состояний. Для бодиарттерапии необходимо сочетание в одном лице способностей художника, театрального режиссера и врача-психотерапевта. Таким образом, эта техника еще ждет своего мастера.
Значение бодиарттерапии определяет общая атмосфера в зале-мастерской, состояние каждого пациента. Сеансы бодиарттерапии варьируются в зависимости от круга жанров, функции, которую призваны выполнять, принципа использования цветовой гаммы и технологии выполнения, предпочтительного типа бодиарттерапии и сценария сеанса, наконец, от конкретного исполнителя.
Используемые краски. На сеансах бодиарттерапии применяется обычный театральный грим, гуашь и акварель. Поскольку в гриме предусмотрен стандартный набор цветов, нюансировка достигается смешением тонов, причем палитрой служит чаще всего рука бодиарттерапевта. В качестве вспомогательного средства употребляется обычный косметический набор, сухие тени, пудра, румяна, но не всегда по косметическому назначению.
Инструментарий и способы нанесения красок. Лучшие инструменты при нанесении грима – это десять пальцев рук. Для широких мазков используются первые четыре пальца, а мизинцем проводятся линии. Нанесение грима пальцами дает пациенту тактильные ощущения на протяжении всей процедуры. Использование рук вместо живописной кисточки к тому же удобно при нанесении симметричного грима, когда краски накладываются одновременно с обеих сторон лица одноименными пальцами. После рук самый употребительный инструмент – кисти различных размеров. Они удобны при тонком подведении глаз, бровей, губ, для грима с изящными линиями. Совершенно необходимыми компонентами являются кремы-основы для нанесения грима и кремы (либо молочко), снимающие грим.
Процедура. Пациента предупреждают о предстоящем сеансе бодиарттерапии за несколько минут до его начала. После этого он усаживается близко перед зеркалом, при хорошем освещении, чтобы наблюдать всю процедуру от начала до конца. Сотрудник, наносящий грим, располагается чаще всего за спиной сидящего пациента, реже сбоку, но всегда так, чтобы пациент не переставал видеть себя в зеркале. Поза пациента должна быть расслабленная, голова упирается затылком в сотрудника.
Предварительной процедурой на сеансе является массаж лица. Потом наносится тон на все лицо включая веки, равномерно, для образования «чистого полотна», на котором будет работать специалист. В ходе раскрашивания нет четкой последовательности отдельных частей (скажем, сначала лоб, затем глаза, затем щеки и т. п.). Порядок расцвечивания диктуется задачей, которую поставил гример исходя из проблемы пациента в данное время. Обычно наиболее эффективная длительность выдерживания уже готового грима на лице – около получаса. После выдерживания грима, т. е. всматривания, вживания в него пациента, делается опрос, который может перейти в беседу с элементами рациональной психотерапии, с письменной фиксацией высказываний пациента.
Автопортрет создается двумя способами: а) сотрудник наносит грим на лицо пациента по его указаниям; б) пациент сам раскрашивает свое лицо. Грим-портрет выполняется психотерапевтом. Наиболее характерная его черта состоит в том, что сотрудник при гримпортретировании обычно находится за спиной пациента и таким образом наносит грим как бы двойнику пациента, видимому в зеркале. Бодиарттерапия, грим-портрет и грим-автопортрет возникли в параллель скульптурному портрету и автопортрету. Что касается жанровой принадлежности скульптуры, голова это, бюст или статуя, то ее выбор зависит от вида психического расстройства. Например, статуя чаще выполняется при дисморфофобических расстройствах, связанных не только с лицом, но и с телом пациента.
После фиксации впечатления пациента и диалога с партнерами грим снимается вазелином, нанесенным на ватку. Снятие грима может стать поводом для повторного массажа лица, более интенсивного. Считается, что грим после снятия некоторое время еще продолжает терапевтическое действие, поэтому мы рекомендуем после сеанса не умываться в течение нескольких часов. Ватки, на которые переходит снятый грим, заворачиваются в бумагу и выбрасываются в проточную воду.
К сказанному надо добавить, что загримированному пациенту часто хочется переменить зеркало, чтобы посмотреть на себя в другом ракурсе и освещении. Иногда пациенты рассматривают себя издали. Опыт показал, что для ряда пациентов взгляд на некотором отдалении способствует эффективности грима. Мы рекомендуем также отойти на некоторое время от зеркала, не смотреть на себя, а потом вновь подсесть к нему. Это способствует лучшему усвоению бодиарт-портрета. Далеко не последнее значение имеет реакция окружающих на раскрашенное лицо пациента. Комментарии окружающих (пластические зеркала), особенно положительные – «какой красивый», «как посвежели», «насколько лучше видны черты лица», – производят действие групповой психотерапии. После снятия грим-маски, особенно если она была яркой и необычной по окраске, пациент некоторое время вглядывается в свое отражение, а врач повторно спрашивает его о впечатлениях. Помимо работы над лицом (маска) проводятся сеансы, на которых выполняется грим-полубюст (женщинам) и грим-бюст (мужчинам), а также статуя в полный рост. При этом всегда начинают с раскраски лица, а потом переходят на шею, плечи.
Процедура бодиарттерапии, которая сформировалась не только в нашей практике психотерапии, но и под влиянием антропологов, искусствоведов, философов, театральных и телевизионных гримеров, профессиональных парикмахеров и визажистов, весьма сложна, а некоторые направления нуждаются в развитии. При экономности в средствах и быстроте достижения эффекта он может привести и к отрицательным неконтролируемым последствиям. Поэтому представляется слишком поспешным применение этой техники специалистами, которые узнали о нашем институте из телевизионных передач и популярных статей корреспондентов газет и журналов за последние годы.
Вместе с тем пациенты, говоря о своей маске, о своем измененном зеркальном двойнике, описывают совершенно другой образ, с новыми желаниями, чувствами, переживаниями, характером. Как правило, это тот образ, к которому стремится пациент, кем он хотел бы быть. Часто после снятия грима остается чувство радости вместе с приятной усталостью, сонливостью. Повышается также уровень внушаемости пациентов. Так, весьма типично пациентка Г. Б. Аракеловой сказала: «Знаете, то, что вы мне сейчас говорите, мне говорили многие, но сейчас это как-то „проходит“ в меня, принимается, „лекарство“ действует». Профессиональные гипнотерапевты, которые отказывались работать с нашими психотиками из-за плохой внушаемости этой категории больных, отмечали неожиданные для себя успехи при совмещении с бодиарттерапией.
Грим как техника, связанная с изменением лица, действуя по законам праздника, изменяет внутреннее состояние, возможно, в трех смыслах: во-первых, это праздник как таковой, снимающий накопившееся эмоциональное напряжение, «очищающий» болезненные, стрессовые «наслоения»; во-вторых, единственно возможным способом выведенный из зеркала пациент становится открытым, как отмечалось, к беспрерывному диалогу; в-третьих, человек в маске, подобно участнику карнавала, претерпевает изменения личностной структуры. Изменения эти, как и при возвращении к будничной жизни после праздника, возможно, имеют два направления: а) обновление, или возврат к старому порядку с некоторыми чертами нового, б) коренная перестройка структуры личности с сохранением изменений, полученных на сеансе-празднике, переход этих изменений в будничную жизнь. Все эти предположения требуют дальнейшей разработки на клиническом материале. Однако уже сейчас ясно, что техника грима в ряде случаев дает изменение личности, то есть «я» в гриме и «я» после грима – неравнозначные, несколько отличающиеся друг от друга состояния.
Так, пациентка с апатией, вялостью и с недоверием к лечению радостно воскликнула в гриме: «Это же я! Это мое лицо, неужели вы не видите, это мое здоровое лицо!» После серии сеансов бодиарттерапии (один этап) это ощущение укрепилось и сохранялось в течение полугода. Мать больной шизофренией Нины Р., женщина скромная и сдержанная, физик по профессии, после нанесения ей весьма яркого грима приглашенным нами специалистом из театра вызвала врача и воскликнула: «Г. М., вот такой я была до болезни дочки! Кайф!» Она ушла домой в маске[113]. На следующем сеансе наблюдалось заметное улучшение состояния больной – но это уже проблема параллельного лечения опекунов душевнобольных, имеющая свою теорию. Заметим также, что у загримированных мы никогда не наблюдали продуктивных расстройств, «человек из зеркала» на редкость адекватен. Интересно, что ощущение здоровья сохраняется некоторое время и после снятия грима.
Таким образом, бодиарттерапия, принципиально сходная с другими методами маскотерапии, имеет и важные особенности, позволяющие надеяться на применимость этой техники как самостоятельного вида лечения. Это, во-первых, большая интимность в работе с пациентами, постоянный тактильный контакт, при котором быстрее разрушается психологический барьер между пациентом и врачом-гримером, а процессы переноса и контрпереноса осуществляются с редкой быстротой и эффективностью. Второе преимущество – техническая простота исполнения и игровая природа лечения, что позволяет эффективнее расшатать основной синдром заболевания, преодолеть фиксацию на болезненных переживаниях.
Достижение временного или стабильного улучшения состояния создает некое нравственное «окно», «просвет» в болезни; это позволяет нашим пациентам отдохнуть и набраться сил в борьбе с недугом, мобилизовать естественные защитные силы. В то же время бодиарттерапия служит катализатором лекарств, средством преодолеть резистентность к ним. А это в свою очередь приводит к минимизации дозировок, к щадящей лекарственной терапии.
Итак, бодиарттерапия, с одной стороны, базируется на основных принципах маскотерапии, на представлении об архетипическом зеркальном двойнике человека, а с другой стороны, имея многие черты хеппенинга, позволяет ввести человека в атмосферу праздника с последующей структурной перестройкой личности, что приводит к разрядке, разрешению внутриличностных конфликтов, снятию напряжения, избавлению от болезненных изменений. Эффективность метода очевидна, но остается открытым вопрос об окончательном излечении пациентов, о стойкости положительных изменений, выработке достаточно прочных защитных психологических механизмов.
4. 3. Групповая психотерапия «беседы у костра»
В зале-мастерской Института с его простой архитектурой и необычным дизайном объединены скульптура и живопись (как в их обычном смысле, так и бодиарт-живопись по живому лицу и телу пациента), музыка и движение под музыку (ритмопластика), кино, фотография, иногда поэзия и пение; представлен здесь также театр и его режиссерское решение – создание скульптурного портрета и, самое главное, способ групповой психотерапии. Однако для нас наиболее важен эффект, который достигается сочетанием этих различных искусств, зависящим от состояния главного действующего лица – больного, от его индивидуальных особенностей. Изменчивость форм и стилей общения подобна подвижности и изменчивости пламени костра, потому такой способ психотерапевтического общения и назван «беседы у костра».
К началу работы в мастерской собирается много людей. Это больные, занятые лечебным портретированием и работающие над автопортретами, участвующие в психодраматических этюдах и выполняющие ритмопластический тренаж, пришедшие на урок рисования, проходящие процедуру массажа или бодиарттерапии, сотрудники института, студенты-практиканты, операторы и фотографы, родственники больных. Работа над портретами ведется не только в присутствии третьих лиц, но и при их прямом или косвенном участии. Здесь нет суматохи типовой клиники или же элитарности нетрадиционных медицинских служб. Больным уютно, а врач не издерган требовательными родственниками больных и нескончаемым потоком страждущих. Больные ходят или сидят, разговаривают с сотрудниками или между собой. Все это происходит совершенно естественно, они просто живут «здесь и сейчас», не воспринимая все происходящее как некую «групповую работу». Все вовлечены в живой творческий процесс, в центре которого – работа над портретом.
Стоит упомянуть об одном из важнейших принципов работы нашего института – принципе «открытых дверей». Сюда войти и отсюда выйти может каждый, когда захочет. Нет установленных ролей, нет четкой грани «врач – больной». Отсутствие жесткого регламента, поведенческих норм, естественной для ортодоксальных клиник субординации – все это тоже групповая психотерапия, о которой никто не задумывается и не подозревает. Никто, кроме врача-скульптора, вокруг которого и по замыслу которого она совершается. Как уже отмечалось, часть родственников наблюдает за происходящим из прихожей, другие опекуны – родители, муж, жена, сестры или брат – подсаживаются к работающим над автопортретами и помогают своим близким, высказывая свое мнение о качестве работы, о сходстве портрета с оригиналом.
Очень часто родственники больных сами начинают работу над собственным портретом. Наблюдающие за занятиями ритмопластикой, особенно когда делаются упражнения для кистей рук и пальцев, часто повторяют и стараются усвоить эти упражнения для себя. Малолетние дети больных становятся рядом с папой или мамой, чтобы вместе заняться ритмопластическим тренажем. Мать или отец помогают физически недоразвитой девочке выполнять сложные упражнения. Образуются и маленькие «беседы у костра». Кто-то из пациентов дает интервью видеооператору, а другие пациенты или гости подсаживаются и выступают с комментариями.
Скульптурная драма сравнима скорее всего с театром, в котором не режиссер «умирает» в актере, а наоборот. Именно такое смещение акцентов позволяет объяснить психотерапевтическое воздействие сеанса на присутствующих при строгом соблюдении принципа раскрепощенности. От режиссера-врача требуется тонкая сбалансированность действий, чтобы не разбить иллюзию свободы, держа при этом все «ниточки» действия в своих руках. Это один из принципов жизни института, некая раз и навсегда заданная установка на общение без приоритетов. И потому не сразу понимаешь, что врач за мольбертом – не только участник, но и режиссер этой, казалось бы, спонтанно рождающейся каждый раз сцены, ее каркас, и от его аналитического взгляда не ускользает ни одна деталь происходящего.
Эпизоды. Вот заходит в зал бывшая пациентка, давно уже выздоровевшая. Она рассказывает, как в процессе лечения автопортретом у нее открылся голос, и теперь она поступила на вокальное отделение консерватории. Все замолкают, чтобы послушать «Ave Mariа»… Другой пациент выучился играть на аккордеоне. Он дает небольшой концерт, наигрывая популярные русские песни и романсы, а другие пациенты ему подпевают… Большая группа пациентов собирается вокруг молодого человека, который бормочет вполголоса стихи У. Блейка «Тигр». Одной из сотрудниц поручено вернуть утраченные громкость и выразительность речи. В помощь ему другие больные отчетливо и каждый в собственной манере читают по строфе из стихотворения. Постепенно у пациента прорывается голос, появляется интонация… Дети, проходящие курс лечения в институте, с разрешения своего педагога по живописи показывают яркие и своеобразные рисунки… На время гасится свет в мастерской, и зажигаются свечи. Звучит «Лунная соната» Бетховена, под эту музыку красивые юноша и девушка в пластическом танце рассказывают миф о скульпторе Пигмалионе, который силой любви оживил созданную им статую Галатеи.
Хеппенинг[114]. По мнению Л. А. Абрамяна, «метод психотерапевтического грима несет в себе много черт, присущих ритуалу – хеппенингу первобытной церемонии, из которой в дальнейшем развился театр» (Назлоян, Абрамян, 1994, с. 110). Во время хеппенинга его участники ничего, собственно, не «переживают» в смысле зрителей театрального представления (Abrahamian, c.469): событие происходит «здесь и сейчас», участники переживают некое чистое действие в процессе ритуала. При этом происходит, по-видимому, некоторая нервная разрядка, подобная эффекту компенсаторных воздействий (точнее, переадресованной активности), изучаемых в этологии (Хайнд, с. 449–500).
На реконструируемом первопразднике к указанному психотерапевтическому действию от совершения ритуала прибавляется еще и непосредственная эмоциональная разрядка, так как праздник этот тесно связан с основными чувственными проявлениями человека. «Психофизиологическое воздействие ритуала на человеческий организм играет большую роль в функционировании праздника. Периодическая разрядка накопившегося нервного напряжения, реализующаяся во время эмоционального праздника, по-видимому, не последняя причина стойкости праздничных традиций у всех народов мира» (Абрамян, 1983, с. 65–66). С. Н. Давиденков говорит даже о некоем всеобщем страхе в первобытном обществе. Этот страх, порождающий что-то вроде коллективного невроза, основан не на мнимых патогенных опасностях, «угрожающих» жизни невротика, а на реальных опасностях, подстерегавших всюду первобытного человека. Но напряжение может значительно ослабеть (и даже исчезнуть вовсе), если совершить соответствующий ритуал, как считает ученый, исследовавший психотерапевтическое действие ритуалов (Давиденков). Нанесение грима, будучи некоторым архаическим ритуалом, вводит пациента в состояние первопраздника. Совершается почти мгновенный переход из будничного состояния в празднично-карнавальное. И поскольку изменения касаются лица, главной и непосредственно воспринимаемой части личности, то и происходят они на личностном уровне.
Но если обычно праздник регламентирован и заранее подготовлен традицией, то грим – это «внушенный» праздник, неожиданный и неподготовленный. В некотором смысле «праздник без сценария» становится шоком для больного, когда с изменением лица – с утратой своего будничного «я» – совершается резкий переход из обыденного в особое состояние, сопоставимое с состоянием людей на карнавале и предполагаемое при первопразднике. «Законы, запреты, ограничения, определявшие строй и порядок обычной, некарнавальной жизни, на время карнавала отменяются: отменяются прежде всего иерархический строй и все связанные с ним формы страха… всё, что определяется социально-иерархическим и всяким другим неравенством людей» (Бахтин, 1965, с. 207–208).
Таким образом, грим, неся в себе много черт хеппенинга и будучи по существу обрядом, способствует снятию напряжения, эмоциональной разрядке. Наши наблюдения показывают, что изменение лица всегда сопровождается чувством свободы, выходом из одиночества, «разрушением» старого «больного» порядка, внутренней структуры застывшей в своей болезни личности.
Человек в маске, так же как участники карнавала, разрушает представление о себе самом, причем это не отрицающее разрушение. Оно несет в себе ростки нового, другого порядка. «Первопраздник – это возврат на мгновение в еще более древние времена, во времена Хаоса, но Хаоса, готового к организации» (Абрамян, 1983, с. 130). Человек в маске – новый, другой, чем прежде, живет по законам карнавала, когда меняется все – манеры, тон голоса, поведение. Кроме того, практически все пациенты отмечают измененность состояния, какую-то особую сонливость, ощущение сна и бодрствования одновременно (без какого-либо словесного внушения сна). Так ведут себя и пациенты-модели при работе над скульптурным портретом. Когда происходит «присвоение» врачом текущего визуально-вербального образа пациента для творческого воплощения, проявление нового образа сопровождается у пациента смехом (неожиданные воспоминания из раннего возраста, ассоциации), зевотой, некоторые пациенты дремлют. Особенно часто это проявлялось у Виталия П., который в перерыве между сеансами иногда в коридоре оставлял впечатление спящего на карауле солдата. Ему, как, впрочем, и всем людям, надо было «уснуть», чтобы пробудиться с новым лицом, выключить свет в спальне и проснуться обновленным на заре.
На первый взгляд, собравшихся людей нельзя называть группой. Нет никаких четко сформулированных для всех задач, нет явной установки на решение общей проблемы, да и состав участников все время меняется. Имеет место не «драматургия», возникающая при канонической групповой работе, а поток событий, каждое из которых возникает здесь и сейчас. Тем не менее оказывается, что собравшиеся ведут себя как хорошо сформированная группа, у каждого отчетливое стремление открыто высказать свои проблемы и поддержать остальных. Многие знают проблемы друг друга, и улучшение состояния одного, его шаги к выздоровлению встречают заинтересованную поддержку остальных. Установка на здоровье создает неожиданный эффект – полную открытость группы. Новый человек входит в нее легко и естественно. Группа становится для больных моделью мира и отношений между людьми. Происходит сложная множественная идентификация: сравнивают не только модель с портретом, сравнивают себя с моделью, себя с портретом модели, наконец, свой портрет и автопортрет с другими автопортретами. Пациенты начинают говорить о своих болезненных переживаниях в прошедшем времени. Создается поле обычной, живой, здоровой, «нормальной» жизни. Эта атмосфера как магнит притягивает наиболее тяжелых, ушедших в себя людей. Часть из них подсаживается, подходит ближе к «костру»: к триаде врач – пациент – портрет. Окружение этой триады образует внутренний круг, «костер» прямо захватывает внимание сидящих к нему лицом людей, создает волшебную, способствующую открытости атмосферу.
Человек пришел с улицы, из заполненного огромным количеством людей метро, где чувствовал себя очень одиноким, и подошел к двери с надписью «Институт маскотерапии». Прошел через заполненную родственниками и ожидающими первого приема пациентами прихожую, где на стене устроена маленькая выставка – рисунки детей-пациентов. Заглянул в кабинет врача, где увидел другие произведения – отлитые в гипсе и выкрашенные бронзой портреты бывших пациентов, которые уже давно не ходят в Институт – работают, учатся, пишут стихи, растят детей, радуются жизни и не хотят вспоминать о кошмарных днях, проведенных в плену аутизма. Можно зайти и в соседнюю комнату, там третья выставка – фотографии, зафиксировавшие разные этапы работы над скульптурным портретом. Здесь можно посидеть в кресле или на диване, выпить чаю или кофе, поговорить с людьми, вряд ли различая сразу, кто из них пациент, кто его родственник, а кто сотрудник. Наконец мы подходим к залу-мастерской. Можно остаться зрителем в дверях, наблюдая со стороны самые разные эпизоды. Но скорее всего нас потянет в зал, где сразу станешь участником «бесед у костра», подсев к мольберту, у которого работает врач-скульптор с очередным пациентом-моделью. Взглянув на зеркальные стены, можно увидеть многочисленные отражения этих бесед. Но главное, что увидит входящий, – множество своих зеркальных двойников, которые в разных ракурсах принимают участие в театрализованном обряде. Так совершается волшебство синтеза в одном лице актера и зрителя, участника обряда и просто человека из повседневной, но пестрой жизни, которая получает свой импульс от «костра».
4.4. Обучение портретному методу психотерапии
Портретный метод психотерапии включает взаимозаменяемые и дополняющие друг друга в едином концептуальном узле авторские техники скульптурной терапии, скульптурного автопортрета и бодиарттерапии. Обучение портретному методу производится в следующем порядке. Врач-стажер, психиатр по образованию, обращается с просьбой обучить нелекарственной терапии психических болезней. Сначала он проходит теоретический курс – печатные издания, лекции, семинары, фото– и видеоматериалы. Затем ему предлагается вылепить скульптурный портрет одного из плановых пациентов в натуральную величину (техника скульптурной психотерапии) и попытаться преодолеть состояние патологического одиночества – центральной психопатологической проблемы. В этих целях на доске устанавливается масса из серого художественного пластилина и стажеру дается пояснение, что портрет должен формироваться путем изъятия лишнего материала – как на дереве или камне, а конечный результат должен соответствовать профессиональному уровню. Поставленный перед столь трудной задачей с первых минут работы, будущий врач-скульптор ощущает острую нехватку профессиональных знаний и навыков как в области психотерапии психозов, так и профессионального умения лепить. Именно в этом плане его рассматривают как невротизированную личность, испытывающую творческий кризис. Ему предлагают начать лечение с самого себя, помочь себе в преодолении страха перед ваянием, искусством бодиарт и нелекарственной терапией душевнобольных. В этих целях он начинает лепить собственный портрет – автопортрет. Для этого ему рекомендуют сесть перед зеркалом и начать работу с изготовления небольшой яйцеобразной формы с целью создать свой собственный образ. Когда работа доходит до предела возможностей врача-стажера, ему советуют закрыть этот промежуточный образ небольшими «лепешками» из того же пластилина, а затем изготовить новое «яйцо». Операция продолжается вновь и вновь, врач усваивает навыки лепки, воспроизведения деталей лица, пока пластилиновая масса не доходит до натуральной величины. Для более эффективного преодоления творческих барьеров он использует элементы бодиарттерапии с нанесением психотерапевтического грима на собственное лицо и на лицо пациента. За все это время врач-стажер не прекращает работу в рассматриваемом русле над портретом своего пациента. Когда автопортрет в натуральную величину и портрет пациента доходят до предела возможностей врача стажера, работу над его портретом продолжает опытный врач-маскотерапевт. Его роль ограничивается работой над продолжением портрета врача. В процессе лепки портрета стажера, совместного творчества происходит передача опыта психотерапии психических заболеваний и мастерства скульптора. Причем к скульптурному портрету пациента он не подходит и в лечебную работу стажера не вмешивается, чтобы не ущемить его авторитет перед больным и опекунами. После того как оба портрета успешно завершаются и проходят сложную процедуру признания, экспертизы, стажеру разрешается использовать метод скульптурного портретирования, метод скульптурного автопортрета и психотерапевтического грима самостоятельно.
Заключение
Если определить одним словом сумму заблуждений, укоренившихся в клинической практике, то это трактовка психических расстройств как процесса. Миф о существовании психопатологического процесса с отрицательной динамикой – конкретное выражение естественнонаучной парадигмы, которую критически рассмотрел М. М. Бахтин. Читая его труды, мы стали лучше понимать, что гуманизация психиатрии путем слияния науки с искусством неизбежна.
Убежденность в процессуальности психических болезней является причиной врачебных ошибок, связанных с характером назначения препаратов, опеки, прогнозов. Наш многолетний опыт доказывает, что в терапевтической практике можно успешно преодолевать линейную интерпретацию переживаний душевнобольных, а также меньше пользоваться специфическим околонаучным жаргоном – своеобразной мутацией научных понятий и представлений в историях болезни, на врачебных конференциях и консилиумах.
Одной из насущных проблем клинической психиатрии на современном этапе ее развития является несоответствие количества утвержденных болезней с тем, которое определяет врач в своей практической деятельности. Ввиду тотального охвата психиатрической службой всего контингента душевнобольных можно утверждать, что благодаря лекарственному патоморфозу практический врач встречается с атипичными формами психического заболевания. Это приводит к гипердиагностике в пользу одной нозологии.
Другой формой упрощения клинической практики является синдромологический подход. Так называемые синдромы-мишени не могут быть объектом медикаментозного подавления, отсечения. Синдромы как структура нуждаются в трансформации при непосредственном участии лечащего врача. Такое участие возможно, в частности, способом врачебной эмпатии. В то же время ряд лечебных средств (шоки, нейролептики), а также методы их назначения, принципы организации психиатрической помощи возникли на неверном пути теоретизирования и нуждаются в серьезном пересмотре. Необходимо пересмотреть также практику тотального их назначения, не забывая о фактах спонтанного исцеления душевнобольных.
Важным событием в практической психиатрии могли бы стать: продление сроков определения диагноза психической болезни, изменение архитектуры психиатрических лечебниц, способов стационарной и амбулаторной опеки, внедрение госпитальной адвокатуры и мн. др. Необходимо также преодолеть убеждение в неизлечимости любого, даже самого тяжелого заболевания и допускать возможность перехода одной нозологии в другую, более легкую (не всегда называя это ремиссиями), как допускается переход в более тяжелые формы. Одним из условий эффективной терапии психозов является предельная индивидуализация лечебного процесса. Эта проблема может быть решена в тесном сотрудничестве независимых психотерапевтических структур с государственными лечебными учреждениями.
К диалогическому мировосприятию мы шли своим путем, от первых впечатлений при встрече с душевнобольными. Когда это случилось много лет назад, мы обнаружили, что у наших больных общая проблема, она заключается не в том, что они бредят или галлюцинируют, а в том, что они глубоко и необычно одиноки. Мы видели пациентов в загородных больницах, которые много лет скрывались от людей под одеялом или прятались в тесных подвалах на территории больницы. Все они жили вне реального времени и пространства, как определил наш пациент, который наблюдал мир через свой зрачок, как через замочную щель.
В годы освоения профессии психиатра самым любимым из классиков стал для нас не очень популярный тогда О. Блейлер, потому что только он придавал значение явлению, которому сам и дал имя – «аутизм». К 70-м годам это некогда центральное в психопатологии понятие почти вышло из употребления и сохранило свое значение лишь в детской психиатрии. Нас не только восхитило прозрение великого клинициста, но и несколько смутило. Мы долго не могли понять, почему этот очевидный признак всякого душевного заболевания профессор швейцарской клиники Бургхельци ограничил рамками лишь одной из сотен нозологических единиц, шизофрении. Но лишь недавно, познакомившись с трудами философов-диалогистов, особенно Бахтина, мы поняли, что ему нужно было выходить из системы координат естественнонаучного мировоззрения в область диалогического восприятия жизни, а такой переход был невозможен в довоенную эпоху. Это означало бы попытку отказаться от крепелиновской психиатрии и построить совершенно новую науку о психических расстройствах. Блейлер выбрал компромиссное решение, и оно ограничилось концепцией шизофрении, которая была обречена на деградацию и возвращение в русло dementia praecox.
В поисках причины возникновения невротических и психотических расстройств мы выяснили, почему она не была определена нашими предшественниками. Представители двух крупных направлений (клинического и психодинамического) заменяют соответственно психогенез соматогенезом и патогенез этиогенезом психических болезней. Мы же допускаем, что источником всякого психического расстройства, почвой произрастания невротических и психотических симптомов является утрата нашими пациентами внешних связей, патологическое одиночество. Впервые усмотрев универсальные черты этого явления и обнаружив его присутствие при любом психическом и психосоматическом нарушении, мы фактически совершили переход из естественнонаучного в гуманитарный контекст исследования психической патологии. Так появились условия для концептуализации причины нервных и психических расстройств – недостающего звена в картине клинической каузальности.
Концепция патологического одиночества, выдвинутая нами, преодолевает описательный характер этого феномена. Оно, с нашей точки зрения, обусловлено нарушением диалога человека с самим собой в результате обеднения, искажения, извращения, утраты зеркального образа «я». Причем диалогические и зеркальные нарушения рассматриваются нами в одном временном срезе или как разные стороны одного явления. Гипотеза нашла свое экспериментальное подтверждение благодаря разработанному нами опроснику «Зеркальные переживания».
Теоретические, клинические и экспериментальные изыскания привели нас к созданию принципиально новых, эффективных методов лечения душевнобольных на стыке науки и искусства, цель которых заключается в реконструкции утраченного образа «я», в преодолении одиночества, в нормализации диалога пациента с самим собой и с окружающим миром. Методы новой психотерапии основаны на древнем способе познания человека – искусстве портрета. Портрет, как и используемые нами автопортрет и бодиарт, возникает в процессе взаимодействия психотерапевта с пациентом. Терапевтический ритуал сформировался в результате критического рассмотрения существующих стандартов диагностики и лечения душевнобольных. Это касается начала, течения и завершения портретной психотерапии.
Терапевтический альянс с пациентом мы проводим в форме двойного договора – с опекуном (договор о лечении) и с самим больным (договор об изготовлении скульптурного портрета), что позволяет избежать прямого или косвенного насилия над больным. Нами рассматривается важнейшая и недостаточно изученная проблема пространства и времени психотерапевтического сеанса, а также времеобразующая функция терапевтического портрета как одного из видов концептуального искусства и искусства для одного человека. Скульптурный портрет (артефакт) помещается нами в одну раму с аудио-, видео-, фотоматериалами, а также с историями болезни и любыми другими медицинскими документами, с произведениями бодиарт. Момент одновременной презентации этого искусства (хеппенинг) символизирует завершение лечебного процесса.
Заметное место мы отводим анализу структуры психотерапевтического диалога, особенностям протекания терапевтического процесса, пути и формам трансформации основного синдрома заболевания. Эти механизмы запущены для преодоления патологического одиночества и осуществляются при множественной идентификации больного, врача и развивающегося по законам реалистического искусства скульптурного портрета. Динамика лечебного процесса, его своеобразие обусловлено выдвинутой нами концепцией трехкомпонентной структуры взаимоотношений между врачом-скульптором и пациентом-моделью. В этой связи необходимо критически соотнести и уточнить описанные в научной литературе теории диалогических взаимоотношений.
Момент завершения лечебного процесса, проблема нормы и патологии волнует современных психотерапевтов значительно меньше, чем в начале столетия. Это, быть может, самый трудный вопрос в нашей области, и мы привлекли в терапевтический контекст эстетический критерий – фактор завершения портрета как произведения искусства. Принцип радикального решения психопатологической проблемы неминуемо приводит к исследованию катарсиса, который мы рассматриваем в контексте самоидентификации.
Насущную потребность перевода лечебного процесса в гуманитарное поле мог бы сформулировать каждый практикующий психиатр, в котором накопилось разочарование в собственных диагностических и лечебных результатах и который ежедневно видит порой катастрофические для больного последствия приема лекарств. К этим средствам относятся прежде всего так называемые большие нейролептики и шоки. Практическая психиатрия не может долго стоять на одном месте в угоду теории, она должна искать соответствия требованиям, которые выдвигают частные лица или организации, доверившие ей судьбу больного человека. Так и мы искали под внешним давлением оптимальные возможности помочь каждому душевнобольному в мужских и женских отделениях психиатрических больниц.
Как многие люди, исчерпавшие свой интеллектуальный ресурс, обращаются к искусству, мы, отчаявшись в стандартной фармакотерапии, попытались выводить пациента из состояния патологического отчуждения с помощью искусства портрета, но необычным способом. Скульптурный портрет выполняет сам лечащий врач, и он должен делать это на профессионально приемлемом уровне. Находясь в длительном общении с пациентом-моделью, мы многократно усилили действие главного инструмента практикующего психиатра – клинической беседы. Нерегламентированный диалог в функциональном поле художника и модели позволил изнутри понять переживания наших больных, почувствовать неадекватность некоторых представлений, утвердившихся в общей и частной психопатологии.
Одними из первых в практической психиатрии нам удалось совершить переход из естественнонаучной области в область синтеза науки и искусства. Поскольку наша деятельность документирована и в той и в другой системе координат, мы смогли провести многие параллели. Они относятся к иной структуре психотерапевтического контакта, состоящего из трех компонентов (вместо двух) – из врача, пациента и его развивающегося во времени портрета. Эта структура сохраняется в других наших техниках – автопортрете, бодиарттерапии, методе параллельного лечения опекунов душевнобольных, в ритмической пластике, в групповой психотерапии «беседы у костра», в лекарственной терапии.
Предметное общение исключает тоталитарный образ врача и делает участников диалога равноправными. Главным фактором излечения является самоидентификация больного при помощи своего зеркального образа. Наши техники, направленные на достижение этого состояния, действуют в одном и том же концептуальном ключе, поэтому они взаимосочетаемы или взаимозаменяемы. Стремление к истинному диалогу с пациентом держит в центре поля зрения блейлеровскую проблему патологического отчуждения, а на периферии – все остальное, что лечит современный психиатр. Поэтому наш подход не противопоставляется клиническому, а строится как его развитие в сторону искусства и диалога. Наши методы психотерапии – не какие-то манипуляции, они имеют отношение к мировоззрению, согласно которому один человек ничуть не меньше всего человечества. Именно это определяет не только лечение, но и опеку, реабилитацию, защиту прав душевнобольных, а также способы обучения сложнейшим техникам терапевтического диалога.
Терапия методом автопортрета, как и портрет, имеет начало, стадии и завершение. В то же время эта техника позволяет врачу успешно преодолевать фиксацию переноса. Она хорошо сочетается с антиконвульсантами при лечении судорожного синдрома, является базовой при решении проблем реабилитации душевнобольных и умственно отсталых, а также при обучении стажеров и практикантов. Метод автопортрета может найти широкое применение в школах и домах инвалидов.
Бодиарттерапия представляет собой группу техник психотерапии с использованием лепки и рисунка по лицу и телу. Она обладает рядом преимуществ перед другими методами психотерапии благодаря простоте исполнения. Одним из них является сочетаемость с классическими методами психо– и соматотерапии. Являясь праздничным искусством по сути, бодиарт создает особую атмосферу, благоприятно влияющую на текущее состояние пациентов, которые в период пребывания в ней становятся социально адекватными и курабельными.
«Беседы у костра» осуществляются благодаря особому способу структурирования пространства психотерапии, распределения ролей пациентов и их отражений в зеркалах. Как и всякая групповая психотерапия, она создает оптимальный климат при лечении психических расстройств, равное партнерство в диалоге, поглощая и выплескивая патологические проявления психики. Благодаря этой технике создается приемлемая для пациента модель окружающего мира, где он получает максимум творческой свободы.
Обучение будущих психотерапевтов построено по классическому (психоаналитическому) образцу, однако имеет ряд преимуществ. Во-первых, обучение и достижение мастерства ограничены конкретными сроками, определяемыми одновременным завершением лечебного портрета пациента. Во-вторых, кроме психотерапевтического опыта, стажер получает навык в области профессионального искусства и физиогномики, что особенно важно при лечении психически больных. В-третьих, получив инструмент терапевтического контакта (предметный контакт) и умение быстро преодолевать сопротивление лечению, он может продолжить свою практику в любой из существующих клиник или кабинетов.
Лечение душевнобольных, на наш взгляд, невозможно без ощущения неких вечных истин. Непременными кажутся особое беспокойство и сомнения в себе, предваряющие нравственные поступки. Такого рода переживания должны посещать каждого, кто начинает медицинскую практику. Опору для себя мы пытались найти в определении отношений человека и его зеркального «я», в анализе исполненного тайным содержанием взаимного притяжения людей с их вечным стремлением к воспроизведению себя, к познанию себя, к творчеству. В лечебной практике мы опирались на ценности, пришедшие к нам из глубины веков, – искусство портрета и клиника, предтеча науки и театра.
Заканчивая изложение, мы задаем себе вопрос о том, достаточно ли конкретно была определена направленность психотерапевтической активности, удалось ли, одним словом, передать то, что лежит внутри одиночества. Ведь не может быть медицины без элементов воздействия на патологию, а терапевтический контакт радикально отличается от других видов диалогических отношений. Мы отдаем себе отчет, что в каждом случае боролись с излишней фиксацией пациента на себе, фиксацией, которая изнашивалась или отсекалась нами в сеансах психотерапии.
Литература
Абрамян Л. А. Первобытный праздник и мифология. Ереван: Изд-во АН Армянской ССР, 1983.
Абрамян Л. А. Человек и его двойник // Наука и религия. 1989. № 9.
Абрамян Л. А., Назлоян Г. М. Попытка описания атмосферы общения в московском институте маскотерапии, или «беседы у костра» // Сборник статей по прикладной психологии. М.: ВЦ РАН, 1999.
Аверинцев С. С. На границе цивилизаций и эпох: вклад восточных окраин римско-византийского мира в подготовку духовной культуры европейского средневековья // Восток-Запад. Вып. 2. М.: Наука, 1985.
Авруцкий Г. Я., Недува А. А. Лечение психически больных. М.: Медицина, 1981.
Адлер А. Индивидуально-психологическое лечение неврозов. М., 1913.
Аккерман В. И. Механизмы шизофренического первичного бреда. Иркутск: ОГИЗ, 1936.
Акопян Ю. Психопоэтика скульптурной маскотерапии // Сборник статей по прикладной психологии. М.: ВЦ РАН, 1999.
Акопян Ю. Психопоэтика скульптурной маскотерапии // Таврический журнал психиатрии. Симферополь. 1998. № 2–5.
Алексеев Н. Г., Юдин Э. Г. О психологических методах изучения творчества // Проблемы научного творчества в современной психологии. М.: Наука, 1971.
Ануфриев А. К., Либерман Ю. И., Остроглазов В. Г. Глоссарий психопатологических синдромов и состояний. М.: Медицина, 1990.
Аристотель. Поэтика // Собрание сочинений. Т. 4. М.: Наука, 1984.
Бахтин М. М. Творчество Франсуа Рабле и народная культура средневековья и Ренессанса. М.: Худ. лит., 1965.
Бахтин М. М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1979.
Бахтин М. М. Собрание сочинений. Т. 5. М.: Русские словари, 1996.
Бернар К. Об опытном рассуждении // Хрестоматия по общей психологии. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Бергсон А. Творческая эволюция. М. – СПб., 1914.
Бехтерев В. М. О творчестве с рефлексологической точки зрения // Грузенберг С. О. Гений и творчество. Л.: Сойкин, 1924.
Биндер Г. Психопатии, неврозы, патологические реакции // Клиническая психиатрия. М.: Медицина, 1967.
Бинсвангер Л. Феноменология и психопатология // Логос. 1992a. № 3.
Бинсвангер Л. Четыре письма // Логос. 1992б. № 3.
Блейлер О. Руководство по психиатрии. Берлин: Врач, 1920.
Блейлер О. Аутистическое мышление // Хрестоматия по общей психологии. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Блейхер В. М., Крук И. В. Толковый словарь психиатрических терминов. Т. 1, 2. Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
Бобринская Е. А. Концептуализм. М.: Галарт, 1994.
Бернар К. Об опытном рассуждении // Хрестоматия по общей психологии. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Бубер М. Я и Ты // Бубер М. Два образа веры. М.: Республика, 1995.
Бурно М. Е. Эмоционально-стрессовая психотерапия неврозоподобной психотерапии // Руководство по психотерапии. С. 585–611.
Бурно М. В. Московский психотерапевтический журнал. 1993. № 2.
Вебер М. Избранное. Образ общества. М.: Юрист, 1994.
Вейс Р. С. Вопросы изучения одиночества // Лабиринты одиночества. М.: Прогресс, 1989.
Винер Н. Кибернетика. М.: Наука, 1968.
Витгенштейн Л. Избранные тексты // Грязнов А. Ф. Материалы к курсу критики современной буржуазной философии. М.: Изд-во МГУ, 1987.
Вроно М. Ш., Башина В. М. Синдром Каннера и детская шизофрения // Журнал невропатологии и психиатрии им. Корсакова. 1975. Т.75. Вып.9. С. 1379–1383.
Выготский Л. С. Психология искусства. СПб.: Азбука, 2000.
Гальперин П. Я. Формирование умственных действий // Хрестоматия по общей психологии. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Ганнушкин П. Б. Избранные труды. М.: Медицина, 1964.
Гиндикин В. Я. Лексикон малой психиатрии. М.: Крон-пресс, 1997.
Горбовский А. Колдуны, целители, пророки. М.: Мысль, 1993.
Гринсон Р. Р. Техника и практика психоанализа. Воронеж: Модек, 1994.
Гризингер В. Душевные болезни. СПб.: Издание В. Ковалевского, 1867.
Давиденков С. Н. Эволюционно-генетические проблемы в невропатологии. Л.: Институт усовершенствования врачей им. Кирова, 1947.
Данин Д. С. Кентавристика. Программа курса. М.: Изд-во РГГУ, 1997.
Диккенс Ч. Собрание сочинений. Т. 9. М.: Художественная литература, 1958.
Дубровский Д. И. Психические явления и мозг. М.: Наука, 1971.
Дубровский Д. И. Обман. Философско-психологический анализ. М.: Рей, 1994.
Дункер К. Подходы к исследованию продуктивного мышления // Хрестоматия по общей психологии. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Ельшевская Г. В. Портрет как автопортрет. М., 1992.
Ельшевская Г. В. Маскотерапия как искусство // Назлоян Г. М. Зеркальный двойник: утрата и обретение. М.: Друза, 1994.
Жариков Н. М., Тюльпин Ю. Г. Психиатрия. М.: Медицина, 2000.
Жирар Р. Насилие и священное. М.: Новое литературное обозрение, 2000.
Жислин С. Г. Очерки клинической психзиатрии. М.: Медицина, 1965.
Жулев В. Узнай себя // Управление школами. 1997. № 1.
Зеленский В. В. Аналитическая психология. СПб.: Б.С.К., 1996.
Ильин И. П. Постмодернизм. М.: INTRADA, 2001.
Каган В. Е. Детский аутизм и общее психическое недоразвитие. Труды Ленинградского педиатрического Медицинского университета, 1976. Т. 70. № 10.
Кабанов М. М. Реабилитация психически больных. М.: Медицина, 1985.
Каннабих Ю. В. История психиатрии. М.: ЦТР МГП ВОС, 1994.
Каплан Г. И., Сэдок Б. Дж. Клиническая психиатрия. Т. 1. М.: Медицина, 1994.
Кедров Б. М. Предмет и взаимосвязь естественных наук. М.: Наука, 1967.
Кемпински А. Психология шизофрении. СПб.: Ювента, 1998.
Кискер К. П., Файберг Г. и др. Психиатрия, психосоматика, психотерапия. М.: Алетея, 1999.
Клиническая психиатрия. М.: Медицина, 1967.
Клинический журнал гениальности и патологии. 1920–1925.
Констрорум С. И. Психотерапия шизофрении // проблемы пограничной психиатрии. М.—Л.: Гос. Издат. биологической и медицинской литературы, 1935. С. 287–309.
Констрорум С. И. Опыт практической психотерапии. М., 1962.
Копьев А. Ф. Диалогический подход в консультировании и вопросы психопатической клиники // МПЖ. 1992. № 1. С. 33–48.
Красильников Г. Т. Феноменология, клиническая типология и прогностическая оценка аутизма при шизофрении: Автореф. докт. дис. Томск, 1995.
Краус А. Значение интуиции для психиатрической диагностики и классификации // Независимый психиатрический журнал. 1997. № 1.
Крепелин Э. Учебник психиатрии. Т. 1. М.: Издание А. А. Карцева, 1910.
Кречмер Э. Медицинская психология. СПб.: Союз, 1998.
Кречмер Э. Строение тела и характер. М.: НО Научный фонд, 2000.
Кузник Б. И. Джуна, Ванга и другие. М.: Радио и связь, 1995.
Кун Т. Структура научных революций. М.: Прогресс, 1975.
Лабиринты одиночества. М.: Прогресс, 1989.
Лакосина Н. Д. Неврозы и невротические развития // Руководство по психиатрии. Т. 2. М.: Медицина, 1988.
Леви-Брюль Л. Первобытное мышление. М.: Изд-во МГУ, 1980.
Леви-Строс К. Первобытное мышление. М.: Республика, 1999.
Лессинг. Избранные произведения. М., 1953.
Ломброзо Ч. Гениальность и помешательство. Ростов-на-Дону: Феникс, 1997.
Майер Г. Психология эмоционального мышления // Хрестоматия по общей психологии. М.: Изд-во МГУ, 1981.
Малиновский Б. Искусство магии и могущество веры // Религия и общество: Хрестоматия по социологии религии. М.: Аспект Пресс, 1996.
Махлин В. Л. Я и Другой: К истории диалогического принципа в философии XX в. М., 1997.
Мишара А. Л., Шварц М. А. Психопатология в свете новых направлений в философии сознания, нейропсихиатрии и феноменологии // Обзор современной психиатрии. 1999. Вып. 2.
Морено Я. Л. Социометрия: экспериментальный метод и наука об обществе. М.: Иностранная литература, 1958.
Мочалова О. Б. Арттерапия – метод лечения и обучения // Сборник статей по прикладной психологии. М.: ВЦ РАН, 1999.
МПЖ – Московский психотерапевтический журнал. 1994. № 4.
МПЖ – Московский психотерапевтический журнал. 2000. № 3.
Наджаров Р. А. Психиатрическая больница в свете современных психиатрических направлений в психиатрии // Журнал невропатологии и психиатрии. 1969. Вып. 10. С. 1441–1446.
Назлоян Г. М. Дискуссия Сеченова с Кавелиным по проблеме творчества // Роль дискуссии в развитии естествознания. М.: Наука, 1977.
Назлоян Г. М. Развитие проблем психологии научного творчества в России (1981–1987). М.: ИИЕиТ, 1978.
Назлоян Г. М. Метод развития адекватной рефлексии в процессе психотерапии. Проблемы логической организации рефлексивных процессов. Новосибирск: АН СССР, 1986.
Назлоян Г. М. Возвращение личности // Наука и религия. 1988. № 8, 9.
Назлоян Г. М. Тайна магического портрета // Экос. 1991. № 1.
Назлоян Г. М. Зеркальный двойник: утрата и обретение. М.: Друза, 1994.
Назлоян Г. М. Принципы назначения лекарственных препаратов в институте маскотерапии // Сборник статей по прикладной психологии. М.: ВЦ РАН, 1999.
Назлоян Г. М. К концепции патологического одиночества // МПЖ. 2000. № 2.
Назлоян Г. М. Портретный метод в психотерапии. М.: ПЕР СЭ, 2001.
Назлоян Г. М., Абрамян Л. А. Беседы у костра // Назлоян Г. М. Зеркальный двойник: утрата и обретение. М.: Друза, 1994.
Никифоров О. В. Терапевтическая антропология Людвига Бинсвангера // Логос. 1992. № 3.
Ницше Ф. Сочинения. Т.1. М.: Мысль, 1990.
Нуллер Ю. Л. Парадигмы в психиатрии. Киев, 1993.
Общая психодиагностика. М.: Изд-во МГУ, 1988.
Овсянников С. А. Дихотомия «невроз-психоз» в концептуально-историческом аспекте // Журнал невропатологии и психиатрии имени С. С. Корсакова. Т. 92. 1992. Вып. 2.
Оди Д. Р. Человек – существо одинокое // Лабиринты одиночества. М.: Прогресс, 1989.
Орлицкий Ю. Что внутри стеклянной матрешки? // Родина. 1996. № 2.
Орлов Д. У. Philosophia матрешки // Материалы конференции: «Русская и европейская философии: пути схождения», М., 2001.
Пигалев А. И. Ойген Розеншток-Хюсси: первое знакомство // Философские науки. 1994. № 1–3.
Платон. Теэтет. М.-Л., 1936.
Психические расстройства и расстройства поведения (F00 – F99). Класс МКБ-10, адаптированный для использования в Российской Федерации). М.: Минздрав РФ, 1998.
Психология. Словарь. М.: Изд-во политической литературы, 1990.
Психотерапевтическая энциклопедия. СПб.: Питер, 2000.
Пятигорский А. М. Избранные труды. М., 1996.
Рабинович Е. Безвредная радость // Рабинович Е. Риторика повседневности. СПб.: Изд-во Ивана Лимбаха, 2000.
Рассел Б. Человеческое познание, его сфера и границы. М.: Республика, 1957.
Ребер А. Большой толковый психологический словарь. М.: Вече-Аст, 2000.
Роджерс К. Клиенто-центрированный/ человекоцентрированный подход к терапии // МПЖ. 1998. № 4.
Розеншток-Хюсси О. Бог заставляет нас говорить. М.: Канон, 1998.
Розин В. М. Психологическая помощь. Психотехника. Эзотерический опыт. М.: РОУ, 1995.
Розин В. М. Опыт истолкования маскотерапии Г. Назлояна // МПЖ. 1996. № 4.
Ротенберг В. С. Психологические проблемы психотерапии // Психологический журнал. 1986. № 3.
Руководство по психиатрии. М.: Медицина, 1983.
Руководство по психиатрии. М.: Медицина, 1988. Т. 1, 2.
Руководство по психиатрии. М.: Медицина, 2001.
Руководство по психотерапии. Ташкент: Медицина УзССР, 1985.
Савенко Ю. С. Новая парадигма в психиатрии // Независимый психиатрический журнал. 1997. № 1.
Самохвалов В. П. Психический мир будущего. Симферополь: КИТ, 1998.
Сандлер Дж., Дэр К., Холдер А. Пациент и психоаналитик. М.: Смысл, 1995.
Сборник статей по прикладной психологии (концепции, теории, модели, практика). М.: ВЦ РАН, 1999.
Сеченов И. М. Рефлексы головного мозга // Сеченов И. М. Избранные произведения. Т.1. М.: Наука, 1952.
Сеченов И. М. Кому и как разрабатывать психологию? // Сеченов И. М. Избранные произведения. Т.1. М.: Наука, 1952.
Снежневский А. В. Общая психопатология: Курс лекций. Валдай, 1970.
Соколова Е., Чечельницкая Е. Моделирование стратегий психотерапевтического общения при патологических внутренних диалогах // МПЖ. 2001. С. 102–121.
Сосланд А. С. Фундаментальная структура психотерапевтического метода, или как создать свою школу в психотерапии. М.: Логос, 1999.
Спенсер Г. Принципы социологии // Мистика. Религия. Классики мирового религиоведения: Антология. М.: Канон, 1988.
Сэмюэлз Э., Шортер Б., Плот Ф. Критический словарь аналитической психологии К. Юнга. М.: ЭСИ, 1994.
Таврический журнал психиатрии. 1998. № 2.
Телешевская М. Э. Наркопсихотерапия // Руководство по психотерапии. Ташкент: Медицина, 1985.
Томе Х., Кэхеле Х. Современный психоанализ. Т. 1. М.: Прогресс – Литера, 1996.
Торри Э. Ф. Шизофрения. СПб.: Питер, 1997.
Уотс А. В. Путь дзена. Киев: София, 1993.
Ухтомский А. А. Доминанта как фактор поведения // Ухтомский А. А. Собрание сочинений. Т. 1. Л.: Ленинградский гос. университет, 1950.
Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
Флейвел Д. Х. Генетическая психология Ж. Пиаже. М., 1967.
Филатов Ф. Р. Отношение «Я – другой» в свете поздних сочинений К. Г. Юнга // МПЖ. 2001. № 1. С. 24–41.
Философский энциклопедический словарь. М.: Советская энциклопедия, 1983.
Франк С. Л. Непостижимое. М.: Правда, 1990.
Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991.
Фрейденберг О. М. Поэтика сюжета и жанра. М.: Лабиринт, 1997.
Фромм Э. Духовная сущность человека. Способность к добру и злу. Человек и его ценности // Сборник тезисов современных философов. XVIII Всемирный философский конгресс. М., 1988.
Фуко М. Рождение клиники. М.: Смысл, 1998.
Хайнд Р. Поведение животных. М.: Мир, 1975.
Хилл Т. И. Современные теории познания. М., 1965.
Хьелл Л., Зиглер Д. Теории личности. СПб.: Питер, 1997.
Цивьян Т. В. Предисловие // Назлоян Г. М. Зеркальный двойник: утрата и обретение. М.: Друза, 1994.
Чуркин А. А., Мартюшов А. Н. Краткое руководство по использованию МКБ-10 в психиатрии и наркологии. М.: Триада-Х, 2000.
Шоттер Дж. М. М. Бахтин и Л. С. Выготский: интериоризация как феномен границы // Вопросы психологии. 1966. № 6.
Энгельмейер П. К. Философия техники. Вып. 1–4. М., 1912.
Эйнштейн А., Инфельд Л. Эволюция физики // Эйнштейн А. Собрание научных трудов. Т. 4. М.: Наука, 1967.
Юдин Т. И. Психопатические конституции. М.: Изд. М. и С. Сабашниковых, 1926.
Юнг К. Избранное. Минск: Попурри, 1998.
Ярошевский М. Г. Проблема детерминизма в психофизиологии XIX в. Душанбе, 1961.
Ярошевский М. Г. История психологии. М.: Мысль, 1985.
Ярошевский М. Г., Липкина А. И. Исцеление души // Наука и религия. 1988. № 9.
Ярошевский М. Г. Комментарии // Фрейд З. Введение в психоанализ. Лекции. М.: Наука, 1991.
Ярошевский М. Г. Исцеление души // Назлоян Г. М. Зеркальный двойник: утрата и обретение. М.: Друза, 1994.
Ясперс К. Общая психопатология. М.: Практика, 1997.
Abrahamian L. H. On the Distancing of Emotion in Ritual // Current Anthropology. Vol.19. 1978. № 1. P. 181–183.
Asperger H. Arch. Psichiatr. Nervenkrank. 1944. Bd. 117. S. 76.
Balint M. Analytic Training Analysis // Int. J. Psychoanal. 1954. Vol. 35. P. 157–162.
Ellenberger H. F., The Discovery of the Unconscios. New York: Basic Books, 1970.
Ferenzi S., Rank J., Entwicklungsziele der Psychoanalyse. Vienna: Int. psychoanal. Verlag, 1924.
Glover E. The Technique of Psychoanalysis. London: Bailliere Tindall & Cox, 1955. P. 382–383.
Gygeritch W. Drachenkampf oder Initiation ins Nuklearzeitalter // Psychoanalyse der Atom-bombe. Zürich, 1989. Bd. 2.
Hemple C. G. Fundamentals of taxonomy // Philosophical Perspectives of psychiatric diagnostic classification. Wiggins OP, Schwartz MA. Baltimore: John Hopkins University Press; Ed. by Sadler JZ, 1984. P. 315–331.
Horney K. Neurozis and Human Growth. Struggle Toward Self-Realisation. N.-Y., 1950.
Kanner L. New Child. 1943. Vol. 2. P. 217–250.
Kosuth J. Art after Philosophy // Studio International. 1969. Vol. 178. № 915.
Kraus A. Die bedeutung der intuition fur die psychiatrische Diagnostik und Klassifikation // Psychopathologische Methoden und psychiatrische Forschung. Hrsg.von Sass H. Jena: Gustav Fischer Verlag. 1996. S. 156–165.
Lacan J. (1953) Fonction du champ de la parole et du langage en psychanalyse. //Ecrits. Seuil, P., 1966. P. 237–322.
Menninger K. A., Holzman P. S. Theory of Psychoanalytic Technique. New York: Basic Books, 1958. P. 179.
Minkowski E. Traite de psychopathologie. Paris: Universitaires de France, 1966.
Rogers C. R. Client-centered therapy. Boston: Houghton, 1951.
Rumke H. C. Die klinische Differenzierung innerhalb der Gruppe der Schizophreien// II International Kongress für psychiatrie. Der Nervenarzt, 1958. Z. 29. S. 49–53.
Waldinger R. J., Frank A. F. Hospital and Community psychiatry. 1989. Vol. 40. P. 712–718.
Woerly. F. L’ Homme Entier. Lausanne, 1990.
Примечания
1
Если проанализировать формулировки психических нарушений и болезней в глоссариях и руководствах последних десятилетий, то мы не увидим расхождений между ними, и серьезных изменений в процессе переиздания (Ануфриев и др., 1990; Блейхер, Крук, 1996). Эти определения различаются лингвистически. Создается впечатление, что авторы описывают истину в последней инстанции, а не клиническую и научную проблему, решение которой далеко впереди. Мы также не встречали ни одного фундаментального исследования, какими были труды многих клиницистов за сто довоенных лет. Особенно показательна судьба «Руководства» А. В. Снежневского и его учеников (Руководство по психиатрии, 1983), главной книги практикующих врачей, явившейся продолжением его популярных «Валдайских лекций» (Снежневский). Переизданное через 18 лет, это руководство в части клинической психиатрии практически не изменилось. Более того, некоторые главы, отражающие целые направления в нашей области, написаны выдающимися авторами, жизнь и творческая деятельность которых остановилась много лет назад, а другие находятся в столь преклонном возрасте, что можно сомневаться в революционно новых решениях (Руководство по психиатрии, 2001). Особенно поучительна судьба известных в мире кафедр, которые мы посещали в разные годы, – Цюрихского университета, Сорбонны, Ягеллонского университета в Кракове, где возникает ощущение того, что время остановилось.
(обратно)2
«Более 50 % стационарных и амбулаторных пациентов получают медикаментозную терапию», – считает В. Я. Гиндикин (Гиндикин, 1997, с. 372). Здесь нужно уточнить, что остальные пациенты – это те, кто нарушает режим приема лекарств. Мы не встречали в нашей практике пациентов, которым лечащий врач отменял бы медикаментозную терапию, за исключением случаев лекарственной идиосинкразии.
(обратно)3
Перечисленные особенности быта пациентов формировались на протяжении многих лет – в подражание соматической медицине, под влиянием текущего опыта и насущных потребностей, наконец, в результате развития идей и представлений о психической патологии. Может быть, поэтому в стенах современной больницы врач более всего находится под властью диагностических штампов. Анахронизм в организации психиатрической помощи был замечен многими специалистами у нас и за рубежом. В частности, один из ведущих отечественных клиницистов Р. А. Наджаров писал в 1969 г., что «архитектура и внутренняя планировка наших больниц не отвечает стоящим задачам», однако ошибочно предлагал приблизить их к условиям соматического стационара (Наджаров). О «публичном одиночестве» в соматических стационарах, где болезнь теряет свое истинное лицо, знали еще в XVIII в.; тогда же появились обозначения больничных осложнений – «тюремная» или «больничная» лихорадка (Фуко, с. 43–44).
(обратно)4
Известный клиницист Р. Г. Голодец, с которой нам посчастливилось работать в психиатрическом отделении, однажды во время обхода в доверительной беседе сказала, что смирительная рубашка была гуманнее больших нейролептиков. В это время возбужденному больному давали инъекционный галоперидол. Заметим, что первая половина врачебной деятельности нашего профессора проходила в донейролептическую эпоху. Любопытно, что даже специалисту такого уровня не удалось преодолеть вето больничных инструкций: она рекомендовала лекарство, в целесообразности которого глубоко сомневалась. Что же тут говорить о простых врачах, находящихся под прессом изощренных форм административного контроля?
(обратно)5
Лекарственная терапия, считают Р. Дж. Уолдингер и А. Ф. Фрэнк, не действует на «ядерные личностные проявления» (Waldinger, Frank).
(обратно)6
Сотрудник нашего института В. С. Шаверин просмотрел несколько сот архивных женских и мужских историй болезни в Хотьковской психиатрической больнице № 5 Московской области, где не проводят тематического выбора пациентов. Диагноз шизофрении параноидной присутствует в подавляющем количестве статкарт, на второе место претендует диагноз органической болезни головного мозга. Несколько десятков других наименований в сумме составили небольшой процент. Большинство нозологических единиц на протяжении десяти последних лет не встречается.
(обратно)7
Состоянию психотерапевта, обстановке, в которой он работает, мы придаем первостепенное значение. Заметное место в лечебной работе мы уделяем опекунам душевнобольных – метод «параллельного лечения». Считаем недопустимым постановку диагноза и назначение лекарств в считанные часы, а также ведущими специалистами на лекциях, конференциях, консилиумах – здесь неизбежны субъективизм, тенденциозность и, как следствие, гипердиагностика. Мы отрицаем виртуозность в постановке диагноза, отвергаем варианты молниеносного решения проблемы – praecox gefuhl Рюмке (Rumke). Говоря об «интуиции шизофренической личности», мы не можем не выразить недоумения по поводу того, как выдающиеся ученные (Я. Вирш, А. Кемпински, К. Шнайдер и др.) не видели последствий внедрения столь сомнительной идеи для практической психиатрии. Только благодаря детальной критике философом-позитивистом Карлом Гемпелем этого понятия как не являющегося независимым от наблюдателя признаком, симптом чувства шизофрении (Блейхер, Крук, с. 215) не был официально включен в DSM-III. Из наших современников эту линию последовательно проводит А. Краус (Kraus), но о нем мы будем говорить в другом месте.
(обратно)8
Почти на каждой конференции в многопрофильной аудитории нашим сотрудникам задают вопрос о механизмах маскотерапии. Чаще всего он исходит от философов и психологов, которые, как видно, не знают, что психиатры придерживаются принципов клинической медицины, а преимущества последней заключаются как раз в том, что она не создает спекулятивных объяснений причин того или иного расстройства. Каждый врач помнит свое первое участие в клинических разборах, когда ведущий специалист резко обрывает: «Не психологизируйте!» Здесь речь, конечно, не идет о науке психологии, эту реплику можно перевести так: «Не спекулируйте!» Подчас считается безвкусицей даже использование квалификационных терминов – бред, депрессия и т. п. В том-то и особенность клинического анализа, что он острым скальпелем дает молниеносный срез текущего состояния пациента, где есть место только фиксации патологических знаков и строгому упорядочению их в синдром. Это действительно искусство, требующее опыта и мастерства. Тем не менее мы благодарны нашим интерпретаторам – философам, психологам, антропологам, культурологам, искусствоведам, которые в границах собственных наук, дают убедительные толкования методов маскотерапии (Абрамян, 1988; Акопян, 1998; Горбовский; Данин; Кузник; Розин, 1996; Самохвалов, 1998; Ярошевский, 1994).
(обратно)9
Первые пациенты производили на нас особенно сильное впечатление. Высокий, сутулый, чудаковатый Н. все время повторял: «Вы знаете, что такое аминазин? Это как дубиной по голове!» Больной С., которому мы отменили нейролептики, сказал: «Я из гроба вышел». А тонкий, изящный, умный, некогда психиатр, Ж., который впоследствии покончил с собой на улице во время прогулки с пятилетней дочерью, утверждал, что все это множество нейролептиков и даже шоков оставляло нетронутой его личность, его «Я». Это мнение часто высказывают пациенты в беседах.
(обратно)10
Большинство рекомендуемых для стационаров и диспансеров техник психотерапии также направлены на преодоление (ликвидацию) определенного фрагмента психозов. Исходя из этого можно считать Фрейда, Юнга, Лакана, Фромм-Рейхман и некоторых других авторов истинными мудрецами в области психотерапии.
(обратно)11
Указанная тенденция достаточно характерна для всей медицины как опытной науки. При разработке новой удачной идеи ученые-медики, способствуя все более широкому ее распространению в самых разных областях, начинают относиться к ней как к некой панацее. Затем наступает разочарование («дряхление клиники», по Фуко), обретенное было единство распадается, новые упования уходят в историю, а препарат либо исключается из употребления (как пресловутый красный стрептоцид), либо занимает более скромное место (гормоны, антибиотики).
(обратно)12
Показательно интервью, взятое нами у опытного психиатра Р. А., который за двадцать лет клинической и частной практики (сотни пациентов) имел лишь несколько случаев ремиссии в течение 5 лет и один за 10 лет (Назлоян, 1999, с.121).
(обратно)13
Уже в старости такой независимый мыслитель, как К. Юнг, сделавший очень многое для преодоления узко научного взгляда на психические болезни, в своей итоговой работе трактовал шизофренные расстройства в линейном, процессуальном русле (Юнг, 1998, с. 337–354, особенно 343).
(обратно)14
Психиатры получают общемедицинское образование и пользуются терминологией и представлениями соматической медицины. Глубокого осознания уникальности своей области у них нет даже через много лет работы. Именно поэтому психиатр становится объектом критики со стороны университетских психологов, которые в свою очередь, по выражению А. Эйнштейна, «ученые и утонченные, но без интуиции».
(обратно)15
Любопытно, что, обращаясь в наш институт, родственники пациентов требуют только выздоровления, а не купирования, дезактуализации и т. п., потому что все это уже было в многолетних мытарствах по больницам и диспансерам. Всякие попытки разумно застраховаться, ссылаясь на здравый смысл, отметаются. В их последней надежде скрыто напряжение уже отчаявшихся людей. На нас совершается моральное давление с первого дня лечения. И если мы принимаем решение лечить, то должны идти на риск – «все или ничего». Любовь и вера опекунов, за которыми стоит опасная интрига, вынуждает нас брать всю меру ответственности на себя, находить решения по ту сторону рациональной медицины.
(обратно)16
Увы, это открытие породило другое явление. Опекуны пациента, обнаружив «благотворное» действие препарата, назначенного предыдущим врачом, прерывают лечение и возвращаются к старому. Они даже покоряются приговору о неизлечимости болезни. Правда, такие случаи составляют не более 15 %. Большинство же опекунов принимают нашу версию и просто держат в домашней аптечке лекарство, вызвавшее привыкание.
(обратно)17
Впрочем, Н. Г. Алексеев и Э. Г. Юдин отсылают нас к «Трактату об ощущениях» Кондильяка (Алексеев, Юдин, с. 159). Эти же авторы полагают, что «акцент на процесс полностью определяет возможные категориальные структуры этих схем, а через них и „инструментальную“ часть – направленность и методики исследования» (там же).
(обратно)18
Постепенное сокращение первоначального содержания произошло, скорее всего, произвольно – под воздействием текущего клинического опыта.
(обратно)19
Этот термин также предложил в 1927 г. E. Минковски – «аутистическая активность», своеобразная гиперконтактность внутренне отстраненного больного (Minkowski). Однако оно появляется еще в «Аутистическом мышлении» О. Блейлера, там, где он пишет о «шизофренике-реформаторе» (Блейлер, 1981, с.113).
(обратно)20
Говоря от лица одной из российских политических партий «здравого смысла», Ю. М. Лужков мимоходом произнес в телепрограмме «Время» 12. 04. 1999 г.: «Слишком много „шизанутых“ здесь проявляют сверхактивность». Самый древний предрассудок – недопустимая избыточность активности, количественная характеристика психоза, упорно держится в сознании большинства. Многие врачи, знакомые с такими явлениями, как апатия, абулия, редукция энергетического потенциала и другие дефицитарные симптомы, продолжают назначать пациентам сдерживающие препараты. Один из видных теоретиков психиатрии, Л. Кемпински, весьма сомнительно определяя одержимого из «Евангелия от Марка» (5, 3-10) как больного шизофренией (Кемпински, с. 3–10), приводит следующую цитату: «И никто не мог его связать даже цепями, потому что многократно был он скован оковами и цепями, но разрывал цепи и разбивал оковы, и никто не в силах был укротить его; всегда, ночью и днем, в горах и гробах, кричал он и бился о камни…».
(обратно)21
«Расщепление» и «аутизм» в блейлеровской интерпретации, на наш взгляд, во многом идентичны или взаимозаменяемы. Но это – предмет изучения генезиса понятия о шизофрении.
(обратно)22
См.: Ломброзо, с. 8–214; Клинический журнал гениальности и патологии; Назлоян, 1978.
(обратно)23
Один из активных участников всемирных форумов (вместе с А. Пуанкаре, А. Бергсоном, Э. Махом и др.) философ техники П. К. Энгельмейер, перу которого принадлежит относительно посредственная теория творчества, с гордостью заявлял, что он дилетант и в этом видит залог успеха своего мировоззрения. Он даже выпустил работу, где одна глава называется «Дилетантизм» (Энгельмейер).
(обратно)24
Одно из первых заявлений о копировании человека можно встретить в предисловии к знаменитой «Кибернетике» Н. Винера, изданной в 1949 г. (Винер).
(обратно)25
Как известно, свою теорию шизофрении Блейлер с излишней скромностью считал «распространением идей Фрейда на Dementia praecox» (Каннабих, с. 464). Но так не думали ни психоаналитики, ни клиницисты, ни даже он сам.
(обратно)26
«Хотите знать, как стал психиатром мой отец? – спросил нас Манфред Блейлер. – Он в 27 лет был выбран франкоязычной общиной и направлен в Париж на учебу, потому что присланный немец, главный врач, проявлял жестокость к пациентам». О. Блейлер пришел в психиатрию с миссией сострадания и любви. Остается только восхищаться проницательностью его односельчан.
(обратно)27
Мода на создание альтернативных психоанализу теорий сохранялась длительное время. Напомним, что в отечественной литературе существовало целое движение, направляемое этой целью, а одной из последних попыток была концепция так называемого «надсознательного». Причем происходило это в результате не конструктивной критики идей Фрейда, а недостаточно корректного отрицания последних.
(обратно)28
«Сопротивлению воли проникновению в сознание того, – писал Шопенгауэр, – что неприемлемо для человека, является тем местом, через которое дух может быть поражен безумием» (Ellenberger, с. 209).
(обратно)29
Здесь Блейлер пытается образовать нечто вроде симбиоза эволюционной и психоаналитической теорий. Наложение клише эволюционного подхода к анатомии и физиологии мозга, а затем и к психическим функциям, распространенное среди ученых-врачей, есть не что иное, как вариант вульгарного материализма.
(обратно)30
Г. Т. Красильников также пишет о «диагностическом и прогностическом значении аутистического симптомокомплекса» (Красильников, с. 5).
(обратно)31
Именно О. Блейлер заложил основу гипердиагностики шизофрении. С этим согласился Манфред Блейлер в частной беседе с нами. Истоки гипердиагностики восходят к моменту сужения глобального представления об аутистическом мышлении рамками одной из многих сотен нозологий. Ведомый своей теорией, Блейлер был вынужден чаще других выставлять этот диагноз. В дофармакологическую эпоху ущерб был не столь ощутим: больным ничего не грозило, а в атмосфере клинических разборов даже появлялся некий научный лоск. Когда же мы рассказали сыну ученого М. Блейлеру в Цюрихе, о том, сколько вреда больным в нашей стране принесло гипертрофированное представление о шизофрении, он был удивлен и опечален.
(обратно)32
Это стало возможным благодаря тому, что к феномену патологической замкнутости Блейлер подошел структурно, утвердив фактор диссоциации.
(обратно)33
В этой связи трудно согласиться с Г. Т. Красильниковым, который склонен считать эти схемы тождественными (Красильников, с. 16).
(обратно)34
Так называемые нью-йоркская и британская концепции шизофрении, по Дж. Е. Куперу, совпадают с расширенным толкованием Блейлера и сужением, введенным К. Шнайдером (Кискер, Файберг и др., с.361).
(обратно)35
В 1938 г. Л. Каннер обратил внимание на детей, в клинической картине заболевания которых ведущим расстройством был аутизм. В 1943 г. он обобщил свои наблюдения в специальной статье. В дальнейшем Л. Каннер в качестве критериев для выделения синдромов раннего детского аутизма предложил, во-первых, самоизоляцию и неспособность к установлению контактов с людьми, а во-вторых, – однообразное поведение с элементами одержимости.
(обратно)36
С. С. Мнухин, А. Ван Кревелен, М. Раттер «сформулировали принципиальное положение о детском аутизме, как синдроме детской психопатологии, отличающейся от оригинальной концепции О. Блейлера в традиционном ее понимании» (Каган, 1976, с.62).
(обратно)37
Ясперс считал это явление этапом на пути к объективной науке: «Психотерапия нуждается в вере как основе, но сама она веры не создает. Поэтому психотерапевт, желающий стать терапевтом в истинном смысле, должен, во-первых, быть открыт настоящей вере, принимать и утверждать ее; во-вторых, он должен противодействовать неизбежной (о чем свидетельствует опыт) склонности превращать психотерапию в мировоззренческую доктрину, а кружок, в который входят сам психотерапевт, его ученики и пациенты, – в общность, аналогичную религиозной секте» (Ясперс, с. 976). Сегодня становится ясно, что это явление более фундаментально, чем думал Ясперс, и будет присутствовать всегда, так как результаты достигаются во многом благодаря нравственным усилиям врачей-психотерапевтов, создающих особую атмосферу вокруг пациента. Тем более что психотерапевт имеет дело с представителями разных конфессий, нередко с атеистами. Однако подобная критика формы организации психотерапевтической помощи действует и в наше время. На наш взгляд, ничего экстраординарного тут нет – достаточно посмотреть на всю остальную медицину. Уместно вспомнить и определение Г. Майера: «Вера есть сознание значимости, но такое, которое основывается не на познавательных данных, но на самовнушении» (Майер, с. 126).
(обратно)38
Точнее было бы сказать одна – клиническая. Мы не видим у Фрейда и его последователей отхода от клиники, это отход от систематики Крепелина. Сам Крепелин выдвижением идеи о регистрах косвенно признал неполноценность своего учения. В дальнейшем он в значительной мере согласился с критикой Ясперса. В статье «Формы проявления сумасшествия» он признавал, что его классификация родилась под влиянием успехов микробиологии.
(обратно)39
Разумеется, в каждой хирургии есть доля терапии (стерильность, органосберегающие операции, послеоперацинный период) и наоборот (процедуры очищения, кровопускание, изгнания инфекции). Предлагаемый нами способ систематизации проводится в духе позднего Юнга, который в одном из своих докладов расположил различные школы психотерапии в два ряда с использованием антиномии общего и индивидуального, а затем хотел «примирить» их, опираясь на диалектический метод (Юнг, с. 272–274).
(обратно)40
Об этом же в развернутой форме пишет А. Сосланд (Сосланд, с. 12–54). Однако заметим, что, развивая тему, можно прийти к общему месту, ибо мечтой каждого творческого человека (ученого, артиста, конструктора), а не только психотерапевта, является опровержение старого и создание чего-то нового.
(обратно)41
Врачи охраняют здоровье, а не язык, а то может возникнуть ложное впечатление, что представители других областей знания когда-то поверили Фрейду (либидо, невроз), Блейлеру (аутизм, шизофрения), Юнгу (комплексы, архетипы) и были обмануты ими. В позиции создателей МКД-10 ничего нового нет – это представители ортодоксального направления, проводящие своеобразную реанимацию процессуальной интерпретации психических расстройств, имеющую сторонников во всем мире.
(обратно)42
«Харизма может быть природным даром, присущим объекту или лицу, обрести который невозможно никакими усилиями» (Вебер, с. 79)
(обратно)43
«Скорее всего, – считает А. Сосланд, – психотерапевтическая новизна более близка новизне художественной, когда автор свободно отзывается на изменения „духовной ситуации эпохи“; она далеко отстоит от новизны научной, которая сформирована логикой научного доказательства…» (Сосланд, с. 21)
(обратно)44
Здесь и далее речь идет преимущественно об индивидуальной или другой психотерапии, где роль и ответственность лечащего врача соответствует клиническим представлениям. Нам известны случаи благотворного влияния на психическую патологию неспециалистов, группы людей или общественных институтов, но данная работа не может вместить анализ такого обширного материала. Можно также говорить о психотерапевтичности законов, применяемых в том или ином государстве.
(обратно)45
Постулат выглядит в высшей степени странным, если вспомнить, что большинство известных методов психотерапии неврозов – личностно ориентированные.
(обратно)46
«Однако этот признак, – пишет В. Я. Гиндикин, – как и все последующие, не является строго детерминирующим, поскольку может определяться и при ряде других заболеваний – как пограничных (например, невротических развитиях личности), так и процессуальных (неврозоподобный дебют при шизофрении или неврозоподобная шизофрения, невротическая депрессия и т. п.). Кроме того, на высоте навязчивостей при неврозе навязчивых состояний может исчезать критика, т. е. возникает анозогнозия» (Гиндикин, с. 84–85).
(обратно)47
«Всякое психическое расстройство, – считал Фейхтерслебен, – подразумевает существование болезни нервной системы, но не всякий дефект нервной системы обязательно сопровождается психическим расстройством» (Овсянников, 1992).
(обратно)48
Не стоит забывать, что психофизиологическая проблема решается врачом-психотерапевтом не столько в гносеологическом, сколько в онтологическом, точнее в этическом контексте – фантомная боль и реальная боль здесь воспринимаются как страдание.
(обратно)49
Подробный обзор критической точки зрения дается в книге Гиндикин, с. 134–174. В этом разделе можно встретить имена многих известных отечественных и зарубежных исследователей, высказывания которых в сумме создают настоящий хаос содержаний, мнений, точек зрения. Тем не менее, конструктивной критики меньше, чем это необходимо при анализе столь важной для практической психотерапии проблемы.
(обратно)50
Мы не случайно говорим о неврозоподобной шизофрении, косвенно подтверждая интервенцию учения о неврозе в область эндогенной психопатологии и наоборот. Неврозоподобной эпилепсии, как известно, не существует, хотя невротические синдромологические и личностные расстройства при этой болезни встречаются не менее часто. Остальные болезни принадлежат к психоневрологии, психосоматике, психоэндокринологии. Сам факт существования двойных обозначений говорит здесь о том, что психический эквивалент этих расстройств неизвестен. Более того, клиницисты склонны видеть у многих невротиков шизофрению, а психодинамисты – интерпретировать шизофрению как невроз.
(обратно)51
Показательно также, что в самых обширных в нашей стране обзорах по психотерапии (Руководство по психотерапии и Психотерапевтическая энциклопедия) нет ни одной ссылки на труды Крепелина, о котором и сейчас можно говорить словами Бумке, что вся современная психиатрия (включая и критику нозологического направления) стоит на плечах Крепелина (Каннабих, 482).
(обратно)52
Заметим, подтверждая авторство Фрейда, что дифференциации неврозов и психозов здесь еще нет, а истерия, основа основ становления психотерапии, выделена в отдельную рубрику.
(обратно)53
Что в сущности одно и то же – понятие о расщеплении, на наш взгляд, сыграло значительную роль в образовании представления о феномене вытеснении и в целом распространялось на концепцию невроза, хотя Фрейд в этом месте ссылался на Шопенгауэра. «Вследствие такого обособления, – пишет Г. Биндер, – комплекс приобретает известную автономию и подобно „чужому демону“, в состоянии косвенно причинять личности беспокойство» (Биндер, с. 156).
(обратно)54
Напомним, что его интересовало не преломление проблемы аутизма в психоанализе, а (отвергнутая им и Крепелином) концепция дифференцированного бессознательного, принцип удовольствия, феномен вытеснения и ассоциативный эксперимент – конструкции производные по отношению к категории внутреннего конфликта.
(обратно)55
В этом отношении Фрейд уникальный автор. К примеру, он посвятил значительную часть своих изысканий выяснению механизмов возникновения новых идей, культурных и научных ценностей, но ни разу не упомянул проблему творчества, находившуюся в центре внимания его современников от Рибо до Пуанкаре. Далее, мысли об отчуждении больного человека, как отмечалось, встречаются практически на каждой странице его произведений, однако он не пользуется модными тогда понятием аутизма.
(обратно)56
Учебник Крепелина наполнен всякими пассами о вырождении, психической дегенерации. Можно понять, из каких средневековых источников берутся эти представления, но что он сам имел в виду, остается неясным, особенно когда он иллюстрирует dementia praecox такими редкими дефектами, как сращение пальцев ног, или грубая асимметрия ушных раковин.
(обратно)57
О том, что аутизм и внутренний конфликт – очень близкие в диалогическом плане понятия не нуждается в доказательствах. Но можно найти в работах Фрейда и Блейлера место, где они говорят о производящей функции нарушенного диалога вообще, а не только в случаях неврозов или dementia praecox. Эта тема не получила достаточного развития. У нас давно создалось впечатление, что оба исследователя находились под большим взаимным влиянием, особенно в самом начале минувшего столетия.
(обратно)58
Представление об автономно существующем внутреннем мире, как нам кажется, напрасно отвергается философами-диалогистами (Бубер, Розенцвейг, Розеншток-Хюсси, Франк, Эбнер) – это явление отчетливо присутствует у душевнобольных и невротиков, фиксированных на своих переживаниях, обнаруживающих реальные трудности для создания диалога.
(обратно)59
Мы имеем в виду не традиционное содержание – «наличие действия, не приводящего к желаемому результату» или «направленность конфликта» (Дункер, с. 41), а нарушение качества внутрипсихического диалога. Именно так, на наш взгляд, можно объединить множество «темных» смыслов и содержаний, существующих в психоаналитической литературе.
(обратно)60
Мы стали пользовать понятие патологического одиночества, хотя прекрасно осознаем, что одиночество не может не быть патологическим. Об этом сказал Б. Окуджава на одном из своих публичных выступлений, ведь антоним этого слова – уединение.
(обратно)61
«То обстоятельство, – писал Г. Спенсер, – что вера в переживающего человека двойника возникает среди дикарей и затем постоянно воспроизводится у цивилизованных народов, представляет факт особого значения» (Спенсер, с. 7).
(обратно)62
Описывая методику «зеркальные переживания», мы исходили из предложенной А. А. Бодалевым и В. В. Столиным классификации психодиагностических процедур по методическому принципу (Общая психодиагностика).
(обратно)63
Гениальное, по сути, изречение Лакана «бессознательное – это речь другого» не было развито ни им, ни его учениками. В противном случае неизвестно, почему они ищут зеркальные переживания в детстве, будто бы шестимесячный ребенок отчитался им по полной программе (Lacan). Наши многочисленные семинары, контакты (работа в клиниках Лакана в Шони и Премонтре), особенно дискуссия на последней международной конференции ITINERAIRES в 1997 г. дают право сказать, что события диалогической природы не волнуют представителей этого направления. Они, на наш взгляд, еще более усложняют спекулятивную часть психодинамической практики. Доказательством сказанному может быть полное бессилие психотерапии психозов в указанных стационарах.
(обратно)64
Метод сформировался в 1978 г. на одной из клинических баз кафедры психотерапии ЦОЛИУВ – в Рузской психиатрической больнице № 4 Московской области.
(обратно)65
Эту мысль высказал еще мой научный руководитель, профессор М. Г. Ярошевский: «Созданный Г. М. Назлояном метод созревал в условиях неопределенности и риска на стыке науки и искусства» (Ярошевский, 1994, с. 73). В 1978 г., занимаясь проблемами психологии творчества, я стоял перед выбором между умозрительным построением системы доказательств этой концепции или же ее практической реализацией. Я выбрал способ Т. Хейердала, поступил на работу в загородную психиатрическую больницу и продолжил поиски в условиях реальной клинической практики.
(обратно)66
Об этом писал, в частности, М. Г. Ярошевский: «Назлоян делает не психоанализ… перед нами человек, открывший одну из психотерапий» (Назлоян, 1991).
(обратно)67
Леви-Строс о своем творчестве: «Я есть то место, где в течение нескольких месяцев или лет вещи вырабатываются или же обретаются, а затем они отделяются посредством некоего извержения» (Леви-Строс, с. 7)
(обратно)68
Социализированного человека можно представить как окруженного зеркалами, отражающими его неповторимые черты, индивидуальность. Отношение к людям «без определенного места жительства» – это отношение к безликому, к копии, а не оригиналу. Достаточно вспомнить, как оживает интерес телерепортера, как теплеет его голос, когда он узнает, что интервьюируемый бомж находится в иерархическом сообществе себе подобных и имеет определенный статус. Из копии этот человек становится оригиналом со своими взглядами на жизнь и даже на политику.
(обратно)69
Отсюда интуитивно выдвинутый в самом начале нашей практики принцип о невозможности второго портрета в случае неудачи, например при повторном обращении пациента. Ибо вторая копия делается не с оригинала, а с предыдущей копии. Вторая и последующие копии теряют лечебную силу, они лишь трата пластического материала.
(обратно)70
Разработанный нами тест «пространственно-временных нарушений», который в настоящей работе не нашел места, подтверждает это утверждение. Цель указанного теста – обнаружить тонкие пространственно-временные нарушения в процессе проведения пластической ритмики. Здесь расстройства координации имеют отношение к пространственным расстройствам, а соответствие пластических движений музыкальному ритму – к временным. В связи с этим четыре непременных свойства помраченного сознания по К. Ясперсу представляются несколько оторванными от опытных данных. Оправдывает себя лишь второй – признак дезориентировки (Ясперс, с.189). Ясперс имел в виду лишь очень грубые формы расстройства ориентировки. Его формула, как и любая строгая дефиниция в нашей области, во многом препятствовала развитию новых точек зрения на природу психозов, а также на выбор модели для стандартизации лекарственных схем. Мы утверждаем, что опыт лечения, к примеру, алкогольного делирия важнее для начинающего врача, чем опыт лечения шизофрении.
(обратно)71
На интенсивных амбулаторных приемах в течение ряда лет мы обнаружили следующую закономерность. Когда мы ограничивали время приема, опекуны или пациенты проявляли скрытую агрессию и, как правило, сильно завышали регламент или уходили с чувством невыговоренности, недовольства. Но стоило врачу на приеме сказать, что он никуда не спешит и может слушать больного «до утра», беседа становилась неожиданно лаконичной, по «существу», а посетители выходили из кабинета с улыбкой на лице.
(обратно)72
Профессор Р. Брока в Париже пригласил нас на дружескую встречу в 6(!) часов утра, а в это время на кушетке полулежал сонный пациент лет сорока. Я стал спрашивать, и оказалось, что психотерапевт назначил время планового приема по собственному усмотрению.
(обратно)73
Заметим, что в клинической практике у врачей два чувства времени не всегда представлены вместе. Интуиция направленного времени доминирует, когда врач ставит диагноз и делает прогнозы, а интуиция цикличного времени – когда он лечит, восприятие текущих расстройств, как однообразно повторяющихся (обострение, рецидив), а не как новое состояние, новая проблема. Эта же интуиция доминирует у родственников больных и создает для нас существенные трудности, создает атмосферу уныния и отчаяния. При малейшей неадекватности пациента они говорят: «Все вернулось. Он такой же, как десять лет назад, перед первой госпитализацией».
(обратно)74
Для нас это не только метафора. После окончания сеанса врач-портретист уходит в свою комнату, падает в кресло и, закинув голову, глубоко и учащенно дышит, как после долгой задержки дыхания. Выражение его несколько влажного лица в этот момент отрешенное, взгляд пустой. Если кто-то к нему обращается, он сразу ориентироваться не может, бессмысленно улыбается.
(обратно)75
Первые десять лет мы лепили из глины круглые скульптуры, т. е. материал выбирался из полного яйца. Потом перешли к полукруглым, более удобным для формования скульптурам. Однако время от времени мы по желанию пациента возвращаемся к круглой форме.
(обратно)76
Здесь коренное отличие от профессиональных портретистов, которые предпочитают работать в изоляции от внешнего мира. Сходство же с уличными мастерами лишь формальное. У уличного художника-портретиста нет никаких отношений со своей моделью, которая выделяется своим застывшим для позирования видом. Открытость уличного художника достигается за счет упрощения творческого пространства, разрушения невидимой стены пребывания со своей моделью. Мы не замечали даже теплого взгляда у художника, измеряющего пропорции лица, и его модели. На наш взгляд, есть определенная обособленность, отчужденность, некоторая враждебность между ними. Положение может исправить лишь итог – внешнее портретное сходство, санкционированное присутствующими, идентификация модели с изображением происходит после завершения творческого акта.
(обратно)77
Этот же феномен наблюдается в живописи – слои красок, лессировки и т. п. В 1982 г. мне посчастливилось позировать известному портретисту. В ходе работы сепией на доске появлялись вполне самостоятельные образы, которые тепло обсуждались всей семьей художника.
(обратно)78
То же самое происходит и в бодиарттерапии, когда ватки с остатками слоев грима выбрасывают в проточную воду, а в автопортрете закрывают маску лепешками из пластилина.
(обратно)79
«Миссионер укорял свою паству – африканцев – за то, что они ходят голые. „А как же ты сам? – отвечают те, показывая на его лицо. – Разве ты сам кое-где не голый?“ – „Да, но это же лицо“. – „А у нас повсюду лицо“, – ответили туземцы» (Якобсон, 228).
(обратно)80
Иногда методы общения с душевнобольными на первый взгляд особенно причудливы. Рассказывают, что П. К. Ануфриев подражал манерам пациента, с которым общался. Со слов Ж.-П. Клайна, президента Ассоциации арттерапевтов в Париже, Ж. Лакан никогда не общался с больным непосредственно, а садился на почтительном расстоянии от него, слушая беседу с ним своего ассистента и делая выводы; профессор С. Шин из Сеула для более глубокого контакта использовал корейский обряд чаепития. Характерны также различные попытки внешнего и внутреннего уподобления – от прямого подражания с возможным принятием его образа до так называемого «дикого» психоанализа.
(обратно)81
Этот прием настоятельно рекомендуют и Г. В. Морозов и К. Зайдель (Руководство, 1988, т. 1, с.212).
(обратно)82
Тут Ясперс противоречит всему тому, что он высказал на предыдущих 983 страницах своего фундаментального труда.
(обратно)83
Нас не перестает удивлять, как творчески Фрейд умел перерабатывать принятые в медицине представления. То он избавлял их от излишней конкретности, например сопротивление гипнозу, сторожевой пункт, то придавал конкретность расплывчатым представлениям из медицинской деонтологии (перенос и контрперенос) или функциональность банальному в соматической медицине явлению – терапевтическому альянсу врача с пациентом. Все просто и все гениально.
(обратно)84
Отсюда преувеличенное отношение психоаналитика к так называемому сопротивлению, которое убедительно встречается лишь при попытке усыпить пациента. Мы чаще встречали сопротивление врача терапевтическому контакту с больным.
(обратно)85
Именно Бубер мог бы быть воспринят психопатологами, так как его хорошо знали ученые-естественники, например, Эйнштейн. Что касается идей Бахтина, завершивших создание новой парадигмы, то они стали распространяться в Париже Юлией Кристевой только в 1966 г.
(обратно)86
«Многое из психической и соматической сферы, – пишет Блейлер, – можно видеть незаметно для больного; нужно приучиться замечать реакцию зрачков во время простого разговора; надо постоянно иметь в виду, в каком виде вся обстановка представляется больному; один и тот же вопрос может быть очень хорошим и может испортить весь ход исследования в зависимости от того, в какой обстановке он задан, с предисловием или без него» (Блейлер, с. 140).
(обратно)87
Концентрация восприятия художника многократно превышает возможности самого наблюдательного аналитика. Всем известны легенды о точности зрения («хищный глазомер» по выражению О. Э. Мандельштама) известных художников. Один художник-портретист, показывая мой графический портрет друзьям, давал им большую лупу, чтобы они увидели штрихи (тысячи прикосновений сепией), невидимые невооруженным глазом.
(обратно)88
«При этом, – писал К. Юнг, – сначала надо серьезно взвесить вероятность того, что личность пациента, возможно, превосходит врача по уму, духовности, широте и глубине» (Юнг, с. 277).
(обратно)89
Способность не фиксироваться на главном, как бы не замечать то ценное, что передает пациент, мы наблюдали у наших учителей, отечественных клиницистов (А. И. Белкин, Р. Г. Голодец, А. Г. Гофман, А. С. Тиганов и др.). К этому эффективному приему клиницисты пришли, видимо, опытным путем, хотя сейчас это уже признак «школы». По нашему глубокому убеждению, умение «периферийно» воспринимать пациента свидетельствует о высоком мастерстве врача-интервьюера в психиатрии.
(обратно)90
Даже в дружеской среде врач как частное лицо не воспринимает критику в адрес того, кто был для него «идеальным третьим» в работе.
(обратно)91
См.: Ельшевская, 1992. Сюда же можно отнести знаменитое высказывание Флобера о героине своего романа: «Эмма это я!»
(обратно)92
Значение этого понятия весьма разнообразно: от «кинестетической эмпатии» (отзеркаливания) до «зрения» в невидимом мире, эмпатии без искусства (телепатии); от артистического восприятия окружающего мира до инженерных приемов отождествления себя с деталью механизма. В нашем случае врачебное уподобление и художественное проникновение сливаются воедино. Этическое вживание врача в «его страдания, в категории другого» (Бахтин, 1979, с.25), становясь этико-эстетическим, приобретает значение своего (врача) страдания.
(обратно)93
«Поэтому, – пишет П. Я. Гальперин, – первой формой собственно умственного действия оказывается четко развернутая внешняя речь про себя» (Гальперин, с. 85).
(обратно)94
Количественные ограничения курса лечения (например, 300-часовая норма Германской ассоциации психоаналитиков) – бич современной психотерапии. Причем речь идет не только о продолжительности сеансов, но и о частоте посещений больным психоаналитика (Томе, Кэхеле, с. 454).
(обратно)95
Есть еще один очень сомнительный признак финальной стадии, когда диалог «изнашивается», перестает быть интересным для партнеров. Достижение рутинности диалога вполне возможно, но как прием, подконтрольный врачу. Вообще в психоанализе много описаний финальной стадии, пущенной на самотек. «Анализ окончен, – утверждал Фрейд, – когда аналитик и пациент перестают встречаться на аналитическом сеансе» (Томе, Кэхеле, с. 453). Тут сразу возникает множество вопросов теоретического и практического характера. Ссылаться на подобные заявления через сто лет развития психоанализа мы считаем сомнительным и даже безответственным.
(обратно)96
В этом отношении наш опыт не совпадает с мнением Бахтина об «элементе насилия» при завершении художественного образа, о том, что «ему предписывают извне, кем он должен быть, его лишают права на свободное самоопределение, его определяют и останавливают этим определением» (Бахтин, 1996, с.65). Момент завершения портрета – самое загадочное и непредсказуемое явление в нашей работе. Тот, кто первый говорит об этом (врач, больной, консультант, опекун, посторонний человек), похож на вестника, его мнение не является императивным. Нередко в нашей практике бывают случаи, когда после перерыва вся группа возвращается к портрету с тем, чтобы продолжить работу (и, возможно, не один день или даже месяц), но все одновременно видят, что портрет состоялся. Наоборот, врач-портретист, которому дано право объявить о завершении первым, ввиду обостренного чувства ответственности долго не может оторваться от работы, пытается найти какое-то продолжение, но это не встречает отзвука у присутствующих, группа с неотвратимостью распадается. Критерий портретного сходства здесь уже особого значения не имеет. Портрет закончился, потому что мастеру уже нельзя к нему дотрагиваться. Даже художники-портретисты (мы их называем шутливо «убийцами»), обладающие огромной волей к завершению образа, подчиняются общим для всех законам, которые даются человеку извне.
(обратно)97
Остановка контакта в данном случае не исключает партнера (его ожиданий) по диалогу. Это пассивный компонент диалога, пауза, а не отвлечение интереса партнеров.
(обратно)98
Если этого не происходит по причинам, связанным с состоянием пациента (интеллектуальный дефект или негативизм), то работа над воспроизведением синхронно тормозится. В таких случаях мы используем технику параллельной лепки по живому лицу, одна из функций которой – разрушение визуального стереотипа. Но об этом мы будем говорить в другом месте. За многие годы мы привыкли относиться к «обновлению» лица серьезнее, чем это принято. О том, насколько глубоко затрагивает это явление пациента, свидетельствуют фиксируемые нами реальные изменения в размерах и пропорциях лица.
(обратно)99
Кажется, только Э. Фромм понимал значение этого фактора в образовании психических болезней. «Наряду с потребностью в соотнесенности, укорененности и трансценденции, – пишет он, – его потребность в самотождественности является настолько жизненно важной и властной, что человек не может чувствовать себя здоровым, если он не найдет возможности ее удовлетворить» (Фромм, с. 61). Мы рассматриваем это явление на элементарном уровне, не забывая, что существует и другой (статусный) уровень использования этого понятия – этнокультурная, религиозная, профессиональная, гендерная, социокультурная и другие формы самоидентификации.
(обратно)100
Катарсис после Аристотеля никогда не анализировался в контексте диалога, даже философами-диалогистами и Бахтиным (см. критические работы Жирар, 2000, с. 332–377; Рабинович, 2000).
(обратно)101
«В то же время это же очищение души сохраняется и за комедией, и под ним понимаются ночные обряды инвективы и глумления, разыгрываемые на повозках» (Фрейденберг, с. 154).
(обратно)102
Мы имеем в виду слова Лессинга о том, что страх, который описал Аристотель, «мы переживаем за себя в силу нашего сходства с личностью страдающего» (Лессинг, с. 570).
(обратно)103
Здесь уместно сослаться на очень важное разграничение фрагментов «Политики» и «Поэтики» Аристотеля, проведенное Е. Рабинович. «Музыкальный катарсис, – пишет она, – является разрядкой психического напряжения (восторга), достигаемый посредством эксоргических или катартических мелодий… трагический катарсис не тождественен музыкальному» (Рабинович, с.226).
(обратно)104
Справедливости ради отметим, что этот труд считается среди историков психологии незавершенным.
(обратно)105
Два психотерапевта из наших бывших стажеров, не имевшие достаточных навыков в области портретного искусства, решили, что уже владеют техникой портретирования, «отделились» и стали лечить самостоятельно, вызывая у пациентов удивительно яркие формы переживаний, подобные катарсису, однако состояние больных (особенно позднейшее) после временных улучшений оказывалось бесплодным. Бурную разрядку, «выплески» накопившихся у пациентов эмоций мы вызываем в технике бодиарттерапии (нанесение психотерапевтического грима), и это приводит к временному улучшению состояния пациента. Появились даже пациенты, которые приезжают к нам, чтобы еще раз «поплакать» и успокоиться. Мы активно противостоим этим явлениям.
(обратно)106
В психодраме завязка насильственна, действие надумано, смысл развязки в самой развязке.
(обратно)107
В марте 1982 года мы присутствовали при выполнении одним художником за три сеанса великолепного портрета. Портрет был так удачен в целом и в деталях, что вызвал у модели, известной своей росписью по фарфору, шоковую реакцию. Она заявила, что больше ей не стоит жить, поскольку ее образ значительно выше ее самой.
(обратно)108
Самоидентификация не монолог одного из партнеров. Это интенсивный диалог больного с самим собой, особое жизненно важное состояние целостности, внутренней связности человека и его зеркального двойника. Фактор самоидентификации позволяет интегрировать все существующие значения «катарсиса» этого «ходового», по выражению Е. Рабинович, слова – от узко врачебного избавления до эстетического или сексуального удовлетворения.
(обратно)109
В. П. Самохвалов – один из немногих современных психопатологов, который придает значение исследованию процессов идентификации, портрета и автопортрета. О его неожиданном и продуктивном взгляде на эту проблему можно узнать в монографии «Психический мир будущего» (Самохвалов, 1998, с. 282–290).
(обратно)110
Нужно отметить также, что внедрению метода автопортрета в практическую психотерапию способствовали наши творческие отношения с Институтом майевтики в Лозанне (Швейцария). Его руководитель профессор Дж. Мастропаоло с 1955 г. практикует майевтический метод при лечении аутистов, невротиков, умственно отсталых больных. Суть этого метода заключается в обучении творчеству, главным образом игре на флейте. Арттерапевт как повивальная бабка помогает актуализировать творческие устремления пациента, не вторгаясь в мир его духовных и эстетических переживаний. Созданная нами техника автопортрета – своего рода продолжение этой традиции, с более точным воплощением майевтической идеи и более эффективная, по признанию самого Дж. Мастропаоло, при лечении психозов. Ведь в нашем случае врач принимает участие во многих рождениях художественного образа самого больного. Опыт работы Института майевтики позволил без предварительных клинических испытаний использовать метод автопортрета в комплексном лечении душевнобольных.
(обратно)111
Термин введен нами в 1990 г. До этого мы говорили о «массаже лица», «психотерапевтическом гриме», но эти слова не очень соответствовали нашему лечению и по смыслу и по технике.
(обратно)112
Президент ассоциации арттерапевтов в Париже Ж.-П. Клайн сообщил нам в 1990 г. о психологе из Лиона, которая снимает гипсовую маску с больного, а потом вместе с ним раскрашивает, оживляет ее. Нам также известен случай, когда нескольким солдатам сделали гипсовые маски, которые они после демобилизации оставили в казарме без раскраски. В разное время они были госпитализированы по поводу психического заболевания. Можно также упомянуть случай из биографии Б. Пастернака, когда кто-то сломал его гипсовое изображение, а он сказал: «Это конец. Теперь мне не уйти». Но это уже проблема связи изображения и модели, которая не вписывается в контекст настоящей работы, несмотря на то, что у нас есть определенные наблюдения.
(обратно)113
Случаи ухода домой пациентов и опекунов в яркой маске не единичны. Мы обычно не возражаем, если это женщины.
(обратно)114
Название дано Л. А. Абрамяном.
(обратно)






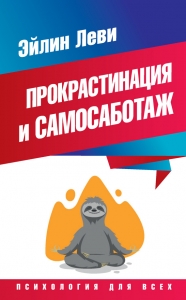
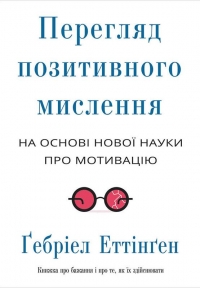


Комментарии к книге «Концептуальная психотерапия: портретный метод», Гагик Микаэлович Назлоян
Всего 0 комментариев